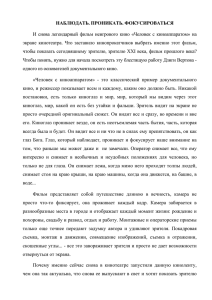Против интерпретации и другие эссе
реклама

СьюзенСонтаг Противинтерпретацииидругиеэссе SusanSontag AgainstInterpretationandOtherEssays Данное издание осуществлено в рамках совместной издательской программы Музея современногоискусства«Гараж»иООО«АдМаргинемПресс» ©TheEstateofSusanSontag,1961,1962,1963,1964,1965,1966Allrightsreserved ©БорисДубин,вступ.статья,перевод,общаяредакцияпереводов,2014 © В. Голышев, С. Дубин, Н. Кротовская, С. Кузнецов, В. Кулагина-Ярцева, Л. Оборин, Н.Цыркун,перевод,2014 ©ООО«АдМаргинемПресс»,2014 ©Фондразвитияиподдержкиискусства«АЙРИС»/IRISArtFoundation,2014 *** Несколькословобэтойкниге ДебютнаякнигаэссеистикиСьюзенСонтагвышлавНью-ЙоркеиЛондонев1966году, уже за первый год выдержала, по моим сведениям, не меньше 10 допечаток, тут же была переведенанаитальянский(1967),немецкий(1968)иголландский(1969)языки,апозже– на испанский (1984), китайский (2003) и польский (2012) и, не раз на этих языках потом републикованная, сразу – тем более за многие годы – вызвала на каждом из них шквал откликов.Кчитающимжепо-русскиэтотсамый,вероятно,известныйидаженашумевший сборник писательницы приходит почти через полвека (по другому счету – через два поколения),хотянесколькопромежуточныхпубликаций«дляинтересующихся»всежебыло [1].Такчтопервуюкнигубольшинствочитателейпрочтетивосприметсквозьболеепоздние, вышедшие на русском в издательстве «Ад Маргинем Пресс» за последний год – «О фотографии», «Смотрим на чужие страдания», два тома дневников. Это неотвратимо смещает восприятие, но, хотелось бы думать, еще и относительно обогащает его взглядом черезанфиладупространствивремен. Собственно,все,чтоСонтагхотеласказать,онавсвоейкнигесобычнойвнятностьюи энергией сказала, к тому же дополнив ее в 1996 году послесловием, где с достаточной жесткостью подвела итоги сказанному три десятилетия назад (специально подчеркну там парадоксальные,казалосьбы,словаосвоейпозиции«хранителякультуры»исвоемподходе к искусству как «традиционном»). Что осталось за пределами всего этого и что, пожалуй, нелишнеиметьввидусегодняшнемучитателюрусскогоиздания? Над проблемами интерпретации искусства Сонтаг начала думать задолго до непосредственнойработынадстатьей,давшейзаглавиееекниге:подневникамизаписным книжкам условное «начало» можно датировать 1956–1957 годами[2]. Я бы сопоставил тогдашние записи еще с одной, более ранней: «Искусство… всегда стремится к независимостиот…разума»[3].Воткрывающемкнигуэссе–достаточноодноготолькоего вызывающего заглавия (и титула книги в 300 страниц!) – Сонтаг дает формулу своего подхода, быстро ставшую крылатой: нужна не герменевтика, а эротика искусства. Это поворот принципиальный и, как видно в теперешней ретроспективе, крайне важный для искусствавторойполовиныХХстолетиявцеломи,конкретно,длямногихизтехфигур,от АндреЖидадоБорхеса,которыенапротяжениидесятилетийпривлекалиинтересСонтаг. Тем самым, если говорить по необходимости более чем коротко, автор «Против интерпретации»наместовосприятиякакпониманияпоставилвосприятиекаквоздействие, на место автора с его замыслом – читателя, слушателя, зрителя с его опытом, на место «глубины» – «поверхность», на место пассивности или реактивности «отражения» и «усвоения» – волю к выбору и деятельному самоосуществлению (но, добавлю, и к самоуничтожению[4]). Приоритет воли – добавлю и попутно напомню заглавие второго сборникаэссеистикиавтора,«Образцыбезогляднойволи»,–значимаядляСонтагтрадиция, идущая от Ницше, Шпенглера, а потом Карла Шмитта (о последнем Сонтаг узнала, вероятно, через его ученика и корреспондента Лео Штрауса, чьи лекции слушала шестнадцатилетней в Чикагском университете). Важна здесь и связь между эротикой и самой потребностью писать, крайне существенная для самой Сонтаг и для авторов, ее в наибольшейстепениинтересовавших,–подскажулишьАртоиБатая,ЖенеиОктавиоПаса, БруноШульцаиХулиоКортасара(никто,понятно,никомунеобещал,чтоподобнаяэротика будеттольколишьласковойинежной). Речьздесьиобэросеписьма,иопочтиобязательномдляСонтаг,какнеразпризнавала онасама,восхищениитем,очемпишешь(иэто–прирепутациискандалистки!).Отсюда, возможно, ее отрицательная в ретроспективе оценка двух включенных в книгу «Против интерпретации» театральных обзоров, к тому же заказных, в которых преобладает язвительная критика. Кстати, этот не слишком частый у Сонтаг в эссе и чаще представленный в ее актуальной журналистике (интервью и т. п.) критический, даже сокрушительно-критический тон приоткрывает, по-моему, еще одну особенность сонтаговскихоткликовнатеилииныесобытиявсовременномейискусстве.Яимеюввиду резкое, без околичностей и не взирая на личности, отторжение от большинства того, что принято и пользуется успехом в ее «среде», – от «больших» тем и стилей, от социально озабоченныхипотомунесамостоятельных,эпигонскихдрамАртураМиллераилиДжеймса Болдуина,отнашумевшейпостановкинесходящихспервыхгазетныхстраницПитераБрука илиДжонаГилгуда,актерскогоисполнениятакихбродвейских«звезд»ифигур«светской» хроники, как Эйлин Херли либо Ричард Бартон. Гораздо больше внимания и понимания у Сонтагвызываетивсегдавызывалахудожественнаянеудача,крах – ивкаждомотдельном случае, и как принципиальная черта новейшего искусства, творческого поведения художникаэпохимодерна[5]. Подход к искусству как не столько говорящему, сколько действующему объясняет, я думаю, и явное в книге «Против интерпретации», да и во всех других художественнокритических откликах Сонтаг, предпочтение, которое она отдает искусствам недискурсивным (живописи, скульптуре, хеппенингу и, конечно, обожаемому с детства искусствуискусств–музыке),частодажесовершеннобеззвучным(немоекино,фотография, танец), либо как будто бы и вовсе «не-искусствам» (дизайн, садово-парковая архитектура) перед слишком многословной литературой и особенно ее ключевым для Нового времени, наиболее велеречивым жанром – романом (многотомным романом-потоком, романомэпопеей и т. п.). Характерна радикальная, даже, кстати, и по отношению к изобразительному искусству, реплика, брошенная у нее попутно, между делом, почти вскользь: «Если живопись и проза не могут быть не чем иным, кроме как строго избирательной интерпретацией, то фотографию можно охарактеризовать как строго избирательную прозрачность»[6] (и это, опять-таки, на первых страницах книги в триста страниц). Отторжение словесного – у такой запойной книгоглотательницы, составительницы бесконечных планов чтения и неистовой покупательницы бесчисленных книг… С другой стороны, читатели, не исключаю, обратят внимание и на практически полное отсутствие поэзии на горизонте Сонтаг как аналитика и рецензента. Упоминания поэтов у нее крайне редки: в ранних дневниках выделяется разве что Джерард Мэнли Хопкинс,иногда–Т.С.Элиот,позже–Цветаева(носкореекакпрозаик)иБродский(один изближайшихдрузей,но,опять-таки,чащекакэссеист). И, пожалуй, еще один, последний – чтобы самому не быть уж слишком многоглаголющим и назойливо интерпретирующим – момент, на который хотелось бы предварительно указать читателям; впрочем, мне кажется, они и так обратят на него внимание.Заисключением,кажется,двухтеатральныххроник,окоторыхужеупоминалось, в книге почти нет американского искусства и, что еще показательнее, вовсе нет американскойлитературы.ВзглядСонтагобращеннаЕвропуиредкие,еслинеединичные, отражения европейского «духа» в Америке. Резко критическое отношение автора к американскойполитике–итогда,ипозднее–известны.Нотутдругое:речьокультуре. Если, опять-таки, очень обобщать и неизбежно огрублять факты и тенденции, то американская культура, по преимуществу словесная, в особенности роман, привлекли внимание за географическими пределами США и, можно сказать, сделали – в первой половинеХХвека–серьезнейшуюзаявкунамировоезначениепреждевсеговоплощенным в них «духом места», или, если угодно, «национальным духом», понимать ли под ним «Богову делянку» Колдуэлла или «Манхэттен» Дос Пассоса, «Уайнсбург, Огайо» Шервуда АндерсонаилифолкнеровскуюЙокнапатофу.Таквот,ничегоэтоговкнигеСонтаг(даив других сборниках ее эссе, вплоть до последнего прижизненного «Куда падает ударение» и вышедшего уже посмертно «А в это время») нет. И дело, конечно, не в достаточно банальном и расхожем «антиамериканизме» «левых» – ни тот ни другой коллективный ярлык(почемуяизаключилихвкавычки)Сонтагнеподойдут.Напротив,такоезначимое отсутствие принципиально важно для индивидуальной, персональной самоидентификации Сонтагкакчеловекадумающегоипишущего(отошлюкеесловамосебевэссе«Тридцать летспустя»:«…такихлюдей,какя,большенеоказалось»). ГоворявБерлинев1988годуозначениидлянее«идеиЕвропы»,Сонтагподчеркнула: «Янечастодумалаотом,чтоЕвропазначитдляменякакамериканки.Ядумалаотом,что она значит для меня как гражданина республики словесности, а это гражданство – интернациональное». Подобное значение Европы Сонтаг определила одним словом – «освобождение»–идетализироваласвоепрежнеепонимание:«Многоликость,серьезность, разборчивость,насыщенностьевропейскойкультуры–воттаархимедоваточка,опираясьна которую, как думалось, я могу в уме перевернуть мир. Сделать это из Америки я бы не сумела… Поэтому Европа важна, намного важнее для меня, чем Америка»[7]. Уточняя написанноеипользуясьформулойнечуждогоСонтагЧеславаМилошаиз«ДругойЕвропы» (так во Франции назвали одну из его лучших, наиболее автобиографичных книг), я бы сказал, что в сборнике, который читатели сейчас держат в руках, они, может быть, увидят «другуюАмерику».Покрайнеймере,янаэтонадеюсь. Честь открытия фигуры Сьюзен Сонтаг и ее книги «Против интерпретации» для русскогочитателяпринадлежит,какужебылоупомянуто,АлексеюЗвереву.В2003-м,как оказалось,последнемдлянего,годумыобсуждалиснимвозможнуюпубликациюсборника «Куда падает ударение», других ее книг, может быть, некоего избранного и думали потрудиться над ними вместе. Посвящаю эту свою работу светлой памяти Алексея Матвеевича. БорисДубин I Противинтерпретации Содержание – это проблеск чего-то, встреча как вспышка: Оно совсем крохотное… совсем крохотное – содержание. ВиллемдеКунинг.Винтервью Только поверхностные люди не судят по внешности. Тайнамира–ввидимом,аневневидимом. ОскарУайльд.Вписьме I Начальныйопытискусствабыл,вероятно,колдовским,магическим;искусствослужило орудием ритуала. (Например, живопись в пещерах Ласко, Альтамиры, Нио, Ла Пасьеги и т. д.) Начальная теория искусства, созданная греческими философами, утверждала, что искусство–мимесис,подражаниедействительности. Именно здесь и возник специфический вопрос о ценности искусства. Ибо теория мимесисапосамойсвоейсутитребует,чтобыискусствооправдалосвоесуществование. Платон, выдвинув эту теорию, стремился, по-видимому, к выводу, что ценность искусства сомнительна. Поскольку обычные материальные вещи для него – объекты миметические, подобия трансцендентных форм или структур, даже самое лучшее изображение кровати будет всего лишь «подобием подобия». Искусство для Платона и не слишкомполезно(наизображениикроватиневыспишься),и,встрогомсмысле,неистинно. Аристотелевыдоводывзащитуискусства,вобщем,непротиворечатмыслиПлатонаотом, что все искусство – изощренный обман чувств, то есть ложь. Но он оспаривает идею Платона обесполезностиискусства.Ложьли,нетли,искусство,поАристотелю, обладает определенной ценностью, ибо оно – вид терапии. Искусство все же полезно, доказывает Аристотель,–полезномедицински,посколькувозбуждаетиочищаетопасныечувства. У Платона и Аристотеля миметическая теория искусства идет рука об руку с предположением,чтоискусствовсегдафигуративно.Носторонникаммиметическойтеории нет нужды закрывать глаза на декоративное и абстрактное искусство. Ложное допущение, чтоискусствонепременно–«реализм»,можновидоизменитьилиотбросить,невыходяиз кругапроблем,очерченногомиметическойтеорией. Посути,всезападноепониманиеискусстваиразмышленияонемоставалисьвграницах греческой теории искусства как мимесиса. Именно благодаря этой теории искусство как таковое – если отвлечься от конкретных произведений – становится проблематичным, нуждаетсявзащите.Защитажеипорождаетстранноепредставление,согласнокоторомуто, что мы привыкли называть «формой», отделено от того, что мы привыкли называть «содержанием»; еще один благонамеренный шаг – и вот уже содержание существенно, а формавторостепенна. Даже в наше время, когда большинство художников и критиков отказались от теории искусства как отображения внешней действительности ради теории искусства как субъективного выражения, стержневая мысль миметической теории сохранилась. Возьмем мы за модель художественного произведения картину (искусство как картина действительности) или высказывание (искусство как высказывание художника), все равно первым идет содержание. Содержание, может быть, изменилось. Может быть, теперь оно менее фигуративно, его реалистичность менее очевидна. Но по-прежнему предполагается, что произведение искусства есть его содержание. Или, как формулируют у нас сегодня, произведение искусства по определению что-то говорит. (X говорит вот что… Х хочет сказатьвотчто…Хпыталсясказатьвотчто…ит.д.,ит.д.) II Никомуизнасневернутьсяктомудотеоретическомупростодушию,когдаискусствоне нуждалосьвоправдании,когдаупроизведениянеспрашивали,чтооноговорит,ибознали (илидумали,будтознают),чтооноделает.Отнынеидоконцасознаниямыбудембиться надзадачейзащитыискусства.Мыможемспоритьлишьометодахзащиты.Иобязанность наша – ниспровергать те методы защиты и оправдания искусства, которые не успевают за современнойпрактикой,игнорируютее,повисаютнанейгрузом. Именно так обстоит сегодня дело с идеей содержания самого по себе. Как бы ни служила эта идея в прошлом, сегодня это – помеха, узда, скрытое или плохо скрытое обывательство. Хотя развитие многих искусств, казалось бы, велит расстаться с идеей, что художественная вещь – это прежде всего содержание, идея властвует над умами попрежнему.Можно сказатьтак:этаидеяпродолжаетжитьввидеопределенногоподходак произведениям, глубоко укоренившегося среди людей, которые относятся всерьез к искусству.Акцентнасодержаниипорождаетпостоянный,никогданезавершающийсятруд интерпретации. И наоборот – привычка подходить к произведению с целью его интерпретации поддерживает иллюзию, будто и в самом деле существует такая вещь, как содержаниепроизведенияискусства. III Разумеется, я не имею в виду интерпретацию в самом широком смысле, в том смысле, какой придавал ей Ницше, заметивший (справедливо): «Нет фактов, есть только интерпретации». Под интерпретацией я понимаю здесь направленный акт сознания, иллюстрирующийопределенныйкодекс,определенные«правила»интерпретации. Применительно к искусству интерпретация состоит в том, что из произведения выхватываютсяопределенныеэлементы(X,Y,Zит.д.);Задачаинтерпретации,посути,– перевод.Интерпретаторговорит:смотрите,развенепонятно,чтоХ–этонасамомделеА (илиобозначаетА)?ЧтоYнасамомделе–В?Z–С? Чтопобуждаеткэтомулюбопытномутрудупреобразованиятекста?Историяпредлагает нам материал для ответа. Интерпретация впервые появляется в культуре поздней Античности,когдасиламифаиверавмифбылиразрушены«реалистическим»взглядомна мир, возникшим благодаря научному просвещению. Как только был задан вопрос – неотступно преследующий постмифическое сознание – об уместности религиозных символов, античные тексты в их изначальной форме стали неприемлемыми. Чтобы примирить древние тексты с «современными» требованиями, на помощь призвали интерпретацию. Так стоики, в соответствии со своими представлениями о том, что боги должныбытьморальны,перевелигрубыечертыГомероваЗевсаиегобуйногокланавплан аллегории. На самом деле, объяснили они, под связью Зевса с Лето Гомер подразумевал союз между силой и мудростью. Подобным же образом Филон Александрийский истолковал исторические сказания Библии как духовные парадигмы. Исход из Египта, сорокалетниескитаниявпустыне,приходнаобетованнуюземлю,утверждалФилон,–это аллегорияосвобождения,страданийиспасениячеловеческойдуши.Словом,интерпретация заранеепредполагаетнеувязкумеждусмысломтекстаизапросами(позднейшего)читателя. И стремится ее снять. Затруднение состоит в том, что по какой-то причине текст стал неприемлемым, но отказаться от него нельзя. Интерпретация есть радикальная стратегия сохранения старого текста – слишком ценного, чтобы его выбросить, – путем перекройки. Нестираяинепереписываятекст,интерпретаторвсежеегоизменяет.Нонеможетвэтом признаться. Он доказывает, что всего лишь сделал его внятным, раскрыл его подлинный смысл. Как бы сильно интерпретаторы ни меняли текст (еще один печальный пример – талмудистские и христианские «духовные» толкования эротической «Песни песней»), они должныутверждать,чтовычитываютсмысл–егосодержимое. В наше время интерпретация стала еще сложнее. Ибо ныне усердный труд интерпретации движим не благоговением перед неудобным текстом (каковое может скрывать под собой агрессию), а уже открытой агрессивностью, явным презрением к видимому. Старая манера интерпретации была настойчивой, но почтительной; над буквальным смыслом надстраивали другой. Новый стиль – раскопка; раскапывая, разрушают,роют«за»текстом,чтобынайтиподтекст,которыйиявляетсяистинным.Самые знаменитые и влиятельные из современных доктрин – марксистская и фрейдистская – представляют собой не что иное, как развитые системы герменевтики, агрессивные, беспардонные теории интерпретации. Все наблюдаемые феномены берутся в скобки, по выражению Фрейда, как явное содержание. Явное содержание надо прозондировать и отодвинуть – и найти под ним истинный смысл, скрытое содержание. У Маркса – общественные события, такие как революции и войны, у Фрейда – явления личной жизни (вроде невротических симптомов и оговорок), а также тексты (например, сновидения или произведения искусства) рассматриваются как повод для интерпретации. По Марксу и Фрейду,этиявлениятолькокажутсяпонятными.Насамомжеделебезинтерпретацииони смысланеимеют.Понять–значитистолковать.Аистолковать–значитпереформулировать явление,найтиемуэквивалент. Таким образом, интерпретация не является абсолютной ценностью (как полагает большинство людей), широким жестом ума, парящего в некоем вечном царстве возможностей. Интерпретации самой следует дать оценку, рассматривая сознание исторически. В одних культурных контекстах интерпретация – освободительный акт. Это средство пересмотра, переоценки и отторжения мертвого прошлого. В других это деятельностьреакционная,наглая,трусливая,удушающая. IV Нынекакразтакоевремя,когдаинтерпретация–занятиепобольшейчастиреакционное иудушающее.Подобносмраднойпеленеавтомобильногоизаводскогодыманадгородами, интерпретаторские испарения вокруг искусства отравляют наше восприятие. В культуре, подорванной классическим уже разладом – гипертрофией интеллекта за счет энергии и чувственнойполноты,–интерпретация–этоместьинтеллектаискусству. Больше того. Это месть интеллекта миру. Истолковывать – значит обеднять, иссушать мир ради того, чтобы учредить призрачный мир «смыслов». Превратить мир в этот мир. (Этот!Будтоестьещедругие.) Мир, наш мир, и без того достаточно обеднен, обескровлен. Долой всяческие его дубликаты,покуданенаучимсянепосредственнеевосприниматьто,чтонамдано. V В наши дни интерпретация чаще всего равняется обывательскому нежеланию оставить произведение художника таким, каково оно есть. Подлинное искусство обладает способностью беспокоить нас. Сводя произведение к его содержанию, а затем, интерпретируя это последнее, человек произведение укрощает. Интерпретация делает искусстворучным,уютным. Эта обывательская натура интерпретации пышнее всего расцвела в словесных искусствах. Которое уже десятилетие литературные критики почитают своей задачей перевод элементов стихотворения, пьесы, романа, рассказа в нечто иное. Писатель порою настолькосмущенголойсилойсвоегоискусства,чтоготоввмонтироватьвпроизведение– пускайнебезробостиилисблагороднымоттенкомиронии–яснуюинедвусмысленнуюего интерпретацию.КчислутакихчрезмернопокладистыхавторовпринадлежитТомасМанн. Еслижеавторупрям,критиктолькорадсамостоятельноисполнитьэтоттруд. Творчество Кафки, например, стало трофеем по меньшей мере трех армий интерпретаторов. Те, кто прочитывает Кафку как социальную аллегорию, видят у него анализ фрустраций и безумия современной бюрократии и ее перерастания в тоталитарное государство. Те, кто читает Кафку как психоаналитическую аллегорию, находят у него безоглядно обнаженный страх перед отцом, страх кастрации, чувство собственного бессилия, порабощенность снами. Те, кто читает Кафку как религиозную аллегорию, объясняют что К. в «Замке» домогается доступа в рай, что Йозеф К. в «Процессе» судим неумолимым и непостижимым Божиим судом… Другой автор, облепленный интерпретаторами, как пиявками, – Сэмюэл Беккет. Тонкие драмы замкнутого сознания, отрезанного, усеченного до азов, иногда представляемого физическим параличом, прочитываютсякакотчетоботчуждениисовременногочеловекаотСмыслаилиотБогаили какаллегориядушевнойболезни. Пруст,Джойс,Фолкнер,Рильке,Лоуренс,Жид…нестьимчисла–писателям,покрытым толстой штукатуркой интерпретаций. Следует, однако, отметить, что интерпретация – не просто реверанс посредственности перед гением. Она вообще есть современный способ понимания и применяется к вещам любого достоинства. Так, из заметок Элиа Казана о работенадфильмом«Трамвай“Желание”»явствует,чтодляпостановкиКазанупришлось обнаружить, что Стэнли Ковальский олицетворяет чувственное и мстительное варварство, пожирающее нашу культуру, а Бланш Дюбуа – это западная цивилизация, поэзия, изысканныйнаряд,приглушенныйсвет,тонкиечувстваипрочее,хотя,конечно,инепервой свежести. Сильная психологическая мелодрама Теннесси Уильямса наконец-то стала понятна: она – о чем-то; она – об упадке западной цивилизации. Останься она пьесой о красивом хаме Стэнли Ковальском и увядающей, потрепанной жизнью даме-южанке, она, очевидно,небылабыкомфортной. VI Не важно, рассчитывал или не рассчитывал художник на интерпретацию своего творения.Можетбыть,ТеннессиУильямсвидиттему«Трамвая»втомже,вчемвидитее Казан. Может быть, Кокто хотел, чтобы в «Крови поэта» и в «Орфее» прочли сложную фрейдистскую символику и социальную критику, каковые и были усмотрены в обоих фильмах.Нодостоинствоэтихпроизведенийзаключаетсяотнюдьневих«смысле».Наобо рот, именно в той мере, в какой пьесы Уильямса и фильмы Кокто наводят на эти монументальные соображения, они дефектны, фальшивы, надуманны, не вполне убедительны. Как видно из нескольких интервью, Рене и Роб-Грийе сознательно построили фильм «ПрошлымлетомвМариенбаде»так,чтобыондопускалмножестворавноправдоподобных интерпретаций. Носискушениеминтерпретировать«Мариенбад»надо бороться.Важныв нем чистая, непереводимая чувственная непосредственность образов, строгие, пускай и узкие,решенияотдельныхпроблемкинематографическойформы. И Бергман, возможно, имел в виду, что танк, грохочущий по пустой ночной улице в «Молчании», – фаллический символ. Если так, это была глупая мысль («Не верьте рассказчику, верьте рассказу», – сказал Лоуренс.) Взятый как грубая бездушная вещь, как прямой чувственный эквивалент таинственных, внезапных, полных броневого лязга событий, происходящих в гостинице, этот эпизод с танком – самый поразительный кусок фильма. Те, кто нацелен на фрейдистскую интерпретацию танка, выражают лишь свою невосприимчивостьктому,чтоестьнаэкране. Интерпретациитакогородавсегдауказываютнанеудовлетворенность(осознаннуюили неосознанную)произведением,нажеланиеподменитьегочем-тодругим. Интерпретация, основанная на весьма сомнительной идее, будто произведение художника состоит из элементов содержания, насилует искусство. Она превращает его в предметдляиспользования–дляпомещениявсхемукатегорий. VII Конечно, интерпретация господствует не всюду. Можно предположить, что в современномискусствемногоемотивируетсяжеланиемспастисьотинтерпретации.Чтобы уйти от интерпретации, искусство может стать пародией. Оно может стать абстрактным. Ономожетстать«всеголишь»декоративным.Иможетстатьне-искусством. Бегство от интерпретации особенно заметно в современной живописи. Абстрактная живопись–этопопыткаизгнатьсодержаниевобычномсмыслеслова;гденетсодержания, там нечего истолковывать. Противоположным путем к тому же результату идет поп-арт: пользуясь содержанием, таким очевидным, таким «как есть», он тоже становится неинтерпретируемым. Такжеивсовременнойпоэзии–начинаясвеликихфранцузскихноваторов(вчастности, символистов,–хотясамоэтоназваниесбиваетстолку)сихпопыткамиввестимолчаниев стихи и восстановить в правах магию слова – многое избежало грубых интерпретаторских объятий.Последняяреволюциявпоэтическихвкусах,революция,котораясверглаЭлиотаи вознеслаПаунда,выражаетнеприязньксодержаниювобщепринятомсмыслеслова,досаду нато,чтосделалосовременныестихидобычейретивогоинтерпретаторства. Говорю, разумеется, прежде всего о положении в Америке. Интерпретация у нас разгуляласьвтехискусствах,гдеавангардхилинесуществен–вбеллетристикеивдраме. Американскиероманистывбольшинствесвоемлиборепортеры,либогосподасоциологии психологи.То,чтоонисочиняют,естьлитературныйаналогпрограммноймузыки.Истоль рудиментарным,бескрылым,застойнымсталоощущениеформальныхвозможностейвпрозе и в драме, что даже если содержание в них не ограничивается информацией, последними известиями, оно все равно до странности наглядно, сподручно, оголено. Насколько американские романы и пьесы (в отличие от поэзии, живописи и музыки) не отражают глубокого интереса к развитию формы, настолько они безоружны перед атакой интерпретаторов. Однакопрограммныйавангардизм–чащевсегоозначавшийформальныеэксперименты в ущерб содержанию – не единственная защита искусства от интерпретаторской напасти. Надеюсь по крайней мере, что не единственная. Иначе искусство всегда было бы в бегах. (Кроме того, такая защита увековечивает черту между формой и содержанием, которая в конечном счете иллюзорна.) В идеале избегнуть интерпретаторов можно другим путем: создавая вещи, лицо которых настолько чисто и цельно, которые настолько захватывают своимнапоромипрямотойобращения,чтомогутбыть…толькотем,чтоесть.Возможноли этосегодня?Намойвзгляд,такоеслучаетсявкинематографе.Поэтому-токиновнашидни – самое живое, самое волнующее, самое значительное искусство. Насколько живо данное искусство, вернее всего можно судить по тому, какой простор предоставляет оно для ошибок,непереставприэтомбытьхорошим.НекоторыефильмыБергмана,например,сих сбивчивыми вещаниями о современном духе, располагающими к интерпретации, все-таки торжествуют над претенциозными замыслами режиссера. В «Причастии» и «Молчании» красотаивизуальнаяизощренностьобразованнулируютбуквальноунаснаглазахнаивную псевдоинтеллектуальность сюжета и части диалога. (Самый замечательный пример подобногонесоответствия–творчествоГриффита.)Вхорошемфильмевсегдаестьпрямота, которая полностью избавляет нас от интерпретаторского зуда. Этим раскрепощающим антисимволическим свойством обладают не только фильмы лучших европейских режиссеровнашеговремени–такиекак«Стреляйтевпианиста»,«ЖюльиДжим»Трюффо, «На последнем дыхании» и «Жить своей жизнью» Годара, «Приключение» Антониони, «Жених и невеста» Ольми – но и в меньшей степени старые голливудские фильмы – Кьюкора,Уолша,Хоуксаимногих,многихдругих. То, что кинематограф еще не смят интерпретаторами, отчасти объясняется новизной самогокиноискусства.Ксчастью,кинодолгоевремябыловсеголишь«картинами»;иначе говоря, считалось частью массовой, а не высокой культуры, и мыслящие люди его не трогали.Вдобавокдлятех,ктохочетанализировать,вкинематографеестьидругаяпожива помимо содержания. Ибо кино в отличие от романа обладает словарем форм – сложной, явной и доступной обсуждению технологией движения камеры, монтажа и композиции кадра,технологией,котораявключенавпроцесссозданияфильма. VIII Какогородакритика,искусствоведческийкомментарийжелательнысегодня?Ведьяне утверждаю,чтопроизведениеискусства–табу,чтоегонельзяописыватьилипересказывать. Можно. Вопрос – как? Какой должна быть критика, чтобы она служила художественному произведению,анеузурпировалаегоместо? Прежде всего, необходимо большее внимание к форме. Если установка на содержание питаетвысокомернуюинтерпретацию,тоболеепространные,подробныеописанияформы должныееобуздывать.Требуетсяжедляэтого–словарьформ,причемсловарьописания,а непредписаний.Лучшейкритикой,–аеенетакмного–будетта,гдемыслиосодержании и мысли о форме сплавлены. Если говорить о кино, драме и живописи, то на память мне приходят, соответственно, статьи: Эрвина Панофского «Стиль и материал в кино», Нортропа Фрая «Конспект драматических жанров», Пьера Франкастеля «Разрушение пластическогопространства».КнигаРоланаБарта«ОРасине»идвеегостатьиоРоб-Грийе – формальный анализ творчества отдельных авторов. (Лучшие главы в «Мимесисе» Эриха Ауэрбаха, как «Рубец на ноге Одиссея», – примеры того же рода.) В очерке Вальтера Беньямина «Рассказчик: размышления о творчестве Николая Лескова» предметами формальногоанализасталиодновременноижанр,ипроизведенияэтогописателя. Столь же ценна была бы критика, предложившая действительно точное, четкое, любовное описание внешнего в художественном произведении. Задача эта представляется дажеболеетрудной,чемформальныйанализ.Средиредкихпримеровтого,очемидетздесь речь, назову критические работы Мэнни Фарбера о кино, работу Дороти Ван Гент «Мир Диккенса: вид из Тоджера» и Рэндалла Джаррелла об Уитмене. Эти очерки открывают чувственнуюповерхностьпроизведений,аневозятсяподней. IX Прозрачность сегодня – высшая, самая раскрепощающая ценность в искусстве и в критике.Прозрачностьозначает–испытатьсветсамойвещи,вещитакой,каковаонаесть. ЭтимизамечательныфильмыБрессонаиОдзу,«Правилаигры»Ренуара. Когда-то(дляДанте,скажем)революционнымитворческимпоступкомбыло,наверно, создание работ, допускающих восприятие на разных уровнях. Теперь это не так. Это лишь укрепляетпринципизбыточности,главныйнедугнынешнейжизни. Когда-то (когда высокого искусства было немного) революционным и творческим поступкомбыло,наверно,истолкованиехудожественныхпроизведений.Теперьэтонетак. Чего нам определенно не надо теперь – это еще большего поглощения искусства Мыслью или(чтоещехуже)искусстваКультурой. Интерпретацияпринимаетчувственноепереживаниехудожественногопроизведениякак данностьистартуетсэтойточки.Нотеперьегонельзяприниматькакданность.Подумайте о том, какая масса произведений доступна любому из нас, прибавьте сюда шквал несовместимыхзрелищ,звуков,запахов,обрушиваемыхнанашичувствагородскойсредой. Наша культура зиждется на избытке, перепроизводстве; в результате – неуклонная потеря остротывосприятий.Всеусловиясовременнойжизни–еематериальноеизобилие,самаее перенаселенность – действуют заодно, притупляя наши чувства. Вот и надо определить задачукритикаисходяизсостояниянашихчувствиспособностей(нынешнего,анекогда-то бывшего). Сегодня главное для нас – прийти в чувство. Нам надо научиться видеть больше, слышатьбольше,большечувствовать. Нашазадача–неотыскиватькакможнобольшесодержаниявхудожественнойвещи,тем болееневыжиматьизнеето,чеготамнет.Нашазадача–поставитьсодержаниенаместо, чтобымывообщемоглиувидетьвещь. Всякий искусствоведческий комментарий должен быть направлен на то, чтобы произведение – и, по аналогии, наш собственный опыт – стало для нас более, а не менее реальным. Функция критики – показать, что делает его таким, каково оно есть, а не объяснить,чтоонозначит. Х Вместогерменевтикинамнужнаэротикаискусства. [1964] Пер.ВиктораГолышева Остиле Сегодня вряд ли отыщется сколь-либо уважаемый литературный критик, который решился бы публично отстаивать в качестве самостоятельной идеи давнишнее противопоставление содержания и стиля. По этому вопросу воцарилось почтительное согласие. Каждый спешит признать, что стиль и содержание неразделимы, что ярко выраженный личный стиль всякого крупного писателя является неотъемлемой частью его творчества,анечем-товсего-навсего«декоративным». Однако в критической практике былая антитеза по-прежнему жива и позиции ее выглядят почти незыблемыми. Большинство тех критиков, кто в досужей беседе отметает представлениеостилекакопридаткесодержания,возвращаютсякэтомуразделению,стоит им взяться за разбор конкретных произведений литературы. Действительно, непросто освободитьсяотэтогопринципа,посутиудерживающеговоединовсютканькритического суждения и служащего увековечению определенных интеллектуальных устремлений и корыстныхинтересов,существованиекоторыхникемнеоспариваетсяиоткоторыхврядли удастсяскороизбавитьсябезчеткосформулированнойрабочейальтернативы. На самом деле вообще крайне сложно говорить о стиле конкретного романа или стихотворения как самостоятельной величине, не подразумевая – умышленно или невольно, – что речь идет всего лишь об украшении, аксессуаре. Уже используя само это понятие,почтинеизбежноотсылаешь,пустьиимплицитно,кпротивопоставлениюстиляи чего-то еще. Многие из пишущих о литературе, кажется, этого просто не осознают. Они считают себя надежно защищенными теоретическими заповедями о недопустимости размежеваниястиляисодержания,тогдакакихсуждениясновойсилойукрепляюткакраз то,чтовтеориионистакойготовностьюотрицают. Живучесть давней дихотомии в критической практике, в реальных суждениях иллюстрирует, к примеру, та частота, с которой действительно достойные восхищения произведенияискусствапревозносятсядонебес,ното,чтоошибочноименуетсяихстилем, провозглашаетсяприэтомгрубыминесовершенным,–иличастота,скоторойподчеркнуто сложный стиль вызывает плохо скрываемую предвзятость. Современные писатели, вообще художники в широком смысле слова, чей стиль отличает запутанность, сложность, взыскательность – не говоря уж просто о «красоте», – получают свою долю неустанных восхвалений. И все же очевидно, что такой стиль нередко воспринимается как нечто неискреннее:признактого,чтоавторработалнадматериалом,тогдакакегоследовалобы преподноситьвпервозданнойчистоте. Уитмен в предисловии к изданию «Листьев травы» в 1855 году выражает неприятие «стиля», который в искусстве последних двух столетий был по большей части расхожей уловкой для введения нового стилистического инструментария. «По-настоящему великого поэта отличает не столько яркий стиль, сколько свободное самовыражение», – утверждал этот великий и сам не чуждый вычурности поэт. «Он клянется своему дару: я не стану мешатьтебе,непозволю,чтобыкакое-либоизящество,изыскилижеоригинальностьвмоих стихах разделяли, подобно занавесу, меня и остальной мир. Никаких преград, сколь бы богатымиэтизанавесинибыли.Все,чтояговорю,яговорюкакесть». Разумеется, как все знают – или утверждают, будто знают, – нейтрального, абсолютно прозрачного стиля не бывает. Сартр в своей замечательной рецензии на «Постороннего» показал, как знаменитый «белый стиль» этого романа Камю – безличный, описательный, лишенныйкакоттенков,такирельефа–служитдляпередачипредставленийМерсоомире (состоящем для него из череды бессмысленных и бессвязных мгновений). И то, что Ролан Барт называет «нулевым уровнем письма», именно в силу своей антиметафоричности и обезличенности является столь же прихотливым и сделанным, как любой традиционный стиль. Тем не менее мысль о лишенном стиля, прозрачном искусстве остается одной из самых живучих химер современной культуры. Художники и критики могут всячески демонстрироватьубежденностьвтом,чтовычленитьискусственностьизискусстватакже невозможно,какдляличности–утратитьсвоюличину,–ивсежеэтостремлениеникудане исчезает. Получается некое неизбывное раскольничество современного искусства с его головокружительнойскоростьюизмененийстиля. Разговорыостиле–одинизспособовговоритьопроизведенииискусствавцелом.Как любоесуждениеоцелостности,высказываниеостилевынужденоопиратьсянаметафоры.А онисбиваютстолку. Возьмем, к примеру, такую физически осязаемую метафору Уитмена: уподобив стиль занавесу, он, разумеется, спутал стиль и украшение, на каковой проступок ему сейчас не преминули бы указать большинство критиков. Представление о стиле как декоративном отягощении предмета предполагает, что занавеси могут быть раздвинуты и предмет тем самым раскрыт; или, если чуть изменить метафору, что занавес может стать прозрачным. Это, впрочем, не единственный ошибочный подтекст метафоры: она также предполагает, что стиль есть вопрос большего или меньшего (количество), что он может быть концентрированнымилиразреженным(плотность).Аэто–пустьинетакочевидно–столь же неверно, как воображать, будто у художника есть реальный выбор, творить ли ему со стилемилибез.Стильневозможноизмерить,какнельзяегоидобавитьпожеланию.Более сложная стилистическая условность – скажем, проза, отходящая от манеры выражения и ритмаразговорнойречи,–неозначает,чтовпроизведении«больше»стиля. Собственно, почти все описывающие стиль метафоры сводятся к тому, что стиль помещаетсякакбыснаружи,асодержание–внутри.Думается,уместнеебылобыобратить метафору:содержание,тема–этокакразвнешнее,астиль–внутреннее.КакписалКокто: «Декоративногостиляпростонебывает.Стиль–этодуша,новслучаеслюдьмидуша,увы, принимает форму тела». Даже если мы определим стиль как некую выбранную внешнюю манеру,этововсенеозначает,чтопримеряемыйнаминасебястильпротиворечитнашему «истинному» я. На самом деле такое разъединение встречается как раз крайне редко. Практическивсегдато,какмывыглядим,совпадаетстем,ктомыесть.Маскаиестьлицо. Хочу пояснить, вместе с тем, что мои слова об опасности метафор не исключают возможностииспользоватьтеилииныеограниченныепомасштабу,конкретныеметафоры для описания эффектов чьего-то особого стиля. Не вижу вреда в том, чтобы, опираясь на лишенную изысков терминологию, используемую для передачи физических ощущений, говорить о стиле как о «ярком», «тяжелом», «тусклом» или «безвкусном» – либо характеризоватьизложениекак«бессвязное». Неприятие «стиля» – это всегда неприятие определенного стиля. Не бывает начисто лишенныхстиляработ,естьлишьпроизведенияискусства,принадлежащиекразным,более илименеесложнымстилистическимтрадициямиусловностям. Это значит, что рассмотренное в общем понятие стиля всегда имеет точное историческое значение. И дело не только в том, что стили вписаны в конкретное время и место или что наше восприятие стиля определенного произведения неизбежно заряжено осознаниемисторичностиэтойработы,ееместавхронологии–самистилистановятсянам видны исключительно благодаря историческому сознанию. Если бы не отступления от известныхнампредыдущиххудожественныхканонов,–илиэкспериментысними,–мыбы никогда не смогли распознать очертания нового стиля. Более того, само понятие «стиля» нуждается в историческом подходе. Осознание стиля как внутренней проблемы и самостоятельного элемента произведения искусства формировалось у публики лишь в определенные моменты истории – как фасад, за которым обсуждались иные, в конечном счетеэтическиеиполитическиепроблемы.Самаконцепция«обладаниястилем»–одноиз тех решений, которые со времен Возрождения периодически вырабатывались в ответ на угрозуустоявшимсяпредставлениямобистине,нравственностиидажеестественности. Но допустим, что все это не вызывает споров. И любое изображение воплощается в некоем конкретном стиле (легко сказать). Но это, соответственно, значит, что реализм, строго говоря, не может существовать иначе как будучи и сам особой стилистической условностью (а это уже сложнее). Впрочем, есть стили вообще и стили в частности. Все знакомыстечениямивискусстве,которыевышлизарамкипростогообладания«стилем». Всего два примера: живопись маньеризма конца XVI – начала XVII века и ар-нуво в живописи, архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Такие мастера, как Пармиджанино, Понтормо, Россо или Гауди, Гимар, Бердслей и Тиффани некоторым совершенно очевидным для нас образом культивируют стиль. Они, кажется, всецело поглощены вопросами стиля и, очевидно, важнее для них не столько то, что они говорят, сколькото,каквсёэтосказано. Для анализа искусства такого типа – вроде бы как раз нуждающегося в различии, к упразднению которого я призывала, – необходимы термины наподобие «стилизации» или чего-то в этом роде. «Стилизация» отличает как раз такое произведение искусства, автор которого сознательно проводит далеко не само собой разумеющееся различие между содержанием и манерой, темой и формой. Когда это случается – когда стиль и материал настолькоразведеныидажепротивопоставленыдругдругу,–можносполнымоснованием утверждать,чтопредметискусноотделан(илиснимжестокоразделались)втомилиином стиле. Жестокость обращения стала тут почти правилом. Ведь когда предмет искусства мыслится как «содержание», он также оказывается подвержен износу. А поскольку определенные темы, по всеобщему разумению, стоят уже на грани такого износа, они все большеибольшеподдаютсяподобнойстилизации. Сравним, к примеру, несколько немых фильмов фон Штернберга («Охотники за спасением»,«Подполье»,«ПристаниНью-Йорка»)стемишестьюлентами,которыеонснял в Америке уже в 1930-е годы с Марлен Дитрих. Лучшие из ранних работ Штернберга обладаютярковыраженнымипризнакамистиля,чрезвычайноутонченнымстилистическим обликом.Ивсежесюжетнаялинияматросаипроституткииз«ПристанейНью-Йорка»–в отличие от приключений героини Дитрих в «Белокурой Венере» или «Распутной императрице» – не кажется нам стилистическим упражнением, тогда как в поздних фильмах Штернберга тон задает как раз ироническое отношение к содержанию (романтическая любовь, роковая красавица), восприятие тематики как интересной лишь в результате ее преломления, преувеличения – иными словами, стилизации… Живопись кубистов или скульптуры Джакометти не могли бы служить примерами «стилизации»: сколь ни велики в них искажения человеческого лица и фигуры, они не призваны сделать эти лицо и фигуру интересными. Примерами того, что я имею в виду, являются, скорее, картиныКривеллииЖоржадеЛатура. «Стилизация» в искусстве, в отличие от собственно стиля, отражает двойственное отношениексодержанию(симпатиитутпротивостоитпрезрение,одержимости–ирония). Подобная двойственность передается особым дистанцированием от предмета с помощью риторического наложения, каковым и является стилизация. Впрочем, как правило, в результате произведение либо становится предельно минималистским и репетитивным, либо различные его части как бы идут вразнобой, выбиваются из общего тона. (Удачный пример последнего – контраст между визуально блестящей развязкой «Леди из Шанхая» ОрсонаУэллсаиостальнымфильмом.)Конечно,вкультуре,приверженнойутилитарности всякого творчества (особенно ценится польза нравственная) и обремененной бесплодной потребностью отгораживать искусство серьезное от развлекательного, эксцентрика стилизации приносит значительное и весьма значимое удовлетворения. Примеры такого удовлетворенияяприводилавдругомэссе, объединивихпод названием«кэмп».Вместес тем очевидно, что стилизованное искусство – ощутимо избыточное, лишенное гармоничности–никогданебудетвеликим. Любого,ктоиспользуетсегодняпонятиестиля,преследуетмнимыйантагонизмформы исодержания.Какизбавитьсяотчувства,будто«стиль»,вродебыработающийпозаконам формы, разрушает содержание? Одно кажется очевидным: все утверждения об органичной связистиляисодержаниянебудутхотьсколь-либоубедительнымиинезаставяткритиков, выступающих с такими заявлениями, изменить формулировки, – пока само понятие содержаниянебудетпоставленонаместо. Большинство критиков согласятся: произведение искусства не «содержит» никакого отдельного содержания (или функции, как в случае с архитектурой), которое лишь приукрашивается«стилем».Номалоктоизнихобращаетсяпотомкпозитивнымследствиям того, с чем они, кажется, согласились. Что же такое «содержание»? Или, точнее, что остаетсяотсамогопонятиясодержанияпослетого,какмыпреодолелипротивопоставление стиля (или формы) и содержания? Ответ отчасти обусловлен тем фактом, что наличие в произведении искусства «содержания» – это, по сути, особая стилистическая условность. Задача, по-прежнему стоящая перед критической теорией, заключается в детальном изученииформальнойфункциисодержания. Пока эта функция не будет осознана и должным образом исследована, критики неизбежнобудутидальшеотноситьсякпроизведениямискусствакак к«высказываниям». (Это в меньшей степени применимо к абстрактным или ставшим преимущественно абстрактными видам искусства – музыке, живописи, танцу. В этих случаях, впрочем, критики не решили проблему – она была просто снята без их участия.) Разумеется, произведение искусства можно счесть высказыванием – то есть ответом на вопрос. На самом элементарном уровне в гойевском портрете герцога Веллингтона допустимо видеть ответ на вопрос о том, как выглядел герцог Веллингтон. К «Анне Карениной» можно отнестись как к исследованию проблем любви, брака и адюльтера. И хотя вопрос о том, в какой мере художественное изображение соответствует действительности, в значительной степени перестал быть актуальным, скажем, в живописи, такая адекватность все еще являетсявесомымкритериемоценкивбольшинствеоткликовнасерьезныероманы,пьесыи фильмы.Вкритическойтеорииэтопонятиесуществуетдовольнодавно.Покрайнеймересо времени Дидро критический мейнстрим, апеллируя к таким внешне несхожим критериям, как правдоподобие и нравственная благопристойность, и вправду трактовал произведение любыхискусствкаквысказывание,оформленноеввидепроизведения. Неточтобытакаятрактовкабыласовершеннонеподходящей.Однакозанейявностоит утилитарное использование искусства для самых разных целей, как-то: исследование истории идей, диагностика современной культуры, достижение социальной солидарности. Этотподходимеетмалообщегостем,чтодействительнопроисходит,когдапроизведение искусства в его своеобразии рассматривает человек, обладающий определенной подготовкой и эстетической восприимчивостью. Восприятие произведения как такового – этоопыт,аневысказываниеинеответнавопрос.Искусство–нетолькопрочто-то:онои естьэточто-то.Произведение–вещьвмире,анепростотекстиликомментарийкэтому миру. Я вовсе не хочу сказать, будто произведение создает абсолютно свою, изолированную реальность. Разумеется, различные искусства (за исключением, что важно, музыки) отсылают нас к реальному миру – к нашим знаниям, опыту, ценностям. Они несут информацию, дают оценку. Но отличает их то, что они рождают не понятийное знание (понятия формируют, скорее, дискурсивные или научные дисциплины – философия, социология, психология, история), а нечто вроде воодушевления, привязанности, зачарованного, увлеченного суждения. Иначе говоря, знание, которое мы получаем через искусство, это скорее опыт формы или стиля самого познания, нежели познание чего-то вродефактаилиморальногосуждениянапрямую. Этим можно объяснить преобладание в искусстве такой ценности, как выразительность,ито,чтовыразительность–иначеговоря,стиль–оправданнополучает здесь приоритет над содержанием (когда оно ошибочно изолировано от стиля). «Потерянный рай» мы ценим не за изложенные в поэме взгляды на Бога и человека, а за воплощенныевнейвысшиепримерыэнергии,жизненнойсилыивыразительности. Отсюда и характерная зависимость даже самого выразительного произведения от того, насколько поглощен опытом его восприятия зритель или читатель, поскольку можно ведь понимать, о чем «идет речь», но – по тупости или рассеянности – ничуть этим не растрогаться. Искусство не насилует, оно соблазняет. Да, переживание, предлагаемое произведением искусства, отличает повелительность. Но искусство бессильно соблазнить безсоучастиявоспринимающего. Критики, которые рассматривают искусство как высказывание, относятся к «стилю» с неизбежной подозрительностью, даже если на словах превозносят «воображение». Воображение для них – всего лишь сверхчувствительное воспроизведение «реальности». Онипо-прежнемусосредоточены,скорее,наэтойреальности,заключеннойвпроизведении искусства,аненатом,насколькопроизведениезахватываетипреображаетихразум. Но стоит метафоре произведения как высказывания утратить силу, как исчезнет и двойственное отношение к «стилю», поскольку эта двойственность отражает предполагаемоенапряжениемеждувысказываниемиспособомеговысказать. И все же отношение к стилю невозможно изменить одними призывами рассматривать искусство «соответствующим ему» (в противоположность утилитарному) образом. Двойственное отношение к стилю порождается не какой-то банальной ошибкой – ее было бы легко исправить. Оно обусловлено той одержимостью, с которой в нашей культуре защищаютиотстаиваютистинуинравственность–ценности,лежащие,какобычнопринято полагать,«вне»поляискусства,нокоторымискусствоякобыпостоянногрозитподрывом.В конечном же счете за двойственным отношением к стилю стоит традиционное для Запада неверноепредставлениеоботношенияхмеждуискусствомиморалью,эстетикойиэтикой. Неверное, поскольку проблематика «искусство против нравственности» целиком надуманна. Само это противопоставление – ловушка; его несокрушимое правдоподобие основываетсянатом,чтоподвопросставитсяисключительноэстетика,анеэтика.Любая основанная на этих принципах дискуссия в попытке отстоять автономию эстетики (в ней без особой убежденности участвовала и я) допускает нечто недопустимое – а именно существование двух независимых реакций, эстетической и этической, будто бы соревнующихсязанашуприверженность,когдамывоспринимаемпроизведениеискусства. Как если бы нам при этом надо было выбирать между ответственным, человечным поведением с одной стороны и доставляющим удовольствие раздражением сознания – с другой! Разумеется,нашареакциянапроизведенияискусства–нетолькопьесуилиромансих описаниями делающих выбор и воплощающих его в действие человеческих существ, но и (хотя это и не так очевидно) картину Джексона Поллока или греческую вазу – никогда не будет чисто эстетической. (Рёскин проницательно отмечал нравственную сторону формальных свойств живописи.) Однако одинаковая нравственная реакция на какой-то аспект произведения искусства и на событие в реальной жизни тоже была бы с нашей стороны неподобающей. Меня, разумеется, возмутило бы, если кто-то из моих знакомых убилженуиникак(нипсихологически,ниюридически)заэтонепоплатился–нояврядли стану,вследзацелымрядомкритиков,возмущатьсятем,чтоубилженуиизбежалнаказания герой«Американскоймечты»НорманаМейлера.Дивина,ЛюбимчикДэйнтифутипрочие персонажи «Богоматери цветов» Жана Жене – не реальные люди, нам не надо решать, пригласимлимыихксебевгости;они–фигурыввоображаемомпейзаже.Аргументможет показаться очевидным, но засилье благовоспитанно-моралистических суждений в нынешнейлитературнойикинокритикезаставляетегоповторять. Однакодлябольшейчастилюдей,какотмечалв«Дегуманизацииискусства»Ортега-иГассет, эстетическое наслаждение не отличается в принципе от переживаний, которые сопутствуютимвповседневномобиходе.Искусствомониназовуттусовокупностьсредств, которыми достигается их контакт со всем, что есть интересного в человеческом существовании. Когда они печалятся или радуются человеческим судьбам в пьесе, фильме или романе, это мало чем отличается для них от скорби или счастья по тем же поводам в реальной жизни – за тем лишь исключением, что эстетическое переживание не столь утилитарно, более насыщенно и не влечет за собой обременительных последствий. Это переживание, на мой взгляд, еще и более интенсивно: когда страдание и наслаждение переживаются опосредованно, люди могут не экономить на эмоциях. Впрочем, как утверждает Ортега, «озабоченность собственно человеческим в произведении принципиальнонесовместимасострогоэстетическимудовольствием»[8]. Намойвзгляд,Ортегасовершенноправ.Нояпредпочлабынеоставлятьэтотвопростам же,гдеион–поумолчаниюотделяядруготдругареакциюэстетическуюинравственную. Я бы, скорее, сказала, что искусство как раз связано с нравственностью – взять хотя бы моральное удовлетворение, которое может нам дать искусство. Но моральное удовлетворение, специфически присущее искусству, не связано с одобрением или осуждением реальных действий. Моральное удовлетворение от искусства, как равно и моральная функция, которую искусство выполняет, состоит в воображаемом вознагражденииразума. За термином «нравственность» стоит обычное или привычное поведение (включая чувства и поступки). Это своего рода кодекс действий, суждений и чувств, служащий укреплению нашей привычки поступать определенным образом и предписывающий нам стандарт (или идеал, к которому надо стремиться) общего отношения к другим людям (то есть ко всем, кого мы таковыми признаём) в духе любви. Стоит ли говорить, что неподдельнуюлюбовьмыиспытываемлишькнесколькимсуществамизвсех,чтознакомы намвреальнойжизниилисуществуютлишьвнашемвоображении…Нравственность–это образдействия,анедетальныйпереченьготовыхрешений. Когда она понимается таким образом – как одно из достижений человеческой воли, предписывающей самой себе образ действия и бытия в мире, становится ясно, что нет никакого принципиального противоречия между ориентированной на действие формой сознания, каковой и является нравственность, и началом, это сознание питающим – что, в свою очередь, есть эстетический опыт. Лишь когда произведения искусства сводятся к высказываниям, несущим специфическое содержание, а нравственность отождествлена с чьей-то конкретной моралью (во всякой конкретной морали есть своя доля шлака, всего того, что служит исключительно защите ограниченных общественных интересов и классовых ценностей), произведение искусства и можно счесть подрывающим нравственность. И, конечно, только тогда можно полностью разграничить этическое и эстетическое. Ноеслимырассматриваемнравственностьавтономно,какпринципиальноерешениесо стороны сознания, тогда наша реакция на искусство предстает «моральной» именно постольку,посколькуэтопереживаниевоодушевляетнашувосприимчивостьиразум.Ведь именновосприимчивостьпитаетнашуспособностькнравственномувыборуипобуждаетк действию – если принять, что мы действительно делаем выбор (без чего поступок невозможно назвать нравственным), а не апатично и бездумно повинуемся. Искусство выполняетэту«моральную»задачу,посколькукачества,присущиекакэстетическомуопыту (бескорыстие, созерцательность, собранность, пробуждение чувств), так и эстетическому объекту (изящество, продуманность, экспрессия, энергия, чувственность), выступают основнымисоставляющиминравственнойреакциинасобытияжизни. В искусстве «содержание» является, так сказать, поводом, целью, приманкой, втягивающейсознаниевформальныйпосуществупроцесспреображения. Именнопоэтомумысчистойсовестьюможемценитьпроизведенияискусства,которые с точки зрения только «содержания» выглядят морально предосудительными. (Сложность подобной ситуации схожа с проблемами восприятия произведений, предпосылки которых нам интеллектуально чужды – например, «Божественной комедии».) Называя «Триумф воли»и«Олимпию»ЛениРифенштальшедеврами,мынелакируемнацистскуюпропаганду эстетическойснисходительностью.Нацистскаяпропагандаотэтогоникуданеисчезает.Но в этих работах есть и нечто иное – и отметая его, мы много теряем. Два этих фильма Рифеншталь демонстрируют сложные движения сознания, изящества и чувственности (случай уникальный среди произведений художников-нацистов), а потому они выходят за рамки категорий пропаганды или даже репортажа. И мы ловим себя – признаемся, не без некоторой неловкости, – на том что видим «Гитлера», а не Гитлера, «Олимпиаду 1936 года», а не Олимпиаду 1936 года. Гений Рифеншталь как режиссера свел «содержание» – допустимдаже,противеежелания–кчистоформальнойроли. Произведениеискусства,покаоноостаетсяименнопроизведениемискусства,неможет – каковы бы ни были личные намерения его автора – отстаивать чью-либо одну точку зрения. Величайшие художники достигают возвышенной нейтральности. Вспомним о ГомереиШекспире,изкоторыхцелыепоколенияакадемиковикритиковтщилисьвыжать конкретные«взгляды»наприродучеловека,нравственностьиобщество. Опять-таки, обратимся к примеру Жене – хотя его случай лишь подтверждает мою гипотезу, поскольку устремления автора известны. Может показаться, будто Жене в своих вещах заставляет нас одобрять жестокость, вероломство, распущенность и убийство. Но, создавая именно произведение искусства, Жене вообще ни к чему не призывает. Он записывает, впитывает, перерабатывает свой жизненный опыт. Собственно, сам этот процесс становится совершенно очевидной темой книг Жене; его книги – не просто произведения искусства, это произведения об искусстве. Однако даже когда переработка собственного опыта и не выходит на передний план (как обычно и бывает), именно она привлекаетнашевниманиепреждевсего.То,чтогероиЖенеоттолкнулибынасвреальной жизни,несущественно.Этожеможносказатьиобольшинствеперсонажей«КороляЛира». Жене интересен тем, как его «тема» сводится на нет ясностью и продуманностью плодов еговоображения. Высказывать моральное одобрение или осуждение тому, о чем «говорится» в произведении искусства, так же странно, как испытывать от произведения искусства сексуальное возбуждение. (Конечно, и то и другое встречается довольно часто.) И доводы, выдвигаемые против пристойности и уместности одного, вполне применимы ко второму. Уничтожение субъекта – вот, вероятно, единственный серьезный критерий для разграничениятехэротическихкниг,фильмовиликартин,чтоотносятсякискусству,итех, которые (за неимением лучшего) приходится называть порнографией. В порнографии есть «содержание», и ее задача – заставить нас (испытывая вожделение или же отвращение) с этимсодержаниемслиться.Этосуррогатжизни.Искусствоженевозбуждает–идажеесли делает это, то утоляет возбуждение в рамках эстетического опыта. Все великое искусство побуждает к созерцанию, динамическому созерцанию. Сколь бы ни был читатель или слушатель – любой активный соучастник произведения искусства – возбужден условным отождествлением того, что заключено в произведении, с реальной жизнью, его конечная реакция–приусловии,чтоонреагируетнанегоименнокакнапроизведениеискусства– должнабытьбесстрастной,умиротворенной,созерцательной,свободнойотэмоций,поту сторону как возмущения, так и одобрения. Примечательно недавнее признание Жене: сейчас ему кажется, что, если его книги сексуально возбуждают читателей, то они «плохо написаны, поскольку поэтическое возбуждение должно быть такой силы, что для сексуальноговолненияместауженеостается.Да,моикниги–порнография,нояотнихне отказываюсь.Простоприходитсяпризнать,чтомневсвоевремянехватилоизящества». В произведении искусства можно найти самую разную информацию и почерпнуть примеры новых (порой весьма похвальных) взглядов на жизнь. У Данте мы можем узнать что-то о средневековой теологии и истории Флоренции; Шопен способен подарить нам первыйопытстрастноймеланхолии;вварварствевойнынасмогутубедитькартиныГойи,а в бесчеловечности смертной казни – «Американская трагедия». Но пока мы относимся к этим вещам исключительно как к произведениям искусства, удовлетворение, которое они дают нам, носит иной характер. Это опыт переживания свойств или форм человеческого сознания. Возражение, будто такой подход сводит искусство к чистому «формализму», следует напрочь отмести. (Оставим это слово для произведений искусства, которые машинально воспроизводят устаревшие или отработанные эстетические формулы.) Подход к произведениям искусства как к живым, автономным моделям сознания будет выглядеть предосудительным, лишь пока мы не откажемся от поверхностного отделения формы от содержания.Впроизведенииискусстванетсодержания,какнетегоивмире.Естьонисами –искусствоимир.Имненужноникакоеобоснование,даегоинеможетбыть. Гипертрофия стиля, скажем, в живописи маньеристов или ар-нуво – это подчеркнутая форма переживания мира как эстетического феномена. Но особо подчеркнутая именно в ответ на подавляющий своим догматизмом стиль реализма. Любой стиль – то есть любое искусство–говоритотомже.Мир,вконечномсчете,иестьэстетическийфеномен. Это означает, что у мира (всего существующего) в конце концов нет обоснования. Обоснование–умственнаяконструкция,возможная,лишьеслимысопоставляемоднучасть мирасдругой,анерассматриваемвсесущее. Произведениеискусства–приусловии,чтомыемуотдаемся,–подчиняетнасцеликоми полностью.Предназначениеискусства–невтом,чтобыбытьподспорьемистины,будьона конкретнойиисторическойиливневременной.КакписалРоб-Грийе,«искусствоестьвсё– еслионовообщеможетбытьчем-то,–автакомслучаеонодолжнобытьсамодостаточным, иничегозаегопределаминесуществует». Однако такую позицию легко довести до карикатуры, поскольку мы живем в реальном мире и предметы искусства производятся и оцениваются именно в этом мире. То, что я говорилаобавтономиипроизведения–оегосвободеничегоне«значить»,–немешаетнам рассуждатьобэффекте,влиянииилифункцииискусства,еслитолькомыготовыпризнать, что,когдапредметискусствадействуеткактаковой,разъединениеэстетикииэтикилишено всякогосмысла. Применительнокпроизведениюянеоднократноиспользоваламетафорыпитания.Когда мы поглощены произведением искусства, это несомненно подразумевает опыт отрешенности от мира. Но произведение искусства и само по себе яркий, волшебный и уникальныйпредмет,онвозвращаетнасвмирболееоткрытымииобогащенными. Ремон Байе писал: «Любой эстетический объект, подчиняя нас собственным ритмам, дает уникальную и неповторимую формулу пульсации нашей энергии… В каждом произведении искусства заложен принцип обработки, фиксации, сканирования; образ напряжения или ослабления, отпечаток ласкающей или разрушающей руки, подвластной только[художнику]».Мыможемназватьэтообликомпроизведения,егоритмомили–как поступила бы я – его стилем. Конечно, если мы будем применять понятие стиля исторически – объединяя произведения искусства по школам и периодам, – то неизбежно смажем индивидуальный характер стилей. Но тот же опыт будет иным, если подойти к произведениюискусствасэстетическойточкизрения(впротивоположностьпонятийной). Тогда–еслипроизведениеудачноинеутратилоспособностиговоритьснаминапрямую– мыиспытываемтолькоиндивидуальностьинепредвосхитимостьстиля. Тожесамоеможносказатьионашихжизнях.Есливзглянутьнанихсостороны–атак под влиянием получающих широкое распространение социальных наук и психиатрии поступает все больше и больше людей, – мы покажемся себе частным случаем общих тенденций. Отсюда глубинное и болезненное отчуждение нас самих от нашего опыта и нашейчеловечности. Как заметил недавно Уильям Эрл, если и можно сказать, будто «Гамлет» – «про» чтото, – то он про самого Гамлета и конкретное положение, в котором он оказался, а не про удел человеческий. Произведение искусства – своего рода демонстрация, запись, свидетельство, придающее сознанию осязаемую форму; оно призвано явить миру нечто исключительное. Если справедливо, что любое суждение (моральное, понятийное) возможнолишьприобобщении,тогданельзянепризнать:инашопытпроизведенийито, что в них представлено, превыше суждений – хотя само произведение и можно судить по критериям искусства. И не это ли мы считаем признаком великого искусства, наподобие «Илиады», романов Толстого или пьес Шекспира, – когда такое искусство берет верх над нашимимелочнымисуждениями,надлегкостью,скотороймылепимналюдейиискусство ярлыки хорошего и плохого? То, что это происходит, только к лучшему. (Кстати, и для нравственноститоже.) Ведьвысшимобоснованиемнравственности,вотличиеотискусства,служитвконечном счете ее полезность: то́, что она делает – или предполагается, что делает – жизнь более гуманнойивыносимойдлявсехнас.Однакосознание,впрошломдостаточнотенденциозно именовавшееся способностью к созерцанию, может быть – и есть – шире и разнообразнее любого действия. Его питают искусство и спекулятивная мысль – виды занятий, которые можно описать либо как обосновывающие себя сами, либо как не нуждающиеся в обосновании. Произведение искусства заставляет нас видеть или осознавать нечто исключительное,анесудитьилиобобщать.Вотэтотактосознания,сопровождаемыйтягой к чувственному наслаждению и есть единственная настоящая цель и единственное достаточноеобоснованиепроизведенияискусства. Пожалуй,лучшевсегопрояснитьприродунашеговосприятияпроизведенийискусстваи связь между искусством и остальными человеческими чувствами и поступками нам поможет понятие воли. Это чрезвычайно полезное понятие, поскольку оно обозначает не только особое, заряженное энергией состояние сознания, но и отношение к миру – отношениенаскаксубъектов. Сложныйтипволеизъявления,воплощенныйипередаваемыйвпроизведенииискусства, одновременно упраздняет окружающий мир и сталкивает с ним лицом к лицу, причем с особой остротой. Этот двуликий характер воли в искусстве лаконично выразил Байе: «В каждом произведении искусства мы найдем схематизированную и свободную память об акте воли». Будучи схематизированной, свободной памятью, волеизъявление в форме искусствадистанцируетсяотмира. Все это отсылает нас к знаменитому утверждению Ницше в «Рождении трагедии»: «Искусство не есть исключительно подражание природной действительности, а как раз метафизическое дополнение этой действительности, поставленное рядом с ней для ее преодоления»[9]. Восновевсехпроизведенийискусствалежитнекоеотдалениеотпредставленнойвних прожитой реальности. Это «отдаление», по определению, до известной степени бесчеловечно или безлично: ведь чтобы предстать как искусство, произведение должно ограничить вмешательство чувств и участие эмоций, в которых и проявляется «близость». Степень и обработка этой удаленности, условности дистанцирования и составляют стиль произведения. В конечном счете «стиль» и есть искусство. Искусство – это различные способыстилизованного,дегуманизированногопредставления,небольшеинеменьше. Однако такая точка зрения, сформулированная, среди прочих, Ортегой-и-Гассетом, частоистолковываетсяневерно:можетсложитьсявпечатление,будтоискусство,следующее своим собственным нормам, становится подобием никчемной и безвольной игрушки. Ортега и сам во многом способствует такой неверной интерпретации, упуская из виду различные диалектические связи между личностью и миром, складывающиеся в процессе восприятия произведений искусства. Ортега чересчур сосредоточен на понятии произведения как некоего объекта со своими собственными стандартами духовного аристократизма,которыйнадлежитсмаковать.Произведениеискусстваивсамомделеесть преждевсегопредмет,анеподражание;ивсевеликоеискусстводействительнооснованона дистанцировании, на искусственности, на стиле, на том, что Ортега называет дегуманизацией.Нопонятиедистанцирования(какидегуманизации)можетсбитьстолку, еслинеоговориться,чтодвижениеидетнетолькоотмира,ноикмиру.Преодолениемира, выход за его пределы в искусстве – это также способ пойти ему навстречу, метод тренировкиилиобученияиндивидуальнойволисуществованиювмире.Кажется,чтоОртега идажеРоб-Грийе,последнимизложившийэтупозицию,недоконцаосвободилисьотчар «содержания», ведь для того, чтобы сократить в искусстве человеческое содержание и оградить его от выдохшихся идеологий вроде гуманизма или социалистического реализма, которыепоставилибыискусствонаслужбунекоейморальнойилиобщественнойидее,они чувствуют себя обязанными игнорировать или ограничивать функцию искусства. Но искусство, даже выглядящее в конечном счете лишенным содержания, не утрачивает от этого своих функций. И сколь бы убедительно ни защищали Ортега и Роб-Грийе формальнуюприродуискусства,призракизгнанного«содержания»по-прежнемубродитна полях их доказательств, придавая «форме» вызывающе безжизненный, спасительно выхолощенныйвид. Доказательства защиты будут выглядеть неполными, пока мы не сможем представить «форму» или «стиль» без изгнанного призрака, без чувства утраты. Дерзкая перестановка Валери–«Литература.Чтодлявсехостальных“форма”,тодляменя“содержание”»–тутне сильно помогает. Сложно выкинуть из головы столь привычное и внешне самоочевидное различие. Но сделать это можно, достаточно лишь принять иную, более органичную теоретическую перспективу – понятие воли. От такой перспективы требуется, чтобы она отдавала должное двойственной природе искусства: как предмета и как функции, как искусной выдумки и как живой формы сознания, как преодоления или дополнения реальности и как выявления форм движения к реальности, как самостоятельного индивидуальногопорожденияикакподчиненногоисторическогофеномена. Искусство – это объективация воли в вещи или исполнении, провоцирование или возбуждение воли. С точки зрения художника, это объективация волеизъявления; для зрителя–этосозданиевоображаемыхдекорацийдляактовволи. Действительно, всю историю различных видов искусства можно переписать как историю меняющегося отношения к воле. Ницше и Шпенглер были первопроходцами в изученииэтойтемы.НедавнодостойнуюпопыткураскрытьеесделалЖанСтаробинскийв книге«Изобретениесвободы»,восновномпосвященнойживописииархитектуреXVIIIвека. Искусство того времени Старобинский рассматривает в свете новых тогда идей – умения владеть собой и владения миром, – которые воплощают новые отношения личности с миром. Искусство предстает именованием эмоций. Давая имена эмоциям, желаниям, устремлениям, искусство как бы изобретает или по меньшей мере распространяет их: например,«сентиментальноеодиночество»,котороепорождалиразбивавшиесявXVIIIвеке садыивызывавшиетакоевосхищениеразвалины. Тем самым должно быть ясно, что предложенное мной обоснование автономного характера искусства и сравнение его с воображаемой обстановкой или декорациями для актов воли не только не препятствует рассмотрению произведений искусства как историческиобусловленныхфеноменов,ноинапрямуюприглашаеткнему. Стилистические хитросплетения современного искусства, например, явно сопряжены с беспрецедентным техническим расширением человеческой воли различными новыми технологиямиисразрушительнойприверженностьючеловеческойволиневиданнойпрежде форме социального порядка и психологического склада, основанной на непрестанных изменениях. Вместе с тем нужно добавить, что сама возможность взрывного развития технологии и нынешнего разрыва между личностью и обществом обусловлена тем отношением к воле, которое само в какой-то степени изобретается и получает распространение в произведениях искусства на данный исторический момент, представая затемнеким«реалистичным»прочтениемизвечнойчеловеческойнатуры. Стиль в искусстве – это принцип выбора, подпись художнического волеизъявления. И посколькуволячеловекаспособнапородитьбесконечноечислопроявлений,бесчисленныи возможныестилипроизведенийискусства. Если взглянуть на стилистические решения со стороны – то есть исторически, – их всегдаможносоотнестискаким-либоповоротомистории,будьтоизобретениеписьмаили ручноготипографскогонабора,созданиеилиэволюциямузыкальныхинструментов,новые материалы, к которым получает доступ скульптор или архитектор. Но этот подход – возможно,здравыйипо-своемуполезный–неизбежновидитвсёслишкоммасштабно:речь тутидето«периодах»,«традициях»и«школах». Тогдакаквзглядизнутри–когдамырассматриваемконкретноепроизведениеискусства и пытаемся осознать его ценность и воздействие – откроет нам, что в каждом стилистическом решении есть элемент произвольности, сколь бы обоснованным оно ни казалосьpropterhoc. Если искусство – игра высшего порядка, которую воля играет сама с собой, – то «стиль» представляет собой свод правил, по которым идет игра. А правила в конечном итоге это всегда искусственное и произвольное ограничение, касаются ли они формы (терцина, додекафония, фронтальная поза) или речь идет о наличии некоего «содержания». Роль произвольного и необоснованного в искусстве редко признаётся по достоинству. С самого начала критического предприятия – «Поэтики» Аристотеля – критиков обманом заставили превозносить в искусстве необходимое. (Слова Аристотеля «поэзияфилософичнееисерьезнееистории»[10],былиобоснованы,посколькуонхотелтем самым воспрепятствовать осмыслению поэзии – то есть искусства – как некоего фактологического, детального, описательного высказывания. Но сказанное им в итоге только сбило с толку, поскольку дало понять, что в искусстве мы найдем нечто, уже имеющееся вфилософии:аргумент.Метафорапроизведенияискусствакак«аргумента»со своимипредпосылкамииследствиямисталастехпоропределяющейдлякритики.)Обычно критики в попытке похвалить произведение искусства чувствуют себя вынужденными продемонстрировать, будто каждая его составная часть обоснована и иной быть просто не может.Но,когдаречьзаходитоегоработе,каждыйхудожник,помняоролислучая,освоей усталости,овнешнихраздражителях,знает:всеэтисловакритиков–сплошнаяложьивсё вполне могло быть иначе. Впечатление неизбежности, которое производит великое произведениеискусства,следуетизнеизбежностиилинеобходимостинеегочастей,авсего целого. Инымисловами,по-настоящемунеизбежнымвпроизведенииискусстваявляетсятолько стиль. Когда произведение кажется нам правильным, точным, таким, что иначе себе и не представишь(безполнойегоутратыилиущерба),мыреагируемименнонастиль.Самыми притягательнымикажутсяпроизведенияискусства,создающиеиллюзию,будтоуавторане было альтернатив, с такой полнотой он перевоплотился в собственный стиль. Сравним натянутые, вымученные, неестественные элементы в композиции «Мадам Бовари» или «Улисса»слегкостьюигармоничностьютакихнеменееамбициозныхвещей,как«Опасные связи» Лакло либо «Превращение» Кафки. Разумеется, первые две упомянутые книги превосходны. Но действительно великое искусство кажется рожденным, а не сконструированным. То, что стиль художника отличает такой уровень авторитетности, уверенности в себе, цельности, безальтернативности, само по себе не переносит его вещь на уровень высших достижений.ВсеэтоестьивдвухроманахРадиге,иуБаха. Различие,проведенноемноймежду«стилем»и«стилизацией», чем-тосродниразнице междуволейисвоеволием. С технической точки зрения стиль художника – не что иное, как особый диалект, в рамках которого он разворачивает формы своего искусства. Именно поэтому проблемы, которые затрагивает понятие «стиля», пересекаются с теми, что затрагиваются понятием «формы»,имеждуихрешениямитожемногообщего. Например, одна из функций стиля совпадает – будучи ее более личным и детализированным вариантом – с важной функцией формы, отмечавшейся Кольриджем и Валери: хранить плоды разума от забвенья. Очевидным примером этой функции является ритмическая, порой рифмованная структура всех примитивных устных форм словесного творчества. Ритм и рифма, а также более сложные формальные ресурсы поэзии: размер, симметрияфигур,ихпротивопоставление,–всеэтосредства,которымисловаобеспечивали память о себе до изобретения материальных знаков (письма); следовательно, всё, что подлежало запоминанию в архаической культуре, принимало поэтическую форму. По словам Валери, «форма произведения – это сумма его видимых характеристик, чье физическое действие заставляет нас их узнавать и пытается противостоять всем тем различным причинам разложения, которые угрожают выражениям мысли: невнимательность,забывчивостьилидажепротест,которыеонивызываютвмыслях». Такимобразом,форма–врамкахсвоегоособогодиалекта,стиля–этопроектбудущего оттискавчувствахвоспринимающих,посредниквсделкемеждунемедленнымчувственным отпечатком и памятью (будь то индивида или культуры). Эта мнемоническая функция объясняет, почему всякий стиль зависит от – и может быть подвергнут анализу по критериям–некоегопринципаповторяемостиилиинформационнойизбыточности. Этим же можно объяснить и сложности нынешнего момента в искусстве. Если раньше стилиразвивалисьмедленно,поступательносменяядругдругавтечениепродолжительного периода,позволяяпубликеполностьюусвоитьпринципыповторения,накоторыхпостроено произведение искусства, то сегодня они меняются со скоростью, не дающей аудитории передохнуть и подготовиться. Однако если мы не можем видеть, как произведение повторяет себя, то оно почти буквально становится незаметным, а потому, в то же самое время, непостижимым. Мы постигаем произведение, отмечая повторения. Пока мы не уловим – нет, не «содержание», но принципы разнообразия и избыточности (и баланс между ними) в «Зимней ветке» Мерса Каннингема или камерном концерте Чарльза Вуоринена, в «Голом завтраке» Берроуза или в «черных» картинах Эда Рейнхардта, эти работы неизбежно покажутся нам скучными, безобразными или запутанными – либо всем этимвместе. У стиля есть и другие функции, помимо, в широком смысле слова, мнемонической, о которойятолькочтоговорила. Так,любойстильвоплощаетнекоеэпистемологическоерешение–интерпретациютого, как и что мы воспринимаем. Лучше всего это видно на примере современного, рефлексивного периода в искусстве, хотя не менее справедливо и для искусства в целом. СтильромановРоб-Грийе,скажем,выражаетвполнеобъективное,хотяинесколькоузкое, пониманиевзаимоотношениймеждулюдьмиивещами,аименно:людимогутбытьвещами, но не наоборот. Бихевиористская трактовка людей у Роб-Грийе и его отказ «антропоморфизировать» вещи равнозначны определенному стилистическому решению – дать объективный отчет о визуальных и топографических свойствах вещей, фактически исключив все разновидности чувств, кроме зрения, поскольку, вероятно, предназначенный дляихописанияязыкменееточенибеспристрастен.Закольцованныйрепетитивныйстиль «Меланкты» Гертруды Стайн выдает ее интерес к растворению непосредственного восприятия в запоминании и предвосхищении – к тому, что она называет «ассоциированием» и что затмевается в языке системой глагольных времен. Акцент, который Стайн ставит на укорененности опыта в настоящем, идентичен ее решению ограничиться настоящим временем, выбирать банальные короткие слова, бесконечно повторяя их сочетания, использовать максимально свободный синтаксис и по большей части отказаться от знаков препинания. Каждый стиль – это способ поставить на чем-то акцент. Легкоубедиться,чтостилистическиерешения,сосредоточиваянашевниманиенаодних вещах, одновременно сужают его, не позволяя видеть другие. Однако бо́льшая привлекательностьодногопроизведенияпосравнениюсдругимосновананенатом,чтоего стилистическиерешениядаютнамбольшеразглядеть,аскореенабо́льшейинтенсивности, авторитетностииумудренностиэтоговзгляда,скольбыузкимнибылфокусвидимого. Встрогомсмыслеслова,непередаваемовсёсодержимоесознания.Дажесамоепростое ощущениевегототальностинеописуемо.Любоепроизведениетемсамымследуетпонимать нетолькокаквыражениечего-то,ноикакопределеннуюработусневыразимым.Ввеликом искусстве всегда чувствуешь недосказанность (правила «сдержанности»), противоречие между выразительностью и присутствием невыразимого. Стилистические приемы – это такжеимеханизмыумолчания.Наиболееэффектнымиэлементамипроизведениязачастую оказываютсяегопаузы. Сказанное мной о стиле было направлено в основном на прояснение некоторых заблуждений относительно произведений искусства и способах говорить о них. Но не забудем, что понятие стиля применимо к любому опыту, если иметь в виду его форму и качества.Иеслимногиепроизведенияискусства,сполнымправомпретендующиенанаше внимание, несовершенны или не идеальны по предложенным мной меркам, то и многие элементы нашего опыта, которые никак нельзя причислить к произведениям искусства, обладают некоторыми качествами художественных объектов. Как только речь, движение, поведение, предметы демонстрируют некоторое отклонение от самого прямого, рационального и бесстрастного способа выражения или бытования, мы можем считать их наделенными«стилем»ивэтомкачественезависимымииобразцовымиразом. [1965] Пер.СергеяДубина II Художниккакпримермученика Самый богатый стиль – это обобщенный голос главного героя. Павезе ЧезареПавезеначалписатьвтридцатыегоды,авсеегопереведенныеиопубликованные у нас вещи – «Дом на холме», «Луна и костры», «Среди женщин», «Дьявол на холмах» – были созданы в 1947–1949 годах, поэтому читатель, ограничивающийся английскими переводами, не может составить представления о его творчестве в целом. Однако, если судить по этим четырем романам, основными достоинствами Павезе как писателя представляются утонченность, немногословие, сдержанность. Манера изложения ясная, сухая,холодная.МожноотметитьбесстрастностьпрозыПавезе,хотяречьвнейчастоидето насилии.Этообъясняетсятем,чтонасамомделевосновесюжетавсегдалежитненасилие (например, самоубийствов «Среди женщин»;войнав«Дьяволенахолмах»),а сдержанная личность самого рассказчика. Для героя Павезе характерно стремление к ясности, а его типичная проблема – невозможность общения. Все эти романы – о кризисе сознания и об отказе разрешить этот кризис. В них заранее предполагается некое притупление эмоций, ослабление чувств и телесной витальности. Страдания преждевременно растерявших иллюзии, высокообразованных людей, у которых ирония и грустный опыт собственных эмоций сменяют друг друга, вполне узнаваемы. Но в отличие от других разработок этой жилы современной чувствительности – например, большей части французской прозы и поэзии последних восьмидесяти лет – романы Павезе лишены сенсационности и строги. Авторвсегдаотноситглавноесобытиелибозапределыместадействия,либовпрошлое,а эротическихсценстраннымобразомизбегает. И словно для того, чтобы компенсировать разъединенность своих героев, Павезе, как правило, наделяет их глубокой привязанностью к родным местам – это обычно либо городской пейзаж Турина, где Павезе учился в университете и прожил почти всю свою взрослую жизнь, либо сельская местность под Пьемонтом, где он родился и вырос. Это ощущение истоков и желание найти и вновь обрести их значимость ни в коей мере не придаетпроизведениямПавеземестногоколорита,и,возможно,этимчастичнообъясняется неспособность его романов вызвать у англоязычных читателей восторг наподобие того, с какимонивстречаютпроизведенияСилонеилиМоравиа,хотяПавезегораздоодареннееи своеобразнее каждого из них. Ощущение пейзажа и людей у Павезе не те, каких ждет читательотитальянскогописателя.НоПавезеродомссевераИталии,аСевернаяИталия– нетаИталия,какойеехочетвидетьиностранец,иТурин–большойпромышленныйгород, не вызывающий исторических ассоциаций и не являющийся воплощением чувственности, чтопривлекаетиностранцеввИталии.ВТуринеиПьемонтеПавезечитателюненайтини памятников, ни местного колорита, ни чисто итальянского обаяния. Место присутствует здесь,нолишькакнедостижимое,анонимное,нечеловеческое. Ощущение писателем связи человека и места (способ воздействия на людей безличной силы места) знакомо любому видевшему фильмы Алена Рене и еще в большей степени – знающему фильмы Микеланджело Антониони – Le Amiche («Подруги») (фильм создан по лучшему из романов Павезе, «Среди женщин»), L’Aventura («Приключение») и La Notte («Ночь»).НодостоинствапрозыПавезенетакочевидны,как,скажем,достоинствафильмов Антониони.(Те,ктонепринимаетфильмовАнтониони,называютих«литературными»или «слишком субъективными».) Подобно фильмам Антониони, романы Павезе изысканны, полны лакун (не затемняющих смысл), спокойны, не драматичны, сдержанны. Павезе не такой мастер, как Антониони. Но он заслуживает гораздо большего внимания в Англии и Америке,чемемууделялосьдосихпор[11]. НетакдавнонаанглийскомязыкепоявилисьдневникиПавезес1935по1950год,когда онпокончилссобойвсорокадвухлетнемвозрасте[12].Ихможночитатьнебудучизнакомым с романами Павезе как образец современного литературного жанра – «дневники», «записныекнижки»или«журнал»писателя. Зачем мы читаем дневники писателя? Потому что они поясняют смысл его книг? Довольно часто этого не происходит. Скорее, просто из-за живой формы дневниковых записей, даже написанных с оглядкой на возможную будущую публикацию. Здесь мы читаем человека, пишущего от первого лица; мы обнаруживаем эго писателя под масками других эго в его произведениях. Никакая степень откровенности в романе не может заменить этого, даже если автор пишет от первого лица либо использует третье лицо, за которым явно виден он сам. Большинство романов Павезе, включая те четыре, что переведены на английский, написаны от первого лица. Но мы прекрасно знаем, что «я» в романах Павезе не идентично самому писателю, как Марсель в «Поисках утраченного времени»неидентиченПрусту,аК.в«Процессе»и«Замке»–Кафке.Инеудовлетворяемся этим.Современномучитателютребуетсяобнаженныйавтор,каквовременавоинствующей верытребовалисьчеловеческиежертвы. Дневник показывает нам работу души писателя. Но почему она нам так интересна? Не потому, что нас интересуют писатели как таковые. А из-за характерной для теперешнего времени поглощенности психологией, позднейшего и самого мощного наследия христианскойтрадициисамонаблюдения,открытогонамап.ПавломиАвгустином,которое делает открытие собственного «я» равносильным открытию «я» страдающего. Для современного сознания человек искусства (заменивший святого) являет собой пример мученика. Писатель же, человек, владеющий словом, среди людей искусства более всего способен,считаеммы,выразитьсвоестрадание. Писатель являет собой пример мученика, поскольку достигает глубин страдания и обладает к тому же профессиональными средствами сублимировать (в буквальном, не фрейдистском понимании сублимации) собственное страдание. Будучи человеком, он страдает;будучиписателем,онпреображаетсвоестраданиевискусство.Писатель–этотот, ктооткрылпользустраданиявоимяраскрытияистиныискусства,подобнотому,каксвятые открылиполезностьинеобходимостьстраданиявоимяраскрытияистиныспасения. Сквозь все дневники Павезе проходят размышления о том, как использовать свое страдание, как поступить с ним. Литература – это одна возможность. Изоляция – и как способпобудитьиусовершенствоватьсвоеискусство,икакценностьсамапосебе–другая. А самоубийство – третья, последняя возможность использовать страдание, понимаемая не каквозможностьположитьстраданиюконец,акаккрайнийспособегопроявления. Мывидимименнотакуюзнаменательнуюпоследовательностьрассужденийвдневнике Павезеначала1938года:«Писать–значитзащититьсяотжизненныхнапастей.Литература говорит жизни: «Ты не можешь ввести меня в заблуждение. Мне знакомы твои обычаи, я предвижу и с удовольствием наблюдаю твои реакции и краду твои тайны, ловко ставлю препятствия,замедляющиетвоенормальноетечение»…Защититьсяотвсеговообщеможно ещеимолчаливособираясилыдляновогоброска.Номысамидолжныпредписатьсебеэто молчание,чтобыононебылопредписанонам,пустьдажесмертью.Избратьдлясебятяготы – это единственный способ защититься от тягот… Те, кто по самой своей природе может страдать в полной мере, совершенно, обладают преимуществами. Только так мы можем справитьсясостраданием,превратитьеговнашесобственноетворение,всвойсобственный выбор,подчинитьсяему.Вэтомоправданиесамоубийства». Если рассматривать манеру современных писательских дневников, можно увидеть любопытную эволюцию. Возьмем для примера дневники Стендаля, Бодлера, Жида, Кафки и, наконец, Павезе. Ничем не сдерживаемая демонстрация эготизма превращается в рискованное дознание с целью вымарать собственное «я». У Павезе нет ничего от протестантскогоосмысленияЖидомсобственнойжизникакпроизведенияискусства,отего уважениясобственногочестолюбия,уверенностивсвоихчувствах,любвиксамомусебе.У него нет и утонченной, без насмешки над собственными страданиями, несвободы Кафки. Павезе, так свободно употреблявший «я» в своих романах, в дневниках обозначает себя местоимением «ты». Он не описывает себя, а обращается к себе. Это ироничное, нравоучительное, укоризненное наблюдение себя самого. Окончательным результатом подобногодвойноговидениясебянеизбежнооказываетсясамоубийство. Дневники представляют собой, в сущности, длинный ряд самооценок и самодопросов. Здесьнетзаписейоповседневнойжизниилислучаях,которымонбылсвидетелем,никаких описаний, касающихся семьи, друзей, возлюбленных, коллег либо реакции на события в обществе (как в «Дневниках» Жида). Все, что удовлетворяет более традиционному представлениюосодержанииписательскогодневника(«Записныекнижки»Колриджаите же «Дневники» Жида), – это многочисленные размышления об общих проблемах стиля и литературной композиции и обширные заметки о чтении писателя. Павезе был человеком европейскойкультуры,хотяникогданевыезжализИталии;дневникиподтверждают,чтоон свободно ориентировался в европейской литературе и философии, равно как и в американской литературе (которая его особенно интересовала). Павезе был не просто романистом,аuomodicultura:поэтом,романистом,новеллистом,литературнымкритиком, переводчиком и редактором одного из ведущих издательств Италии («Эйнауди»). Большое место в дневниках занимает именно этот писатель-человек литературы. В них содержится тонкий комментарий к совершенно различным прочитанным книгам, от «Ригведы», Еврипида и Дефо до Корнеля, Вико, Кьеркегора и Хемингуэя. Но это не тот аспект дневников,которыйяздесьимеюввиду,посколькунеонпредставляеттотособыйинтерес, какой вызывают писательские дневники у современного читателя. Следует отметить, что когдаПавезепишетособственныхпроизведениях,тоскореенекакписатель,акакчитатель или критик. Здесь нет записей о том, как продвигается роман, нет планов или набросков будущихрассказов,романовилистихотворений.Речьидеттолькоозаконченныхвещах.Еще одна заметная лакуна в дневниках Павезе – в них отсутствуют какие бы то ни было упоминания о вовлеченности Павезе в политику, его антифашистская деятельность, за которую он пробыл в заключении в течение десяти месяцев в 1935-м, и его долгая, неоднозначная связь с коммунистической партией, которая в конце концов привела его к потерекакихбытонибылоиллюзий. Можно сказать, что в дневнике отражены две personae. Павезе-человек и Павезе – критик и читатель. Или: Павезе, размышляющий о будущем, и Павезе, размышляющий о прошлом.Здесьсодержитсясопровождаемыйукорамииувещеваниямианализсобственных чувствипланов,вцентрекоторого–возможностиПавезекакписателя,каклюбовника,как будущего самоубийцы. Здесь же и ретроспективный комментарий: анализ некоторых написанныхимкнигиихместавеготворчестве;заметкиопрочитанном.Иеслисчитать, что«настоящее»,жизньПавезевообщеприсутствуетвегодневниках,тоглавнымобразомв видеобсуждениясобственныхвозможностейиперспектив. Кроме творчества, Павезе постоянно возвращался к рассмотрению двух тем. Первая – перспективасамоубийства,искушавшаяПавезепоменьшеймересуниверситетскихвремен (когда двое его близких друзей покончили с собой): эта тема буквально не сходит со страниц его дневника. Другая – перспектива романтической любви и эротического краха. Павезе предстает перед нами как человек, мучимый глубоким ощущением сексуальной несостоятельности, которое подкреплялось у него всякого рода теориями о сексуальной технике, безнадежности любви и войне полов. Замечания относительно хищности, эксплуататорскойсущностиженщинперемежаютсяпризнаниямивсобственномлюбовном крахеиливневозможностиполучитьсексуальноеудовлетворение.Павезе,которыйникогда небылженат,фиксируетвдневникесвоевосприятиенесколькихдолгихсвязейислучайных встреч,обычнолибокогдаоножидаетзатруднений,либопослетогокакпотерпелнеудачу. Самихженщинонникогданеописывает;какие-либоконкретныеэпизодыэтихотношений даже не упоминаются. Обе темы глубоко связаны, как ощущает сам Павезе. В последние месяцы жизни, в разгаре неудачного романа с американской кинозвездой, он пишет: «Человек убивает себя не из-за женщины, а из-за того, что любовь – всякая любовь – выявляет нашу обнаженность, нашу нищету, нашу уязвимость, наше ничтожество… В глубине души – разве я не держался за эту изумительную любовную историю, пока она длилась… заставить себя вернуться к прежней мысли – моему давнему обольщению, получить основание опять думать: любовь – это смерть. Это вечная формула». Или же в ироническойманереПавезезамечает:«Недуматьоженщинахтакжелегко,какнедуматьо смерти».ЖенщиныисмертьникогданепереставалигипнотизироватьПавезе,рождаяунего тревогу и боль, поскольку в обоих случаях его больше всего волновало, сумеет ли он оказатьсянавысоте. Размышления Павезе о любви – знакомая оборотная сторона романтической идеализации. Павезе вновь, вслед за Стендалем, открывает, что любовь по сути своей вымысел;делоневтом,чтолюбовьиногдасовершаетошибки,автом,чтоонацеликом,в сущности, и есть ошибка. То, что человек принимает за свою привязанность к другому, разоблачаетсякакещеоднаиграодинокогоэго.Нетруднозаметить,насколькоэтотвзгляд на любовь соответствует современному призванию писателя. В аристотелевской традиции искусства как подражания писатель был средством либо орудием для описания некой истины вне его. В современной (начиная примерно с Руссо) традиции искусства как выражения писатель излагает истины о себе самом. В таком случае неизбежно возникает теория любви как опыта или открытия себя самого, обманчиво воспринимаемая как опыт или открытие ценности любимого человека либо предмета. Любовь, подобно искусству, становитсясредствомсамовыражения.Нопосколькусозданиеобразаженщины–занятиене столь уединенное, как создание романа или стихотворения, оно обречено на провал. Преобладающая тема современной серьезной литературы и кинематографа – это крах любви.(Когдамывстречаемсяспротивоположнымутверждением,напримерв«Любовнике леди Чаттерлей» или в фильме «Любовники» Луи Малля, то склонны расценивать его как сказку.) Любовь умирает, потому что само ее зарождение – ошибка. Однако ошибка оказывается неизбежной, пока человек видит мир, по словам Павезе, как «непроходимый эгоизм». Одинокое эго не перестает страдать. «Любовь – это боль, а радости любви – обезболивающее». Дальнейшее следствие современной веры в иллюзорную природу эротической привязанности – это новое и осознанное погружение в необычайно привлекательную любовьбезвзаимности.Посколькулюбовь–эмоция,ощущаемаяодинокимэгоиошибочно проецируемая на объект, непроницаемое эго возлюбленного обладает для романтического воображения привлекательностью гипнотической. Прелесть безответной любви состоит в идентификации того, что Павезе называет «безупречным поведением», и сильного, совершенно изолированного, безразличного эго. «Безупречное поведение порождено совершенным безразличием, – пишет Павезе в дневниках 1940 года. – Возможно, именно поэтому мы всегда безумно любим ту, что относится к нам безразлично; она воплощает “стиль”,обаяние“классности”,всего,чтожеланно». Многие замечания Павезе относительно любви кажутся частным случаем, подтверждающим тезис Дени де Ружмона и других историков западной литературы, которые прослеживают эволюцию западной модели сексуальной любви начиная от ТристанаиИзольдыкак«романтическогострадания»,какжеланиясмерти.Ноудивительно выразительноепереплетениетерминов«творчество»,«секс»и«самоубийство»вдневниках Павезеуказывает,чтоэточувствовегосовременнойформе болеесложно.ТезисРужмона проливает свет на пере оценку любви Западом, но не на современный пессимистический взгляд: любовь, полнота чувств – предприятие безнадежное. Ружмон вполне мог бы воспользоватьсясловамиПавезе:«Любовь–самаядешеваяизрелигий». В моем понимании современный культ любви не принадлежит истории христианской ереси(гностицизм,манихейство,катары),какдоказываетРужмон,авыражаетосновнуюи присущую современности озабоченность утратой чувств. Желание развивать «искусство видетьсебягероемодногоизсвоихроманов…какспособоказатьсявположениичеловека конструктивномыслящегоиизвлекающеговыгоды»показывает,чтовданномслучаеПавезе возлагает надежды на самоотчуждение, которое в других дневниковых записях служит предметом постоянной печали. Ибо «жизнь начинается в теле», как замечает Павезе в другом месте; и он постоянно высказывает упреки тела духу. Если культура может быть определенакакареначеловеческойжизни, в которойтелообъективнопредставляетсобой проблему, то современный момент культуры следует описать как арену, на которой мы субъективно осознаем эту проблему и чувствуем себя в ловушке. В настоящий момент мы стремимсякжизнитела,отказываясьотиудаистскогоихристианскогоаскетизма,номывсе еще,какзавещанонамэтойрелигиознойтрадицией,неможемвполноймерепредаваться чувствам. Поэтому мы жалуемся; мы покорны и бесстрастны; и мы жалуемся. Постоянные мольбы Павезе о том, чтобы найти силы вести жизнь затворническую и одинокую («Единственное героическое правило – это быть одиноким, одиноким, одиноким»), полностью согласуются с его повторяющимися жалобами на невозможность чувствовать. (Таково, например, его замечание о полном отсутствии каких-либо чувств при известии о том, что его лучший друг, Леон Гинзбург, известный профессор и лидер Сопротивления, насмерть замучен фашистами в 1940 году.) Здесь и вступает в силу современный культ любви: это основной способ, которым мы проверяем силу своих чувств и обнаруживаем собственнуюнеполноценность. Общеизвестно, что мы придаем гораздо большее значение любви между полами, чем Древняя Греция или Восток, и что современное видение любви это распространение духа христианства, хотя и в ослабленной, обмирщенной форме. Но культ любви, вопреки утверждению Ружмона, не является христианской ересью. Христианство, с самого своего начала(Павел),представляетсобоюрелигиюромантическую.КультлюбвинаЗападе–это одинизаспектовкультастрадания,страданиякаквысшегознакаглубиныдуха(парадигма креста).ДревняяИудея,ГрецияиВостокнепридавалитакуюценностьлюбви,посколькуне придавалитакойжепозитивнойценностистраданию.Страданиенебыломериломглубины духа, которая, скорее, соотносилась со способностью человека не поддаваться страданию илипреодолеватьего,способностьючеловекадостичьспокойствияидушевногоравновесия. Напротив, унаследованная нами способность чувствовать отождествляет глубину и духовностьстревогой,страданием,страстью,посколькудветысячилетухристианииудеев былопринятобытьмучеником.Следовательно,мыпереоцениваемнелюбовь,астрадание, точнее–духовныезаслугиивыгодыстрадания. Современный вклад в христианскую способность чувствовать – это открытие того, что создание произведений искусства и авантюра сексуальной любви – два наиболее утонченныхисточникастрадания.ИменноэтомыищемвдневникахПавезе,иименноэто предоставляетнамписательввызывающемтревогуобилии. [1962] Пер.ВалентиныКулагиной-Ярцевой СимонаВейль Культурные герои нашей либеральной и буржуазной цивилизации – антилибералы и антибуржуа. Если это писатели, то они неотвязны, одержимы, бесцеремонны. Убеждают ониисключительносилой–даженетономличногоавторитетаилижароммысли,нодухом беспощадныхкрайностейивличности,ивмышлении.Изуверы,кликуши,самоубийцы–вот кто берет на себя бремя свидетельствовать о чудовищно церемонных временах, в которые мы живем. Все решает тон: трудно верить в идеи, изложенные безличным тоном здравого смысла. Бывают эпохи слишком сложные, слишком оглушенные разноречивостью исторического и интеллектуального опыта, чтобы прислушиваться к голосу здравомыслия. Все здравое выглядит тогда соглашательством, трусостью, враньем. Сознательно мы гоняемсязаздоровьем,новеримвединственнуюреальность–болезнь.Правдувнашевремя измеряютценойокупившихеестраданийавтора,анестандартамиобъективности,которым онследуетнасловах.Каждаянашаистинатребуетсвоегомученика. Все, что оттолкнуло зрелого Гёте в юном Клейсте, поднесшем свои вещи старшему законодателю немецкой словесности «с коленопреклоненным сердцем»: хрупкость, истерия, надлом, беспрестанные поблажки собственным страданиям, которыми были начиненыклейстовскиедрамыирассказы,–мытеперьценимвышевсего.ИпотомуКлейст сегодня волнует, а Гёте вызывает по большей части школьную скуку. Такие писатели, как Кьеркегор,Ницше,Достоевский,Кафка,Бодлер,Рембо,Жене–иСимонаВейль–небыли бы для нас авторитетами, не будь они больны. Болезнь обосновывает каждое их слово, заряжаетегоубедительностью. Можетбыть,некоторымэпохамнужнанеистина,аболееглубокоечувствореальности, расширение области воображаемого. Я, со своей стороны, уверена, что здравый взгляд на мир – взгляд истинный. Но всегда ли человек ищет именно этого, истины? Потребность в истине–какивотдыхе–некруглосуточная.Котклонениюотистиныможноотноситьсяс не меньшим доверием, оно может даже полнее отвечать потребностям духа, который непостоянен. Да, истина это равновесие, но противоположность истины – метания – это вовсенеобязательноложь. Янесобираюсьборотьсясобщимповетрием.Япростохочувывестинасветдвижущую силу, скрытую за нынешним пристрастием к крайностям в искусстве и в мысли. Все, что нужно, это не кривить душой и признаться самим себе, почему мы читаем и чтим таких авторов,какСимонаВейль.Недумаю,чтобыгорсткавнесколькодесятковтысяччеловек, завоеванных посмертной публикацией книг и статей писательницы, на самом деле разделяла ее идеи. Да это и не нужно – разделять мучительную и неутолимую страсть Симоны Вейль к католической церкви, принимать ее гностическую теологию богоотсутствия, усваивать идеалы презрения к плоти либо соревноваться с ней в отталкивающей ненависти к римской цивилизации или к евреям. Ровно то же – с КьеркегоромиНицше:большинствоихсовременныхпоклонниковневсилахисповедовать и не исповедуют их идей. К писателям такого уязвляющего своеобразия нас привлекает авторитет личности, нешуточность взятой задачи, безоглядная готовность пожертвовать собойрадисвоейистиныилишьотчасти–ихтакназываемые«взгляды».Какпогрязшийв пороках Алкивиад, не имея ни сил, ни воли переменить жизнь, все-таки – перевернутый, обогащенный, светящийся любовью – шел за Сократом, так восприимчивый сегодняшний читатель воздает дань уважения тому уровню духовной реальности, до которого не дотягиваетсяидотянутьсянесможет. Жизнь одних – образец, других – нет. Но и среди образцовых жизней одним хочется подражать, а на другие смотришь с отстраненностью, жалостью и восхищением. Коротко говоря,естьгерои,аестьсвятые(еслипониматьпоследнееслововсмысленерелигиозном, а эстетическом). И вот такой – столь же абсурдной в перехлестах и масштабе самокалечения, как у Клейста или у Кьеркегора, – была жизнь Симоны Вейль. Я думаю о фанатическом аскетизме ее жизни, ее отказе от радостей и счастья, о высоких и смешных политических выходках, изощренном самоуничижении, неустанной погоне за бедой, вспоминаюеенеприкаянность,еефизическуюнескладность,мигрени,туберкулез.Никтоиз любящихжизньнезахочетподражатьеемученическойобреченностиинепожелаетэтого ни детям, ни близким. Но все, кто ценит нешуточность не меньше жизни, перевернуты и воспитаны ее примером. Воздавая подобным жизням уважение, мы признаем, что в мире есть тайна, а тайна – это как раз то, что непреложное обладание истиной, объективной истиной,напрочьотрицает.Вэтомсмыслевсякаяистинаповерхностна,аиное(хотядалеко не каждое) отклонение от истины, иное (хотя далеко не каждое) помешательство, иной (хотя далеко не каждый) отказ от жизни несут в себе истину, возвращают здравомыслие и приумножаютжизнь. [1963] Пер.БорисаДубина «Дневники»Камю Великиеписатели–илимужья,илилюбовники.Некоторыедемонстрируютнезыблемые добродетели супруга: надежность, вразумительность, великодушие, порядочность. В иных большеценишьталантылюбовника,связанныескореестемпераментом,нежелисвысокой моралью.Общеизвестно,чтовобменнаэкзальтациюиинъекциюсильныхчувствженщины готовытерпетьулюбовникатекачества–капризность,эгоизм,непостоянство,жесткость,– скоторымивмуженизачтобынесмирились.Точнотакжечитателизакрываютглазана невразумительное изложение, навязчивые идеи, шокирующие откровения, ложь и грамматические ошибки, если в виде компенсации писатель позволяет им насладиться редкимиэмоциямиищекочущиминервыпереживаниями.Какивжизни,вискусственужны обеэтикатегории:жальтолько,чтоитамитутмеждумужьямиилюбовникамиприходится выбирать. Опять-таки, и в жизни, и в искусстве любовник обычно вынужден довольствоваться вторыми ролями. Во все эпохальные для литературы моменты мужей всегда оказывается больше, чем любовников – точнее, во все, кроме нашего времени. Муза современной литературы–извращенность.Сегоднядомбеллетристикиполонбезумнымилюбовниками, торжествующими насильниками и оскопленными сыновьями, но вот мужей попадается немного. Мужей мучит нечистая совесть, им всем хотелось бы стать любовниками. Даже такому по-супружески верному писателю, как Томас Манн, не давало покоя двойственное отношение к добродетели, выражением чего стали его бесконечные рассуждения о противостоянии художника и бюргера. Но для большинства современных литераторов проблемы Манна словно бы и не существует. Каждый писатель, каждое литературное течение, не скупясь на средства, соперничает с предшественниками в темпераментности, одержимости, уникальности. В нынешней словесности налицо переизбыток гениальных безумцев. Совершенно естественно тогда будет чествовать чрезвычайно одаренного писателя,отважнопринимающегонасебявсюответственностьздравомыслия,нетолькоза еголитературныеталанты(каковыедогениявсеженедотягивают). Я,конечноже,имеюввидуАльбераКамю,идеальногомужасовременнойсловесности. Как наш современник, он вынужденно разворачивает перед нами весь тематический ассортиментбезумцев:самоубийство,бесчувственность,вина,самовластныйтеррор.Нота рассудительность, размеренность, легкость и грациозная беспристрастность, с которой он этоделает,тутжеставятегоособняком.Отталкиваясьотосновстольходовогонигилизма, он исключительно мощью своего спокойного голоса и тона приводит читателя к гуманистическим и гуманным заключениям, которых эти истоки никоим образом не позволялипредположить.Именнозаэтотдар,затакойалогичныйпрыжокчерезпропасть нигилизма читатели в особенности благодарны Камю. Именно поэтому его аудитория испытывает к нему чувство искренней привязанности. Кафка вызывает жалость и ужас, Джойс–восхищение,ПрустиЖид–уважение,но,кромеКамю,янемогуприпомнитьни одногосовременногописателя,которыйпробуждалбылюбовь.Егогибельв1960годустала личнойпотерейдлякаждогообразованногочеловека. В любом высказывании о Камю смешиваются оценки личные, нравственные и литературные. Обсуждая Камю, невозможно не отдать должное его чисто человеческому великодушию и привлекательности – или хотя бы не упомянуть их. Каждый, кто пишет о Камю, вынужден рассматривать связь между образом автора и его произведениями, а по сути – взаимоотношения морали и литературы как таковых. И объясняется это не только тем, что сам Камю неизменно навязывает своим читателям моральный выбор. (Все его рассказы, пьесы и романы рассказывают о пути ответственного сопереживания – или об отсутствии такового.) Дело в том, что значимость работ Камю лишь как литературных достижений не выдерживает того восхищения, которое хотят продемонстрировать ему читатели. Очень хочется, чтобы Камю был поистине великим, а не просто хорошим писателем.Ноэтонетак.ВданномслучаеполезносравнитьегосДжорджемОруэлломи Джеймсом Болдуином, двумя другими писателями-«супругами», которые пытаются совместитьамплуахудожникасгражданскойсовестью.КакписателииОруэлл,иБолдуин выглядят убедительнее в их эссе, нежели в беллетристике. У Камю, автора куда более крупного, такой несоразмерности нет. Но правда и то, что искусство Камю неизменно ставится на службу определенных интеллектуальных предпочтений, которые полнее раскрытывэссе.Егопроза–всегдаиллюстрация,философскийтрактат.Речьтамидетне столько о персонажах – Мерсо, Калигуле, Яне, Кламансе или докторе Риё, – сколько о проблемах невинности и вины, ответственности и нигилистического безразличия. Три его романа,рассказыипьесыкажутсяотэтогословнопрозрачными,обнажающимикаркас,что по профессиональным стандартам довольно далеко от абсолютно первоклассной литературы. В отличие от Кафки, который, даже иллюстрируя или символизируя ту или иную идею, параллельно демонстрирует независимый полет воображения, беллетристика Камюнеизменновыдаетподпитывающуюееинтеллектуальнуюозабоченность. А что же можно сказать об эссе Камю, его политических статьях, речах, литературной критикеилижурналистике?Это,несомненно,выдающиесяработы.НоваженлиКамюкак мыслитель? Нет. Сартр – сколь бы ни были противны некоторые его политические пристрастия англоязычным читателям – в его философских, психологических и литературных оценках демонстрирует блистательный ум и оригинальность. А вот Камю – какбынаснипривлекалиегополитическиевзгляды–нет.Егопрославленныефилософские эссе («Миф о Сизифе», «Бунтующий человек») – это произведения чрезвычайно талантливогоиначитанногоэпигона.ТожеможносказатьиоКамюкакисторикеидейи литературном критике. Лучше всего талант Камю проявляется, когда он, избавившись от багажаэкзистенциалистскойкультуры(Ницше,Кьеркегор,Достоевский,Хайдеггер,Кафка), начинаетговоритьсобственнымголосом.Примерытомуможнонайтивеговеликомэссео смертной казни, «Размышления о гильотине», и заметках по случаю, таких как очерки Алжира,Оранаидругихсредиземноморскихгородков. У Камю мы не найдем художественного мастерства или размышлений высшей пробы. Чрезвычайная привлекательность его произведений объясняется совершенством иного порядка: нравственной красотой – качеством, к которому редко стремились писатели ХХ века,скореешедшиепопутиангажированностиилинравоучительства.Нониктоизнихне говориловажностиморалитаккрасивоиубедительно.Ксожалению,нравственнаякрасота в искусстве – как и физическая красота у человека – продукт скоропортящийся. Ей не сравнитьсяпопрочностискрасотойхудожественнойилиинтеллектуальной.Нравственная красота обычно стремительно истлевает, превращаясь в сентенциозность или попросту становясь неактуальной. Это в особенности часто происходит с писателем, который, как Камю, напрямую апеллирует к представлению своих современников о том, что отличает человекавконкретныхисторическихобстоятельствах.Вотсутствиеунегоисключительных запасов художественной оригинальности, произведения такого писателя после его смерти, как правило, вдруг начинают казаться неполноценными. Некоторые даже полагают, что такоетлениенастиглоКамюещеприжизни.Сартрвзнаменитомспоре,которыйположил конецихнеменеезнаменитойдружбе,жестко,носправедливозаметил,чтоуКамювсегдас собойнаготове«переноснойпьедестал».Затемнасталчередэтойсмертоноснойпочести– Нобелевской премии. И незадолго до гибели Камю один критик предсказал ему участь Аристида:эпитет«Неподкупный»ивегослучаескороприестся. Наверное, писатель всегда рискует, пробуждая в своих читателях благодарность – одно из самых сильных, но также и самых недолговечных чувств. Впрочем, вряд ли можно списать такие недобрые замечания исключительно на мстительность благодарной аудитории. Если моральная ревностность Камю временами начинает уже не увлекать, а раздражать, значит, в ней изначально была заложена некая интеллектуальная слабость. У Камю, как и у Джеймса Болдуина, чувствуется абсолютно подлинная и исторически обоснованная страсть. Но, как и у Болдуина, кажется, что эта страсть слишком легко превращаетсявприподнятостьслога,внеистощимыеинеистребимыеразглагольствования. Моральные императивы – любовь, выдержка, – предлагавшиеся для смягчения невыносимогоисторическогоилиметафизическоговыбора,оказываютсяслишкомобщими иотвлеченными,чересчурвысокопарными. В глазах целого поколения людей образованных Камю-писатель представал героем, живущимвсостоянииперманентнойдуховнойреволюции.Новсяегофигуратакжеслужила и оправданием такого парадокса, как цивилизованный нигилизм – абсолютный бунт, признающий границы, – одновременно превращая этот парадокс в рецепт создания примерногогражданина.Каксложноустроена,вконцеконцов,этадоброта!ВкнигахКамю она вынуждена одновременно решать, как правильно поступить и как бы оправдать свое существование. То же можно сказать о бунте. В 1939 году Камю в своих «Дневниках» прерывает размышления о только что начавшейся войне следующим замечанием: «Я ищу причины моего бунта, который пока ничто не оправдывает». Его радикальная позиция предвосхитила эти оправдания. Более чем десять лет спустя, в 1951-м, Камю опубликовал «Бунтующего человека». Опровержение бунта в этой книге было в равной степени душевнымпорывомиактомсамоубеждения. УчитываятонкийдушевныйскладсамогоКамю,примечательно,чтоонмогдействовать, выбирать в реальных исторических ситуациях с такой неподдельной убежденностью. Не следует забывать, что за свою короткую жизнь Камю был вынужден принять целых три образцовых решения: он лично участвовал в Сопротивлении, дистанцировался от Компартиииотказалсяпринятьчью-либосторонувалжирскомконфликте.Намойвзгляд,в двухизэтихтрехслучаевонповелсебяпревосходно.ПроблемойпоследнихлетКамюстало не то, что он ударился в религию или впал в буржуазную гуманность и серьезность, или утратил былое мужество социалиста. Скорее, его погубила собственная добродетель. Писателю, примеряющему на себя роль общественной совести, необходимы чрезвычайная выдержкаибезошибочныйинстинкт–какбоксеру.Современемито,идругоенеизбежно сдает. Он также должен быть эмоционально непробиваемым. Камю же – в отличие от Сартра–такойжесткостинехватило.Явовсенепринижаюотваги,котораяпотребовалась ему для отречения от идеалов коммунизма, разделявшихся многими французскими интеллектуалами конца сороковых. С точки зрения морали решение Камю было тогда совершенно оправданно, а после смерти Сталина его правота была неоднократно подтверждена и в плане политики. Однако моральные и политические суждения редко когда столь удачно совпадают. Его мучительная неспособность определиться по алжирскомувопросу–очемкакфранцуз,родившийсявАлжире,онкакниктобылвправе говорить – стала окончательным и достойным сожаления завещанием его нравственной добродетели. На протяжении 1950-х годов Камю заявлял, что личные симпатии и приверженности мешают ему вынести решительное политическое суждение. Почему с писателятакмногоспрашивается,жаловалсяон.ПокаКамюцеплялсязасвоемолчание,и Мерло-Понти,поддержавшийегоразрывсгруппой«ТанМодерн»повопросукоммунизма, и сам Сартр привлекали все новых знаменитых подписантов под двумя историческими манифестамипротестапротивпродолженияалжирскойвойны.Поистинежестокойиронией стало то, что и Мерло-Понти, чьи общеполитические и моральные воззрения были так близкикпозициямКамю,иСартр,чьюполитическуюрепутациюКамю,казалось,разрушил десять лет тому назад, оказались способны привести сознательных французских интеллектуалов к неизбежной – и единственно возможной – позиции, которой все ждали какразотКамю. НескольколетназадвсвоейпроницательнойрецензиинаоднуизкнигКамюЛайонел Эйбл назвал его человеком, воплощающим Благородство Чувств – в противоположность БлагородствуПоступков.Этосовершенноверноесуждение,неозначающеевместестем,что в моральной позиции Камю было какое-то лицемерие: просто действие не было его основной заботой. Способность действовать или воздерживаться от действия вторична по отношениюкспособностиилинеспособностичувствовать.Камюформулировалнестолько интеллектуальную позицию, сколько призыв чувствовать – со всей опасностью политического бессилия, которое он за собой влечет. Творчество Камю являет нам внутреннийдушевныйскладвпоискеподходящейвнешнейситуации,благородныечувствав поиске благородных поступков. Именно это разделение и становится темой его прозы и публицистики. Предписание необходимого отношения (благородного, стоического, одновременно отстраненного и сострадательного) наживляется у него на описание невыносимых обстоятельств. Отношение, благородное чувство при этом с самим обстоятельством непосредственно не связано – это скорее его превозмогание, нежели реакцияилиразрешение.СтержнемжизниитворчестваКамюбыланестолькоморалькак таковая, сколько пафос моральных позиций. В этом пафосе и заключена современность Камю,аегоспособностьэтотпафоссдостоинствомипо-мужскивыноситькакразистала залогомлюбвиивосхищенияегочитателей. Мы вновь возвращаемся к личности Камю, который при всей любви к нему для большинстватакиосталсянезнакомцем.Вегопрозеивпрохладном,спокойномтонеего знаменитых эссе есть что-то бесплотное – несмотря на незабываемые фотопортреты с их прекрасной неформальной здешнестью. Надет ли на нем плащ с поясом, свитер и расстегнутаярубашкаиликостюм,сгубсвисаетнеизменнаясигарета.Лицоеговомногом кажется идеальным: мальчишеское, красивое, но без смазливости, сухощавое, грубо обтесанное,вглазаходновременнонапряженностьисдержанность.Такогочеловекахочется узнатьпоближе. Погрузившись в «Дневники»[13] – первый том из предполагаемых трех, включающих в себядневниковыезаписи,которыеКамювелс1935годадосвоейсмерти,–егопочитатели, естественно, рассчитывают приблизиться к пониманию и самого писателя, и его так взволновавшегоихтворчества.Преждевсего,вынужденассожалениемзаявить,чтоперевод Филипа Тоди никуда не годится. Во многих местах он неточен, а порой так и полностью искажает смысл написанного Камю. Он неуклюж, и переводчику совершенно не удалось найти в английском эквивалент лаконичному, ненавязчивому и вместе с тем чрезвычайно выразительномустилюКамю.Книгатакжеснабженаназойливымкритическимаппаратом, который, может быть, и не помешает кому-то из читателей; меня же он откровенно раздражал.(Представлениеотом,какдолжензвучатьКамюпо-английски,интересующиеся могут составить на основе точного и вдумчивого перевода отрывков из «Дневников», сделанного Энтони Хартли для журнала Encounter пару лет назад.) Но никакой перевод, сколь бы верным или, наоборот, невосприимчивым к оригиналу он ни был, не способен сделать«Дневники»менее–как,впрочем,иболее–интересными.Переднаминевеликие дневники писателей, как у Кафки или Жида. Им не хватает раскаленного добела интеллектуального великолепия первого, как нет в них и культурной утонченности, артистической старательности и человеческой интенсивности второго. Я бы сравнила их, скажем,с«Дневниками»ЧезареПавезе,хотяиздесьимнедостаеткакой-точистоличной открытости,психологическойинтимности. «Дневники»Камючрезвычайноразнообразныпосодержанию.Этоирабочиететради– залежи материала для будущих книг, – куда впервые записывались фразы, обрывки подслушанныхразговоров,наброскисюжетов,апоройицелыеабзацы,позднеевключенные вроманыиэссе.Этифрагменты«Дневников»,скорее,сродниэскизам,апотомуядумаю, что они вряд ли покажутся захватывающими даже самым страстным поклонникам прозы Камю, несмотря на прилежное аннотирование и соотнесение с опубликованными произведениями, сделанные г-ном Тоди. Есть в «Дневниках» и заметки на полях самых разныхкниг(Шпенглер,историяВозрожденияипр.),хотякругихвесьмаограничен–так, обширная библиография, послужившая основой «Бунтующему человеку», здесь явно не представлена, – а также ряд максим и размышлений на темы психологии и морали. Некоторые из этих размышлений отличает изрядная отвага и тонкость. Они достойны вниманияимогутпомочьразвеятьраспространенноепредставлениеоКамюкакоподобии РеймонаАрона:подпагубнымвлияниемнемецкойфилософиион-дезапоздалоударилсяв англосаксонские эмпиризм и здравый смысл под вывеской «средиземноморской» добродетели. Эти «Дневники», по крайней мере первый их том, окутаны милым духом одомашненного ницшеанства. Молодой Камю пишет, как французский Ницше: его меланхолия – это дикарство Ницше; стоицизм одного отвечает возмущению второго; тон Камюбеспристрастениобъективентам,гдеНицшепишетстрастноисубъективно,награни одержимости.И,наконец,в«Дневниках»полноличныхсуждений–такитянетназватьих декларациямиирезолюциями–нарочитобезличноготолка. Этабезличность«Дневников»Камювыглядитособеннопоказательной–онипредельно антиавтобиографичны. Читая их, забываешь, что жизнь Камю-человека была как раз чрезвычайно интересной – и не только, в отличие от большинства писателей, жизнь внутренняя,ноивидимая,повседневная.В«Дневниках»отэтойжизнималочтоосталось. Нисловаоегосемье,ккоторойонбылоченьпривязан.Никакнеупоминаютсясобытияего личнойбиографиитоговремени:работастеатром«Экип»,первыйивторойбрак,членство вКомпартии,карьеражурналиставалжирскойгазетелевоготолка. Конечно, заметки литератора не следует судить по стандартам дневника. У записных книжекписателя–совершенноособоепредназначение:внихонпокирпичикувыстраивает своюписательскуюидентичность.Обычноонидоотказазабитызаявлениямионамерениях: намерении писать, любить, отказаться от любви, жить несмотря ни на что. В записных книжках писателя лишь один герой – он сам. В них он присутствует исключительно как чутко воспринимающее, страдающее и борющееся существо. Именно поэтому все личные замечания Камю в «Дневниках» настолько безличны и совершенно невосприимчивы к событиям и людям из его жизни. О себе Камю пишет лишь как об одиночке – одиноком читателе, соглядатае, солнце и морепоклоннике, скитальце по миру. Все это очень пописательски.Уединенность–непреложнаяметафораписательскогосознания,нетолькодля самопровозглашенныхэмоциональныхкалек,какПавезе,нодажедлятакогообщительного иобщественно-сознательногочеловека,какКамю. Тем самым «Дневники» при всей их увлекательности не отвечают на вопрос о вневременномстатусеКамюинеуглубляютнашепониманиеегокакчеловека.Пословам Сартра,Камюпредставлялсобой«восхитительныйсплавчеловека,действияитворчества». Сегодня нам остается лишь его творчество. И какие бы чувства этот сплав человека, действияитворчестванипробуждалвумахисердцахтысячегочитателейипоклонников, их невозможно полностью воссоздать, опираясь на одно лишь творчество. Было бы замечательно и знаменательно, если бы «Дневники» Камю, пережив своего создателя, большесмоглирассказатьнамонемкакочеловеке–ноэто,увы,нетак. [1963] Пер.СергеяДубина «Поразрелости»МишеляЛейриса Блестящая автобиографическая повесть Мишеля Лейриса L’Âge d’Homme («Пора зрелости»),вышедшаяпо-английскив1963году[14],ставитпоначалувтупик.Обложкакниги несодержитпривычныхсведенийобавтореи,такимобразом,оставляетрядовогочитателя в неведении относительно того, что Лейрис, которому сейчас уже за шестьдесят, написал около двадцати книг (ни одна из которых, впрочем, еще не опубликована на английском), чтоэтокрупныйпоэт,представительстаршего–1920-хгодов–поколениясюрреалистов,а такжебесспорновыдающийсяантрополог.Умалчиваетамериканскоеизданиеиотом,что создавалась«Поразрелости»довольнодавно;повестьбыланаписанавначале1930-х,вышла в свет в тридцать девятом, а позже, в 1946 году, была переиздана вместе с эссе «О литературе как тавромахии» и принесла автору поистине скандальную известность. Хотя автобиографии способны увлекать и при отсутствии первоначального (а нередко и последующего) интереса к их автору-герою, тот факт, что Лейрис у нас совершенно неизвестен, способен лишь запутать дело, поскольку «Пора зрелости» – это не только жизнеописаниеЛейриса,ноиделовсейегожизни. В1929годуЛейрисперенестяжелоепсихическоезаболевание,приведшее,вчастности, к импотенции, и должен был около года находиться под наблюдением психиатров. «Пору зрелости»онначалписатьгодспустя,ввозрасте34лет.ТогдаЛейрисбыл,скорее,известен как поэт – в его стихах чувствовалось сильное влияние Аполлинера и Макса Жакоба, с которым он подружился, – опубликовавший несколько поэтических сборников (первым, в 1925 году, вышел «Симулякр»), и автор замечательного сюрреалистического романа «Аврора».Однаковскорепосленачалаработынад«Поройзрелости»(книгабылазавершена лишь в 1935 году) Лейрис решил попробовать себя в совершенно иной области – антропологии.Всоставеафриканскойисследовательскойэкспедициионпроводитдвагода (с 1931 по 1933) в Дакаре и Джибути, а после возвращения попадает в парижский Музей Человека, где и по сей день занимает важный административный пост. Впрочем, в откровенных самоизобличениях «Поры зрелости» не осталось и следа от этого поразительногопереходаотбогемногопоэтакмузейномучиновникуиученому.Книгани словом не упоминает о реальных достижениях поэта или антрополога. Наверное, так и должнобыть:рассказонихлишьиспортилбыобщеевпечатлениеполногопровала. Историю своей жизни Лейрис подменяет каталогом своих несовершенств. «Пора зрелости»начинаетсянеобыденным«Родилсяяв…»,нопредельноточнымописаниемтела автора.СпервыхжестраницмыузнаемозарождающейсялысинеЛейриса,егопостоянно слезящихся глазах, более чем скромной мужской силе, привычке сутулиться за столом и скрести в заду, пока никто не видит; он описывает пережитое в детстве болезненное удаление миндалин и не менее тяжелое заражение тканей пениса, еще дальше – свою ипохондрию, патологическую трусость при любой, даже самомалейшей опасности, невозможность свободно говорить ни на одном из иностранных языков и удручающую неспособность к занятиям спортом. Характер свой он также обрисовывает в терминах ущербности: Лейриса, по его словам, «разъедают» болезненные и агрессивные фантазии, относящиеся к плоти в целом и женщинам в частности. «Пора зрелости» предстает настоящим учебником по самоуничижению; отдельные штрихи – случаи из жизни, мечтания, словесные ассоциации и сны – складываются в общую картину нередко уже не чувствующего боли человека, который с любопытством вкладывает персты в собственные раны. Кому-то покажется, что книга Лейриса – лишь яркий пример присущего всей французской литературе стремления к абсолютной искренности. «Опыты» Монтеня и «Исповедь»Руссо,дневникиСтендаляи,наконец,откровениянашихсовременниковЖида, Жуандо или Жене свидетельствуют о том особом внимании, которое уделяют известные французские писатели бесстрастному описанию глубоко личных переживаний – в особенности тех, что сосредоточены на сексе и тщеславии. Исповедуя предельную честность, французские литераторы хладнокровно изучают эротические мании и размышляют о способах достижения бесчувственности – в автобиографиях или романах (как, например, Констан, Лакло или Пруст). Именно эта долгая традиция обязательного прямодушия – стоящего превыше всякой эмоциональной выразительности – и придает строгость, а временами даже какую-то классическую сдержанность большинству произведений французской литературы эпохи романтизма. Однако свести книгу Лейриса лишькэтомубылобынесправедливо.«Поразрелости»куданеобычнееижестчеэтихсвоих возможных предков. В ней мы находим куда больше, чем все открытые признания в кровосмесительных страстях, садизме, гомосексуальности, мазохизме и беспредельной распущенности, которыми полны известные документальные книги французских авторов: то, о чем повествует Лейрис, непристойно и отвратительно. Впрочем, шокируют даже не поступки.Действие–несамаясильнаясторонаавтора,такчтогрехитутвбольшейстепени обусловленычудовищнойдушевнойхолодностью;этоскореепрезренныеизъяныиосечки, нежели возмутительные злодеяния. Дело в том, что у Лейриса нет и тени самоуважения. Непотребноздесьименноэтоотсутствиехотябымалейшегопочтения–илидажепростого внимания – к самому себе. Все остальные крупные исповеди французской литературы питает себялюбие, их авторы стремятся защитить и оправдать себя. Лейрис же себя ненавидит,апотомунеспособеннизащищаться,ниоправдываться.Автор«Порызрелости» упражняетсявбесстыдстве,сменяяодникартинысобственногомалодушия,ненормальности и эмоциональной ущербности другими. Лейрис выплескивает все, что в нем есть омерзительного,отнюдьнемеждупрочим,где-топоходуповествования;отвратительное– главныйпредметегокниги. Могут спросить, кому до этого дело? Бесспорно, книга Лейриса ценна как своего рода история болезни и исследователи помрачений рассудка почерпнут в ней для себя много полезного. Мы, однако, не уделяли бы «Поре зрелости» того внимания, не обладай это произведениелитературнойценностью.Аэтого,мнекажется,книгенезанимать–хотя,как и многие другие современные вещи, она замышлялась, скорей, как антилитература (собственно, большинство современных художественных течений заявляют о себе как об антиискусстве).Этоможетпоказатьсяпарадоксом,ноименновраждебностьпоотношению ксамойидеелитературыделает«Порузрелости»–оченьзаботливо(хотьинебезупречно) написанную и искусно выстроенную книгу – интересной литературой. И точно так же Лейрис по-настоящему обогащает рациональный подход к самопониманию, подспудно отрицаяеговсвоейкниге. Вопрос, на который Лейрис пытается ответить «Порой зрелости», обращен вовсе не к разуму.Это,скорее,то,чтомыбыназвалипсихологическим–афранцузынравственным– вопросом.Исповедуясь,Лейриснепытаетсясебяпонять;ещеменьшестремитсяонобрести прощениеилилюбовь.Лейриспишет,чтобывнушитьчитателямужасиполучитьотнихв ответ бесценный дар сильнейшего чувства, необходимый ему для защиты от того негодования и отвращения, которое он стремится у читателей вызвать. Литература становится чем-то вроде психотерапии. Как объясняет сам Лейрис в предварившем переиздание его книги эссе De la litterature considerée comme tauromachie, недостаточно быть просто писателем, литератором – это скучно, бесцветно. Такому занятию не хватает опасности. Письмо должно давать Лейрису то, что дает арена тореадору – сознание того, чтовлюбоемгновениеможешьпогибнутьнабычьихрогах,–толькотогдаистоитбраться за перо. Да, но как может писатель обрести это придающее силу ощущение смертельной опасности?ПоЛейрису,толькочерезсамообнажение,подчеркнутоепренебрежениесобой; важнонерасточатьсебянаштамповкупроизведенийискусства(неизбежныхкопийсамого автора), а прямо становиться под огонь. Однако мы, читатели – зрители этого кровавого действа–сознаем,что,мастерскиисполненное(вспомните,какчастоккорридеподходятс точкизренияэстетики,церемониала),оно,вопрекивсемвыпадамвсторонулитературы,как разистановитсясамойлитературой. Если искать писателя, который, вслед за Лейрисом, мог бы принять этот принцип нечаянногосотворениялитературыизсамомучительстваисамодемонстрацииавтора,наум приходитимяНорманаМейлера.СамозанятиелитературойМейлертакжевоспринялвсвое время как кровавое состязание (хоть и говорил о нем скорее образами боксерского поединка, нежели боя быков), заявив, что настоящим писателем имеет право называться лишьтот,ктоотваживаетсянабольшее,ктосерьезнейрискует.Именнопоэтомупредметом своих очерков и полудокументальной прозы Мейлер сделал самого себя. Однако при внешнемсходстверазличиевподходахБойлераиЛейрисавелико–ипоказательно.Еслив первом случае это воодушевление опасностью предстает в своей простейшей форме, как маниявеличияиутомительноесоперничествосдругимиписателями,тодляЛейрисавего произведениях словно не существует ни окружающей его литературной среды, ни всех остальныхписателей–собратьев-тореадоров,состязающихсявпоискахзахватывающейдух опасности. (И напротив, Лейрис неизменно выказывает глубочайшее уважение, когда говоритоработеилиличныхкачествахкого-тоизсвоихдрузей,азнакомонбылчутьлине совсемимыслимымихудожникамииписателями.)Мейлервсвоихкнигахпечется,скорей, обуспехе,иопасностьважнадлянеголишькакдорогакэтомууспеху;Лейрисудоуспехаи дела нет. Свои последние эссе и публичные выступления Мейлер превратил в наглядное пособие по совершенствованию силы – мужской силы – своего письма; дрессировка не прекращаетсянинасекунду:подобноракете,онподрагивает,готовясьустремитьсяизсвоей укромнойпусковойшахтынавысшуюипрекраснуюорбиту,идажеявныепровалынаэтом пути умеет обернуть удачами. Лейрис же бесстрастно фиксирует каждое поражение своей мужественности; абсолютный неудачник во всем, что касается культуры тела, он упражняетсяврастаптываниисамогосебя,идажепобедывыглядятунегокакпоражения. Наверное, здесь можно усмотреть и более общее противоречие: между оптимистическим, популистским настроем, присущем большинству писателей Америки, и безнадежной замкнутостьюлучшихевропейскихлитераторов.Лейрис–писателькудаболееличный,чем Мейлер,внемгораздоменьшеидеологии.Мейлер,показываянам,какможнопереплавить глубокоинтимныетерзанияислабостивмощьпубличныхдостижений,стремитсявовлечьв процесс этого преобразования каждого читателя. А для Лейриса между его личными слабостями и общественным положением, каким бы выдающимся оно ни было, не существует ни малейшей связи. И даже если объяснить саморазоблачения Бойлера некоей возвышенной (а на деле – такой земной) формой честолюбия – например, желанием самоутвердиться,пройдясквозьстрашныеиспытания,–топричины,побуждающиеписать Лейриса,граничатснастоящимотчаянием:оннестремитсядоказатьсобственноегеройство – лишь бы заметили, что он попросту есть. Лейрису отвратительна и собственная почти животная трусость, и собственная беспомощность. Не решаясь оправдываться в своих неприглядных пороках, Лейрис пытается, скорее, уверить себя в том, что это никудышное тело – и непотребная душа – действительно существуют. Преследуемый ощущением ирреальности окружающего мира, а следовательно, и себя самого, Лейрис стремится к ощущениям сильным и неприкрытым. Но истинный, просто-таки хрестоматийный романтик, он способен по-настоящему чувствовать лишь в ситуациях, граничащих с гибелью.«Сгоречью,окоторойраньшеинеподозревал,яосозналвдруг,чтоспастименя можетлишьстрасть,–пишетоннастраницах«Порызрелости»,–нопоняляиещеодно:в мире этом нет ничего, за что я не раздумывая отдал бы жизнь». Всякое переживание для Лейриса должно быть гибельным, а иначе оно просто не существует. Сама реальность неотделима для него от смертельной опасности. В своих книгах Лейрис описывает многочисленныепопыткипокончитьссобой,иможносказать,чтожизньдлянегообретает смысл, только если увидена сквозь призму самоубийства. Сказанное относится и к его занятиям литературой. По Лейрису, литература должна либо укреплять силу духа, либо помогатьуйтиизжизни. Разумеется,ейнеподсилунито,нидругое.Литератураспособнапородитьтолькосамое себя. Каким бы ни был лечебный эффект всех саморазоблачений «Поры зрелости», одной этой книгой опыты Лейриса над собой не заканчиваются. Проблемы, назревавшие уже в «Поре…», так и не разрешаются в книгах, написанных Лейрисом уже после войны, – напротив, мы видим лишь их болезненные осложнения. Под общим названием La regle du Jeu («Правила игры») Лейрис объединяет случайные наброски и впечатления: рассказы о переживаниях детства, сменяющие друг друга лики смерти, сексуальные фантазии, причудливые словесные ассоциации, – своего рода набеги на собственную память, еще болеесумбурныеизапутанные,чем«Поразрелости».ИззадуманныхЛейрисомтрехтомовв свет вышли пока лишь два: в 1948-м – Biffures («Вымарки») и в 1961-м – Fourbis («Отходы»).Пародийныеназваниякнигговорятомногом;так,вFourbisмывстречаемуже знакомыежалобы:«Есливмоейлюбви–илихотябывпривязанности–нетничего,зачто можно пойти на смерть, значит, я попросту перемалываю пустоту; в этом уравнении все дроби сокращаются – и моя в том числе». Та же тема продолжена и в его недавней книге VivantesCendres,Innommées(«Ещеживой,нобезымянныйпепел»),циклестихотворенийс рисунками друга Лейриса Альберто Джакометти – своего рода «отчете» о неудачной попытке самоубийства в 1958 год у. Похоже, самая большая проблема, с которой сталкивается Лейрис, – это хроническая слабость эмоций. Жизнь, препарируемая им в каждойкниге,разрываетсямеждутем,чтосамонназывает«невероятнойподверженностью скуке, из которой проистекает и все остальное», и гнетущим бременем нездоровых фантазий, воспоминаний о детских обидах, страха перед расплатой и разлада даже с собственным телом.Описываясвоинемощи,Лейриссловнозаискиваетпереднаказанием, которого страшится, надеясь втайне, что в нем вдруг проснется небывалая отвага. Такое впечатление,будточеловекпытаетсябитьемзаставитьсвоилегкиедышать. Интонация«Порызрелости»лишена,однако,всякойстрасти.СамЛейрисговоритгде-то настраницахкнигиотом,чтопредпочитаетодеждуанглийскогопроизводства:еестрогийи классическийкрой,«будтобызастывшийидажетраурный,мнекажется,какнельзялучше подходитмоемухарактеру»,исловаэти–ничутьневупреккнигеилиеестилю.Крайняя холодность в сексе, по словам Лейриса, вызывает в нем отвращение ко всему женскому, непостоянному или чувственному; его излюбленная фантазия – мечта о собственном теле, которое постепенно каменеет, кристаллизуется и словно врастает в породу. Лейриса притягиваетвсебезличное,дажебезжизненное.Например,проституцияпленяетегосвоим ритуальным характером: «Бордели – словно музеи», говорит он. Наверное, и выбор профессии антрополога объясняется тем же: в первобытных обществах его притягивает их ярко выраженный формализм. Это прекрасно чувствуется в книге Лейриса о его двухгодичной экспедиции, L’Afrique Fantome (1934), да и в других его замечательных монографиях. Эта любовь к формализму, отраженная в бесстрастной, написанной как бы вполсилы «Поре зрелости», объясняет и кажущиеся парадоксы: крайне показательно, что человек, отдавший все силы безжалостному саморазоблачению, написал блистательную монографиюобиспользованиимасоквафриканскихрелигиозныхкультах(«Одержимостьи ее театральные аспекты у эфиопов Гондэра», 1958), а писатель, сделавший свою искренность чуть ли не буквально «ножом острым», позже профессионально заинтересовалсятемойтайныхязыков(«ТайныйязыкдогоновСанги»,1948). Бесстрастный стиль в сочетании с незаурядным умом автора и его тонким умением выбирать полутона и оттенки делают «Пору зрелости» книгой притягательной в самом обычном смысле этого слова. Другие ее качества тем не менее рискуют вызвать наше неприятие – уж слишком много обыденных предрассудков они попирают. Если не брать блестящее вводное эссе, нить самого повествования вьется, кружит на месте и словно запутывает следы; на последней странице она обрывается совершенно случайно – в принципе, такие размышления бесконечны. Книга лишена развития или хоть какого-то направления, в ней нет ни кульминации, ни развязки. «Пора зрелости» – одна из тех понастоящемусовременныхкниг,понятькоторыеможнолишькакчастьжизненногозамысла, как поступок в его связи с другими поступками. Книги этого типа сложно расставлять по полкам как части «целого» творчества, зачастую они кажутся непроницаемыми, наглухо закрытыми,аиногдаискучными.Однако,безнепроницаемостиизакрытостиэтимособым, предельной концентрации, вещам, скорей всего, просто не выжить. Но как тогда быть со скукой? Есть ли для нее хоть какое-то оправдание? Думаю, есть. (Да и всегда ли великое искусство должно быть занимательным? Сомневаюсь.) В некоторых проявлениях скуку следует признать одним из наиболее творческих приемов современной литературы. Так, общепринято уродливое и грязное стало основным источником вдохновения для современной живописи, а тишина, начиная с экспериментов Веберна, постепенно превратиласьвдействующийструктурныйэлементсовременноймузыки. [1964] Пер.СергеяДубина Антропологкакгерой И вот передо мной замкнутый круг: чем меньше человеческие культуры были способны общаться между собой и терять самобытность от этих контактов, тем меньше эмиссары различных культур были способны почувствовать богатство и значение этого разнообразия. В конечном счете я являюсь пленником альтернативы: или древний путешественник, столкнувшийся с необыкновенным зрелищем,вкоторомвсеилипочтивсеотнегоускользало– хуже того, вызывало насмешку или отвращение; или современный путешественник, бегущий по следам исчезнувшей реальности. На этих двух картинах я теряю больше, чем кажется: сожалея о тенях прошлого, не отгораживаюсь ли я от спектакля настоящего, который разыгрываетсяименновэтомгновение? Из«Печальныхтропиков»[15] Самая серьезная теория в наше время вынуждена бороться с ощущением бездомности. Ощутимая ненадежность человеческого опыта, вызванная жестоким ускорением процесса исторических перемен, привела к тому, что каждый остро чувствующий современный ум ощущаетнекуюсвоеобразнуюдурноту,интеллектуальноеголовокружение.Иединственный способ побороть эту духовную тошноту – это, возможно, усилить ее, во всяком случае сначала. Современная мысль дала обет некоему прикладному гегельянству: искать Себя в Другом. Европа ищет себя в экзотике – в Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, среди дописьменных народов, в мифической Америке; утомленная рациональность ищет себя в безличнойэнергиисексуальногоэкстазаилинаркотиков;сознательноеищетсвоезначение в бессознательном, гуманистические проблемы стремятся забыться в научной «ценности беспристрастности»иквантификации.«Другой»переживаетсякакгрубоочищенное«я».Но втожевремя«я»энергичноподчиняетсебевсенеизвестныеобластиопыта.Современное восприятие находится под воздействием двух, на первый взгляд, противоречивых, но в действительности родственных импульсов: обращение к экзотике, к чужому, другому – и приручениеэкзотики,восновномпосредствомнауки. Хотя философы содействовали выявлению и пониманию этой интеллектуальной неприкаянности–анамойвзгляд,толькотесовременныефилософы,ктоэтимзанимался, действительно вправе претендовать на наше внимание, – по-настоящему пережили этот мучительный духовный импульс в добровольном безумии, в принятом на себя изгнании, в непреодолимом странничестве прежде всего поэты, романисты и несколько живописцев. Однако есть и другие профессии, условия жизни которых созданы для того, чтобы свидетельствоватьоголовокружительнойприверженностинашихсовременниковкчужому. Конрад в прозе, а, например, Т. Э. Лоуренс, Сент-Экзюпери, Монтерлан в жизни и в произведенияхпредставлялисвоеремеслоискателяприключенийкакдуховноепризвание. Тридцать пять лет назад Мальро, избрав профессию археолога, поехал в Азию. А не так давно Клод Леви-Стросс изобрел профессию антрополога как некое всепоглощающее занятие,связанноесдуховнымобязательствомнаподобиеобязательствхудожника,искателя приключенийилипсихоаналитика. Вотличиеотперечисленныхвышеписателей,Леви-Стросснелитератор.Бо́льшаячасть егопроизведений–научныетруды,онвсегдабылтесносвязансакадемическиммиром.В настоящее время, начиная с 1960 года, он занимает высокий академический пост, возглавляет недавно созданную кафедру социальной антропологии в Коллеж де Франс и руководит большим, солидно обеспеченным исследовательским институтом. Но его высокий академический пост и возможность раздавать привилегии едва ли адекватно отражают исключительную позицию, какую он занимает сейчас во французской интеллектуальнойжизни.ВоФранции,хорошоосведомленнойоподобныхприключениях,о рискованностиинтеллектуальногопоиска,человекможетоказатьсяиспециалистом,и,вто жевремя,объектомобщегоиспециальногоинтересаидискуссий.Врядлипроходитмесяц, чтобы во Франции не появилась важная статья в каком-нибудь серьезном литературном журнале, или не прозвучала заметная публичная лекция, в которой расхваливают или критикуют идеи и влияние Леви-Стросса. Наряду с неутомимым Сартром и молчаливым Мальрооннаиболееинтереснаяинтеллектуальная«фигура»сегодняшнейФранции. А у нас в стране Леви-Стросс до сих пор едва известен. Сборник печатавшихся ранее отдельных эссе относительно методов и понятий антропологии, выпущен в 1958-м под названием «Структурная антропология», а его Le Totémisme Aujourd’hui («Тотемизм сегодня», 1962) переведен в прошлом году. Ждут появления еще один сборник эссе, более философскогохарактера,подназваниемLaPenséeSauvage(«Неприрученнаямысль»,1962); книга, изданная ЮНЕСКО в 1952 под названием Race et Histoire («Раса и история»); блестящий труд о системах родства первобытных племен, Les Structures Élémentaires de la Parenté («Элементарные структуры родства», 1949)[16]. Некоторые из этих работ предполагают более глубокое знакомство с антропологической литературой, с лингвистическими, социологическими и психологическими понятиями, чем у обычного образованногочитателя.Нобылобыоченьжаль,еслибыработыЛеви-Стросса,когдаони всебудутпереведены,ненашлиунасвстранеиныхчитателей,кромеспециалистов.Потому что,сохраняяточкузренияантрополога,Леви-Стросссоздалоднуизнемногихинтересных и возможных позиций в интеллектуальном мире, причем в самом полном значении этих слов. А одна из его книг – это шедевр. Я имею в виду несравненные Tristes Tropiques («Печальные тропики»), книгу, после публикации во Франции в 1955 году ставшую бестселлером, а когда она была переведена и вышла у нас в 1961-м, то прошла незамеченной, что попросту позор. Tristes Tropiques – одна из великих книг нашего столетия.Внейестьсмелость,тонкостьидерзостьмысли.Онапрекраснонаписана.И,как всевеликиекниги,несетнесомненныйотпечатокличности,говоритчеловеческимголосом. На первый взгляд, Tristes Tropiques это записки, точнее, мемуары, написанные спустя пятнадцатьлетпослеописанныхсобытий,авторскогоопытаработы«вполе».Антропологи любят сравнивать полевые исследования с обрядом инициации. Леви-Стросс прошел свой посвятительныйобрядвБразилиипередВтороймировойвойной.Онродилсяв1908годуи принадлежал к кругу Сартра, Симоны де Бовуар, Мерло-Понти и Поля Низана, он изучал философию в конце двадцатых и, как все названные, некоторое время преподавал в провинциальном лицее. Разочаровавшись в философии, он вскоре оставил преподавательскую должность и вернулся в Париж изучать право, затем стал заниматься антропологией,ав1935-мотправилсявСан-Паулувкачествепрофессораантропологии.С 1935 по 1939 год, во время долгих университетских каникул с ноября по март, а однажды дажевтечениецелогогода,Леви-СтроссжилсредииндейскихплеменвглубинеБразилии. TristesTropiques содержат записи его встреч с этими племенами – кочевыми намбиквара, которые за несколько лет до этого убили явившихся к ним миссионеров, тупи-кавахиб, не видевших до той поры белого человека, прекрасно обеспеченными бороро, чопорными каудивео,которыевогромныхколичествахсоздаютабстрактныекартиныискульптуры.Но величие Tristes Tropiques лежит не просто в эмоциональном репортаже, а в том, каким образом Леви-Стросс использует свой опыт, отображая ландшафт, значение физических тягот, город Старого и Нового Света, идею путешествия, закаты, современность, связь между грамотностью и властью. Ключом к книге является глава шестая, «Как становятся этнографом», где Леви-Стросс рассматривает историю собственного выбора как случай уникальногодуховногориска,которомуподвергаетсебяантрополог.TristesTropiques–это в высшей степени личностная книга. Подобно «Опытам» Монтеня или «Толкованию сновидений» Фрейда, это интеллектуальная автобиография, образец личной истории, содержащаяпродуманныйцелостныйвзгляднаположениечеловекавмире. Глубокое понимание и сочувствие, которыми полны Tristes Tropiques, делает другие мемуарыо жизнисреди дописьменных племеннеуклюжими,проникнутымисамозащитой, провинциальными. Но сочувствие то и дело сменяется у автора с трудом добытой бесстрастностью. В своей автобиографической книге Симона де Бовуар вспоминает ЛевиСтросса как юного студента и преподавателя философии, который разъясняет «беспристрастнымтономисничегоневыражающимлицом…безрассудствострасти». Не зря Tristes Tropiques предварены эпиграфом из De Rerum Natura («О природе вещей») Лукреция. Цель Леви-Стросса схожа с той, что была у Лукреция, влюбленного в Грецию римлянина,которыйбылубежден,чтоизучениеестественныхнаук–этоспособэтической психотерапии. Целью Лукреция было не независимое научное знание, а ослабление эмоциональной тревоги. Лукреций видел человека, разрывающегося между сексуальным удовольствием и болью эмоциональных потерь, мучимого суевериями, внушенными религией, преследуемого страхом телесного упадка и смерти. Он рекомендовал научное знание, которое учит разумной беспристрастности, спокойствию. Научное знание для Лукрецияобладаетпсихологическойсоразмерностью.Этопутькосвобождению. Леви-Стросс рассматривает человека с лукрецианским пессимизмом и лукрецианским пониманием знания как утешения и неизбежного разочарования. Но для него демон – это история, а не тело и не влечения. Прошлое с его таинственными гармоническими структурамиразбитоиосыпаетсяунаснаглазах,поэтомутропикипечальны.Существовало около двадцати тысяч голых, бедных, кочующих, прекрасных индейцев намбиквара в 1915 году, когда их впервые посетили белые миссионеры, а когда Леви-Стросс прибыл туда в 1938-м, их оставалось не более двух тысяч, теперь они были жалкими, неприятными, болеющимисифилисомивымирающими.Остаетсянадежда,что антропология приводитк смягчениютревогивисторическомаспекте.Интересно,чтоЛеви-Строссвспоминаетсебяв возрасте семнадцати лет со страстью изучающим Маркса («Я редко берусь решать социологическую или этнографическую проблему, не освежив мыслей несколькими страницами “18 Брюмера Луи Бонапарта” или “К критике политической экономии”») и добавляет:омногихегособственныхстудентахбылоизвестно,чтоонибывшиемарксисты, решившиепринестиплодысвоейверынаалтарьнаукиопрошлом,посколькупредложитьее будущему было нельзя. Антропология – это некрология. «Давайте изучать первобытные племена,–говоритЛеви-Строссиегоученики,–покаонинеисчезли». Удивительно думать об этих бывших марксистах – философах-оптимистах, если такие когда-либо существовали, – поглощенных печальным зрелищем рассыпающегося доисторическогопрошлого.Онипереходилинетолькоотоптимизмакпессимизму,ноиот уверенностиксомнениюкакметодике.Потомучто,согласноЛеви-Строссу,исследованияв поле, «где начинается деятельность каждого этнолога, – это мать и нянька сомнения, в сущности, философская позиция». В программе Леви-Стросса для практического антрополога в «Структурной антропологии» картезианский метод сомнения предстает как неизменныйагностицизм.Эти«антропологическиесомнения»состоятнетолько«взнании, чточеловекничегонезнает,новрешительномизложениитого,чточеловекзнает,включая его собственное незнание и даже оскорбления или отказ от самых дорогих идей и обыкновенийрадидругихидейиобыкновений,ввысшейстепениимпротиворечащих». Такимобразом,бытьантропологомзначитзанятьвесьмаоригинальнуюпозициюvis-àvis по отношению к собственным сомнениям, собственной интеллектуальной неуверенности. Леви-Стросс дает ясно понять, что для него это в высшей степени философскаяпозиция. Втожевремяантропологияприводитвсоответствиерядразличныхцелейчеловека.Это одноизредкихинтеллектуальныхзанятий,непризывающеепринестивжертвусобственное мужество. Здесь необходимы смелость, любовь к приключениям и физическая выносливость. Антропология также предлагает решение для этого приносящего огорчения побочного продукта разума, отчуждения. Она покоряет эту отдаленную функцию интеллекта, институционализируя ее. Для антрополога мир профессионально поделен на «внутри» и «вовне», домашнее и экзотическое, академический городской мир и тропики. Антрополог это не простой и нейтральный наблюдатель. Это человек, контролирующий и даже сознательно использующий собственное интеллектуальное отчуждение. Technique de dépaysement(методпеременыобстановки)–такговоритосвоейпрофессииЛеви-Строссв «Структурной антропологии». Он считает само собой разумеющимися формулы современной научной «независимости от системы ценностей». И предлагает изысканный, аристократический вариант этой независимости. Антрополог в поле представляет собой подлинную модель сознания двадцатого века: «критик дома» и «конформист за его стенами». Леви-Стросс сознает, что это парадоксальное духовное состояние не дает антропологувозможностибытьгражданином.Антропологвотношениисобственнойстраны политически стерилен. Он не может стремиться к власти, он может лишь обладать критическим инакомыслящим голосом. И Леви-Стросс, хотя в самом общем смысле и в очень французском стиле левый (он подписал известный «Манифест 121», который призывалкгражданскомунеповиновениювоФранциивкачествепротестапротиввойныв Алжире), по французским стандартам человек аполитичный. Антропология, по ЛевиСтроссу,–этотехникаполитическойнеангажированности;профессияантропологатребует соблюдения глубокой беспристрастности. «Он никогда и нигде не может ощущать себя “дома”: он всегда будет, говоря языком психологии, человеком с ограниченными возможностями». Разумеется, самые ранние гости дописьменных народов были лишены какой бы то ни было беспристрастности. Изначально полевыми работниками в области того, что затем сталоназыватьсяэтнологией,былимиссионеры,которыеприлагаливсесилыктому,чтобы избавить дикаря от его безрассудств и превратить его в цивилизованного христианина. Прикрыть женщинам груди, надеть на мужчин штаны, отправить их всех в воскресную школу, чтобы они бормотали отрывки из Евангелия, – именно это составляло цель армии старых дев с безжалостными глазами и тощих фермерских сыновей с американского Среднего Запада. Затем последовали гуманисты-миряне – справедливые, вежливые, ни во что не вмешивавшиеся наблюдатели, которые пришли не продавать Христа дикарям, а проповедовать «разум», «терпимость» и «культурный плюрализм» буржуазной образованной публике на родине. А на родине многочисленные потребители антропологических данных, наподобие Фрэзера и Спенсера, Робертсона Смита и Фрейда, создавали рационалистическое мировоззрение. Но всегда антропологии приходилось бороться с глубоким отвращением по отношению к своему предмету. Ужас перед первобытным (наивно выраженный Фрэзером и Леви-Брюлем) сопровождал антропологическое сознание. Леви-Стросс оказывается на самой высокой ступени преодоления этой антипатии. Антрополог в стиле Леви-Стросса – это новая порода. Он, в отличие от теперешнего поколения американских антропологов, не просто скромный наблюдатель, собирающий данные. У него также нет топора, чтобы его точить, – ни христианского, ни рационалистского, ни фрейдистского, ни какого-либо другого. В сущности,онзанимаетсяспасениемсобственнойдушипутемпытливогоиэнергичногоакта интеллектуальногокатарсиса. Антрополог–ивэтом,согласноЛеви-Строссу,егоосновноеотличиеотсоциолога,–это очевидец. «Считать, что антрополога можно обучить чисто теоретически, было бы иллюзией». (Интересно, почему работа Макса Вебера о древнем иудаизме или конфуцианском Китае допустима, а описание Фрэзером ритуалов, связанных с козлом отпущения в племени тагбануа на Филиппинах, недопустимо.) Почему? Потому что антропология для Леви-Стросса – это чрезвычайно личный род интеллектуальной дисциплины, наподобие психоанализа. Время, проведенное в поле, – это точное соответствие учебному анализу, которое проходит начинающий психоаналитик. Цель полевой работы, пишет Леви-Стросс, – «произвести ту психологическую революцию, котораяотмечаетрешительныйповоротвобученииантрополога».Идажебезпрохождения письменныхтестов,алишьосновываясьнамнениях«опытныхпрофессионалов»,которыев свое время прошли такое же тяжелое испытание, можно определить «если и когда» начинающий антрополог «в результате полевой работы прошел эту внутреннюю революцию,котораядействительносделалаегодругимчеловеком». Однако следует подчеркнуть, что эта довольно литературно звучащая концепция призвания антрополога – духовное перерождение, обусловленное систематическим déracinement (вырывание с корнем), – в большинстве работ Леви-Стросса дополнена настоятельным требованием самых нелитературных методов анализа и исследования. Его важноеэссеомифев«Структурнойантропологии»предписываеттакуютехникуанализаи записиэлементовмифов,котораяпозволяеткомпьютернуюобработку.Европейскийвкладв то, что в Америке называют «социальными науками», оценивается у нас в стране чрезвычайно низко из-за недостаточной эмпирической документированности, «гуманистической» слабости, за скрытый культурный критицизм, за отказ принять количественные методы как основной инструмент исследования. Очерки Леви-Стросса, составляющие «Структурную антропологию», разумеется, не подвергаются этой суровой критике.Всамомделе,Леви-Строссдалекоттого,чтобыпрезиратьстрастьамериканцевк точному количественному измерению традиционных проблем, и не находит это ни усложненным, ни излишне строгим методологически. Частично примыкая к Французской школе(Дюркгейм,Моссиихпоследователи),Леви-Строссв«Структурнойантропологии» щедро воздает должное работе американских антропологов – в частности, Лоуи, Боаса и Крёбера[17]. Но он ближе к более авангардным методологиям экономики, неврологии, лингвистикиитеорииигр.ДляЛеви-Строссанетсомненийвтом,чтоантропологиядолжна стать в большей мере наукой, чем гуманистическим учением. Вопрос только в том, каким образом. «Веками, – пишет он, – гуманитарные и социальные науки отказывались рассматриватьмирестественныхиточныхнаук,словновидявнихнекийрай,вкоторыйим никогданепопасть».Нонедавнодверьврайбылаоткрыталингвистами,такимикакРоман Якобсониегошкола.Лингвистытеперьумеютпереформулироватьсвоипроблемытак,что можно«применитьмашину,созданнуюинженерами,ипоставитьэксперимент,полностью подобныйэкспериментувестественныхнауках»,которыйскажетим,«сто́ящаяэтогипотеза или нет». Лингвисты – как и экономисты и специалисты по теории игр – показали антропологу «способ выйти из затруднительного положения, создавшегося из-за слишком близкогознакомствасконкретнымиданными». Таким образом, человек, погрузившийся в экзотику, чтобы подтвердить собственное внутреннееотчуждениегородскогоинтеллектуала,врезультатенамереваетсяпокоритьсвой предмет,переводяеговчистоформальныйкод.Раздвоениепоотношениюкэкзотическому, первобытному, вовсе не преодолено, но лишь получило новую сложную формулировку. Антрополог как человек должен заниматься спасением своей души. Но он посвящает себя тому, чтобы изложить свой предмет с помощью очень мощного метода формального анализа – Леви-Стросс называет его «структурной» антропологией, – который уничтожает все следы личного опыта исследователя и сглаживает человеческие черты его предмета, данногопервобытногообщества. В«Неприрученноймысли»Леви-Строссназываетсвоюмысльanecdotiqueetgéometrique (анекдотической и геометрической). Его очерки в «Структурной антропологии» демонстрируют по большей части геометрическую сторону его мысли; это применение строгого формализма к традиционным темам – системе кровного родства, тотемизму, ритуалам,связаннымсдостижениемполовойзрелости,соотношениюмифаиритуалаитак далее. Происходит большая «уборка», и метла, которая убирает все лишнее, – это понятие «структуры». Леви-Стросс в большой мере отделяет себя от того, что называет «естественно-историческим» течением в британской антропологии, представленным такими учеными, как Малиновский и Рэдклифф-Браун. Британские антропологи были самыми последовательными поборниками «функционального анализа», который интерпретируетразнообразиеобычаевкакразличныестратегиидостиженияуниверсальных социальных целей. Так, Малиновский полагал, что эмпирические наблюдения отдельно взятого первобытного общества дадут возможность понять «универсальную мотивацию», присущуювсемобществам.ПомнениюЛеви-Стросса,этононсенс.Антропологиянеможет ставить целью понять что-либо, кроме собственного предмета. Нельзя делать никаких выводов из антропологического материала для психологии или социологии, поскольку антропология не в состоянии дать полное знание о тех обществах, которые изучает. Антропология(сравнительноеизучениескорее«структур»,чем«функций»)неможетбыть не чем иным, кроме как описательной, а не индуктивной наукой; она занимается только формальными отличиями одного общества от другого. Она не интересуется должным образом ни биологической базой, ни психологическим содержанием или социальными функциями норм или обычаев. Таким образом, в то время как Малиновский и РэдклиффБраун утверждают, например, что биологические связи – это основа и образец любых родственных связей, «структуралисты», такие как Леви-Стросс, следуя Крёберу и Лоуи, подчеркиваютискусственностьродственныхобычаев.Обсуждатьродственныесвязиследует в пределах понятий, которые допускают математический подход. Короче говоря, ЛевиСтросс и структуралисты рассматривают общество как игру, в которой нет универсальных правил; различные общества обусловливают различные ходы игроков. Антрополог может рассматривать ритуал или табу просто как набор правил, не уделяя большого внимания «природе партнеров (людей или групп), игра которых построена по этим правилам». Излюбленная метафора Леви-Стросса, она же модель для анализа первобытных обычаев и верований, – это язык. Аналогия между антропологией и лингвистикой – ведущая тема очерков «Структурной антропологии». Все поведение, согласно Леви-Строссу, – это язык, словарь и грамматика; антропология ничего не доказывает относительно человеческой натуры, кроме того, что сама нуждается в упорядочении. Не существует универсальной истины относительно взаимоотношения, скажем, религии и социальной структуры. Это толькомодели,показывающиевариативностьоднойпоотношениюкдругой. Для широкого читателя, возможно, самым поразительным примером теоретического агностицизмаЛеви-Строссаокажетсяеговидение мифа.Онрассматриваетмифкакчисто формальную мыслительную операцию, без какого бы то ни было психологического содержания или необходимой связи с ритуалом. Специфические повествования представленыкаклогическийзамыселописанияи,возможно,смягченияправилсоциальной игры, когда те вызывают напряжение или противоречие. Для Леви-Стросса логика мифологической мысли в той же мере строга, что и логика современной науки. Единственное различие в том, что она применяется к различным проблемам. В противоположность Мирче Элиаде, своему самому известному оппоненту в теории первобытной религии, Леви-Стросс утверждает, что активность разума архаичного или современного, по сути, одна и та же. Леви-Стросс не видит качественной разницы между научным мышлением современных «исторических» обществ и мифическим мышлением доисторическихобщин. Демонический характер, который история и историческое сознание имеют для ЛевиСтросса, лучше всего проявился в его блестящей и жестокой атаке на Сартра в последней главе «Неприрученной мысли». Аргументы Леви-Стросса против Сартра меня не убедили. Нодолжназаметить,чтоон,послесмертиМерло-Понти,самыйинтересныйитребующий сосредоточенностиоппонентсартровскогоэкзистенциализмаифеноменологии. Сартр не только своими идеями, но и всем мировосприятием представляет полную противоположность Леви-Строссу. Со своим философским и политическим догматизмом, неисчерпаемойизобретательностьюисложностью,Сартрвсегдавелсебя(ичастовелсебя плохо)какэнтузиаст.Совершенноестественно,чтописатель,вызывающийуСартрасамое большое воодушевление, – это Жан Жене, барочный, дидактичный, дерзкий писатель, чье эго уничтожает любое объективное повествование; чьи герои пребывают в мастурбационномбуйстве;мастеригрихитростей,сбогатым,избыточнобогатымстилем, изобилующимметафорамиипричудливымисравнениями.Новофранцузскоммышлениии восприятии существует другая традиция – культ отчужденности, l’esprit géometrique (дух геометрии). Эта традиция представлена романистами новой школы, такими как Натали Саррот,АленРоб-ГрийеиМишельБютор,предельноотличающимисяотЖеневихпоисках бесконечной точности, узкой и сухой темы, холодного подробного стиля. Среди кинорежиссеровэтоАленРене.Формуладаннойтрадиции–ккоторойяотнеслабыЛевиСтросса,также,какСартрасвязаласЖене,–этосмесьпафосаихолодности. Подобноформалистам«новогоромана»икино,Леви-Строссподчеркивает«структуру», его крайний формализм и интеллектуальный агностицизм противопоставлен безмерному, но всегда вполне смягченному пафосу. Иногда в результате появляется шедевр, вроде «Печальныхтропиков».Всамомназваниисодержитсяпреуменьшение.Тропикинепросто печальны. Они страдают. Ужас насилия, окончательное и бесповоротное разрушение дописьменных обществ сегодня идет по всему миру – что является подлинным предметом книги Леви-Стросса и о чем говорится с дистанции пятнадцатилетнего персонального опыта,говоритсясуверенностьювчувствахифактах,котораядаетчитательскимэмоциям больше свободы. Но в остальных книгах ясного и страдающего наблюдателя прибирает к рукамсуроваятеория. В том же самом стиле, что Роб-Грийе отрекается от традиционного эмпирического содержанияромана(психология,социальныенаблюдения),Леви-Строссприменяетметоды «структурногоанализа»ктрадиционнымматериаламэмпирическойантропологии.Обычаи, ритуалы,мифыитабу–этоязык.Каквязыке,гдезвуки,изкоторыхсостоятслова,самипо себебессмысленны,такичастиобычая,ритуалаилимифа(согласноЛеви-Строссу)самипо себелишенысмысла.АнализируямифобЭдипе,оннастаивает,чтоотдельныечастимифа (ребенок-найденыш,старикнаперекресткедорог,женитьбанаматери,ослеплениеит.д.) незначатничего.Илишьсоединенныевобщийконтекстчастиначинаютобретатьсмысл– смысл,которымобладаетлогическаямодель.Этастепеньинтеллектуальногоагностицизма действительно необычайна. И чтобы оспорить ее, необязательно поддерживать фрейдистскуюилисоциологическуюинтерпретациюэлементовмифа. ОднаколюбаясерьезнаякритикаЛеви-Строссадолжнабудетиметьделостемфактом, чтовконечномитогеегокрайнийформализм–этонравственныйвыбори(чтоещеболее удивительно) образ социального совершенства. Крайне антиисторичный, Леви-Стросс отказывается делать различие между «первобытными» и «историческими» обществами. У первобытныхестьсвояистория;ноонанамнеизвестна.Аисторическоесознание(которого у них не было), как он доказывает, полемизируя с Сартром, это не какой-то привилегированный вид сознания. Для Леви-Стросса существует только то, что он изобличающе называет «горячими» и «холодными» обществами. Горячие общества – это современные,ведомыедемонамиисторическогопрогресса.Холодныеобщества–общества первобытные, статичные, прозрачные, гармоничные. Утопия для Леви-Стросса была бы понижением исторической температуры. В своей речи при вступлении в должность в КоллеждеФрансЛеви-Строссвобщихчертахнаметилпостмарксистскоевидениесвободы, когда человек будет наконец освобожден от обязанности двигаться вперед и от «древнего проклятия, вынуждающего его порабощать людей, чтобы сделать это продвижение возможным».Такимобразом, историясэтоговременидолжнабудетостатьсясовсемоднаиобщество,оказавшееся вне истории и выше нее, снова сможет принять эту правильную и квазипрозрачную структуру, которая, как наилучшим образом учат нас сохранившиеся первобытные общества,непротиворечитгуманности.Вэтом,пообщемумнению,утопическомвзгляде социальная антропология найдет свое высшее оправдание, поскольку формы жизни и мышления, которые она изучает, больше не будут представлять только исторический и относительныйинтерес.Онибудутсоответствоватьпостояннымвозможностямчеловека, а миссией социальной антропологии будет постоянное наблюдение, особенно в самые темныечасычеловечества. Антрополог,такимобразом,нетолькооплакиваетхолодныймирпервобытныхобществ, но и охраняет его. Горюя среди теней, борясь за то, чтобы отличать архаику от псевдоархаики, он воплощает героический, неустанный и сложный современный пессимизм. [1963] Пер.ВалентиныКулагиной-Ярцевой ЛитературнаякритикаДьёрдяЛукача Венгерский философ и литературный критик Дьёрдь Лукач – главный теоретик в современном коммунистическом мире, предлагающий такой извод марксизма, о котором разумныенемарксистымогутговоритьвсерьез. Я не считаю, как многие, что Лукач выдвигает наиболее интересный или приемлемый вариант марксизма, и еще менее склонна считать, будто он (как его называли) – «величайшиймарксистпослеМаркса».Нонетсомнений,чтоЛукач–фигуразначительная и обоснованно претендует на наше внимание. Он не только наставник новых интеллектуальных движений в Восточной Европе и России – с Лукачем долгое время считалисьивнемарксистскихкругов.Кпримеру,егоранниетекстыпослужилиисточником многих концепций Карла Мангейма (в социологии искусства, культуры и знания) и через Мангеймаповлиялинавсюсовременнуюсоциологию.Такжеоноказалбольшоевлияниена Сартраичерезнего–нафранцузскийэкзистенциализм. Георг (Дьёрдь) фон Лукач родился в 1885 году в Венгрии, в богатой еврейской семье банкиров, которой незадолго до этого было пожаловано дворянство. Выдающуюся карьеру интеллектуала он начал делать с самых ранних лет. Еще совсем юношей он писал статьи, выступал с лекциями, основал театр и гуманитарный журнал. Приехав учиться в Гер – манию,вБерлинскийиГейдельбергскийуниверситеты,онпоразилсвоимиспособностями великих учителей – Макса Вебера и Георга Зиммеля. Основной областью его интересов была литература, но всем остальным он также интересовался. В 1907 году он защитил диссертацию «Метафизика трагедии». Первая из его важных работ, «История развития современной драмы», появилась в 1908 году. В 1910-м он опубликовал сборник литературоведческихифилософскихэссе«Душаиформы»,в1916-м–«Теориюромана».В годы Первой мировой войны Лукач отошел от неокантианства, первоначального своего философскогокредо,всторонуфилософииГегеля,азатемпришелкмарксизму. В1918-м онвступилвКоммунистическуюпартию(иотбросилприставку«фон»). С этого времени карьера Лукача становится поразительным свидетельством того, как тяжело свободному интеллектуалу сообразоваться со взглядами, все очевиднее принимающими характер замкнутой системы, а кроме того – каково жить в обществе, котороекрайнесерьезноотноситсяктому,чтоговорятипишутинтеллектуалы.Деловтом, чтоизначальнолукачевскаяинтерпретациямарксизмабылавольнойидискуссионной. ВскорепослевступлениявПартиюЛукач–впервыйраз,авсегоихбылодва,–принял участиевреволюции.ВернувшисьвВенгрию,онв1919годусталминистромпросвещения при недолговечной коммунистической диктатуре Белы Куна. Когда режим Куна свергли, ЛукачбежалвВену,гдепрожилдесятьлет.Главнаяегокнигаэтогопериода–философское исследование марксистской теории, теперь уже почти легендарная «История и классовое сознание» (1923): возможно, эту его работу немарксисты ценят больше всех остальных. За нее он сразу же подвергся жестоким и неослабным нападкам со стороны коммунистическогодвижения. Споры вокруг этой книги обозначили поражение Лукача в борьбе за лидерство в Венгерскойкомпартии:этуборьбусКуномонвелвсегодывенскойэмиграции.Послетого каквеськоммунистическиймир,начинаясЛенина,БухаринаиЗиновьева,ошельмовалего, Лукача исключили из Центрального комитета Венгерской компартии и сняли с поста главногоредактораеежурнала«Коммунизмус».НовсеэтодесятилетиеЛукачзащищалсвои книги,держалсястойкоинеотступалсяотсвоихслов. Затем,в1930-м,послегодавБерлине,оннагодотправилсявМоскву,чтобызаниматься исследованиями в штате знаменитого Института Маркса и Энгельса (его блистательный директор Д. Рязанов сгинул потом в чистках конца тридцатых). Мы не знаем, что в это время происходило с Лукачем. Известно, что в 1931-м он вернулся в Берлин, а в 1933-м, когда к власти пришел Гитлер, опять переехал в Москву. В том же году он публично, в самыхунизительныхвыражениях,отрексяот«Историииклассовогосознания»ивсехсвоих предшествующихписаний,заявив,чтоонибылизаражены«буржуазнымидеализмом». Лукач двенадцать лет прожил в Москве беженцем; даже после покаяния и многочисленных попыток привести свою работу в соответствие с коммунистическими установкамионоставалсявнемилости.Но,вотличиеотРязанова,онпережилужасчисток. Однаизеголучшихкниг,«МолодойГегель»,написанаименновэтотпериод(в1938году, но опубликована была лишь десятью годами позже), как и постыдный упрощенческий трактатпротивсовременнойфилософии–«Разрушениеразума»(1945)[18].Контрастмежду этими двумя книгами характеризует глубокие качественные колебания в поздних работах Лукача. В 1945 году, когда война окончилась, а в Венгрии пришло к власти коммунистическое правительство, Лукач навсегда вернулся на родину и стал преподавать в Будапештском университете. Среди написанных за это время книг – «Гёте и его время» (1947) и «Томас Манн»(1949).Затем,когдаЛукачубыл71год,онвовторойразпустилсявреволюционную политику (что, конечно, невероятно трогательно). Он стал одним из вождей революции 1956 года и вошел в кабинет министров Имре Надя. После подавления революции Лукача выслали в Румынию и приговорили к домашнему аресту; через четыре месяца ему разрешиливернутьсявБудапешткпреподаваниюипродолжитьпубликоватьсянародинеи в Западной Европе. Только возраст и огромный международный авторитет Лукача спасли его от судьбы Имре Надя. Из всех вождей революции он один ни разу не предстал перед судоминивчемнепокаялся. Сразупослереволюциионнапечаталработу«Реализмвнашевремя»(1956)ивтомже году выпустил первую часть давно ожидаемой «Эстетики» – она составила два громадных тома.Егопродолжалиатаковатьбюрократыоткультурыистаршиекритики-коммунисты– хотя нападок было гораздо больше, например, в Восточной Германии, чем на родине, при все смягчавшемся режиме Кадара. Его ранние тексты, от которых он по-прежнему отказывался, изучались в Англии, Западной Европе, Латинской Америке – в свете нового интересакраннимработамМаркса.Втожевремядлязначительнойчастипредставителей нового поколения западноевропейских интеллектуалов именно поздние работы Лукача – первая попытка осторожного, но неотвратимого ниспровержения идей и практик сталинизма. Очевидно,чтоуЛукачабылбольшойдарличногоиполитическоговыживания,тоесть дарбытьразнымчеловекомдлямножестваразныхлюдей.Врезультатеонсовершилпочти невозможное: стал одновременно маргиналом и центральной фигурой в обществе, где положение интеллектуала-маргинала было практически невыносимым. Для этого ему пришлосьпровестибольшуючастьжизни–такилииначе–вссылке.Овнешнейссылкея уже писала. Но была и своего рода внутренняя ссылка, которая сказывалась в выборе предметов исследования. Самые значимые для Лукача писатели – Гёте, Бальзак, Скотт, Толстой. Благодаря возрасту и навыкам восприятия, сформированным до становления канона коммунистической культуры, Лукач сумел защитить себя с помощью (интеллектуальной) эмиграции из настоящего. Единственные современные писатели, заслужившие его безоговорочное одобрение, – те, которые по сути продолжали традицию романаXIXвека:Манн,Голсуорси,ГорькийиРожеМартендюГар. НоэтапреданностьлитературеифилософииXIXвека–непростоэстетическийвыбор (у марксиста – или христианина, или платоника – вообще не может быть чисто эстетического выбора в искусстве). Мерка, с которой Лукач подходит к настоящему, – моральная, и примечательно, что эту мерку он заимствует у прошлого. Цельность восприятия,свойственнаяпрошлому,–именното,чтоЛукачимеетввидупод«реализмом». ЕщеодинспособэмиграцииизнастоящегодляЛукача–выборязыка.Толькопервыедве егокнигинаписаныпо-венгерски.Остальные–околотридцатикнигипятидесятистатей– по-немецки,аписатьвсегодняшнейВенгриипо-немецки–безусловно,полемическийакт. Сосредоточившись на литературе XIX века и упорно держась немецкого языка, Лукач продолжает отстаивать коммунистические, европейские и гуманистические ценности, противопоставляя их ценностям националистическим и догматическим. Живя в коммунистической и провинциальной стране, он остается настоящим европейским интеллектуалом.Нетсмыслапояснять,чтоунасегоузнаютсбольшимзапозданием. Можетбыть,неудачното,чтодвекниги,теперьпредставляющиеЛукачаамериканскому читателю,–собраниялитературно-критическихработ;обепринадлежатнек«раннему»,ак «позднему» периоду[19]. В «Исследования европейского реализма» входят восемь статей, посвященныхглавнымобразомБальзаку,Стендалю,Толстому,ЗоляиГорькому;онибыли написанывРоссиивконцетридцатых,вовремячисток.Этострашноевремяоставилоздесь шрамыввиденесколькихгрубополитизированныхпассажей;книгаувиделасветв1948-м. «Реализмвнашевремя»–книгаменьшегообъема.Онанаписанавпятидесятые,еестильне столь академичен, аргументация живее и свободнее. В трех входящих сюда эссе Лукач рассматривает стоящие сегодня перед литературой варианты выбора и отвергает «модернизм» и «социалистический реализм» в пользу так называемого «критического реализма»–этовпервуюочередьтрадицияроманаXIXвека. Я говорю, что этот выбор книг неудачен, потому что, хотя перед нами Лукач – доступный, вполне удобочитаемый, как и в своих философских трудах, – мы принуждены оценивать его только как литературного критика. Какова же внутренняя ценность Лукача как литературного критика? Сэр Герберт Рид расточал ему щедрые похвалы; Томас Манн называл его «важнейшим из ныне живущих литературных критиков»; Джордж Стайнер считаетего«единственнымкрупнымнемецкимлитературнымкритикомнашеговремени»и утверждает,что«средикритиковтолькоСент-БёвиЭдмундУилсонсравнимысЛукачемпо широте отклика» на литературные явления; а Альфред Казин пишет, что Лукач – талантливейший,надежныйиважныйпроводникповеликойтрадициироманаXIXвека.Но отвечаютлииздаваемыекнигиэтимутверждениям?Думаю,нет.Скорее,яподозреваю,что нынешняя мода на Лукача, поддерживаемая восторженными излияниями, которые можно встретить в предисловиях Джорджа Стайнера и Альфреда Казина, обусловлена больше соображениямикультурнойблагожелательности,чемстроголитературнымикритериями. Сочувствовать поборникам Лукача – дело простое. Я и сама склонна оправдывать его, трактоватьсомнениявегопользу–хотябыизчувствапротестапротивбесплодияхолодной войны, из-за которого в последнее десятилетие серьезное обсуждение марксизма было невозможно. Но проявлять великодушие к «позднему» Лукачу мы можем только в том случае, если не будем принимать его целиком всерьез, если будем относиться к нему немного снисходительно, а его моральный пыл рассматривать с точки зрения эстетики, стиль предпочитать идеям. Что прикажете делать с тем фактом, что Лукач не приемлет Достоевского, Пруста, Кафку, Беккета, почти всю современную литературу? Заявление, которое делает Стайнер в своем предисловии, – «Лукач – радикальный моралист… подобный викторианским критикам… В этом выдающемся марксисте сидит пуританин старого толка» – едва ли можно признать адекватным. Такие поверхностные и ловкие комментарии, призванные одомашнивать известные виды радикализма, – все равно что отказ от суждения. Узнать, что Лукач – как и Маркс, и Фрейд, – придерживается общепринятойморалиидаженелишенпуританства,конечно,оченьмилоитрогательно,но толькоеслимыберемзаосновуклише«интеллектуал–чудовище».Деловотвчем:Лукач действительносчитаетлитературучастьюспораоморали.Убедителенли,силенлиунего этот подход? Совместим ли он со сложными, требующими различений, по-настоящему литературными суждениями? Я со своей стороны считаю работы Лукача 1930-х, 1940-х и 1950-х годов в значительной степени ущербными – не из-за марксизма, а из-за грубости аргументов. Разумеется,любойкритикимеетправонаошибки.Нонекоторыепромахиуказываютна коренной сбой всей системы восприятия. Если кто-то, как Лукач, называет Ницше всего лишь предшественником нацизма, а Конрада критикует за то, что тот «не изображает полноту жизни» (Конрад «на самом деле скорее мастер рассказа, чем романист»), он не простосовершаетотдельныеошибки:онпредлагаетнорму,которуюникакнельзяпринять. Точнотакжеянемогусогласитьсястем,очем,видимо,говоритвсвоемпредисловии Казин: невзирая на ошибки Лукача, там, где он прав, он-де вполне надежен. Как ни прекрасна реалистическая романная традиция XIX века, норма преклонения перед ней, которую постулирует Лукач, неоправданно груба. Главное здесь – идея Лукача о том, что «дело критика – обеспечивать связь между идеологией (в смысле Weltanschauung[20]) и художественным творчеством». Лукач – сторонник миметической теории искусства, донельзя примитивной. Книга – это «изображение», она «передает», «рисует картину»; художник–это«представитель».Великаяреалистическаятрадицияромананенуждаетсяв подобнойзащите. Обеим этим книгам «позднего Лукача» недостает интеллектуальной тонкости. Лучшая из двух книг – «Реализм в наше время». К примеру, первое эссе здесь – «Идеология модернизма» – сильный, во многих отношениях блестящий выпад. Лукач пишет, что модернистская литература (в одну кучу он сгребает Кафку, Джойса, Моравиа, Бенна, Беккета и еще десяток других) по своему характеру аллегорична; далее он прослеживает связь между аллегорией и отказом от исторической сознательности. Следующее эссе, «Франц Кафка или Томас Манн?» – более грубое и менее интересное повторение того же тезиса. Наконец, в последнем – «Критический реализм и социалистический реализм» – с марксистских позиций отвергаются основные художественные доктрины, составлявшие частьсталинскойэпохи. Но даже эта книга многим разочаровывает. Понимание аллегории в первом тексте основанонаидеяхпокойногоВальтераБеньямина.ЦитатыизэссеБеньяминаобаллегории здесьприсутствуют,инельзянезаметить,чтоБеньяминипишетиаргументируетгораздо лучше, чем сам Лукач. Занятно, что Беньямин, умерший в 1940-м, – один из критиков, на которых «ранний» Лукач повлиял. Но оставим иронию: истина в том, что Беньямин – великий критик (именно он заслуживает определения «единственный крупный немецкий литературный критик нашего времени), а «поздний» Лукач – нет. Пример Беньямина показывает,какимлитературнымкритикоммогбыстатьЛукач. Такие писатели, как Сартр во Франции и немецкая школа неомарксистских критиков (наиболее яркие ее представители, помимо Беньямина, – Теодор Адорно и Герберт Маркузе), разработали марксистский (а точнее, радикально-гегельянский) подход как способ философского и культурного анализа, который позволяет среди прочего отдавать должное по крайней мере некоторым аспектам современной литературы. Именно с этими писателями Лукач должен быть сопоставлен – и найден очень легким. Я с состраданием отношусь к причинам и опыту, которые лежат в основе реакционного эстетического восприятия Лукача, я уважаю даже его постоянное морализаторство, даже то, что он доблестно несет ярмо идеологии – отчасти затем, чтобы смирить в идеологии дух обывательства. Но я не могу принять ни интеллектуальных предпосылок его вкуса, ни вытекающего из них злословия о величайших достижениях современной литературы. Я не могу и притворяться, будто в моих глазах это злословие не портит всю позднюю критику Лукача. Для Лукача было бы лучше, если бы американской публике представили его ранние книги – «Душу и формы» (куда входит его диссертация о трагедии), «Теорию романа» и, конечно, «Историю и классовое сознание». Кроме того, жизненность и размах марксистской критики искусства можно наилучшим образом продемонстрировать, если перевести упомянутых мной немецких и французских авторов – прежде всего Беньямина. Только зная все важные тексты этой группы, мы можем правильно оценить марксизм как подходкискусствуикультуре. [1964] Постскриптум КарлМангеймвсвоейрецензии1920годана«Теориюромана»Лукачаописалэтукнигу как «попытку интерпретировать эстетический феномен, а именно роман, с более высокой позиции–философско-исторической».Мангеймсчитает,что«книгаЛукача–движениев верном направлении». Если оставить в стороне суждение о том, что верно, а что нет, то нельзя не заметить, что такое движение ограничивает. Точнее сказать, и сила, и ограниченностьмарксистскогоподходакискусству–следствияеготягик«болеевысокой позиции». В текстах критиков, которых я приводила в пример (ранний Лукач, Беньямин, Адорноидругие),неидетречьотом,чтобыпоставитьискусствоperse наслужбунекоей конкретной морали или исторической тенденции. Но ни один из этих критиков даже в лучших текстах не свободен от убеждений, которые в конце концов служат закреплению однойидеологии.Этаидеология,несмотрянавсюпривлекательность(еслисмотретьнанее как на каталог этических обязанностей), не сумела постичь (иначе как догматически и неодобрительно) структуру и качества современного общества, его особые преимущества. Эта идеология – «гуманизм». Невзирая на приверженность идее исторического прогресса, критики-неомарксисты продемонстрировали полную нечувствительность к большинству интересных и созидательных особенностей современной культуры несоциалистических стран. Отсутствие интереса к авангардному искусству, огульные обвинения современных стилей искусства и жизни, очень разных по качеству и значению, в «чуждости», «дегуманизации», «механистичности» – все это показывает, что неомарксисты недалеко ушли от великих консервативных критиков современности, писавших в XIX веке, – Арнольда, Рёскина, Буркхардта. Странно и тревожно, что совершенно аполитичные критики, например Маршалл Маклюэн, понимают структуру современной реальности намноголучше. Разнообразиеконкретныхсуждений,высказанныхкритиками-неомарксистами,вродебы неуказываетнаединодушиевосприятия.Нокогдапонимаешь,чтодляпохвалывихработах используются одни и те же слова, различия затушевываются. Да, Адорно в «Философии новой музыки» защищает Шёнберга – но ради «прогрессивности». (Защиту Шёнберга АдорноуравновешиваетнападениемнаСтравинского,которогонесправедливосводитлишь кодномупериоду–неоклассическому.Завторжениенатерриториюпрошлого,засоздание музыкальныхпастишей–тожесамоеможносказатьоПикассо–наСтравинскоговешается ярлык «реакционера» и в конце концов «фашиста».) С другой стороны, Лукач клеймит Кафку за свойства, которые mutatis mutandis[21] – будь Кафка композитором – в глазах Адорносделалибыего«прогрессивным»автором.Кафкареакционен,потомучтоструктура еготекстоваллегорична,тоестьнеисторична,аМаннпрогрессивен,потомучтоонреалист, тоестьобладаетчувствомистории.Ноялегкопредставляюсебе,чтопроизведенияМанна– старомодные по форме, наполненные пародией и иронией, – могли бы в других обстоятельствах тоже оказаться реакционными. В одном случае признак «реакции» – неаутентичноеотношениекистории,вдругом–обращениекабстракции.Прибегаяктаким стандартам – вопреки исключениям, которые допускает личный вкус, – эти критики неизбежноилинепринимаютсовременноеискусство,илинепонимаютего.Единственный современный романист, о котором когда-либо писал французский критик-неомарксист Люсьен Гольдман, – это Андре Мальро. Даже исключительный Беньямин, с одинаковым блескомписавшийоГёте,ЛесковеиБодлере,некоснулсяниодногописателяXXвека.А кино, единственный целиком новый вид искусства нашего века, которому Беньямин посвятиллучшуючастьсвоеговажногоэссе,онособенноявнонепонялинедооценил.(Он полагал,чтокинофильмыолицетворяютразрывстрадициейиисторическимсознанием,а значит–опять!–фашизм.) Всекритикикультуры,ведущиеродословнуюотГегеляиМаркса,нежелаютпризнавать концепциюискусствакакавтономной(анепростоисторическиинтерпретируемой)формы. А поскольку в основе духа, оживляющего современные художественные течения, – новое открытиесилы(втомчислеэмоциональной)формальныхсторонискусства,тоэтикритики едва ли в состоянии положительно оценить современные произведения, разве что в части «содержания».Критики-историцистырассматриваюткаквидсодержаниядажеформу.Это особеннозаметнов«Теорииромана»,гдеЛукачанализируетразличныелитературныероды –эпос,лирику,роман,–иразрабатываетподходксоциальнымизменениям,воплощеннымв форме. Такое же предубеждение, менее выраженное, но столь же распространенное, мы находимвтекстахмногихамериканскихлитературныхкритиков–гегельянствоониусвоили отчастиизМаркса,ноглавнымобразом–изсоциологии. В историческом подходе, конечно, есть много ценного. Но если форму понимать как особый вид содержания, то с тем же успехом можно сказать (и, возможно, сейчас произнести это будет важнее), что любое содержание представимо как средство формы. Только когда критики-историцисты и все их последователи смогут увлечься произведениями искусства – как, прежде всего, произведениями искусства (а не социологическими, культурными, этическими, политическими документами), – им станет доступновосприятиемногих(анекаких-торедких)великихпроизведенийXXвека.Итогда у них появится разумное отношение к проблемам и целям «модернизма» в искусстве: для ответственногокритикаэтосегодняобязательно. [1965] Пер.ЛьваОборина «СвятойЖене»Сартра «Святой Жене» – до абсурда многословная книга, сродни раковой опухоли, груз ее блестящихидейтонетввязкойторжественноститонаиужасающихповторах.Известно,что книга задумывалась как вступительная статья к собранию сочинений Жене, вышедшему в издательстве«Галлимар»– страницнапятьдесят,–норазросласьдонынешнегообъемаи была выпущена в 1952 году отдельным томом, первым в Полном собрании сочинений Жене[22].Разумеется,дляеечтениянеобходимознакомствоспрозойЖене,большейчастью еще не переведенной на английский. Еще важнее для читателя вооружиться симпатией к сартровской манере толковать текст. Сартр нарушает все правила благопристойности, установленныедлякритиков,осуществляякритическийразборпутемпогружения,безкакой бытонибылообщейлинии.КнигапростоуглубляетсявЖене;аргументацияСартрапочти никак не выстроена; читателю не дается никаких поблажек и объяснений. Пожалуй, надо радоваться, что после шестьсот двадцать пятой страницы Сартр останавливается. Неутомимый акт литературного и философского потрошения, которое он совершает над Жене, мог бы осуществляться на протяжении тысячи страниц. Однако несносная книга Сартра заслуживает всяческого внимания. «Святого Жене» нельзя причислить к понастоящему великим сумасшедшим книгам; для этого она слишком затянута, слишком академичнапоязыку.Однакоонаполнаошеломляющеглубокихидей. Книга разбухала все больше, потому что философ Сартр не мог не стремиться затмить (при всей своей почтительности) поэта Жене. То, что поначалу казалось актом критического поклонения и рецептом «правильного употребления Жене», прописанным буржуазной читающей публике, обернулось чем-то гораздо более амбициозным. Описывая этуспецифическуюличность,Сартрнаделенамеревалсяпродемонстрироватьсобственный философский стиль, в котором феноменологическая традиция, идущая от Декарта к ГуссерлюиХайдеггеру,соединяетсяслиберальнойдобавкойизФрейдаиревизионистского марксизма. Человеком, деяния которого должны открыть нам ценность философского словаря Сартра, в данном случае является Жене. В предыдущей попытке «экзистенциального психоанализа», относящейся к 1947 году и имевшей более удобоваримую длину, им был Бодлер. В том, более ран нем, эссе Сартра гораздо больше интересовали чисто психологические проблемы, например отношение Бодлера к матери и любовницам. Данное исследование, посвященное Жене, гораздо более философично, ибо, сказать по правде, Сартр восхищается Жене так, как не восхищался Бодлером. Создается впечатление, что, по мнению Сартра, Жене заслуживает чего-то большего, чем глубокое психологическоеисследование.Онзаслуживаетфилософскогодиагноза. Длинноты книги – и перебои с дыханием – возникают вследствие философской дилеммы. Всякое мышление, как известно Сартру, совершается в обобщениях. Сартр стремится быть конкретным. Он хочет не просто неутомимо демонстрировать свои интеллектуальные способности, он хочет раскрыть Жене. Но не может. Его предприятие, строго говоря, неосуществимо. Он не может ухватить реального Жене, постоянно соскальзывая в категории «Найденыш», «Вор», «Гомосексуалист», «Свободный здравомыслящий человек», «Писатель». Отчасти Сартр это понимает, и это мучает его. Длина и непреклонный тон «Святого Жене» на самом деле следствие интеллектуальной агонии. Эта агония вызвана философским обязательством навязать действию смысл. Свобода, ключевое понятие экзистенциализма, являет себя в «Святом Жене» даже более отчетливо, чем в «Бытии и ничто» – как отказ оставить мир в покое. Согласно сартровской феноменологиидействия,действоватьзначитизменятьмир.Человек,преследуемыймиром, действует. Действует, чтобы изменить мир, принимая во внимание конечную цель, идеал. Таким образом, действие из случайного становится намеренным, и случайность не может рассматриваться как акт. Поступки человека и произведения художника не просто переживаются. Их можно понимать, их можно интерпретировать как изменение мира. Такимобразом,напротяжениивсего«СвятогоЖене»Сартрнепрестанноморализирует.Он рассуждает об актах Жене. А так как книга Сартра создавалась тогда, когда Жене писал в основном повествовательную прозу (из всех его пьес были написаны всего две первые – «Служанки» и «Строгий надзор»), и так как все эти произведения были автобиографическими, написанными от первого лица, у Сартра не было необходимости отделятьличноеотакталитературноготворчества.ХотяСартрвремяотвремениупоминает о вещах, о которых ему известно благодаря его дружбе с Жене, он почти исключительно говорит о человеке, образ которого возникает на страницах его книг. Монструозная личность, реальная и нереальная одновременно, все действия которой рассматриваются Сартром как многозначительные и преднамеренные. Именно из-за этого «Святой Жене» представляется отвратительным и липким. Имя «Жене», тысячу раз повторенное на протяжении книги, ни разу не кажется именем реального человека. Это имя дано бесконечносложномупроцессуфилософскогопреображения. Удивительно, как при наличии всех этих скрытых интеллектуальных мотивов предприятию Сартра удается сослужить службу Жене. Это происходит потому, что сам Женевсвоихпроизведенияхоткрытоинедвусмысленнововлеченвпредприятиепосвоему преображению. Преступление, сексуальная и социальная деградация и прежде всего убийство понимаются Жене как повод для славы. Со стороны Сартра не требовалось большой изобретательности, чтобы предположить, что сочинения Жене являют собой пространный трактат об унижении – понимаемом как духовный метод. «Святость» Жене, порожденная онанистическими размышлениями о его деградации и воображаемом уничтожении мира, является эксплицитным субъектом его прозы. Сартру остается лишь выявитьимпликациитого,чтовЖенеэксплицитно.ЖенемогникогданечитатьДекарта, ГегеляилиГуссерля.ОднакоСартрправ,глубокоправ,обнаруживаяуЖенесвязьсидеями Декарта, Гегеля и Гуссерля. Как с блеском замечает Сартр: «Уничтожение – это методологическое превращение, сродни картезианскому сомнению и гуссерлианскому “эпохе́”:оноучреждаетмиркакзакрытуюсистему,которуюсознаниерассматриваетизвне, как при интуитивном постижении. Превосходство этого метода перед остальными двумя заключаетсявтом,чтоонпереживаетсясбольюигордостью.Следовательно,онведетнек трансцендентальному и универсальному сознанию Гуссерля, не к формальному и абстрактному мышлению стоиков или к субстанциальному cogito Декарта, но к индивидуальнойэкзистенциинавысочайшемуровненапряженияипрозрачности». Какясказала,единственнойработойСартра,сопоставимойсо«СвятымЖене»,является егоблестящееэссеоБодлере.ВрезультатеанализаБодлерпредстаетпереднамибунтарем, проведшим свою жизнь в самообмане. Его свобода, хотя он и предается бунту, лишена созидания, ибо ей не удалось создать собственную систему ценностей. Всю жизнь распутник Бодлер нуждался в осуждающей его буржуазной морали. Жене – истинный революционер. У Жене свобода завоевывается ради самой свободы. Триумф Жене, его «святость» в том, что вопреки невероятному неравенству он прорвался сквозь социальные рамки, создав свою собственную мораль. Сартр показывает нам Жене, создающего ясную, логически последовательную систему зла. В отличие от Бодлера, Жене свободен от самообмана. «СвятойЖене»–книгаодиалектикесвободыи,поменьшеймереформально,скроена по гегельянскому лекалу. Сартр хотел показать, как Жене посредством действия и рефлексии провел всю жизнь стремясь к осуществлению истинно свободных актов. Брошенный с рождения в роль Другого, в роль парии, Жене выбрал самого себя. Этот изначальный выбор утверждается тремя различными метаморфозами: преступник, эстет, писатель. Каждая должна с необходимостью осуществить требование свободы выйти за пределы собственного «Я». Каждый новый уровень свободы несет с собой для «Я» новое знание.Такимобразом,всюдискуссиюоЖенеможнопрочестькакмрачнуюкарикатуруна гегелевскийанализотношениямежду«Я»иДругим.СартрговоритопроизведенияхЖене, о каждом из них, как о кратких вариантах «Феноменологии духа». Как абсурдно это ни звучит, Сартр прав. Но справедливо и то, что все сочинения Сартра также являются версиями,вариантами,комментариями,сатиройнавеликуюкнигуГегеля.Странная точка соприкосновенияСартраиЖене–трудносебепредставитьболеенесхожихлюдей. В Жене Сартр нашел свой идеальный субъект. Для вящей уверенности он погрузился в него. Тем не менее «Святой Жене» – удивительная книга, полная истин о языке морали и моральном выборе. (Возьмем всего один пример, догадку о том, что «зло – это систематическая замена абстрактного конкретным».) Анализ прозы и драматургии Жене неизменно проницателен. Особенно поражает разбор Сартром самой смелой книги Жене «Торжество похорон». Наряду с объяснением он, несомненно, способен предложить и оценку,каквсовершенносправедливомзамечанииотом,что«стиль“Богоматерицветов”, поэмы-сновидения, поэмы о тщете, слегка подпорчен чем-то вроде онанистической удовлетворенности.Внейотсутствуетпылкийтонпоследующихпроизведений».В«Святом Жене»Сартрговоритимногоглупых,поверхностныхвещей.Новэтойкнигеприсутствует всеверноеиинтересное,чтоможносказатьоЖене. ЭтакнигатакжепомогаетпонятьлучшиепроизведенияСартра.После«Бытияиничто» Сартроказалсянаперепутье.Онмогперейтиотфилософииипсихологиикэтике.Илиот философии и психологии к политике, теории группового поведения и истории. Всем известно–имногиеобэтомсожалеют,–чтоСартрпредпочелвторойпуть;врезультатепо явилась«Критикадиалектическогоразума»,опубликованнаяв1960году.«СвятойЖене»– этосложныйжестСартравнаправлении,покоторомуоннепошел. Из всех философов гегельянской традиции (я включаю сюда и Хайдеггера) Сартр предлагает наиболееинтересное и полезноепониманиедиалектическихотношениймежду «Я» и Другим. Однако Сартр – не просто Гегель, знающий о плоти, он столько же заслуживает звания французского ученика Хайдеггера. Великая книга Сартра «Бытие и ничто», разумеется, много позаимствовала у языка и проблематики Гегеля, Гуссерля и Хайдеггера.Ноунеесовершенноинаяинтенция.ТрудСартранеумозрителен,нодвижим огромной психологической безотлагательностью. Его довоенный роман «Тошнота», несомненно, предлагает ключ ко всему его творчеству. Здесь ставится фундаментальная проблематого,какосвоитьмирсегоотталкивающими,скользкими,пустымиилинавязчиво плотными внешними объектами, – эта проблема лежит в основе всех сочинений Сартра. «Бытие и ничто» – попытка разработать адекватный язык, зафиксировать жесты сознания, терзаемого отвращением. Это отвращение, этот опыт избыточности вещей и моральных ценностей одновременно является психологическим кризисом и метафизической проблемой. Решение, предложенное Сартром, не назовешь уместным. Философский ритуал космофагии,поеданиямира,сроднипервобытномуритуалуантропофагии,поеданиялюдей. Отличительным признаком философской традиции, которую продолжает Сартр, является сознаниекакединственнаяданность.РешениеСартра,подразумевающеемукисознанияпри столкновении с брутальной реальностью вещей, является космофагией, пожиранием мира сознанием. Все отношения – особенно в самых блестящих отрывках «Бытия и ничто», посвященных эротике, – анализируются как акты сознания, как присвоение Другого в бесконечномсамоопределении«Я». В«Бытиииничто»Сартрпредстаетпереднамипсихологомвысшегокласса–науровне Достоевского, Ницше и Фрейда. В центре эссе о Бодлере лежит анализ произведений и биографии Бодлера, рассматривающий их как равноценные с симптоматической точки зрениятексты,позволяющиевыявитьнаиболеесущественныепсихологическиепроявления. Ещеболееинтересным,чемэссеоБодлере(хотяодновременноиболеесложным),«Святого Жене» делает то, что, размышляя о Жене, Сартр вышел за рамки понятия действия как способа психологического самосохранения. Благодаря Жене, Сартру приоткрылась некая автономность эстетики. Точнее, он в очередной раз продемонстрировал связь между эстетическим измерением и свободой, которая несколько иначе трактуется Кантом. В результате психологического анализа художник, субъект «Святого Жене», не исчезает. Произведения Жене интерпретируются в терминах сохранения ритуала, церемонии сознания. То, что эта церемония носит по сути онанистический характер, как ни странно, вполне уместно. Согласно европейской философии начиная с Декарта основной деятельностью сознания было сотворение мира. Теперь ученик Декарта истолковал сотворениемиракакформупорождениямира,какмастурбацию. Сартр совершенно справедливо называет самую амбициозную с духовной точки зрения книгу Жене, роман «Торжество похорон», «величайшей попыткой причастия». Жене рассказывает, как он превратил весь мир в тело своего умершего любовника Жана Декарнена, а его молодое тело в собственный пенис. «Маркиз де Сад грезил о том, чтобы залить своей спермой извержение Этны, – замечает Сартр. – Жене в своем высокомерном безумии заходит дальше: он онанирует на Вселенную». Возможно, онанировать на Вселенную и есть занятие всякой философии, всякого отвлеченного мышления: к этому острому и не слишком прилюдному занятию тянет возвращаться вновь и вновь. Так или иначе, это довольно удачное описание феноменологии сознания Сартра. И, разумеется, совершенноточноеописаниезанятийЖене. [1963] Пер.НаталииКротовской НаталиСарротироман Новую разновидность дидактизма, утвердившуюся в понимании искусства, бесспорно, представляетсобой«современный»элементвискусстве.Егоглавнаядогма–мысльотом, что искусству надлежит эволюционировать. Его результат – произведение, главная цель которого сводится к развитию истории жанра, к техническому новаторству. Дух этого нового дидактизма превосходно выражен военизированными образами авангарда и арьергарда. Искусство – это армия, силами которой человеческое мировосприятие неумолимо продвигается к будущему, используя все более новые и более впечатляющие технические приемы. Это по большей части негативное отношение индивидуального таланта к традиции, положившее начало стремительному и неизбежному устареванию новыхтехническихприемовиновогоиспользованияматериалов,преодолелопредставление обискусстве,предлагающемзнакомоеудовольствие,ипривелоквозникновениюмножества произведений,преимущественнодидактическихиназидательных.Теперьвсякийзнает,что цель картины Дюшана «Обнаженная, спускающаяся с лестницы» не столько что-либо изобразить – и менее всего обнаженную, спускающуюся с лестницы, – сколько преподать урок того, как можно разложить естественные формы на ряд кинетических планов. Цель прозаических работ Стайн и Беккета продемонстрировать, как могут быть преобразованы стильречи,пунктуация,синтаксисипорядокповествования,чтобывыразитьнепрерывные безличные состояния сознания. Цель музыки Веберна и Булеза показать, как можно, например,развитьритмическуюфункциютишиныиструктурнуюрольразличныхтембров звука. Наиболееубедительнуюпобедусовременныйдидактизмодержалвмузыкеиживописи, где наибольшим уважением стали пользоваться произведения, доставляющие мало удовольствия при первом прослушивании или первом взгляде (если не считать узкой аудиторииспециалистов),нозначительнопродвинувшиевпередтехническуюреволюциюв этих областях искусства. По сравнению с музыкой и живописью роман, как и кино, безнадежнозастрялвтылу.Подразделение«сложных»романов,сопоставимыхсживописью абстрактного экспрессионизма и musique concrete, не захватило территорию литературы, снискавшейуважениекритиков.Напротив,бо́льшаячастьотважныхвылазокнапередовую модернизма не увенчалась успехом. По прошествии нескольких лет они воспринимаются простокакединственныевсвоемродепроизведения,однакоотрядыбойцовнеследуютза храбрым командиром и не оказывают ему поддержки. Хвалебные отзывы критиков достаются романам, сопоставимым по сложности и достоинствам с музыкой Джанкарло МеноттиикартинамиБернараБюффе.Доступностьиотсутствиеригоризма,смущающиев музыкеиживописи,невредятроману,которыйупорноплететсяварьергарде. Однако нет жанра, более нуждающегося в пересмотре и обновлении – будь то в форме искусства для среднего класса или какой-то иной. Роман (наряду с оперой) являет собой архетипическую форму искусства девятнадцатого века, великолепно выражающую исключительно земную концепцию реальности, с ее отсутствием по-настоящему амбициозной одухотворенности, открытием «интересного» (то есть обыденного, несущественного, случайного, незначительного, преходящего) и утверждением того, что Чоран называет «судьбой с маленькой буквы». Роман, как неустанно нам напоминают все восхваляющие его критики и поносящие современные писатели-отступники, рисует человека-в-обществе;онвызываеткжизникусокмираипомещаетвэтотмир«характеры». Разумеется,кто-томожетсчитатьроманнаследникомэпосаиплутовскогоромана.Однако всякий понимает, что это сходство поверхностно. Роман одушевляет нечто, напрочь отсутствовавшее в этих древних нарративных формах: открытие психологии, трансформацию побуждений в «переживания». Эта страсть к документированию «переживания»,кфактам,превратилароманвнаиболееоткрытуюизвсехформискусства. Любые формы искусства имплицитно используют стандарты того, что считать высоким, а что низким – за исключением романа. Он может вместить любой уровень языка, любой сюжет,любыеидеи,любуюинформацию.Иэтовитогепогубилоегокаксерьезнуюформу искусства. Рано или поздно пристрастные читатели должны были утратить интерес к очередному неспешному «рассказу», к очередному десятку частных жизней, выставленных напоказ.(Ониобнаружили,чтокиноделаетэтосбо́льшейсвободойиубедительностью.)В то время как музыка, пластические искусства и поэзия мучительно освобождались от устаревшихдогм«реализма»девятнадцатоговека,обнаруживаястрастнуюприверженность идее прогресса в искусстве и лихорадочно отыскивая новый стиль и новые материалы, роман оказался неспособным ассимилировать любые формальные и духовные притязания, осуществленные в его честь в двадцатом веке. Он опустился до уровня формы искусства, глубоко–еслинебезвозвратно–скомпрометировавшейсебясоюзомсобывательством. Когдавспоминаешьотакихгигантах,какПруст,Джойс,Жидв«ПодземельяхВатикана», Кафка,Гессев«Степномволке»иЖенеилиоменеекрупных,нопревосходныхписателях, таких как Машаду де Ассиз, Свево, Вулф, Стайн, ранний Натанаэл Уэст, Селин, Набоков, раннийПастернак,ДжунаБарнсв«Ночномлесе»,Беккет(еслиупомянутьлишьнекоторых), то вспоминаешь о писателях, лишь подошедших к открытию новой формы – у них нечему учиться, им невозможно подражать, ибо подражание несет в себе опасность простого повтора того, что ими уже сделано. Не знаешь, ругать или хвалить критиков за то, что происходит с этой формой искусства – во благо или во вред. Однако трудно не прийти к заключению, что роману как раз не удалось окончательно дистанцироваться от предпосылок девятнадцатого века и что ему необходимо это сделать, если он собирается неизменно (а не спорадически) оставаться серьезным видом искусства. (Пышный расцвет литературной критики в Англии и Америке, возникший тридцать лет назад сначала с критики поэзии, а затем и романа, отнюдь не повлек за собой подобной переоценки. Эта философски наивная критика слепо принимает «реализм», не задаваясь вопросом о его престиже.) Совершеннолетие романа повлечет за собой приверженность разного рода спорным понятиям наподобие идеи «прогресса» в искусстве и неприкрыто агрессивную идеологию, выраженнуювметафореавангарда.Этоограничиткругчитателейромана,ибопотребуетот них признать новые удовольствия, получаемые от беллетристики, – вроде удовольствия решать проблемы, – и овладеть наукой их получать. (К примеру, это может означать, что нампридетсячитатьнетолькопросебя,ноивслух,и,несомненно,будетозначать,чтонам понадобится не раз перечитать роман, чтобы понять его до конца или почувствовать себя вправе о нем судить. Мы уже не возражаем против того, чтобы несколько раз читать, смотретьилислушатьсерьезнуюсовременнуюпоэзию,живопись,скульптуруилимузыку.) И все, кому захочется серьезно заняться формой, намеренно станут эстетами, требовательнымиисследователями.(Все«современные»художники–эстеты.)Этототказот непременной легкости романа, необременительной доступности и сохранения устаревшей эстетики,несомненно,вызоветкжизнимножествоскучныхипретенциозныхкниг;икто-то захочет вернуться к прежней простоте. Но эту цену придется заплатить. Новое поколение критиков должно убедить читателей в необходимости такого шага, принудив их принять этот непривлекательный период развития романа с помощью разнообразной соблазнительной и временами не слишком честной риторики. И чем скорее это случится, темлучше. Покаунассуществуетнепрерывнаясерьезная«современная»традицияромана,дерзкие романисты будут работать в вакууме. (Неважно, назовут ли критики такую прозу романом или нет. Терминология не стала препятствием в живописи, музыке или поэзии, хотя мы склонны заменять слово «скульптура» такими словами, как «конструкция» или «ассамбляж».)Внашемпейзаже,подобноброшеннымтанкам,по-прежнемубудутвыситься чудовищныегромады.Примером–пожалуй,величайшимпримером–служат«Поминкипо Финнегану»,досихпорбольшейчастьюнепрочитанныеинечитабельные,оставленныена откупакадемическимтолкователям,которыеспособнырасшифроватьдлянаскнигу,ноне способны объяснить, почему мы должны ее читать или чему она нас может научить. ТребованиеДжойса,рассчитанноенато,чточитателипосвятятегокнигевсюжизнь,может показаться чрезмерным; но если принять во внимание уникальность его произведения, представляется логичным. К тому же судьба последней книги Джойса обусловила слепое принятие менее громоздких, но также лишенных фабулы произведений, впоследствии появившихся в Англии – вспомнить хотя бы книги Стайн, Беккета и Берроуза. Неудивительно, что на поле боя, где воцарилась зловещая тишина, последние представляютсяотдельнымибезуспешнымивылазками. Однако затем ситуация, похоже, начала меняться. Целая школа – не лучше ли сказать батальон?–важныхимногообещающихромановпоявиласьвоФранции.Здесьпереднами по сути два крыла. Во главе первого стояли Морис Бланшо, Жорж Батай и Пьер Клоссовский; бо́льшая часть их книг была написана в 1940-х годах и до сих пор не переведена на английский. Более известны, и в основном переведены, книги «второй волны», написанные в 1950-х (среди прочих) Мишелем Бютором, Аленом Роб-Грийе, КлодомСимономиНаталиСаррот.Всехэтихписателей,весьманепохожихдругнадругапо их намерениям и успеху, объединяет нечто общее: они отрицают идею «романа», задача которого рассказать историю и очертить характеры в соответствии с правилами реализма XIX века; к тому же все они отрекаются от того, что можно обозначить словом «психология». Пытаются ли они выйти за рамки психологии с помощью хайдеггеровской феноменологии(могучеевлияние)илиподсечьееспомощьюбихевиористского,внешнего описания,онидостигаютсхожихрезультатов–поменьшеймереотрицательных,–полагая заосновупроизведенияформуромана,чтообещаетсообщитьнамнечтополезноеоновых формах,которыеспособнаприниматьлитература. Возможно, самое ценное достижение в области романа, пришедшее из Франции – это множествокритическихработ,вдохновленныхновымироманистами(ивнекоторыхслучаях написанныхими),которыеможноназватьсамойвпечатляющейпопыткойсистематических размышлений об этом жанре. Эти работы – я имею в виду эссе Мориса Бланшо, Ролана Барта, Э. М. Чорана, Алена Роб-Грийе, Натали Саррот, Мишеля Бютора, Мишеля Фуко и других – сегодня являются самой интересной литературной критикой. И ничто не мешает романистамванглоговорящеммиревоспользоватьсяблестящимпересмотромпредпосылок романа в изложении этих авторов, однако работать над романом совершенно иначе, чем французы. Эти эссе могут оказаться ценнее самих романов по той причине, что в них предлагаются более широкие и более амбициозные стандарты, чем те, что достигнуты в произведениях любого писателя. (К примеру, Роб-Грийе признается, что его романы – неадекватнаяиллюстрациядиагнозовирекомендаций,изложенныхвегоэссе.) Вотпочему,намойвзгляд,важно,чтобысборникэссеНаталиСаррот«Эраподозрения», вкоторомполностьюизложенатеория,будтобылежащаявосновееероманов[23],вышелна английском языке. Неважно, любите ли вы романы Саррот, восторгаетесь ими или нет (лично мне по-настоящему нравятся только «Портрет неизвестного» и «Планетарий»), неважно, действительно ли она осуществляет то, что проповедует (сказать по правде, я думаю,чтонет),вэтихэссепредлагаетсякритикатрадиционногоромана,которая,намой взгляд, могла бы послужить хорошим началом для теоретического пересмотра, сильно запоздавшегопоэтусторонуАтлантики. Возможно,наилучшимподходомдляанглоговорящегочитателябылобысопоставление полемики Саррот с двумя другими манифестами о том, каким надлежит быть роману – «МистерБеннетимиссисБраун»ВирджинииВулфи«Фактвлитературе»МэриМаккарти. ОтказВирджинииВулфотнатурализмаиобъективногореализма,еепризывксовременным писателямисследовать«темныетайникипсихологии»[24]Саррототвергаеткак«наивный». Не менее строга она к позиции, представленной в эссе Мэри Маккарти, которую можно рассматривать как опровержение взглядов Вирджинии Вулф, к позиции, открыто призывающей вернуться к прежним романическим доблестям: изображать реальный мир, создаватьощущениеправдоподобияипридумыватьнезабываемыехарактеры. Аргументы Саррот, выдвинутые против реализма, убеждают. Реальность не столь определенна; жизнь не столь жизнеподобна. Немедленное и незатруднительное узнавание жизнеподобного в большинстве романов, вызывает – и должно вызывать – подозрение. (Бесспорно, миром, как говорит Саррот, овладел дух подозрения. А если не дух, то по меньшей мере неизлечимый порок.) Я искренне поддерживаю ее возражения против отжившегосвойвекромана:«Ярмаркатщеславия»и«Будденброки»,когдаяихперечитала, какимибывеликолепнымионимнеитеперьнипоказались,заставилименяпоморщиться.Я не могла смириться с тем, что всемогущий автор показывает мне, какова на самом деле жизнь, заставляя меня сострадать и лить слезы; не могла смириться с его необузданной иронией, с той убежденностью, с какой он внушает мне, что близко знаком со своими героями, заставляя меня, читателя, почувствовать, что я тоже с ними знакома. Я более не доверяюроманам,которыесполнаудовлетворяютмоюстрастькпониманию.Сарротправа и в том, что обветшалая машинерия, используемая для обстановки какой-либо сцены, для описанияиразвитияхарактеров,неоправдываетсебя.Кого,всущности,интересуетмебель в комнате такого-то, курил ли он сигарету, носил ли темно-серый костюм, открыл ли крышкупишущеймашинкипослетого,каксел,ипередтем,каквставилвнеелистбумаги? Великие фильмы показали, что кино умеет наделять чисто физическое действие – мимолетноеинезначительное,каксменапарикав«Приключении»,иливажное,какмарш по лесу в «Большом параде», – большей магией, чем это делают слова, и к тому же меньшимисредствами. Однако более сложным и проблематичным является утверждение Саррот о том, что психологический анализ в романе в равной мере устарел и вводит в заблуждение. «Слово “психология”, – говорит Саррот, – ни один современный писатель не может слышать не опустив глаза и не покраснев». Под психологией в романе она понимает Вулф, Джойса, Пруста: романы, исследующие субстрат тайных мыслей и чувств, лежащих в основе действия, описание которых вытесняет внимание к литературному герою и сюжету. Единственное, что Джойс поднял на поверхность из этих глубин, замечает она, это непрерывный поток слов. Пруст также потерпел поражение. В конце концов мельчайшие частицы, полученные Прустом в результате психологического вскрытия, сами по себе складываются в реалистические характеры, в которых опытный глаз читателя «тотчас признал бы богатого светского человека, влюбленного в содержанку, преуспевающего медика, глупца и невежу, буржуа-выскочку или высокомерную светскую даму, объединенных в обширную коллекцию романтических персонажей в его воображаемом музее». ВдействительностироманыСарротнетакужсильно,каконаполагает,отличаютсяот романов Джойса (и Вулф), а ее отрицание психологии далеко не полно. Она стремится именнокпсихологическому,но(ивэтомосноваеенедовольстваПрустом)безвозможности возвращенияназадк«характерам»и«сюжету».Сарротвыступаетпротивпсихологического вскрытия, ибо оно предполагает наличие тела, которое требуется вскрыть. Она против условной психологии, против психологии как нового средства достижения старых целей. Против использования психологического микроскопа время от времени, лишь в качестве средства развития сюжета. Это означает радикальную перестройку романа. Писатель должен не только не рассказывать историю; он должен не отвлекать читателя важными событиямивродеубийстваилибольшойлюбви.Чемболеемелкими,менеесенсационными будут события, тем лучше. (Так, роман «Мартеро» состоит из размышлений безымянного молодого человека, дизайнера интерьеров, об артистичной тетушке, богатом бизнесмене дядюшке, с которыми он живет, и пожилом, не столь состоятельном человеке по имени Мартеро,размышленийотом,почемуиприкакихобстоятельствахемуприятнонаходиться вихкомпании,атакжепочемуикогдаончувствует,чтоподдаетсявлияниюихличностейи окружающихихпредметов.Единственным«действием»книгиявляетсянамерениететушки и дядюшки купить загородный дом, и если на какое-то время возникает подозрение, что Мартеро обманывает дядю в вопросе с покупкой дома, то можно не сомневаться, что в концевсеподозрениярассеются.В«Планетарии»нечтовсежепроисходит.Честолюбивому молодому человеку, беззастенчиво пытающемуся пробиться в круг общения богатой, самодовольнойиоченьизвестнойженщины-писательницы,вконцеконцовудаетсяотнять пятикомнатную квартиру у своей доверчивой престарелой тетушки.) Однако персонажи Саррот никогда не действуют по-настоящему. Они строят планы, они трепещут, они содрогаются – под действием мелочей повседневной жизни. Истинной темой ее романов является эта подготовка и осторожный поиск действия. Поскольку анализ – то есть повествование и толкование от лица автора – отброшен, романы Саррот, естественно, пишутсяотпервоголица,дажекогдавнутренняянеобходимостьзаставляетееиспользовать местоимения«она»или«он». То,чтопредлагаетСаррот–этороман,написанныйвформенепрерывногомонолога,в котором диалог между персонажами служит функциональным дополнением монолога, «реальная» речь – продолжением речи про себя. Она называет этот вид беседы «подразговором».Егоможносравнитьсосценическимдиалогом,происходящимбезавторского вмешательстваитолкования,однако,вотличиеотпоследнего,оннеразделеннарепликии неприписанотдельнымперсонажам.(Сарротупотребляетчрезвычайноедкиенасмешливые словечки по поводу скрипучих «он сказал», «она ответила», «такой-то заявил», которыми пересыпано большинство романов.) Роману нужен диалог «сотрясаемый и раздуваемый этимидвижениями,которыележатвегоосновеидвигаютвперед».Романуследуетотречься отметодовклассическойпсихологии–анализа–ивместоэтогообратитьсякпогружению. Он должен погрузить читателя «в поток тех подспудных драм, которые Пруст имел время лишь бегло очертить и которые он наблюдал [с высоты] и воспроизводил лишь в виде широкихнеподвижныхлиний».Романдолженрегистрироватьбезкомментариевпрямойи чисто сенсорный контакт с вещами и людьми, который испытывает «я» писателя. Воздерживаясьотсозданиявсякогоподобия(Саррот оставляетэто кинематографу), роман должен сохранить и усилить «ту часть неопределенности, ту непрозрачность и таинственность,которуювсегдаимеютэтидействиядлятого,ктозаниминаблюдает». Впрограмме,предложеннойСарротдляромана,естьнечтовселяющеебодрость,ибов ней утверждается безграничное уважение к сложности человеческих чувств и ощущений. Однако, на мой взгляд, ее аргументация грешит некоторой мягкостью, основанной к тому же на крайне доктринерском и одновременно двусмысленном понимании психологии. Точка зрения, согласно которой «старания Генри Джеймса или Пруста разобрать хрупкие винтикинашихвнутреннихмеханизмов»уподобляютсяработекиркойилопатой,воистину являет блестящий уровень психологической утонченности. Кто станет возражать Саррот, когдаонаописываетчувствакакогромнуюподвижнуюмассу,вкоторойможнообнаружить чтоугодно;иликогдаговорит,чтовсееедвижениянеможетобъяснитьниоднатеория,и менеевсегонекийкод,наподобиепсихоанализа?ОднакоСарротнападаетнапсихологиюв романевоимялучшей,болеесовершеннойтехникипсихологическогоописания. Ее взгляды на сложность чувств и ощущений – это одно, другое дело ее программа по реформированию романа. Все описания мотивации, бесспорно, страдают упрощением. Но даже если это так, у писателя, помимо поиска более утонченного способа изображения мельчайших побуждений, остается множество других возможностей. К примеру, определенные виды общего впечатления – напрочь исключающие описание мельчайших оттенков чувств, – на мой взгляд, предлагают по меньшей мере столь же действенное решение поднимаемой Саррот проблемы, как и совершенствование техники диалога и повествования,выдаваемоееюзалогическоеследствиесвоейкритики.Возможно,характер – это (как настаивает Саррот) океан, место слияния водяных потоков, течений и водоворотов, однако преимущество погружения мне не очевидно. Подводное плавание имеет место, но есть еще океаническая картография, которую Саррот презрительно отвергает как «взгляд с высоты». Человек – существо, которому предначертано жить на поверхности; он селится в глубинах – земных, океанских или психологических – себе на погибель.ЯнеразделяюпрезренияСарроткпопыткамписателяпреобразоватьводянистые бесформенные глубины опыта в твердое вещество, зафиксировать его очертания, придать миру определенную форму и объем, воспринимаемые чувствами. Само собой разумеется, делатьэтопрежнимспособомскучно.Ноянесоглашусь,чтоэтоневозможносделатьвовсе. Саррот призывает писателя сопротивляться желанию развлекать, менять и поучать своих современников или бороться за их освобождение; он должен просто, без прикрас, не смягчая и не преодолевая противоречий, представить «реальность» (слово, употребленное Саррот) такой, какой ее видит, с той искренностью и остротой зрения, на которую способен.Здесьянестануобсуждатьвопросотом,долженлироманразвлекать,менятьили поучать (почему бы и нет, коль скоро он произведение искусства?), лишь укажу на то, насколько предвзято предлагаемое ею определение реальности. Реальность для Саррот означаетреальность,освобожденнуюот«шелухипредвзятыхидейиизбитыхобразов».Она противостоит «поверхностной реальности, которую любой замечает без труда и которой каждыйпользуетсязанеимениемлучшего».ПомнениюСаррот,писатель,чтобыустановить контакт с реальностью, должен «добраться до чего-то еще неизвестного, что, как ему кажется,впервуюочередьдостойновнимания». Нокаковацельэтогоумноженияреальностей?Ибо,поправдеговоря,Сарротследовало бы употребить множественное, а не единственное число. Если каждый писатель «должен вытащить на свет свою часть реальности» – поскольку все киты и акулы уже занесены в каталог, она охотится за новой разновидностью планктона, – писатель оказывается не только творцом таких частей, но обречен описывать лишь то, что коренится в его собственной субъективности. Когда он выходит на литературное поприще, неся в руках сосуд с образцами микроскопических морских организмов, еще не занесенных в каталог, должны ли мы приветствовать его во имя науки? (Писатель как морской биолог.) Или спорта? (Писатель как глубоководный ныряльщик.) Достоин ли он аудитории? Сколько частейреальностинеобходимочитателямроманов? Обращаясь к понятию реальности как таковой, Саррот на деле сузила и обеднила свои доказательства, безо всякой на то необходимости. Метафору произведения искусства как отраженияреальностиследуетнавремяоставить.Онавсвоевремясослужиласлужбупри анализе произведений искусства, но сегодня вряд ли поможет нам ответить на важные вопросы. Результат рассуждений Саррот неутешителен – она продлевает жизнь унылым альтернативамсубъективностивпротивовесобъективности,оригинального–впротивовес уже сложившемуся и готовому. Неясно, почему с помощью новых средств писатель не может преобразовать то, что всем уже известно, при этом ограничившись как раз сложившимисяпредставлениямииготовымиобразами. Приверженность Саррот довольно бессодержательному понятию реальности (реальности, скорее, лежащей в глубине, чем на поверхности) также объясняет излишне суровыйтонееувещеваний.Еехолодныйотказпризнатьзаписателемправодаритьсвоим читателям «эстетическое удовольствие» чисто риторичен и глубоко несправедлив к той позиции, талантливой представительницей которой она сама отчасти является. Писатель, говорит она, должен подавить в себе «всякое стремление пользоваться хорошим стилем просто ради удовольствия это делать, ради того, чтобы доставить себе и читателям эстетическое удовольствие». Стиль «может быть красивым лишь в том смысле, в каком красивжестатлета:темкрасивее,чемлучшеслужитонсвоейцели».Напомним,цельавтора – зафиксировать восприятие незнакомой реальности. Однако нет никакой причины приравнивать «эстетическое удовольствие», которое по определению должно доставлять любое произведение искусства, к понятию поверхностного, декоративного, всего лишь «красивого»стиля…ЗаобразецроманаСарротнасамомделепринимаетнаукуили,вернее, спорт. Окончательным оправданием поисков писателя, как их определяет Саррот – того, что, на ее взгляд, освобождает роман от всех моральных и социальных целей, – служит стремлениекистине(илиеечасти),каквнауке,атакжепрофессиональныйтренинг,какв спорте.Впринципе,такиеобразцыневызываютвозражений,еслибынезначение,которое импридаетСаррот.Несмотрянавсюобоснованностьеекритикиустаревшегоромана,она по-прежнемусчитает,чтописательдолжензаниматьсяпоисками«истины»и«реальности». Таким образом, в итоге можно заключить, что манифест Саррот дает незаслуженно заниженную оценку позиции, которую она защищает. Более точное и более глубокое описание этой позиции можно найти в сборниках эссе Роб-Грийе «О нескольких устаревших понятиях» и «Природа, гуманизм, трагедия». Они появились соответственно в 1957 и 1958 годах, тогда как работы Саррот, опубликованные между 1950 и 1955 годами, вышликнигойв1956-м;ктомужеРоб-ГрийецитируетСарроттакимобразом,чтоможно принятьегозапоследующеговыразителятойжепозиции.Однакосложнаякритикапонятий трагедии и гуманизма, предложенная Роб-Грийе, неизменная ясность, с которой он опровергает избитое противопоставление формы содержанию (к примеру, его готовность заявить, что роман, коль скоро он принадлежит к сфере искусства, не имеет содержания), совместимость его эстетики с техническими инновациями в области романа, совершенно иными, чем избранные им самим, ставят его аргументацию на гораздо более высокий уровень,чемуСаррот.ЭссеРоб-Грийепо-настоящемурадикальныи,еслипринятьхотябы одно из его допущений, звучат убедительно. Эссе Саррот, помогающие ввести образованного англоговорящего читателя в круг появившейся во Франции серьезной критикитрадиционногоромана,витогенедаютпрямыхответовиведутккомпромиссу. Несомненно, многие почувствуют, что перспективы развития романа, намеченные французскими критиками, довольно безрадостны; этим людям захочется, чтобы отряды искусства по-прежнему сражались на других фронтах, оставив роман в покое. (Так, некоторым из нас хотелось бы иметь гораздо менее мучительное психологическое самосознание,лежащеетяжкимбременемнаобразованныхлюдяхнашеговремени.)Однако роман как форма искусства ничего не потеряет и многое приобретет, присоединившись к революции, которая уже разразилась в большинстве других видов искусства. Для романа настало время стать тем, чем он, за редким исключением, не является ни в Англии, ни в Америке: формой искусства, которую люди со строгим взыскательным вкусом могут восприниматьвсерьез. [1963;переработанов1965] Пер.НаталииКротовской III Ионеско Вполне закономерно, что драматург, чьи лучшие произведения воспевают банальность, создалкнигуотеатре,изобилующуюбанальностями[25].Приведуздесьслучайныецитаты: Склонность к нравоучениям зависит, прежде всего, от склада ума и стремления возвыситься. Произведениеискусства–это,преждевсего,интеллектуальнаяавантюра. Говорят, Борис Виан написал своих «Строителей Империи» под влиянием моего «Амедея». На деле, никто ни на кого не оказывает влияния, кроме собственного «я» и собственнойболи. Яотмечаюкризисмысли,которыйпроявляетсявкризисеязыка;словабольшеничего незначат. Ниоднообществоневсостоянииуничтожитьпечальчеловека,ниоднаполитическая системанеможетизбавитьнасотболибытия,отнашегострахасмертиинашейжажды абсолюта. Что можно подумать о подобных разглагольствованиях, возвышенных и в то же время банальных? Словно этого мало, эссе Ионеско отличают подробные разъяснения и неприкрытоетщеславие.Вот,снованевыбирая: Уверен,чтонипублика,никритикинеоказалинаменявлияния. Возможно,я,вопрекисамомусебе,проявляюинтерескобществу. Любаямояпьеса–результатсвоеобразногосамоанализа. Янегожусьвидеологи,потомучтооткровенениобъективен. Янедолженбылбысильноинтересоватьсямиром.Но,долженпризнаться,япросто одержимим. И так далее, и тому подобное. Эссе Ионеско о театре исполнены такого, по-видимому неосознанного,юмора. Несомненно, в «Заметках и Опровержениях» есть мысли, которые сто́ит воспринимать всерьез, но это не оригинальные мысли Ионеско. Одна из них – мысль о театре как инструменте, который, разрушая реальность, обновляет смысл существующего. Такая функциятеатрапрямоговоритнетолькооновойдраматургии,ноиопьесахновоготипа. «Покончитьсшедеврами»,–провозгласилАртов«Театреиегодвойнике»,самомсмеломи самом глубоком манифесте современного театра. Подобно Арто, Ионеско отвергает «литературный»театрпрошлого:ШекспираиКлейстаемунравитсячитать,нонесмотреть их пьесы на сцене, а Корнель, Мольер, Ибсен, Стриндберг, Пиранделло, Жироду и иже с нимискучныемувлюбомвиде.Еслижевообщеставитьстаромодныепьесы,Ионеско,каки Арто, предлагает некую хитрость. Следует играть «вопреки» тексту, имплантируя серьезную, строгую постановку в абсурдный, дикий, комический текст либо трактуя глубокомысленный текст в духе буффонады. Наряду с отказом от литературного театра – театрасюжетаиотдельныхгероев–Ионескопризываеттщательноизбегатькакойбытони было психологии, поскольку психология означает «реализм», а реализм скучен и не дает простора воображению. Отказ Ионеско от психологии позволяет возродить схему, общую для нереалистических театральных традиций (это соответствует фронтальному, плоскостному изображению в наивной живописи), когда герои, повернувшись лицом к зрителям(анедругкдругу)оглашаютсвоиимена,отличительныечерты,привычки,вкусы, действия… Все это, разумеется, легко узнаваемо: это канонический стиль современного театра. Большинство интересных идей в «Записках и Опровержениях» – это разбавленный Арто, или, скорее, принаряженный и располагающий к себе, очаровательный; Арто без своей ненависти, Арто без своего безумия. Ионеско ближе всего к оригинальности в отдельных замечаниях о юморе, который он понимает, в то время как бедный безумный Арто не понимал вовсе. Принадлежащая Арто концепция «театра жестокости» особо подчеркивала темные регистры воображения: безумные зрелища, мелодраматические действия,кровавыевидения,вопли,сильныеэмоции.Ионеско,замечая,чтолюбаятрагедия превращается в комедию при простом ускорении действия, сам был приверженцем жестокой комедии. Действие большинства его пьес происходит в гостиной, а не в пещере илидворце,иливхраме,илинавересковойпустоши.Сфераегокомизмаэтобанальностьи гнетущаяатмосфера«до́ма»–будьтомеблированнаякомнатахолостяка,кабинетученого, небольшая гостиная супружеской пары. Под проявлениями обыденной жизни, показывает Ионеско,лежитбезумие,разрушениеличности. На мой взгляд, пьесы Ионеско почти не нуждаются в объяснениях. Если кому-то требуется оценка им написанного, то прекрасная небольшая монография Ричарда Коу об Ионеско,изданнаяв1961годувбританскойсерии«Писателиикритики»,скажетвзащиту этихпьескудаболеесвязноисжато,чемчто-либов«ЗаметкахиОпровержениях».Интерес к высказываниямИонескоо себеобусловленнеего теорией театра, а тем,чтоегокнижка наводит на мысль о порази тельной худосочности пьес Ионеско – поразительной, если учесть разнообразие их тем. Многое говорит сам тон книги. Потому что сквозь неослабевающий эготизм заметок Ионеско о театре – намеки на бесконечные сражения с недалекими критиками и тупыми зрителями – проглядывает явная печаль и тревога. Ионеско беспрестанно протестует, считая, что был неправильно понят. По этой причине все,чтоонговоритводномместе«ЗаметокиОпровержений»,онберетназаднаследующей странице. (Хотя эти заметки охватывают период с 1951 по 1961 годы, в аргументации нет развития.) Его пьесы принадлежат театру авангарда, театра авангарда не существует. Он пишетсоциальнуюкритику,оннепишетсоциальнойкритики.Онгуманист,онморальнои эмоциональноотдаляетсяотгуманизма.Ионесковсевремяпишеткакчеловек,уверенный– что бы вы о нем ни сказали, что бы он сам о себе ни сказал – в одном: его подлинное дарованиеостаетсянепонятым. В чем состоят достижения Ионеско? Он написал, если судить по самым строгим критериям, одну действительно замечательную и прекрасную пьесу, «Жак, или Повиновение» (1950); одну менее блестящую вещь, «Лысая певица», свою первую пьесу (написана в 1948–49); и несколько эффектных коротких пьес, содержащих язвительный повтортогожематериала,«Урок»(1950),«Стулья»(1951)и«Новыйжилец»(1953).Всеэти пьесы – а Ионеско плодовитый писатель – это «ранний» Ионеско. В более поздних вещах видны нечеткость целей драмы и растущее, все более тяжеловесное самомнение. Эта нечеткость ясно видна в «Жертвах долга» (1952), пьесе, местами очень сильной, но, к сожалению,перегруженнойподробностями.Илиможносравнитьеголучшуюпьесу,«Жак», с коротким продолжением, где действуют те же герои, пьесой «Будущее в яйцах» (1951). «Жак» полон прекрасной язвительной фантазии, оригинальной и логичной; эта вещь, единственная из всех пьес Ионеско, удовлетворяет стандарту Арто: театр жестокости как комедия. Но в «Будущем в яйцах» Ионеско вступает на гибельный путь: последние его работы исполнены сетований относительно «взглядов», а герои выражают озабоченность состоянием театра, природой языка и так далее. Ионеско, несомненно, одаренный художник, одержимый «идеями». Его работы этими идеями перенасыщены, а талант огрублен. В «Заметках и Опровержениях» мы видим то же бесконечное толкование себя, пьеса «Импровизация» целиком посвящена самооправданию Ионеско как драматурга и мыслителя, «Жертвы долга» и «Амедей» полны назойливых ремарок относительно драматургии,ав«Убийце»и«Носорогах»критикаобществанепомерноупрощена. Оригинальным художественным импульсом Ионеско было его открытие поэзии банальности. Его первая пьеса, «Лысая певица», по собственному признанию автора, появилась, можно сказать, неожиданно, когда он, начав изучать английский по учебнику издательства«Ассимиль»,обнаружилтамдвасемейства,СмитиМартен.Всепоследующие пьесы Ионеско продолжают, так или иначе, жонглировать клише. В расширительном смыслепоэзияклишеведеткоткрытиюпоэзиибессмыслицы–обратимостилюбогословав другое(например,бесконечноеповторениеслова«кот» взаключительнойсцене«Жака»). Считается, что ранние пьесы Ионеско написаны «о» бессмыслице или «о» некоммуникабельности. Но здесь упущен важный факт: в большинстве случаев в современном искусстве на самом деле нельзя больше говорить о содержании в прежнем смысле. Скорее, содержанием здесь становится техника, прием. Ионеско – и с большим мастерством – приспосабливает к театру одно из великих технических открытий современнойпоэзии,аименно:языккактаковойможетбытьрассмотренснаружи,какбы иностранцем. Ионеско раскрывает драматические возможности такого подхода, давно известного, но до тех пор относимого исключительно к поэзии. Его ранние пьесы не «о» бессмыслице.Этопопыткаиспользоватьбессмыслицусценически. Открытие клише означало, что Ионеско отказывается рассматривать язык как инструменткоммуникацииилисамовыражения,авидитвнем,скорее,некуюсубстанцию, утаиваемую – в каком-то трансе – вполне взаимозаменимыми людьми. Его следующее открытие,такжедавноизвестноевсовременнойпоэзии,состояловтом,чтоонобращается с языком как с осязаемой вещью. (Скажем, в пьесе «Урок» учитель убивает ученицу с помощьюслова«нож».)Ключктому,чтобыпревратитьязыкввещь,лежитвповторении. Это словесное повторение еще усиливается благодаря другому постоянному мотиву пьес Ионеско: злокачественному, иррациональному разрастанию существующих предметов (скажем, яйцо в пьесе «Будущее в яйцах», стулья в «Стульях», ящики в «Бескорыстном убийце»,чашкив«Жертвахдолга»,носыипальцыРобертыIIв«Жаке»,трупв«Амедее,или Какотнегоизбавиться»).Отэтихповторяющихсяслов,этихразмножающихсявещейможно освободитьсятолькокаквосне,уничтоживих.Логически,поэтически–анеиз-закаких-то «идей»,существовавшихуИонескоотносительноприродыличностииобщества,–егопьесы должны заканчиваться либо повторением da capo, либо невероятным насилием. Вот несколько концовок пьес: избиение зрителей (один из вариантов концовки «Лысой певицы»), само убийство («Стулья»), погребение и тишина («Новый жилец»), невнятные или животные звуки («Жак»), безобразное физическое насилие («Жертвы долга»), обрушение сцены («Будущее в яйцах»). Повторяющийся кошмар в пьесах Ионеско – это совершенно замусоренный, переходящий все пределы мир. (Кошмар становится явью, воплощаясь в мебели, как в «Новом жильце», или в носорогах, как в одноименной пьесе.) Так что пьесы должны заканчиваться либо хаосом и небытием, либо разрушением или тишиной. Этиоткрытияпоэзииклишеиязыка-как-вещидалиИонескоудивительныйтеатральный материал.НоспоявлениемидейвпьесахИонескопоселиласьтеорияотносительносмысла этого театра бессмыслицы. Появились ссылки на самый модный современный опыт. Ионеско и его поклонники утверждали, что его опыт начался с ощущения бессмыслицы современногосуществованияичтоеготеатрклишеразвился,дабыэтовыразить.Но,скорее, онначалсоткрытияпоэзиибанальности,азатем,увы,развилтеорию,котораямоглабыего подкрепить. Эта теория сваливает в кучу самые закоснелые клише критиков «массового общества»–отчуждение,стандартизация,дегуманизация.Врезультате,чтобывыразитьэту ужасающезатертуюнеудовлетворенность,Ионескоиспользуетсвоелюбимоебранноеслово «буржуазный», иногда «мелкобуржуазный». «Буржуазный» в понимании Ионеско имеет малообщегосизлюбленноймишеньюлевойриторики,хотя,возможно,онпочерпнулэтот термин именно оттуда. Для Ионеско «буржуазный» означает все то, что он не любит: означает «реализм» в театре (наподобие того, как Брехт употреблял слово «аристотелевский»); означает идеологию, означает конформизм. Разумеется, все это не имело бы значения, если бы речь шла лишь о высказываниях Ионеско по поводу собственного творчества. Но важно, что это стало все глубже проникать в само его творчество. Ионеско все больше стремится без всякого стеснения «дать понять» что он делает. (Вздрагиваешь, когда в финале «Урока» учитель надевает повязку со свастикой, собираясь унести труп ученицы.) Ионеско начал с фантазий, с видения мира, населенного языковымимарионетками.Онничегонекритиковал,ещеменьшераскрывалто,чтовсвоем раннем эссеназвал«трагедией языка».Онпросто открылодинизспособов,какимможно употреблять язык. Только потом последовал целый ряд грубых, упрощенческих заявлений, вытекающих из этого художественного открытия – заявлений относительно современной стандартизацииидегуманизациичеловека,сложенныхкногамнабитогоопилкамилюдоеда по имени «буржуазный», «общество» и т. д. Еще позже пришло время утверждения отдельной личности, противостоящей этому ярмарочному великану. Таким образом, творчество Ионеско прошло два знакомых и достойных сожаления этапа: сначала – антитеатр, пародия; затем социально сконструированные пьесы. Последние слабоваты. Но слабее всего пьесы о Беранже – «Бескорыстный убийца» (1957), «Носороги» (1960) и «Воздушныйпешеход»(1962),гдеавтор,поегословам,создаетБеранжекакalterego,как рядовогоимярека,преследуемогогероя,человека,стремящегося«слитьсясчеловечеством». Бедавтом,чтотакойчеловекпростонеможетбытьвостребованниэтикой,ниискусством. Аесливостребован,торезультатполучаетсянеубедительнымипретенциозным. ЗдесьИонескоидетвнаправлениипрямопротивоположномБрехту.РанниевещиБрехта –«Ваал»,«Вджунгляхгородов»–уступаютместо«утверждающим»пьесам,егошедеврам: «ДобрыйчеловекизСезуана»,«Кавказскиймеловойкруг»,«МамашаКуражиеедети».Но– вневсякойсвязистеориями,которыекаждыйизнихисповедовал,–Брехтпростописатель большегомасштаба,чемИонеско.Разумеется,онпредставляетсяИонескоархибуржуазным, архизлодеем.Онсвязансполитикой.НонападкиИонесконаБрехтаибрехтианцев–ина идею политически ангажированного искусства – тривиальны. Политические позиции Брехта, самое большее, лежат в основе его гуманизма. Позволяют ему сфокусировать и развернуть драму. Выбор, на котором настаивает Ионеско, выбор между политическим утверждениемиутверждениемчеловеческого,ложный,акрометого,опасный. ПосравнениюсБрехтом,ЖенеиБеккетом,Ионеско-писательменьшегомасштабадаже в лучших своих вещах. Его работы не обладают их весом, полнокровностью, их великолепием и насущностью. Пьесы Ионеско, в особенности короткие (в этой форме его дар находит наиболее полное выражение), обладают несомненными достоинствами: очарование, остроумие, превосходное ощущение макабра и, помимо всего прочего, театральность. Но его повторяющиеся темы – люди, выпавшие из обоймы, чудовищное разрастаниевещей,ужас«единениядуш»–редкотактрогают,такужасают,какмоглибы. Возможно, потому что – за исключением «Жака», где Ионеско дает волю воображению – ужасное у него всегда так или иначе оттесняется привлекательным. Болезненные фарсы Ионеско – это бульварные комедии, отличающиеся авангардной восприимчивостью; как указывал один английский критик, на деле фантазии Ионеско о конформизме мало чем отличаютсяотфантазийФейдообадюльтере.Обаониискусны,холодныипоглощенылишь самимисобой. Нечего и говорить, пьесы Ионеско – и его статьи о театре – содержат пылкие пустые слова об эмоциях. Так, о «Лысой певице» Ионеско говорит, что эта пьеса о «разговорах и беседах ни о чем из-за отсутствия какой бы то ни было внутренней жизни». Смиты и Мартены предстают как люди, совершенно поглощенные социальным контекстом, «забывшие смысл эмоций». Но как тогда быть с многочисленными упоминаниями в «Заметках и Опровержениях» относительно неспособности самого автора чувствовать – неспособности,которая,поегомнению,неделаетегочеловекоммассы,аосвобождаетот этого? Им движет не протест против бесстрастности, но род мизантропии, которую он скрывает за модными клише культурной диагностики. Мировосприятие, характерное для такого театра, настороженно, замкнуто на себе и пронизано сексуальным отвращением. Отвращение – мощный двигатель в пьесах Ионеско: без этого чувства написанные им комедиипопроступротивнынавкус. Отвращение к человеческой природе – вполне достойный материал для искусства. Но отвращениекидеям,высказываемоечеловекомбезбольшоготалантавчастиидей,совсем другое. Это вредит многим пьесам Ионеско, а сборник его статей, посвященных театру, делает не столько занимательным, сколько вызывающим раздражение. С отвращением воспринимаяидеикакещеодномерзкоезлокачественноесоциальноеразрастание,Ионеско неоставляетэтутемувсвоеймногословнойкниге,одновременнодопускаяиотрицаявсеее положения. Сквозная тема «Заметок и Опровержений» – попытка отстоять положение, которое не является положением, взгляд, который не является взглядом, – одним словом, попытка быть интеллектуально неуязвимым. Но это невозможно, поскольку вначале Ионеско воспринимает идею только как клише: «системы мышления, обступающие нас со всехсторон,представляютсобойнеболеечемалиби,нечто,скрывающеереальность»(еще одно слово-клише). В ходе отвратительного жонглирования доказательствами идеи какимто образом отождествляются с политикой, а вся политика в целом отождествляется с фашистским кошмарным миром. Когда Ионеско говорит: «Я верю, что все, что отделяет каждого из нас от другого, это просто само общество, или, если хотите, политика», он выражает скорее свой антиинтеллектуализм, чем позицию в отношении политики. Это особенно ясно ощущается в самом интересном разделе книги, в так называемой «Лондонской полемике», где содержатся впервые опубликованные в английском еженедельникеTheObserver в 1958 году эссе и письма, которыми Ионеско обменивался с Кеннетом Тайненом, представлявшим, насколько можно судить, брехтианскую точку зрения,ВысшейточкойвэтойполемикебылозамечательнокрасноречивоеписьмоОрсона Уэллса,которыйуказывал,чторазделениеискусстваиполитикинеможетвозникнуть,тем болеепроцвести,нигде,заисключениемопределенноготипаобщества.КакнаписалУэллс: «Все ценное оказывается несколько залежалым», и все свободы – включая привилегию Ионеско пожимать плечами при упоминании политики – «бывали, в то или иное время, политическими достижениями». «Не политика является заклятым врагом искусства, а безразличие… [это] политическая позиция, как любая другая… Если мы действительно обречены, пусть мсье Ионеско продолжает бороться со всеми нами. Ему должна придать смелостинашабанальность». Что огорчительно у Ионеско, так это характерное для него интеллектуальное самодовольство.Янеимеюничегопротивпроизведенийискусства,вкоторыхнетникаких идей вообще; напротив, большинство величайших произведений принадлежит именно к ним. Возьмите фильмы Одзу, пьесу Жарри «Убю – король», набоковскую «Лолиту», «Богоматерь цветов» Жене – если обратиться к современным примерам. Но интеллектуальная пустота это одна (зачастую весьма полезная) вещь, а отказ от интеллектуальности – другая. В случае Ионеско интеллект, от которого отказались, неинтересен, поскольку видит мир всего лишь как оппозицию совершенно чудовищного и совершенно банального. Сначала мы можем получить удовольствие от чудовищности чудовищного,ноподконецостаемсясбанальностьюбанального. [1964] Пер.ВалентиныКулагиной-Ярцевой Размышленияо«Наместнике» Величайшее трагическое событие современности – уничтожение шести миллионов европейскихевреев.Вэпоху,неиспытывавшуюнедостаткавтрагедиях,этособытиесвоим масштабом, содержанием, исторической значимостью и полной непроницаемостью заслуживает большего, чем те или иные незавидные почести. Оно сопротивляется пониманию. Убийство шести миллионов евреев невозможно объяснить личными или общественнымистрастями,ошибкой,безумием,моральнымкрахом,действиемнепомерных и непреодолимых социальных сил. Через двадцать лет оно вызывает больше споров, чем прежде.Чтоэтобыло?Каконопроизошло?Какможнобылопозволитьемупроизойти?Кто занеговответе?Этогигантскоесобытие–неизлечимаярана;намотказанодажевбальзаме понимания. Узнай мы о случившемся больше, одного этого знания нам было бы недостаточно. Называя это событие трагическим, мы нуждаемся не только в понимании исторических фактов. Под трагическим я имею в виду событие, доходящее до пределов ужаса и сострадания,–событие,чьипричинывыходятзапростыеипривычныерамки,чьяприрода примераинаставлениянакладываетнавыжившихвысокийдолгвстатьпереднимлицомк лицу и усвоить его смысл. Называя убийство шести миллионов людей трагедией, мы признаем, что для его осознания нам недостаточно ни интеллектуальных мотивов (узнать, что и как произошло), ни мотивов моральных (найти преступников и предать их правосудию).Мыпризнаем,чтоэтособытиевкаком-тосмысленеподдаетсяпониманию.В конечном счете единственный ответ с нашей стороны – по-прежнему держать его в уме, помнить. Эта способность брать на себя груз памяти – вещь не всегда удобная. Иногда воспоминание смягчает боль или вину, иногда обостряет их. Часто способность помнить вообще не сулит ни малейших благ. Но мы можем почувствовать, что поступать так правильно,чтоделатьтакнужноиверно.Иэтаморальнаязначимостьпамятинесовпадает снепохожимидругнадругамирамизнания,действияиискусства. Мыживемвовремена,когдатрагедияпредставляетсобойнеформуискусства,аформу истории. Драматурги больше не пишут трагедий. Но и сейчас существуют произведения искусства (их не всегда признают таковыми), которые отражают или пытаются разрешить великие исторические трагедии нашего времени. Среди непризнанных художественных форм,изобретенныхилиусовершенствованныхдляподобныхцелей,–психоаналитический сеанс, парламентские слушания, политическое ралли, политический суд. А поскольку величайшимтрагическимсобытиемсовременностиостаетсяуничтожениешестимиллионов европейских евреев, одним из самых интересных и волнующих произведений искусства за последнее десятилетие стал судебный процесс 1961 года над Адольфом Эйхманом в Иерусалиме. Как отмечала Ханна Арендт и другие, юридические основы суда над Эйхманом, значимость всех представленных доказательств и законность ряда процедур могли быть, если оставаться в строгих рамках закона, оспорены. Но истина заключалась в том, что процесс над Эйхманом не подчинялся и не мог подчиняться лишь юридическим меркам. Перед судом предстал не один Эйхман. Он выступал на суде в двух ролях: единичной и обобщенной, – как человек под гнетом особой, чудовищной вины и как фикция, выступающая символом всей истории антисемитизма, которая достигла пика в этом невообразимомактемассовогоуничтожения. Темсамымпроцесссталпопыткойсделатьнепостижимоепонятным,онбылподчинен этойцели.ИкогданевозмутимыйЭйхманвкруглыхочочкахсиделзапуленепробиваемым стекломвсвоейклетке,молчаливый,нодлявсехприсутствующихвыглядевшийкакоднаиз пронзительных и беззвучных фигур на полотнах Фрэнсиса Бэкона, в зале разворачивалась гигантскаязаупокойнаяслужба.Грудыфактовобуничтоженииевреевгромоздилисьперед присутствующими;надзаломвиселмощныйгулисторическойагонии.Нужнолиговорить, что все это не было только юридической процедурой доказательства. По воздействию суд напоминалтрагическуюдраму:черезпреступлениеинаказаниевелккатарсису. Совершенно современное переживание, которое вызывал суд, было без сомнения подлинным,однакостараясвязьмеждутеатромизаломсудауходиткорнямикудаглубже. Суд–это,конечноже,театральныйжанр(ведьипервоевисторииописаниесудавосходитк драме, а именно к «Эвменидам» – третьей части эсхиловской трилогии «Орестея»). А посколькусуд–театральныйжанр,тоитеатр–этозалсуда.Классическаяформадрамы– всегдашнеесоперничествопротагонистаиантагониста;пьесаразрешается«вердиктом»по поводу произошедшего. Любая из сценических трагедий принимает эту форму суда над протагонистом; особенностьтрагическойразновидностисудилищав том,чтогеройможет проигратьдело(тоестьбытьосужденным,обреченнымнамуки,погибнуть)итемнеменее иногдапобеждает. СуднадЭйхманомоказалсяименнотакойдрамой.Сампосебеонбылнетрагедией,а попыткой в форме драмы разрешить и преодолеть трагическую ситуацию. Был, в глубочайшем смысле слова, театром. А значит, его нужно судить по другим меркам, не сводимым к законности и морали. И поскольку его целью было не просто историческое дознание о фактах, попытка определить вину и назначить соответствующее наказание, процесснадЭйхманомневовсем«удался».Ноцентральнойпроблемойэтогопроцессабыл не дефицит законности, а противоречие между юридической формой и драматической функцией. Как отмечал Гарольд Розенберг: «Судебный процесс принял на себя функцию трагической поэзии – он должен был воскресить в сознании душераздирающее и чудовищное прошлое. Но ему пришлось исполнять эту функцию на сцене мира, подчиненного кодексу практической пользы». Таков был основополагающий парадокс процессанадЭйхманом:задуманныйкаквеликийактосуждениячерезпризывкпамятии возрождение скорби, он тем не менее принял форму правовой процедуры и научной объективности. Судебное разбирательство – это такая драматическая форма, которая придает событиям некую условную нейтральность; исход не предрешен, и сам термин «ответчик» предполагает, что ответ возможен. И хотя Эйхман, как и предполагалось, был приговоренксмерти,формасудебногопроцессаработалавегопользу.Можетбыть,именно поэтому многие впоследствии чувствовали, что суд был фрустрирующим опытом и не принесоблегчения. Остаетсяпосмотреть,сумеетлиискусствовболеепринятомсмыслеслова–искусство, которому не нужно претендовать на нейтральность, – справиться с ситуацией успешней. Самымизвестнымизпроизведений,берущихся,какипроцесснадЭйхманом,напомнитьоб истории, по общему мнению, является «Наместник» («Der Stellvertreter»), многочасовая драма молодого немецкогодраматурга РольфаХоххута[26].Здесьпереднамипроизведение искусства в том смысле, как мы привыкли его понимать, – хорошо знакомое вечернее представление с занавесами и антрактами, а не аскетические публичные подмостки судебногозала.Тутпереднамиактеры,анереальныеубийцыилижертвы,пережившиеад. ИтемнеменеевсеэтовполнеможносопоставлятьспроцессомнадЭйхманом,поскольку «Наместник» есть прежде всего компиляция исторических источников, отчет. В пьесе представлен сам Эйхман и другие реальные лица того периода; реплики героев взяты из документальныхисточников. В нынешние времена подобное использование театра в качестве форума для всеобщих моральных суждений – скорее исключение. Для широкой публики театр стал местом, где можно видеть ссоры и перипетии частных лиц; вердикт, который по ходу действия выносится персонажам, в большинстве современных пьес не имеет значения за пределами самой пьесы. «Наместник» нарушает эти границы абсолютно частных владений, принятые по большей части в современном театре. И так же, как нелепо отказываться от оценки процесса над Эйхманом в терминах общедоступного произведения искусства, считать «Наместник»всеголишьхудожественнымпроизведениембылобылегкомысленно. Некоторые – но не все – разновидности искусства считают своей главной задачей «говорить правду», их нужно судить исходя из верности правде и степени значимости той правды, о которой речь. В этом плане «Наместник» – пьеса, мимо которой не пройдешь. Обвинения против нацистской партии, СС, немецкой деловой элиты и большей части немецкого народа – никто из них в пьесе Хоххута не обойден – вещь слишком хорошо известная,чтобыееещенужнобылосанкционировать.Однако«Наместник»–иэтасторона пьесы вызывает наибольшие споры – выдвигает мощное обвинение в адрес Германской католическойцерквиипапыПияXII.Намойвзгляд,этообвинениесоответствуетистинеи хорошоаргументировано(см.приложеннуюавторомкпьесепространнуюдокументацию,а также замечательную книгу Гюнтера Леви «Католическая церковь и нацистская Германия»).Историческуюиморальнуюзначимостьэтойструдомвоспринимаемойправды сегодняврядливозможнопереоценить. Впредисловиикнемецкомуизданиюпьесы(кнесчастью,отсутствующемванглийском) режиссер Эрвин Пискатор, первым поставивший «Наместника» в Берлине, пишет, что увиделвпьесеХоххутапродолжениеисторическихдрамШекспираиШиллера,эпического театра Брехта. Оставляя все вопросы качества в стороне, я считаю эти сопоставления с классическим историческим театром и эпическим театром, когда он берется за исторические темы, неточными. Главное в пьесе Хоххута – в том, что он просто перерабатываетимеющийсяматериал.ВотличиеотдрамШекспира,ШиллераилиБрехта, успех или провал драмы Хоххута определяется верностью исторической правде во всей ее полноте. Нацеленностьпьесынадокументзадаетиееграницы.Также,какневсепроизведения искусства стремятся воспитывать и формировать сознание, не все произведения, успешно выполняющие моральные функции, удовлетворяют требованиям искусства. Мне приходит на ум лишь одна вещь того же драматического типа, что и «Наместник» Хоххута, – короткометражнаялентаАленаРене«Ночьитуман»,чейморальныйпосылсоответствует художественному уровню. Фильм «Ночь и туман», тоже напоминающий о трагедии шести миллионов, делает это очень избирательно, он эмоционально безжалостен, исторически скрупулезен и, если это слово здесь уместно, прекрасен. Последнего о «Наместнике» не скажешь. Никто от него этого и не требует. И все-таки, если говорить о моральной значимостидрамыивызываемомеюогромноминтересе,эстетическиевопросынеобойти. Каким бы ни был «Наместник» как моральное событие, к перворазрядным пьесам он не относится. Вчастности,этокасаетсядлины.Неточтобыпротяженность«Наместника»вызывалау менявозражения.Можетбыть,пьесаХоххутаизтехвещей,которым–как«Американской трагедии»Драйзера,операмВагнера,лучшимдрамамО’Нила–ихнепомернаядлинаидет даже на пользу. Настоящий изъян пьесы – ее язык. В английском переводе он просто плоский – не полностью официальный, но и недостаточно разговорный. («Владения папскоголегатаэкстратерриториальны–уходите,илияпошлюзаполицией»).Хоххутмог выстроить свой текст на странице в виде строк свободного стиха и этим подчеркнуть серьезность темы, мог вывернуть наизнанку банальность нацистской риторики. Но я не в силахпредставитьхотькакой-топравдоподобныйспособпроизнесенияэтихстрок,который передавал бы задуманный автором эффект (если таковой вообще существует). Самый большой художественный просчет пьесы – толстые ломти документации, которые автор в неенапихал.«Наместник»переполненнеперевареннымизложением.Вместестемвпьесе, воздадим ей должное, есть некоторое количество исключительно сильных сцен, прежде всегоотмечуте,вкоторыхучаствуетдемоническийдоктор-эсэсовец.Темнеменееглавным, постоянноповторяющимся–и,поприроде,практическинедопустимымвдраме–способом столкнуть героев на сцене остаются их рассказы друг другу о том или о сем. Диалоги нашпигованы сотнями имен, фактов, цифр, отчетов о произошедших беседах, образцов свежихновостей.Иесли«Наместник»счудовищнойсилойдействуетначитателя–аяпока не видела пьесу на сцене, – то пьеса обязана этим своей теме, но не стилю или драматическомуискусству,которыедонельзязатерты. Допускаю,что«Наместник»можетоказатьсяввысшейстепениубедительнымнасцене. Но чтобы он состоялся как сценическое зрелище, от режиссера потребуется недюжинный моральный и эстетический такт. Для этого «Наместник», по-моему, должен быть изобретательно стилизован. Однако, мобилизуя ресурсы новейшего продвинутого театра, тяготеющего скорее к ритуалу, чем к реализму, постановщику придется быть очень осторожным,чтобынеподорватьвоздействиепьесы,котораяопираетсянаавторитетфакта, воскрешение конкретной исторической детали. Кажется, именно это Хоххут нечаянно сделалводномизуказанийкпостановке.Перечисляядействующихлиц,Хоххутобъединил некоторые небольшие роли в группы; все роли одной группы должен, по его мнению, исполнятьодинактер.ТакодинактердолженигратьпапуПияXIIибаронаРуттуизкартеля повооружениюТретьегорейха.Вдругуюгруппуобъединенысвященникизпапскойкурии, сержант СС и еврейский капо, их роли тоже должен исполнять один актер. «Недавняя история,–поясняетХоххут,–учитнас,чтовэпохувсеобщейвоинскойповинностивераили клевета отдельного человека теряют значение, и для действующих лиц становится даже неважно,чьюформуониносятиоказываютсялионинасторонежертвлибоисполнителей приговора». Я не могу поверить, что Хоххут действительно подписывается под столь легковесным и модным воззрением на взаимозаменимость людей и ролей (вся его пьеса – полная противоположность сказанному), и буду возмущена, если подобную точку зрения воплотят в спектакле. Это, однако, не относится к близкому, на первый взгляд, сценическомуходу,которыйприменилвпарижскойпостановкепьесыПитерБрук:всеего актерывыступаютводинаковыхсиниххлопчатобумажныхкостюмах,накоторые,когдаих нужно различить, тут же натягивают пурпурное одеяние кардинала, сутану священника, нарукавнуюповязкусосвастикойнацистскогоофицераит.п. Факт, что пьеса Хоххута привела к нарушениям общественного порядка в Берлине, Париже,Лондонеипочтивсюду,гдеееставили,посколькуонасодержитрассказ(нонев точномсмыслесловаотчет)отом,какнынепокойныйпапаПийXIIотказалсяиспользовать влияние католической церкви и, открыто или с помощью частных дипломатических каналов, противостоять политике нацистов по отношению к евреям, неопровержимо указываетнатоособоеместомеждуискусствомижизнью,котороезанимает«Наместник». (ВРимепостановкабылаотмененаполициейпрямовденьпремьеры.) Есть все основания думать, что протесты церкви могли бы спасти немало жизней. В Германии, где католические иерархи жестко противостояли гитлеровской программе эвтаназии нетрудоспособных и неизлечимо больных представителей арийской расы, этой репетиции «окончательного решения еврейского вопроса», она была остановлена. И, конечно же, прецедент политической нейтральности Ватикана не может быть принят вместо его извинений после того, как Святой престол сделал решительные заявления по поводу таких тем международной политики, как советское вторжение в Финляндию. Тех, кто обвиняет пьесу в клевете на Пия XII, сильнее всего дискредитируют дошедшие до нынешнего дня документы, свидетельствующие, что Папа, как и многие консервативные руководящиелицатоговремени,одобрялвойнуГитлерапротивСССРипотомунерешался активно противодействовать правительству Германии. Описывающая это сцена хоххутовскойпьесыбылазаклейменамногимикатоликамикактрактатпротивкатолицизма. Но это не отвечает на вопрос, правду ли написал Хоххут или нет. И если Хоххут изложил факты (и свое понимание христианской отваги) точно, у сколь угодно правоверного католика не больше причин защищать любые действия Пия XII, чем восхищаться распутными папами времен Ренессанса. Данте, которого вряд ли кто обвинит в антикатоличестве, поместил Целестина V в ад. Почему же современный христианин – Хоххут принадлежит к лютеранам – не может мерить наместника или викария Христа поведениемБерлинскогособорногонастоятеляБернхардаЛихтенберга,которыйпублично, с кафедры возносил молебны за евреев и отправился вслед за евреями в Дахау, или францисканского монаха, отца Максимилиана Кольбе, который принял мученическую смертьвАушвице? Как бы там ни было, атака на папу – далеко не главная тема «Наместника». Папа появляется лишь в одной сцене пьесы. Действие там сосредоточено на двух героях – священнике-иезуите Рикардо Фонтане (во многом его прототипом стал настоятель ЛихтенбергиотчастиотецКольбе)ипоразительномКуртеГерштейне,которыйвступилв СС,чтобысобратьфакты,способныеброситьтеньнапапскогонунциявБерлине.Хоххутне включает Герштейна и Фонтану (Лихтенберга) ни в какую «группу» с тем, чтобы их роли исполнял один актер. Они абсолютно невзаимозаменимы. Главная задача «Наместника» – вовсе не ответить обвинением на обвинение. Это не атака на иерархов Германской католической церкви, на папу и его советников, но утверждение, что подлинная честь и благопристойность, хотя и могут повлечь за собой пытки, на земле возможны, а для христианина и неотменимы. И как раз потому, что были немцы, которые сделали выбор, говорит нам Хоххут, мы вправе обвинить тех, кто – говоря откровенно – из непростительногомалодушияотказалсявыбирать. [1964] Пер.БорисаДубина Смертьтрагедии Споры о том, возможна ли сегодня трагедия, – вовсе не упражнения в литературном анализе, это замаскированные хуже или лучше упражнения в диагностике культуры. Литературакакпредметрассужденийпоглотиланемалуючастьэнергии,преждеуходившей вфилософию,покаэмпирикиилогикиэтотпредметначистонеопустошили.Опираясьна литературные шедевры, мы спорим о сегодняшних дилеммах чувства, действия, веры. И понимаем искусство как отражение способностей человека в данный период истории, как исключительную форму, с помощью которой культура себя определяет, называет, инсценирует. Отсюда важность вопросов о смерти литературных форм: возможна ли сегоднясюжетнаяпоэмаилионаужемертва?ароман?астихотворнаядрама?атрагедия? Похоронылитературнойформы–актморали,высшеепроявлениесовременной моральной честности.Актсамоопределенияздесьестьвместестемактсамопогребения. Подобные похороны обычно сопровождаются всеми проявлениями скорби, поскольку, говоря об утраченных возможностях переживаний или отношений, которые воплощала умершаяформа,мыоплакиваемсебя.В«Рождениитрагедии»,гденасамомделеречьидето ее смерти, Ницше обрушивается на радикально новый престиж знания и самосознающего рассудка – возникающий в Древней Греции вместе с фигурой Сократа – за привнесенное ими ослабление инстинкта и чувства жизни, которое сделало трагедию невозможной. Все последовавшие затем дискуссии на данную тему были одинаково проникнуты сожалением или по крайней мере носили оборонительный характер, либо скорбя о смерти трагедии, либо обнадеживающе пытаясь создать «современную» трагедию из натуралистическипереживательноготеатраИбсенаиЧехова,О’Нила,АртураМиллераиТеннессиУильямса. ОдноизредкихдостоинствкнигиЛайонелаЭйбла[27]состоиткакразвтом,чтовнейнет обычного упора на сожаление. Никто больше не пишет трагедий? Ну и ладно. Эйбл призывает читателей покинуть церемониальный зал и перейти на званый вечер в честь драматической формы, которая составляет и составляла наше достояние последние три столетия:напраздникметапьесы. Особых причин горевать и в самом деле нет, уж слишком далеким родственником был нампокойник.Трагедия,считаетЭйбл,неявляетсяиникогданебылахарактернойформой западноготеатра;большинствузападныхдраматургов,силившихсянаписатьтрагедию,таки неудалосьэтосделать.Чтоиммешало?Еслиответитьоднимсловом–самосознание.Вопервых, самосознание драматурга, а затем – его протагонистов. «Западный драматург не способен поверить в реальность характера, у которого отсутствует самосознание. А недостаток самосознания настолько же характерен для Антигоны, Эдипа и Ореста, насколько присутствие самосознания характерно для Гамлета, крупнейшей фигуры западного метатеатра». Таким образом, метапьеса – сюжеты, которые живописуют самопредставлениеосознающихсвоидействияперсонажей,театр,чьиключевыеметафоры утверждаютжизнькаксон,амиркаксцену,–вотчтозанимаетдраматическоевоображение Запада в той же мере, в какой драматическое воображение греков занимала трагедия. Подобныйтезисвлечетзасобойдваважныхисторическихследствия.Одно–трагедийкуда меньше, чем полагали прежде: греческие драмы, одна драма Шекспира («Макбет») да несколько драм Расина. Трагедия не характерна для елизаветинского и испанского театра. Большинство важнейших елизаветинских драм – неудавшиеся трагедии («Лир», «Доктор Фауст») или удачные метапьесы («Гамлет», «Буря»). Другое следствие относится к современной драматургии. По Эйбелу, Шекспир и Кальдерой – два главных источника традиции, которая блистательно воскрешена «современным» театром Шоу, Пиранделло, Беккета,Ионеско,ЖенеиБрехта. Как образец культурной диагностики книга Эйбла принадлежит к большой континентальной традиции размышлений о бедствиях субъективности и самосознания, начатых поэтами-романтиками и Гегелем, а продолженных Ницше, Шпенглером, ранним Лукачем и Сартром. Их проблемы, их терминология просвечивают сквозь подтянутые, не обремененные техническими подробностями эссе Эйбла. Там, где европейцы обвешаны тяжеловеснойкладью,онпутешествуетналегке,безсносок;там,гдеонигромоздяттома,он пишетнесколькобезыскусныхэссе;там,гдеонинаводяттоску,онрешительнонесклонен унывать. Короче говоря, Эйбл излагает континентальные доводы по-американски: он, можносказать,написалпервыйэкзистенциалистскийтрактатнаамериканскийманер.Его аргументы четки, задиристы, легко переходят в лозунги, упрощены донельзя – и, как правило, совершенно верны. Его книга не скрывает за семью печатями многословных глубин (но именно глубин!) выдающегося труда Люсьена Гольдмана о Паскале, Расине и понятии трагедии Le Dieu caché, который, подозреваю, Эйбл проштудировал. Но достоинства его книги, не последние из которых – прямота и краткость, трудно преувеличить. Для англоязычной аудитории, не знакомой с сочинениями Лукача, Гольдмана,Брехта,Дюрренматтаиижесними,самиподнятыеЭйбломпроблемывыглядят как откровение. Его книга действует куда сильней, чем «Смерть трагедии» Джорджа Стайнера или «Театр абсурда» Мартина Эсслина. Нет, решительно никто из англичан или американцев,писавшихвпоследнеевремяотеатре,непроизвелничегоинтереснееиумнее. Какянамекнула,вынесенныйв«Метатеатре»диагноз:современныйчеловексуществует подрастущимбременемсубъективности,теряячувствореальностиокружающегомира,–не нов. И не сочинения для сцены – те главные тексты, которые раскрывают подобное отношениеисопутствующуюемуидеюразумакаксредстваруководитьсобойиисполнять роль. Два величайших свидетельства об этом – «Опыты» Монтеня и «Государь» Макиавелли;обаони–учебникистратегии,предполагающейпропастьмежду«публичным я» (ролью) и «личным я» (подлинной личностью). Значимость книги Эйбла – в прямом приложенииэтогодиагнозакдраме.Онабсолютноправ,когдаутверждает,например,что большинство пьес Шекспира, которые их автор и многие за ним с тех пор называли трагедиями, строго говоря, вообще не трагедии. На самом деле Эйбл мог бы пойти еще дальше. Не только большинство мнимых трагедий это, по сути, метапьесы, но таковы же большинство шекспировских исторических хроник и комедий. Все основные пьесы Шекспира – это пьесы о самосознании, о характерах, которые не столько действуют, сколькопредставляютсебявтойилиинойроли.ЕгопринцГарри–человекабсолютного самосознания и самоконтроля, превосходящий человека безрассудной, не сознающей себя цельности Готспера и сентиментального, хитрого, все сознающего человека удовольствий Фальстафа. Ахилл и Эдип не видят себя героем и царем, они и есть герой и царь. А вот Гамлет и Генрих V видят себя играющими роль – роль мстителя, роль героического и не знающегосомненийкороля,ведущегосвоивойскавсражение.ЛюбовьШекспиракприему «пьеса-в-пьесе» и к маскировке своих героев на протяжении больших кусков сюжета отчетливо напоминает стилистику метатеатра. От шекспировского Просперо до шефа полиции в «Балконе» Жана Жене, все персонажи метатеатра – это характеры в поисках действия. Ясказала,чтоглавныйтезисЭйблаверен.Новместестемон,покрайнеймеревтрех пунктах,неточенилинеполон. Пунктпервый.Этоттезисбылбывыражен полнее и,думаю,дажеотчастииначе, если бы автор рассмотрел, что такое комедия. Не имея в виду, будто комедия и трагедия делят драматическиймирнадвое,явсежесчитаю,чтолучшеопределятьихвсоотношениидругс другом. Отсутствие комедии тем более поразительно, если вспомнить, что фальшивка, подтасовка, разыгрывание роли, притворство, самопредставление – основополагающие, по Эйбелу, элементы так называемой метапьесы – составляют костяк комедии со времен Аристофана. Комические сюжеты – это истории либо о сознательном притворстве и разыгрывании роли («Лисистрата», «Золотой осел», «Тартюф»), либо, напротив, о невероятном отсутствии самосознания – недосознании, скажем так, – действующих лиц (Кандид, Бастер Китон, Гулливер, Дон Кихот), играющих странные роли, которые они принимаютсвоодушевленнойбезропотностью,делающейихнеуязвимыми.Можносказать, чтоформа,которуюЭйблназвалметапьесой,покрайнеймеревеесовременныхвариантах, представляет собой взаимопроникновение посмертного духа трагедии с более древними комическими началами. Некоторые современные метапьесы – такие как драмы Ионеско – очевидныекомедии.Иврядликтостанетотрицать,чтобеккетовские«ВожиданииГодо», «ПоследняяплёнкаКрэппа»и«Счастливыедни»–своегородаcomédienoire. Пункт второй. Эйбл явно упрощает и, думаю, даже искажает образ мира, необходимый длясозданиятрагедий.Вотегослова:«Нельзянаписатьтрагедию,непринимаянекоторые непреложныеценностизаистину.СегоднявоображениеЗападасталовцеломлиберальным и скептичным; в любых непреложных ценностях оно склонно видеть фальшь». Это суждение, по-моему, неверно или по крайней мере поверхностно. (Тут на Эйбла, кажется, слишком сильно влияет анализ трагедии у Гегеля и его позднейших популяризаторов.) Каковы непреложные ценности Гомера? Честь, положение, личная храбрость – ценности военно-аристократическогосословия?Нов«Илиаде»речьсовсемнеобэтом.Точнеебудет сказать,какэтоиделаетСимонаВейль,чтов«Илиаде»–чистейшемобразцетрагического видения из всех возможных – речь идет о пустоте и произвольности мира, о предельной незначимости каких бы то ни было моральных ценностей, об ужасающей власти смерти и нечеловеческойсилы.ЕслисудьбаЭдипаизображаласьипереживаласькактрагическая,то непотому,чтоонилиегоаудиторияверилив«непреложныеценности»,акакразпотому, что эти ценности постиг кризис. Трагедия показывает не непреложность «ценностей», а непреложность мира. История Эдипа трагична тем, что она обнажает безжалостную непроницаемость мира, столкновение субъективных намерений с объективной судьбой. В концеконцов,Эдип,всамомглубокомсмыслеслова,невиновен;кнему,какговоритонсам в«ЭдипевКолоне»,несправедливыбоги.Трагедия–этообразнигилизма,героизированный иоблагороженныйобразнигилизма. Также неверно, что западная культура была целиком либеральной и скептичной. Постхристианскаязападнаякультура–да.Монтень,Макиавелли,Просвещение,психиатрия личностнойавтономиииздоровьявХХвеке–да.Нораспространяетсялиэтонаведущие религиозныетрадициизападнойкультуры?РазвеапостолПавел,Августин,Данте,Паскаль и Кьеркегор были либеральными скептиками? Вряд ли. Поэтому нельзя не поинтересоваться, почему не существует христианской трагедии. Этого вопроса Эйбл в своей книге не поднимает, хотя христианская трагедия, казалось, неизбежно должна была бы появиться, если отстаивать мысль, будто для создания трагедий обязательна вера в непреложныеценности. Общеизвестно, что христианской трагедии, в строгом смысле слова, не существует: христианскиеценности–вопросвтом,какиеименно,дажесрединепреложныхониневсе таковы, – не совместимы с пессимистическим образом мира в трагедии. Поэтому богословская поэма Данте – это «комедия», то же самое – поэмы Мильтона. Данте и Мильтон, как христиане, видят мир смыслосообразным. В мире, каким его представляют иудаизмихристианство,небываетничегослучайного,беспричинного.Всесобытиявходят взамыселсправедливого,благого,всевидящегобожества;любоераспятиебудетперекрыто воскресением. Во всяком несчастье или беде нужно видеть или обещание тем большего блага, или справедливое и соразмерное наказание, полностью заслуженное пострадавшим. Но моральная соразмерность мира, которую утверждает христианство, это именно то, что отрицает трагедия. Не все беды полностью заслужены, говорит трагедия, существует предельная несправедливость мира. Можно сказать, что решительный оптимизм господствующих религиозных традиций Запада, их желание видеть мир осмысленным препятствует возрождению трагедии на христианской почве, – как, по мнению Ницше, разумность, фундаментально оптимистичный дух Сократа умертвили трагедию в Древней Греции. Либеральная, скептичная эпоха метатеатра лишь унаследовала эту волю к приданию смысла от иудаизма и христианства. Вопреки ослаблению религиозных чувств, волякприданиюсмыслаипоискузначенияпреобладаетвсовременности,хотяиприходит впротиворечиесидеейдействиякакпроекциипредставленийчеловекаосебе. Мое третье возражение относится к эйбловской трактовке современных метапьес, а именно тех, которые все разом слишком часто рассматривают под общим покровительственным ярлыком «театра абсурда». Эйбл прав, отмечая, что эти пьесы, по крайнеймереформально,имеютдавнюютрадицию.Норазборформальнойстороныдела, которому Эйбл уделяет внимание в своих эссе, не должен заслонять различий в направленности и тоне, которыми он пренебрегает. Шекспир и Кальдерой устраивают метатеатральные jeux d’esprit внутри мира, богатого прочными чувствами и ощущением открытости. Метатеатр Жене и Беккета выражает чувства эпохи, когда высшим художественным удовольствием стало самобичевание, эпохи, задыхающейся от ощущения вечноговозврата,эпохи,ищущейновоевактетеррора.Жизньестьсон,этопредполагается во всех мета-пьесах. Но есть сны успокоительные, есть беспокойные, а есть кошмары. Современныйсон–вкоторыйнаспереносятметапьесы–этокошмар,кошмарповторения, застопоренного действия, опустошенного чувства. Между современным кошмаром и ренессанснымсноместьразрыв,которымЭйбл(аещераньшеЯнКотт)пренебрегает,иэто вредитегопрочтениютекстов. В частности, Брехту, которого Эйбл включает в число современных мета-драматургов, эта категория не подходит. Иногда Эйбл, ища противоположность метатеатру, кажется, говорит не столько о «трагедии», сколько о «натуралистической драме». Пьесы Брехта действительно антинатуралистичны, они открыто дидактичны. Но если только вслед за Эйбломненазыватьметапьесойисредневековое«ДействооДанииле»–натомосновании, что на сцене там присутствуют музыканты, а рассказчик объясняет аудитории все происходящее, призывая видеть пьесу как пьесу, спектакль, – мне не кажется правильным включать Брехта в эту категорию. К тому же преобладающая часть рассуждений Эйбла о Брехте безнадежно изуродована неприкрытыми штампами времен холодной войны. По мнению Эйбла, брехтовские пьесы вынуждены быть метатеатром, поскольку писать трагедии значило бы верить в то, что «индивиды реальны», а также «верить в значимость моральногострадания».(Эйблимеетввидуморальнуюзначимостьстрадания?)Поскольку Брехт – коммунист и поскольку коммунисты «не верят в индивида и в моральный опыт» (чтоэтозначит–«верить»вморальныйопыт?Эйблимеетввидуморальныепринципы?), Брехт недостаточно оснащен для создания трагедий, а стало быть, догматик Брехт может создавать только метапьесы, то есть превращать «все человеческие действия, реакции и выражения чувств в театр». Это полная ерунда. В сегодняшнем мире нет более морализирующего учения и более упертого приверженца «непреложных ценностей», чем коммунизм. Разве не это подразумевают западные либералы, вульгарно именующие коммунизм«светскойрелигией»?Расхожееобвинениекоммунизмавтом,чтоонневеритв индивида,–такаяжечепуха.Этоотноситсянекмарксистскойтеории,акобразучувстви историческимтрадициямстран,гдекоммунизмвзялвласть,гденетиникогданебылотак называемого западного представления об индивиде, которое отделяет «частное» «я» от «публичного»,тольколичное«я»считаянастоящимиволей-неволейвлияющимнадействия впубличнойсфере.Точнотакжегреки,творцытрагедии,неимелипонятияобиндивидев его современном западном смысле. Пытаясь сделать отсутствие индивидуальности критериемметатеатра,Эйбл–егоисторическиеобобщенияпобольшейчастиповерхностны –вноситвсвоиаргументыглубочайшуюпутаницу. По общему признанию, Брехт был хитрым, двуличным стражем коммунистической «морали». Но загадку его драм следует искать в представлении о театре как моральном инструменте. Отсюда использование сценической техники, почерпнутой им в антинатуралистическомтеатреКитаяиЯпонии,отсюдаегознаменитаятеориясценической постановки и действия на сцене – эффект отстранения, который должен укреплять в зрителях бесстрастное, чисто интеллектуальное отношение к представленному. (Эффект отстранения кажется прежде всего методом создания пьесы и ее ненатуралистической постановки; этот эффект как метод поведения на сцене, судя по тому, что я видела «Берлинер ансамбль», прежде всего состоит в том, чтобы умерить, смягчить натуралистическийстильактерскойигры,анеотвергнутьегоцеликом.)СмешиваяБрехтас авторами метапьес, с которыми он действительно имеет кое-что общее, Эйбл затемняет разницу между брехтовской назидательностью и рассчитанной нейтральностью, взаимоуничтожением всех ценностей, которую представляют в своих пьесах метадраматурги.ЭтонапоминаетразницумеждуАвгустиномиМонтенем.И«Исповедь»,и «Опыты»–назидательныеавтобиографии,ноеслиавтор«Исповеди»видитвсвоейжизни драму, иллюстрирующую линейный путь сознания от эгоцентризма к теоцентризму, то автор «Опытов» видит в своей жизни беспристрастное и разнообразное исследование неисчислимыхвозможностейбытьсобой.УБрехтатакжемалообщегосБеккетом,Женеи Пиранделло,какуавгустиновскихупражненийвсамоанализесмонтеневскими. [1963] Пер.БорисаДубина Пройдясьпотеатрамидр. 1 У театра как искусства, адресованного обществу, долгая история. Однако, если исключить провинции социалистического реализма, за актуальные проблемы общества сегодня берутся считанные драматурги. Лучшие современные пьесы скорее работают на территории частного, нежели общественного ада. Нынешний театр социальных проблем говоритгрубым,хриплымголосомислишкомчастонеотличаетсяглубиной. Самый заметный пример подобного мелководья на нынешний момент – новая пьеса Артура Миллера «После грехопадения», которой открылся первый сезон в репертуарном театре Линкольн-центра. Опора (или просчет) миллеровской драмы – ее неподдельная моральнаясерьезностьиобращениек«большим»темам.Кнесчастью,Миллервыбралдля этоготакуюформу,каквелеречивыймонологпациента,исповедующегосяпсихоаналитику, и не решился отвести аудитории другую роль, кроме как Великого Слушателя. «Действие пьесы разворачивается в уме и в памяти нашего современника Квентина». Герой-имярек (вспомним Вилли Ломана) и оформление сцены, не привязанное ни ко времени, ни к пространству, разоблачают пьесу: какие бы волнующие общественные проблемы она ни затронула, их воспринимаешь как умственные причуды. Это взваливает на миллеровскую ремарку«нашсовременникКвентин»непомерныйгруз:предполагается,чтовесьмирунего в голове. Добро бы это была недюжинная, интересная, умная голова. Но ничем подобным голова миллеровского героя не отличается. У нашего современника, по Миллеру, одна нелепая забота – самооправдаться. Самооправдание же, ясное дело, подразумевает самоописание,ивотэтоговпьесехотьотбавляй.Впрочем,многиеохотнопредоставилибы немалый кредит Артуру Миллеру, решись он на подобное описание себя в качестве мужа, любовника,политическогодеятеляихудожника.Однакосамоописаниевискусственаходит одобрениелишьприодномусловии:еслиегоуровеньисложностьпозволяютлюдямузнать приэтомчто-тоосебесамих.АсамоописаниеМиллеравпьесесводитсякотпущениюсебе всехгрехов,итолько. «После грехопадения» представляет не действие, а мысли о действии. При этом идеи автора насчет психологии восходят скорее к Францблау, чем к Фрейду. (Мать Квентина добивалась,чтобыусынабылкрасивыйпочерк,намереваясьтемсамымотомститьсвоему удачливому в делах, но, в сущности, безграмотному мужу.) Что до политических идей, то всюду,гдеполитиканесмягченамилосерднойпсихиатрией,Миллерописываетеенауровне карикатур в газетах левого толка. Чтобы пройти проверку на въезде в Америку, молодая немецкаяподругаКвентина–всерединепятидесятых–сообщает,чтонародинеееуволили с работы, поскольку она была связной в офицерском заговоре 20 июля: «Их потом всех повесили». Политическая отвага Квентина демонстрируется тем, как он победоносно прерывает разглагольствования председателя Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности репликой: «А сколько чернокожих допущено к избирательным урнам в вашем патриотическом округе?» Эта интеллектуальная легковесность пьесы, как обычно, ведет к моральному двоедушию. «После грехопадения» претендует на инвентаризацию нашим современником всех его человеческих качеств, спрашивая,вчемонвиноват,вчемнеповинен,зачтонесетответственность.Возраженияу меня вызывает не сам по себе конкретный набор этих вопросов (коммунизм, Мэрилин Монро,нацистскиелагерясмерти),которыенесостоявшийсяписательКвентин,претендуяв пьесе на роль адвоката, подытожил применительно к собственной персоне, – они, без всякогосомнения,типичныдлясерединыХХвека.Дляменянеприемлемодругое:в«После грехопадения» эти вопросы существуют на одном уровне, что, впрочем, не так уж неожиданно,посколькувсёведь,какмыпомним,происходитвсознанииКвентина.Хорошо сложенныйтрупМэгги–МэрилинМонро–покоитсянасценедажевтехдлинныхэпизодах, ккоторымонанеимеетнималейшегокасательства.Втомжедухезатрепаннаяполосаиз пластыряиколючейпроволоки–представляющая,спешупояснить,концлагерь–всевремя высоковиситнасценическомзаднике,времяотвремениподсвечиваясьпрожектором,когда монолог Квентинавозвращаетсякнацизму,ит.п.Этоткакбыпсихиатрическийподходк вине и ответственности возвышает личные трагедии и – ровно до того же уровня – принижаетобщественные.Такилииначе,всеони–поразительнаябестактность!–делаются неотличимымидруготдруга,будьтоответственностьКвентиназараспадисамоубийство Мэгги, будь то его («нашего современника») ответственность за невообразимые зверства концентрационныхлагерей. ПоместивисториювголовуКвентина,Миллернасамомделепомогаетсебезакоротить любую серьезную разработку материала, хотя, по-видимому, думает, будто такой ход «углубит» его рассказ. Реальные события расцвечивают и время от времени подстегивают сознание героя-повествователя. Пьеса на редкость разболтана, многословна, уклончива. «Сцены» длятся, обрываются, перескакивая то назад, то вперед, с одного на другое – от первогобракаКвентинакеговторойженитьбе(наМэгги),нерешительнымухаживаниямза будущей немецкой женой, детским годам, перебранкам его истеричных, деспотических родителей, тягостному решению выступить в защиту преподавателя юридического факультета,бывшегокоммунистаиегодруга,противдруга,который«назвалфамилии».Все «сцены»отрывочныигаснутвумегероя,кактолькостановятсяслишкоммучительными.И лишь смерти – понятно, происходящие за сценой – как будто бы придают его жизни направленность: много лет назад умерли евреи (само слово «евреи» в пьесе так и не произносится); умирает мать; превысив дозу барбитуратов, кончает с собой Мэгги; бросается под поезд метро профессор-юрист. На протяжении пьесы Квентин, кажется, скорее претерпевает жизнь, чем активно действует в ней – хотя именно этого Миллер никогданепризнает,никогданезаставитКвентинаувидетьвэтомпроблему.Напротив,он беспрерывно обеляет Квентина (и косвенно – аудиторию) самым обычным способом. При всех тягостных решениях, всех болезненных воспоминаниях Миллер дает Квентину одно и тожеморальноеснадобье,одноитожеутешение.Я(мы)разомивиновны,иневиноваты, и ответственны, и не несем ответственности. Мэгги права, обвинив Квентина в бесчувственности и неспособности прощать, но оправдан и Квентин, разрывая с ненасытной, безумной, разрушающей себя Мэгги. Прав профессор, отказавшийся «назвать фамилии» перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, но и его коллега,пошедшийнасотрудничествососледствием,по-своемублагороден.И(верхвсего), какподытоживаетКвентинсвоюпоездкувДахаувместесославнойнемецкойподружкой, каждый из нас мог бы стать здесь жертвой, но ровно так же мог бы оказаться одним из палачей. В подробностях и постановке пьесы проявились некоторые не всегда уместные черты реализма, которые лишь подчеркнули ее непрямодушный, двусмысленный склад. Эта широкая наклонная сцена, расписанная под серую черепицу и абсолютно лишенная бутафории, была до того неприкрыто пуста, что зритель с трудом удерживался и не подскакивал, когда Квентин, все время сидевший лицом к залу на чем-то вроде ящика и беспрерывно куривший, вдруг собрал пепел в некий загадочный мешочек для золы, находившийся под сиденьем. Зритель еще раз передергивался при виде Барбары Лоден, загримированной под Мэрилин Монро, выставляющей напоказ манерность Монро и даже отчастипохожейнанеефизически(дляполногосходстваей,правда,нехваталонекоторой пухловатости).Но,можетбыть,самымотталкивающимсмешениемреальностиипьесыбыл тот факт, что «После грехопадения» поставил Элиа Казан, который, как известно, служил прототипом того самого коллеги, назвавшего Комиссии требуемые фамилии. Припоминая историю бурных взаимоотношений Миллера и Казана, я почувствовала дурноту, как при первом просмотре «Бульвара Сансет» с его ошарашивающей пародией и откровенными намеками на реальную карьеру и прежние отношения между королевой старого кино, вернувшейся на экран Глорией Свенсон, и позабытым выдающимся режиссером Эрихом фон Штрогеймом. Сколько бы храбрости ни было вложено в пьесу «После грехопадения», она не имеет ничего общего с интеллектом и моралью; такая храбрость, скорее, сродни персональному извращению. Но она куда ниже «Бульвара Сансет», поскольку не находит силыпризнатьсявтом,чтоона–болезнь,разновидностьперсональногоэкзорцизма.«После грехопадения» до победного конца настаивает на своей серьезности, на обращении к большим социальным и моральным темам, хотя для этого ей удручающе недостает и интеллектуальнойсилы,иморальнойпрямоты. Какнинастаивай«Послегрехопадения»насвоейсерьезности,яподозреваю,чточерез несколько лет пьесу, скорее всего, сочтут многословной, банальной и устаревшей, какой «Марко-миллионщик», вторая премьера в том же репертуарном театре Линкольн-центра, выглядит уже сегодня. Обе вещи портит то, что они мучительно и неразрывно (хотя, не исключаю, бессознательно) связаны с предметом, который критикуют. Критика, обрушенная в «Марко-миллионщике» на обывательские ценности американской предпринимательской цивилизации, сама отдает обывательством; «После грехопадения» многоречиво проповедует твердость в отношениях с самим собой, но основная ее идея донельзя снисходительна. Выбирать между двумя этими пьесами или их постановками не просто.Право,незнаю,чтосильнейугнетает:МаркоПоло,по-бэббитовскивосхищающийся диковинами Китая («Чудесный маленький дворец вы тут себе отстроили, хан», – дескать, американцы – грубые материалисты, разве не так?), или нездешние декламации миллеровского героя Квентина, то искусно поэтизированные и возвышенные, то напоминающие мыльные оперы по каналу WEVD (американцы – закомплексованные самобичеватели,развенетак?).Право,незнаю,ктоизисполнителейболееоднообразени менее привлекателен: опустошенный и нескладный Квентин Джейсона Робардса или истеричножизнерадостныйМаркоПолоХэлаХолбрука.ЯструдомсмоглаотличитьЗору Ламперт,когдаонабылацыпочкойизБронкса,невыходившейуКвентинаизголовы,чтобы своимсюсюканьемдобитьсяотнегоободренияпередпоходомнапластическуюоперацию, от Зоры Ламперт, когда она изображала элегантный и покинутый цветок Востока, принцессу Кукачин, в «Марко-миллионщике». Да, постановка «После грехопадения» Элиа Казаномоказаласьсуровой,современнойискучной,апостановка«Марко-миллионщика»– ловкой, приятной и имела еще одно преимущество, красивые костюмы Бени Монтрезора, хотя сцену освещали до того скверно, что не было никакой уверенности, правильно ли ты разглядел. Но все эти различия выглядят мелкими, если понимать, что Казан корпел над слабой пьесой, а Кинтеро – над сочинением настолько юношеским, что его не спасла бы никакая, даже самая удачная постановка. Репертуарная группа Линкольн-центра (наш Национальный Театр?) потерпела сокрушительный провал. Невозможно поверить, что вся хваленая свобода от бродвейской продажности произвела на свет лишь более или менее сносно сыгранную постановку никудышной драмы Миллера, слабой, не имеющей даже исторического интереса пьесы О’Нила и дурацкой комедии С. Н. Бермана, в сравнении с которойдаже«Послегрехопадения»и«Марко-миллионщик»кажутсятворениямигениев. Если«Послегрехопадения»каксерьезнаяпьесатерпитнеудачуиз-заинтеллектуальной легковесности,то«Наместник»РольфаХоххута–из-заинтеллектуальногоупростительства ихудожественнойнаивности.Ноэтонеудачадругогопорядка.«Наместник»переложенна неуклюжийанглийский,иХоххут,похоже,немогбыменьшеозаботитьсясправедливостью аристотелевскогоутверждения,будтопоэзияфилософичнееистории.ХарактерыуХоххута– неболеечемрупорыдляизложенияисторическихфактов,витриныдляпротивопоставления моральныхпринципов.Ивсеже,посмотрев,какМиллерделаетвсесобытиясубъективным отражением в сознании героя-рассказчика, художественную слабость «Наместника» почти прощаешь. «Наместник» со всей прямотой направлен на свой предмет, чего никак не скажешьопьесеМиллера.ДостоинстводрамыХоххутаименновтом,чтоонаотказывается проявлятьгибкостьвотношенииубийствашестимиллионовевреев. Однако постановка Германом Шумлином так же далека от пьесы (текста) Рольфа Хоххута,какпьеса(текст)Хоххута–оттого,чтобыстатьзамечательнойпьесой.Грубая,но мощная документальная громада Хоххута, длящаяся от шести до восьми часов, пропущена через Бродвейский блендер Шумлина и превратилась в занимающий два часа с четвертью комикс,ктомужеоткровеннопримитивный–историюкрасивого,родовитогогероя,пары злодеевикучкиколеблющихсяподназванием«ИсторияотцаФонтаны,илиКогдажеПапа заговорит?». Разумеется,янискольконенастаиваю,чтонужноигратьвсешестьиливосемьчасов.В пьесекактекстемножествоповторов.Нотеатральнуюпублику,готовуюотсидетьчетыре,а тоипятьчасовнаО’Ниле,врядлинужноособенноуламывать,чтобыонаотсидела,скажем, четыречасанапьесеХоххута.Инетактруднопредставитьчетырехчасовуюверсию,которая отдастдолжноехоххутовскомусюжету.Атоведьпонынешнейбродвейскойверсиизрителю нипочем не догадаться, что доблестный лейтенант СС Курт Герштейн (реальное лицо) – столь же значимый герой, как и иезуит отец Фонтана (выдуманный образ, соединивший черты двух героических священников того времени). Ни Эйхман, ни печально известный профессор Хирт, ни промышленник Крупп – все введенные Хоххутом в пьесу важнейшие герои – в ее бродвейской версии не появляются. (Среди ампутированных особенно важна втораясценапервогодействия,гдеглавнаярольпринадлежитЭйхману.)Сосредоточившись исключительно на истории безрезультатных призывов Фонтаны к папе, Шумлин далеко зашелвстираниивсехследовисторическойпамяти,которыеХоххутвсвоейпьесекакрази стремилсясохранить.Норадикальноеупрощениехоххутовскойисторическойаргументации –ещенехудшееизсовершенногоШумлином.Худшеездесь–отказпредставлятьнасцене все, на что больно смотреть. Читать некоторые сцены «Наместника» и в самом деле мучительно. Террор и пытки, отвратительное хвастовство и зубоскальство палачей, даже цитированиеневообразимойстатистики–ничегоэтогоуШумлинанеосталось.Весьужас уничтожения шести миллионов свелся к одной сцене полицейского допроса нескольких евреев,обратившихсявкатоличество,иединственномуобразу,триждыповторяющемусяпо ходу пьесы: цепочка согнутых, оборванных людей, едва волочащих ноги по неосвещенной заднейчастисценыистоящийспинойкзалуэсэсовец,выкрикивающийимчто-товроде«А теперьстройсяпоодному!».Условныйобраз,вполнепереносимыйобраз,образ,которыйне тронет, не зацепит, не ужаснет. Даже длинный монолог Фонтаны, велеречивая сцена в товарномвагоне,идущемвАушвиц,седьмаяизвосьмисценвыхолощеннойшумлиновской версии, обрывается на самом пороге надвигающейся ночи. В ее нынешнем виде пьеса напрямуюведетотпротивостоянияпапыиотцаФонтанывВатиканекфинальнойсценев Аушвице,откоторойосталсялишьдилетантскийфилософскийспормеждудемоническим докторомССиФонтаной,нацепляющимжелтуюзвездуитемсамымвыбирающимгибельв газовой камере. Встреча Герштейна с Фонтаной, их страшное открытие, что Якобсон схвачен,пыткаКарлотты,смертьФонтаны–всеэтоотсечено. Хотяглавныйущербпьесенанесенужетойверсией,которуюШумлинизнеевыкроил, стоит заметить, что и постановка в большинстве случаев никуда не годится. Продуманные РубеномТер-Арутюняномаллегорическиедекорациизаигралибыудругогорежиссера,но совершенно теряются в постановке, лишенной даже намека на тонкость или стильность. Актерыотличаютсятойженеумелостьюинеопытностью,чтои любойсреднийсоставна Бродвее.Какобычно,унихтежепреувеличенныеэмоции,тожеоднообразиежестов,тоже смешениеакцентов,тажестилистическаявялость,которыехарактерныдлясреднегоуровня американскихтрупп.Исполнителиглавныхролей–англичанеикажутсяболееодаренными, ноиихработывыглядяттускло.ЭмлинУильямсиграетпапуПияXIIснекоейосторожной церемонностью,которая, возможно,должнабылабыпередатьпапскоевеличие,ноуменя рождаетподозрение,чтоэтоивсамомделепокойныйпапа,эксгумированныйпослучаюи находящийся, понятно, в состоянии весьма хрупком. Во всяком случае, он подозрительно похож на застекленную статую Пия XII в полный рост у входа в собор Святого Патрика. Джереми Бретт, играющий отца Фонтану, имеет выигрышную внешность и отличную дикцию,новсеидетнасмарку,когдаемунужнопередатьнастоящееотчаяниеилиужас. Этинедавниепьесы–инесколькодругих,вроде«Дилана»,которогомилосерднеебыло бынеупоминатьвовсе–сноваговорятотом,чтоамериканскийтеатрдвижимнеобычайной и безудержной страстью к интеллектуальному упрощению. Любая идея тут сводится к клише, а задача клише – выхолостить идею. Нельзя сказать, что в таком упрощении нет никакогосмыслаилипользы.Например,оноабсолютнонеобходимовкомедии.Нонидля чего серьезного оно не пригодно. И потому серьезность в американском театре выглядит сегодняещехуже,чемфривольность. Полагатьсянаумвтеатрестоитобращаясьвовсенекобщепринятой«серьезности»,будь то в виде психологического анализа (скверный образец – «После грехопадения») или в формедокумента(слабыйобразец–«Наместник»).Скорее,мнекажется,такаязадачапод силукомедии.Никтовсовременномтеатренепонялэтоготакхорошо,какБрехт.Однаков комедии кроется свой огромный риск. Опасность здесь не столько в интеллектуальном упрощении, сколько в просчетах тона и вкуса. Возможно, не всякую тему допустимо трактоватьвкомическомключе. Это вопрос о соответствии вкуса и тона серьезности темы, конечно же, не ограничивается театром. Замечательная иллюстрация преимуществ комедии – и ее характерных затруднений – это (если мне позволят на минуту переключиться с театра на кино)дванедавнопоказанныхвНью-Йоркефильма:«Великийдиктатор»ЧарлиЧаплинаи «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу» Стэнли Кубрика. Достоинства и просчеты обоих фильмов кажутся мне, как ни странно, сопоставимымиипоучительными. В«Великомдиктаторе»проблемалежитнаповерхности.Весьсмыслкомедиикакжанра абсолютно, до боли, оскорбительно не соответствует реальности, которую она на этот раз стремится представить. Евреи здесь – это евреи, и они живут в том, что Чаплин называет гетто. Но их угнетатели используют в качестве эмблемы не свастику, а двойной крест, и диктатор тут – не Адольф Гитлер, а балетный шут с усиками по имени Аденоид Хинкель. Угнетатели – это одетое в форму хулиганье, забрасывающее Полетт Годдар таким количеством помидоров, что она вынуждена снова и снова убирать свою прачечную. Невозможно смотреть «Великого диктатора» в 1964 году, не думая о чудовищной реальности, стоявшей за фильмом, так что некоторые современные зрители были разочарованы мелкостью политических представлений Чаплина. Раздосадованы вызывающей замешательство заключительной речью, где скромный еврейский цирюльник вместо диктатора Фу поднимается на подиум, чтобы воззвать к «прогрессу», «свободе», «братству»,«единомумиру»идаже«науке».ИзрелищемПолеттГоддар,поднимающейна герояглазаисквозьслезыулыбающейсяему–иэтов1940году! С «Доктором Стрейнджлавом» дело обстоит сложней, хотя не исключаю, что через двадцать лет все будет выглядеть так же просто, как с «Великим диктатором». Если все позитивное, что произносится под занавес «Великого диктатора», легковесно и оскорбительно для темы, то все представленное в «Докторе Стрейнджлаве» негативно, может вскорости оказаться (если уже не оказалось) столь же легковесным. Но это не объясняет его сегодняшней притягательности. Либеральные интеллектуалы, только что видевшие«ДоктораСтрейнджлава»намногочисленныхпредварительныхпоказахвоктябре и ноябре, восторгались политической смелостью фильма и с опаской ждали огромных трудностейнаегопути(толпыветерановАмериканскоголегиона,сметающихкинотеатры, и т. п.). Напротив, все издания от «Нью-Йоркера» до «Дейли Ньюс» отозвались о фильме одобрительно,никакихпикетовнебыло,алентапобиларекордыпокассовымсборам.Она понравилась и интеллектуалам, и подросткам. Но отстоявшие очередь шестнадцатилетние понялифильмиегореальныедостоинстваневпримерлучше,чемявноперехвалившиеего интеллектуалы.Деловтом,что«ДокторСтрейнджлав»–вовсенеполитическийфильм.Он использует обычные мишени леволиберальной публики (руководство министерства обороны, Техас, жевательная резинка, механизация жизни, вульгарность американцев) и толкуетихвсовершеннопостполитическойманерекакого-нибудьMadMagazine.Насамом деле это очень веселый фильм. Его жизнерадостность выгодно контрастирует (в ретроспективе) с малокровием чаплинской ленты. И концовка «Доктора Стрейнджлава» с его прямо предъявленным публике зрелищем ядерного апокалипсиса и залихватской мелодиейWe’llMeetAgainзабавнымобразомзвучитутвердительно,посколькунигилизм– нашанынешняяформаморальногоподъема.Такжекак«Великийдиктатор»–это, вдухе Народного Фронта, оптимизм для массового потребления, «Доктор Стрейнджлав» – нигилизмдлямассовогопотребления,обывательскийнигилизм. Что удачно в «Великом диктаторе», это одиночные, аутические проявления изящества, вроде пантомимы Хинкеля с воздушным шаром в виде глобуса, а также юмор «маленьких людей»,какв сцене,гдеевреи тянутжребий,ктостанетисполнителемсамоубийственной миссии, и разбирают куски пудинга, тогда как роковая монетка запечена в каждом ломте. Это вечные элементы комедии, которые развиты Чаплином, наклеившим поверх них малоубедительную политическую карикатуру. Точно так же все удачное в «Докторе Стрейнджлаве»почерпнутоиздругоговечногоисточникакомедии–сумасбродства.Лучшее в фильме – это безумные фантазии о всеобщем ядерном заражении, излагаемые психотическим генералом Джеком Д. Риппером (его с нестерпимым блеском играет СтерлингХэйден),суперамериканскиеклишеителодвижениягенералаБакаТёрджисона, бизнесмена-военачальника в духе Ринга Ларднера (его исполнил Джордж Скотт) и эйфорическая дьявольщина самого доктора Стрейнджлава, нацистского ученого-инвалида, чьяправаярукаемунеподчиняетсяихочетегоуничтожить(ПитерСеллерс).Особыечерты немой комедии (а «Великий диктатор», что существенно, немой фильм) – это чисто зрительноескрещениеизящества,безумияипафоса.«ДокторСтрейнджлав»разрабатывает другую классическую жилу комедии, как зрительную, так и словесную, – идею юмора. (Отсюда в фильме говорящие фамилии персонажей, в точности как у Бена Джонсона.) Но отмечу, что оба фильма используют для охлаждения чувств аудитории одинаковый прием: один актер исполняет несколько главных ролей. Чаплин играет маленького евреяцирюльника и диктатора Хинкеля. Селлерс играет относительно здравого британского офицера, слабовольного американского президента и нацистского ученого; вначале предполагалось,чтоонисполнитещеичетвертуюроль–майора«Кинг»Конга(егосыграл в фильме Слим Пикенс), который направляет самолет с атомным зарядом на советскую Машину Судного Дня. Не будь этого приема, когда один актер исполняет морально не совместимые роли, и без подсознательно подрывной реальности всего сюжета сомнительное превосходство комической отстраненности над морально безобразным или пугающимзрелищемоказалосьбыневозможным. Еслисравниватьдваэтихфильма,то«ДокторСтрейнджлав»слабей.Многое(хотяине все) в его юморе кажется мне вторичным, подростковым, перехлестывающим. А когда комическое ослабевает, начинает просачиваться серьезное. И тогда возникает серьезный вопросомизантропии,вперспективекоторойтемамассовогоуничтожениятолькоиможет выглядеть комичной… На мой вкус, единственным удачным зрелищем на общественно значимыетемы,представленнымэтойзимой,былавещьчистодокументальнаяи,вместес тем, комедийная. Я имею в виду смонтированный Дэниэлом Толбетом и Эмилем де Антонио из архивного телевизионного материала девяностоминутный фильм о маккартистскихслушаниях1954года.Десятьлетспустяонипроизводятсовершеннодругое впечатление. Все тогдашние «бравые парни» – министр обороны Стивенс, сенатор Саймингтон, главный советник Уэлч и остальные – сильно повыцвели, выглядят как полудурки,нулибезпалочки,простофили,придирыилипопростусоглашатели.Авотнаих антагонистов фильм неодолимо подталкивает нас смотреть эстетически, наслаждаясь зрелищем. Рой Кон с его смуглым лицом, гладко зачесанными назад набриолиненными волосами и двубортным пиджаком в полоску выглядит в точности как молодой партнер в гомосексуальной паре из криминальных лент студии «Уорнер Бразерс» тридцатых годов. Вечно небритый, суетящийся, подхихикивающий Маккарти смотрится и ведет себя ровно как У. К. Филдс в его самых запьянцовских, злодейских, косноязычных ролях. Так, эстетизировав важное общественное событие, «Процедурный вопрос» стал настоящей «чернойкомедией»ивместестемлучшейполитическойдрамойсезона. [весна1964] 2 Ходовойвалютойвбольшинствеморальныхиобщественныхотношенийслужитстарый театральный прием: персонификация, маска. И в пьесах, и в нравоучениях сознание пользуется простыми, однозначными образами, по которым легко установить личность и которые тут же возбуждают любовь или ненависть. Маски – высоко эффективный, самый короткийпутькопределениюдобродетелейипороков. Когда – то гротескный образ эксцентричного – ребяческого, необузданного, сластолюбивого–«чернокожего»быстросделалсявамериканскомтеатреосновноймаской добродетели. Определенностью облика чернокожий даже превосходит «еврея», внешние признаки которого зыбки. (Частью традиционной веры в более высокие социальные позиции еврейства было мнение, что евреи стараются не выглядеть как «евреи». Чернокожие же всегда выглядят как «чернокожие», хотя, конечно, не всегда к этому стремятся.) По исключительности страданий и жертв «чернокожий» намного опередил любого из своих соперников в Америке. Всего за несколько лет старый либерализм, основнойфигуройкотороговыступалеврей,сменилсяновойвоинственностью,длякоторой главныйгерой–чернокожий.Ихотянастроение,вызвавшееподъемэтойвоинственности– и значимости «чернокожего» как героя, – может отвергать идеи либерализма, одна черта либерального мировосприятия сохранилась в неприкосновенности. Мы по-прежнему избираемвоплощениянашихдоблестейсрединашихжертв. В театре, как и среди образованных американцев в целом, либерализм потерпел двусмысленноепоражение.Бросающиесявглазаморализмипроповедничествотакихпьес, как «В ожидании Лефти», «Стража на Рейне», «Завтра весь мир», «Глубокие корни», «Суровое испытание» (а все это классика бродвейского либерализма), сегодня представляютсяабсолютнонеприемлемыми.Однакобедаэтихпьес,наболеесовременный взгляд,невтом,чтоонистремятсяобратитьаудиториювсвоюверу,анепросторазвлечь ее. Беда, скорее, в том, что они слишком оптимистичны. Они исходят из мысли, что все проблемы можно разрешить. Пьеса Джеймса Болдуина «Блюз для мистера Чарли» тоже проповедь. Признавая это официально, Болдуин сказал, что его пьеса во многом вдохновлена делом Эмметта Тилла, а в тексте театральной программки, подписанном режиссером-постановщиком, можно было прочесть, что пьеса «посвящается памяти Медгара Эверса, его вдове и детям, а также памяти детей, убитых в Бирмингеме». Но болдуиновская проповедь – уже нового типа. В «Блюзе для мистера Чарли» бродвейский либерализмразгромленбродвейскимрасизмом.Либерализмпроповедуетполитику,тоесть решение проблем. Расизм считает политику чем-то внешним (и стремится выйти на более глубокий уровень); он упирает на неизменное. Обнажая этот фактически непреодолимый разрыв,из-подновоймаски«чернокожего»какчеловекамужественного,несгибаемого,хотя ипо-прежнемууязвимого,показываетсяееизнанка,ещеоднановаямаска–«белого»(как подвид – «белого либерала»), существа безжалостного, лживого, сексуально никчемного, кровожадного. Ниодинздравомыслящийчеловекнехотелбывернутьстарыемаски.Ноэтонезначит, чтоновыемаскивовсемубедительны.Дажепринимаяих,нельзянезаметить,что,выходя на авансцену, новая маска «чернокожего» подчеркивает роковую неизбежность расового антагонизма. И если Д. У. Гриффит мог назвать свой знаменитый, белый и супермачистскийфильмобистокахку-клукс-клана«Рождениенации»,тоДжеймсБолдуин, учитывая открытый политический посыл его «Блюза для мистера Чарли» («мистером Чарли» афроамериканцы именуют «белого человека»), мог бы с полным правом назвать свою пьесу «Смерть нации». Ее действие разворачивается в маленьком южном городе и начинаетсягибельюдерзкого,мятущегосячернокожегоджазистаРичарда,азаканчивается оправданиемегобелогоубийцы,обидчивогоиневнятногомолодогопарняпоимениЛайли моральным поражением местного либерала Парнелла. Тот же, и даже еще более мощный упор на мучительную концовку отличает одноактную пьесу Лероя Джонса «Летучий голландец», идущую сейчас вне Бродвея. В «Летучем голландце» молодой чернокожий геройсидитскнигойввагоненью-йоркскойподземкиираздумываетосвоем;кнемутам сначала пристает, потом долго поддразнивает и насмехается над ним, доводя его до вспышкигнева,азатемубиваетвнезапнымиудараминожавгрудьраздосадованнаямолодая проститутка и, пока его тело валяется на обозрении других, белых пассажиров, переносит внимание на нового, только что вошедшего в вагон молодого чернокожего. В новых постлиберальныхморалистическихпьесахсамоеважноето,чтодобродетельповержена.И «Блюз для мистера Чарли», и «Летучий голландец» сосредоточены на шокирующем убийстве, хотя в этой последней пьесе убийство, если исходить из более или менее реалистических деталей предыдущего действия, выглядит попросту неправдоподобно и кажется (в драматургическом плане) грубым, наскоро приделанным, надуманным. Но убийство освобождает от предписания сохранять сдержанность. Главное здесь (в том же драматургическомплане),чтобелыйодержалпобеду.Убийствооправдываетгневавтораи обезоруживаетбелуюаудиторию,котораявынужденазадуматься,ачтобудетснею. Потому что на самом деле нам прочитана великолепная проповедь. Болдуина не интересуеттотнеоспоримыйфакт,чтобелыеамериканцыжестокообращаютсясчерными американцами.Нампоказываютнесоциальнуювинубелых,аихболеенизкийуровенькак человеческих существ. Это прежде всего означает их более низкий сексуальный уровень. Насмешки Ричарда над своими неудачными опытами с белыми женщинами еще раз подчеркивают, что единственные эпизоды любви – в одном случае плотской, в другом романтической – у двух белых болдуиновских героев, Лайла и Парнелла, были пережиты ими с чернокожими женщинами. Угнетение чернокожих белыми выступает здесь классическимпримеромресентимента,описанногоНицше.Быложутковатосидетьвтеатре на52-йулицеислушать,какпублика,средикоторойнасчитывалосьнемалочернокожих,но преобладали все же белые, одобрительными возгласами, смехом и аплодисментами встречала каждое предложение, поносившее белую Америку. Все-таки задевали тут не какого-то экзотического заморского Другого вроде алчного еврея или вероломного итальянца в елизаветинской драме. Это касалось большинства присутствовавших в зале. Вряд ли можно объяснить такое замечательное согласие большинства выслушивать проклятия в собственный адрес одним лишь чувством социальной вины. Пьесы Болдуина, равно как его эссе и романы, без сомнения затрагивают другой, неполитический нерв. Тольковскрываясексуальнуюнесостоятельность,мучающуюнаиболееобразованныхбелых американцев,озлобленнаяриторикаБолдуинамоглавыглядетьсправедливой. Однакоодобрительныевозгласыирукоплескания,ачтодальше?Маскиелизаветинского театра были экзотикой, фантазией, игрой. Шекспировская публика не выплескивалась из театра «Глобус», чтобы растерзать еврея или вздернуть флорентинца. Моральный смысл «Венецианскогокупца»–невподстрекательстве,авупрощении.Маскиже,выставленные для наших насмешек в «Блюзе для мистера Чарли», – часть нашей реальности. И болдуиновскаяриторика–подстрекательская,дажееслибыонаразвязывалакому-торукив куда более огнеупорной ситуации. Ее результат – не идея действия, а компенсаторное удовлетворение ярости, явно перенаправленное на сцену для того, чтобы скрыть внутреннюютревогу. Какискусство«БлюздлямистераЧарли»садитсянамельотчастипотемжепричинам, покоторымбуксуеткакпропаганда.Болдуинвполнемогсделатьизагиптроповскойсхемы (благородная,красиваячернокожаястуденческаямолодежьпротивтупыхипорочныхбелых обывателей) что-то лучшее, но тут у меня нет претензий. В конце концов, из морального упрощениявырослонескольковыдающихсяпроизведенийискусства.Ноэтапьесавязнетв повторах, несообразностях, многажды теряя из виду цели фабулы и сюжета. К примеру: труднопредставить,чтобывгородке,охваченномволнениямивокруггражданскихправ,где произошло убийство на расовой почве, белый либерал Парнелл мог совершенно свободно, невстречаяобвиненийвпредательстве,перемещатьсяотбелогосообществакчернокожему и обратно. Или еще: маловероятно, чтобы Лайл, близкий друг Парнелла, и его жена не пришли в замешательство и гнев, когда Парнелл разрешил привлечь Лайла к суду по обвинению в убийстве. Возможно, эта потрясающая невозмутимость должна в болдуиновскойриторикезаниматьстолькожеместа,каклюбовь.Алюбовьздесьвсегдапод рукой–универсальноесредстворешениявсехпроблем,почтикакуПэддиЧаефски.Иеще: на фоне показанных нам чувств, внезапно вспыхнувших между Ричардом и Джуанитой буквально за несколько дней до убийства Ричарда, не очень убедительно звучат ее позднейшиесловаотом,чтоРичарднаучилеелюбить.(Уж скорее,Ричардтолько-только начал, и впервые в жизни, учиться любить у нее самой.) Но важней другое: все противостояние Ричарда и Лайла, с явными тонами сексуального соперничества двух мужчин,кажетсянедостаточномотивированным.УРичардапопростунетпричин–кроме желанияавторанаделитьегосоответствующимирепликами–привязыватьковсему,чтоон сделал, тему сексуальной зависти. И, даже если не говорить о выраженных при этом чувствах, совершенно гротескно – и по-человечески, и по-актерски – звучат предсмертные словаРичарда,когдаонстремяпулямивживотекорчитсяуногЛайла:«Белый!Мненичего от тебя не нужно. У тебя нет ничего, что ты можешь мне дать! Ты не можешь почеловечески поговорить, оттого что никто не хочет с тобой разговаривать. Ты не можешь потанцевать, потому что тебе не с кем танцевать… Ладно, ладно, ладно… Стереги свою старуху,слышишь?Неподпускайеекнеграм.Ейэтоможетпонравиться…»[28]. Возможно,причинатого,чтов«БлюзедлямистераЧарли»–ив«Летучемголландце»– кажется натужным, истеричным и неубедительным, лежит в довольно сложной подмене, которойподвергаласьистиннаятемапьесы.Казалосьбы,речь–вобеихвещах–орасовом конфликте.Новнихобеихрасоваяпроблемаподается,какправило,втерминахсексуальных отношений.Болдуин,надопризнать,наэтотсчетникогданичегонескрывал.Онобвиняет белую Америку, отнимающую у чернокожих их мужское достоинство. В чем белые отказываютчернокожим(икчемупоследниестремятся),этосексуальноепризнание.Отказ в таком признании – или, в перевернутом виде, отношение к чернокожим как всего лишь объектам похоти – вот что, по сути, мучит чернокожих. Как явствует из болдуиновской эссеистики, его доводы снова и снова бьют в ту же цель. (Что, понятно, не мешает рассматривать другие, – политические, экономические – последствия угнетения чернокожих.) Но то, что можно прочесть в последнем романе Болдуина или увидеть в постановке«БлюзадлямистераЧарли»,убеждаетужекудаменьше.Ивромане,ивпьесе расоваяситуациястановится,намойвзгляд,своегородакодомилиметафоройсексуального конфликта. Но сексуальную проблему нельзя полностью замаскировать под расовую. Они требуютразныхтональностей,включаютразныекомплексычувств. Правдавтом,что«БлюздлямистераЧарли»–нето,чемхочетказаться.Вродебыречьо расовом раздоре. Но по сути – о боли табуированных сексуальных желаний, о кризисе личности из-за столкновения этих желаний, о ярости и разрушении (а часто и саморазрушении),спомощьюкоторыхгероипытаютсяпреодолетькризис.Короткоговоря, предметздесьпсихологический.ИзвнеэтоможетпоказатьсяОдетсом,новнутри–чистый ТеннессиУильямс.ДостижениеБолдуинавтом,чтоонвзялглавнуютемусерьезноготеатра пятидесятых – тему сексуальной неудовлетворенности – и переработал ее в политическую драму. В «Блюзе для мистера Чарли» скрыт сюжет, принесший успех нескольким пьесам последнего десятилетия: отвратительное убийство красивого и мужественного молодого человекасоперником,завидующимегомужественности. Фабулав«Летучемголландце»примернотаже,добавлентолькомотивтревоги.Вместо завуалированного гомоэротического замешательства в «Блюзе для мистера Чарли» здесь источник беспокойства – классовый. Собственный вклад Лероя Джонса в мистику сексуальности чернокожих – это не затрагивавшийся в «Блюзе» вопрос о том, что значит быть настоящим чернокожим. (Действие болдуиновской пьесы происходит на Юге; может быть, проблема Джонса может возникнуть лишь на Севере.) Клэй, герой «Голландца» – принадлежащий к среднему классу чернокожий из Нью-Джерси. Он закончил колледж и хочетписатьстихи,какБодлер,егочернокожиедрузьяговорятсбританскимакцентом.В начале пьесы он как бы в некотором промежуточном состоянии. Но к концу, раздосадованный и подстрекаемый Лулой, Клэй раскрывает свое подлинное «я», он перестаетбытьлюбезным,обходительным,благоразумнымипоказываетвсюсвоюсущность чернокожего: иными словами, смертельную ярость по отношению к белым, которую чернокожие, проявляя ее или нет, всегда носят в сердце. Он, по его словам, не станет убивать.Следомубиваютегосамого. Конечно,«Летучийголландец»–вещьболеескромная,чем«БлюздлямистераЧарли». В ней одно действие и только два говорящих героя – это идущая от Стриндберга форма дуэли между полами со смертельным исходом. В лучших своих моментах, в начальном обменерепликамимеждуКлэемиЛулой,пьесалаконичнаиубедительна.Новцелом–если ретроспективно посмотреть на нее, отталкиваясь от неожиданной фантазии в самом конце, – она выглядит взвинченной, утрированной. Роберт Хукс в роли Клэя достаточно тонок, но сексуальные конвульсии и хрипы Дженнифер Уэст, играющей Лулу, по-моему, невыносимы. В «Голландце» есть намек на эмоциональную раскрепощенность какого-то нового, достаточно многословного склада, которую, за неимением лучшего слова, я бы назвалаолбиевской.Нотольконамек,ахотелосьбы,конечно,увидетьбольше…Напротив, «Блюз для мистера Чарли» – длинная, сверхдлинная, хаотичная пьеса, а по сути некая антология, сумма тенденций, характерных для больших и серьезных американских пьес последних тридцати лет. В ней множество сцен морального подъема. Она продолжает праведныебоизаправогрубовыражатьсянадраматическойсцене,одерживаявэтомновые, блистательные победы. И разрабатывает усложненную, претенциозную форму рассказа: повествование движется неуклюжими флешбэками, которые обрамлены неработающим хоромскем-товродедиск-жокеямировойистории,тайногораспорядителяпьесы,носящего наушники и весь вечер возящегося со своей аппаратурой. Сама постановка драмы БёрджессомМередитомколеблетсямеждунесколькимиразнымистилями.Реалистические эпизодыудаютсялучше.Новпоследнейтрети,когдадействиепереноситсявзалсуда,пьеса терпит полный крах. Все претензии на правдоподобие отбрасываются, ни малейшего соответствия ритуалам суда, будь то даже в беспросветном Миссисипи, нет и в помине, а пьесакрошитсядокусковвнутреннегомонолога,предметыкоторогонеимеютотношенияк собственно действию, то бишь суду над Лайлом. В последней части пьесы Болдуин как будто решил ослабить ее драматическую силу, и режиссеру ничего не оставалось как последовать за ним. При всей дряблости постановки, в пьесе немало актерских удач. Рип Торн,сексуальнопривлекательный,агрессивныйЛайл,явнозатмеваетостальных,смотреть на него одно удовольствие. Трогателен Эл Фримен в роли Ричарда, хотя на него взвалили несколько до невозможности слезливых реплик, особенно в сцене момента-истины-привстрече-с-отцом, без которой не обходится ни один серьезный бродвейский театр последнего десятилетия. Одна из лучших актрис сегодня Дайана Сэндс хороша и в невозможнойролиДжуаниты,заисключениемэпизода,вызвавшегонаибольшиепохвалы,– ееисполненнойурампылицомкзрителямариискорбипоРичарду,которая,намойвкус, ужасающенатужна.ПэтХинглвролиПарнелла,актер,впечатляющезабальзамированныйв найденнойимоднаждыманере,остаетсятойженерешительнойинеуклюжей«мамочкой», какимбылвпрошломгоду,играямужаНиныЛидсвпостановке«Страннойинтерлюдии», показаннойСтудиейактера. Лучшими в театре последних месяцев были, по-моему, вольные инициативы, использующиемаску,клишечеловеческогохарактерачистокомически. Вмаленькомтеатрена4-йулицеИст-Сайдадвапонедельничныхвечеравмартешлидве короткие пьесы – «Генерал возвращается из пункта А в пункт Б» Фрэнка О’Хары и «Крещение»ЛерояДжонса.Первая–цепочкаскетчей,втягивающаякого-товродегенерала МакартуравместесегоштабомвбеспрестанноекружениепоТихоокеанскомупобережью; вторая (как и «Летучий голландец») начинается более или менее реалистически, а заканчиваетсяабсолютнойфантастикой:этопьесаосексеирелигии,действиепроисходит вевангелическойцеркви.Нитанидругаянеслишкомлюбопытныкакпьесы–этоскорее театр, чем литература. Главный их интерес для меня состоял в участии поэта и андеграундного кинорежиссера, бесподобного Тейлора Мида. (Раньше он появлялся в «Похитителецветов»РонаРайса.)Мид–костистый,плешивый,вислобрюхий,сутулый,без кровинкивлицемолодойчеловек,эдакийизнуренныйиженоподобныйГарриЛэнгдон.Как может до такой степени физически неброский, неприглядный парень быть настолько неотразимым на сцене – загадка, но от него не отведешь глаз. В «Крещении» Мид потрясающе изобретателен и забавен в роли гомосексуалиста в красном белье, кривляющегося, важничающего, саркастичного, панибратничающего, флиртующего в церкви, где своим чередом идет служба. В «Генерале» он еще разнообразней и даже еще привлекательней.Этовообщенестолькороль,скольконабортрюков:генералотдаетчесть, а с него сваливаются форменные брюки; генерал ухаживает за глуповатой вдовушкой, котораятопоявляется,тоисчезаетунегонапути;генералвыступаетсполитическойречью; генералвыкашиваетцветущееполесвоимщегольскимстеком;генералпытаетсязаползтив спальныймешок;генералраспекаетдвухсвоихадъютантовит.п.Главноездесь,понятно, не действия Мида, а сомнамбулическая сосредоточенность, с которой он их исполняет. Источник его искусства – самый глубокий и чистый из возможных: он целиком и без оглядки отдается любой причудливой, аутической фантазии. Нет в личности ничего более привлекательного, но такое редко встретишь в человеке старше четырех лет. Этим качествомобладаетХарпоМаркс;извеликихкомиковнемогокиноимобладаютЛэнгдони Китон, а еще эта четверка бескостных Тряпичных Энди, группа «Битлз». Что-то похожее мелькаетуТаммиГраймсвееисключительностильнойисоблазнительнойроливидущем сейчас на Бродвее и ничем, кроме нее, не привлекательном мюзикле «Высшие духи» по пьесеНоэлаКауарда«Неугомонныйдух».(БесподобнаяБиЛиллитамтожеучаствует,ното лионанераскрыласьвэтойвещи,толибыланевлучшейформе.) ОбщаячертауперечисленныхактеровотБастераКитонадоТейлораМидаодна:полное отсутствие рефлексии при исполнении абсолютно фантастических действий. Любой проблеск рефлексии все испортит. Зрелище станет натужным, безвкусным, даже гротескным. Разумеется, я говорю о чем-то большем, чем умение вести себя на сцене. А поскольку обычная работа в театре подразумевает высокий уровень рефлексии, то ее отсутствие стоит искать, скорее, в неформальной обстановке, в которой действие «Генерала»и«Крещения»какразиразвивается.Янеуверена,чтовдругихусловияхигра ТейлораМидабылабытакойудачной. Какбытамнибыло,самоеважноедляменятеатральноесобытиепережилопересадкуиз полулюбительской обстановки во внебродвейский театр – по крайней мере переживало, когда я эту вещь в последний раз видела. «Домашнее кино» показали в марте на хорах Мемориальной церкви Джадсона у Вашингтон-сквер, а затем перенесли в Провинстаунплейхаус. Сцена представляет собой дом. Действующие лица: мать, вылитая МаргаретДюмон;суператлетическийусастыйотец;ихувядшаяиплаксиваядевственницадочь; женоподобный юноша; краснощекий заикающийся поэт, боксер-любитель; пара непоседливых священнослужителей – отец Шенаниган и сестра Талия; а также любезный чернокожий разносчик с толстым длиннющим карандашом. Есть некоторые намеки на сюжет:отец,повидимости,скончался,матьидочьоплакиваютпотерю,друзьясемействаи священнослужителивыражаютположенныесоболезнования,ивдругпосредиэтоговсегона сцену доставляют отца, живого и брыкающегося в платяном шкафу. Но это неважно. В «Домашнем кино» существует только то, что перед нами: привлекательные персонажи входятивыходят,складываютсявразныекартиныипоют,обращаясьдругкдругу.Вживом и остроумном сценарии Розалин Дрекслер древнейшие прописные истины и наивздорнейший вздор излагаются с одинаковой торжественностью. «Это правда», – говорит один из героев. «Конечно, – отзывается другой. – Страшную правду только так и говорят:шепотом».Мягкостьитеплота«Домашнегокино»порадовалименядажебольше, чем его юмор, и во многом это связано с восхитительной музыкой, сочиненной Элом Кармайнсом (диакономМемориальнойцерквиДжадсона)исыграннойимнафортепиано. Лучшиеномера–танго,спетоеистанцованноесестройТалией(ШейндиТокайер)иотцом Шенаниганом(ЭлКармайнс),веселыйстриптиз,показанныйПитером(ФреддиГерко)иего дуэты с госпожой Верден (Гретель Каммингс), а также песенка «Хрустящий арахис», которой заливалась служанка Вайолет (Барбара Энн Тир). «Домашнее кино» – презабавнейшая вещь. Актеров на сцене тоже забавляет то, что они делают. Кто-то сурово потребует от театра большего – великих пьес, великих исполнителей, великих постановок. За неимением оных, приходится надеяться на энергию и радость, а их сегодня скорее найдешь в таких далеких местах, как Мемориальная церковь Джадсона или павильон Сьерра-Леоне на Всемирной ярмарке, нежели в центре города и даже во внебродвейских театрах. В плюс здесь идет и то, что «Домашнее кино», «Генерал», «Крещение» – строго говоря, не пьесы. Это сценические события типа «съешь тут» – шуточные, смешные, беззаботные, не испытывающие ни малейшего почтения к «театру» и «пьесе» с большой буквы.Нечтоподобноепроисходитивкино:вфильмебратьевМейзелсобитловскомтурне поАмерике«Чтослучилось»большежизнииискусства,чемвовсехамериканскихигровых лентахэтогогода. А под конец – и по месту, и по значению – несколько слов о двух шекспировских постановках. Из опубликованного в 1937 год у блистательного эссе Джона Гилгуда «Гамлетовская традиция–несколькозаметококостюме,сценографииипостановке»легкосделатьвыводо характерных просчетах нынешней гилгудовской версии «Гамлета», показанной в НьюЙорке.Скажем,Гилгудпредостерегалоттого,чтобыигратьвторуюсценупервогоакта–в которойГамлет,КлавдийиГертрудавпервыепоявляютсявместе–каксемейнуюссору,ане как формальное тайное совещание, первое (полагающееся по традиции) после восшествия Клавдиянапрестол.ОднакоименноэтоипозволилсебесделатьнынешнийГилгудвнью- йоркском спектакле, где Клавдий и Гертруда выглядят как потерявшая терпение супружескаяпараизпригорода,выясняющаяотношениясотбившимсяотрукединственным сыном. Другой пример: говоря о тени Отца, Гилгуд убеждал не преувеличивать ее призрачность,усиливаямикрофономголос,доносящийсякакбыиз-засцены,анеиспользуя реальный голос актера, находящегося на сцене и видимого зрителям. Все должно делать Тенькакможноболеереальной.НовнынешнейпостановкеГилгудполностьюпожертвовал физическим присутствием Тени. Она на этот раз – действительно тень: записанный на пленку голо с (самого Гилгуда) глухо отдается в зрительном зале, а на заднике стены обрисовывается гигантский силуэт… Но доискиваться, почему режиссер решил тот или инойэпизодтак,анеиначе,можнодолго.Вцеломжепостановкапроизводитвпечатление полногобезразличия,какбудтоупьесывообщенебылорежиссуры,кроме–напрашивается вывод – той, которая придумала всю эту невыразительность, и прежде всего визуальную. Взять хотя бы костюмы: большинство актеров, будь то придворные или солдаты, ходят в поношенных широких брюках, свитерах и ветровках, Гамлет – в узких брюках и футболке (черных),КлавдийиПолонийносятаккуратныеделовыекостюмы,наГертрудеиОфелии– длинные юбки (на Гертруде еще норковая накидка), а на короле и королеве из «пьесы в пьесе» – пышные наряды и золотые маски. Эта нелепый прием – кажется, единственная идеянынешнейпостановки,иназываетсяона«играть“Гамлета”врепетиционнойодежде». Отпостановкиполучаешьтолькодваутешения.СлышаголосДжонаГилгуда,пустьдаже всинерамовскойзаписи,можнопонять,какзвучатпрекрасныешекспировскиестихи,если онипроизнесенысумомиизяществом.АбесподобныйДжорджРоузвэпизодическойроли могильщика возвращает весь блеск шекспировской прозе. Остальные исполнители не рождаютничего,кромеразныхоттенковогорчения.Всеоникакодинчастят;нодажеесли этого не замечаешь, одни едва дотягивают до среднего уровня, а других, как, скажем, исполнителей Лаэрта и Офелии, можно выделить разве что за исключительную неподготовленность и бесчувствие. Стоит, однако, добавить, что Эйлин Херли, никакая в нынешнейГертруде,потрясающесыгралаэтурольвфильме,снятомЛоуренсомОливьелет пятнадцатьназад.АРичардБёртон,несделавшийрешительноничегоизвозможноговроли Гамлета,оченьпривлекателенсобой.Однозамечание:всюсценусмертиГамлетаонпровел стоя,хотявполнемогбысесть. НоедваудалосьопомнитьсяотбесцеремонностиГилгуда,показавшегошекспировскую пьесу во всей наготе без какой бы то ни было интерпретации, как в Нью-Йорк привезли шекспировскую постановку, которая, как бы мягко ни выражаться, испорчена избытком интерпретации и излишком мысли. Это прославленный «Король Лир» Питера Брука, который был два года назад поставлен в Стратфорде-на-Эйвоне, встречен овациями в Париже,всейВосточнойЕвропеиРоссии,атеперь–болееилименееневнятно–сыгранв ТеатрештатаНью-Йорк(который,каксталотеперьизвестно,предназначался,собственно, длямузыкиибалета),вЛинкольн-центре.Еслигилгудовский«Гамлет»обошелсябезмысли истиля,тобруковскийперегруженидеями.Пишут,чтоБрук,вдохновленныйнедавнимэссе польского шекспироведа Яна Котта, где Шекспир сопоставлен с Беккетом, задумал поставить«КороляЛира»каксвоегорода«Конецигры».Гилгудвапрельскоминтервьюв Великобритании упомянул, что, по сказанным ему Бруком словам, основную идею нынешней постановки подсказала вызвавшая споры гилгудовская «японская» версия «Короля Лира» 1955 года (с декорациями и костюмами Ногути). Тот, кто сверится с «путеводителем по Лиру» Чарльза Маровица, помощника Брука в стратфордовской постановке1962года,обнаружитидругиевлияния.Но,вконцеконцов,сутьпостановкине сводится к идеям. Суть – это то, что публика видит и, если посчастливилось, слышит. То, что увидела я, было достаточно тускло или, если хотите, аскетично, но вместе с тем причудливо. Я не смогла увидеть, чего добился режиссер, сведя на нет кульминационные точки пьесы – нивелировав тирады Лира, почти сравняв по объему сюжеты Лира и Глостера, вырезав такие «человечные» пассажи, как порыв регановой дворни оказать помощь только что ослепленному Глостеру или попытки Эдмунда отменить расправу над КорделиейиЛиром(«Предсмертьюсделатьяхочудобро,/Хотьэтонепривычномне»[29]). Несколько исполнителей – Эдмунд, Глостер, шут – вели себя изящно и вразумительно. Но вседействовалиподпрямо-такифизическиощутимымдавлением,стремясьодновременнок предельнойвыразительностиипредельнойсдержанности,чего,видимо,идобивалсяБрук, когда избирал из всех вариантов самый необычный, как в сценах бури – заливая сцену светом и оставляя ее совершенно голой. Лир Пола Скофилда поражал необыкновенной просчитанностью исполнения. Как Лир-старик, с его умением слышать только себя, грубыми движениями и аппетитами, он был особенно великолепен. Но я так и не увидела смысла в его настойчивом уходе от возможностей роли как таковой, скажем, когда он изображалсумасшествиеЛираидотогопричудливоменялвысотуголоса,чтозаглушалпри этом всю эмоциональную силу реплик. Единственным исполнителем, нашедшим силы преодолеть ту странную, выворачивающую суставы интерпретацию, которую Брук навязал своим актерам, и даже использовать ее себе на пользу, оказалась Ирен Уорт с ее многомерной и даже вызывающей в чем-то симпатию Гонерильей. Она, кажется, не оставила неизученным ни один уголок своей роли и, в отличие от Скофилда, нашла в каждомизнихкудабольше,чемктобытонибылодонее. [лето1964] Пер.БорисаДубина Марат/Сад/Арто Основное и прекраснейшее из достоинств природы – движение, не оставляющее ей ни минуты покоя. Однако движение это есть лишь непрекращающееся следствие преступления; и одними преступлениями оно и может поддерживаться. Сад Всякое действие есть жестокость. Обновление театра должно строиться именно на этой идее действия, доведеннойдокрайностиидосвоегологическогопредела. Арто Театральность и безумие – две самые мощные темы современного театра – блестяще объединены в пьесе Петера Вайса «Преследование и убийство Жан-Поля Марата, представленноеактерскойтруппойгоспиталявШарантонеподруководствомгосподинаде Сада».Еетема–постановка,разыгрываемаяпередпубликойвтеатре;действиепроисходит в сумасшедшем доме. Пьеса основана на реальных событиях – в рамках просвещенной политики г-на Кульмье, директора психлечебницы в пригороде Парижа, куда Сад был помещен по приказу Наполеона на последние 11 лет его жизни (1803–14), пациентам Шарантона позволялось ставить пьесы собственного сочинения; спектакли были открыты дляпарижскойпублики.Известно,чтоСад,воспользовавшисьэтойвозможностью,написал и поставил в Шарантоне несколько таких пьес (все они утеряны), и пьеса Вайса как бы воссоздает одну из тех постановок. За окном – 1808 год, вокруг – спартанский кафель умывальнисумасшедшегодома. Театральность, пронизывающая искусно задуманную пьесу Вайса, по-особенному современна:большаячасть«Марата/Сада»–этотеатрвтеатре.ВпостановкеПитераБрука, премьера которой состоялась в Лондоне в прошлом августе, постаревший, обрюзгший и взлохмаченныйСад(егоиграетПатрикМэги)сидитбездвиженияслеванасцене–руководя актерами(припомощидругоготакогожепациента,своегородарежиссера-постановщикаи рассказчика), наблюдая, комментируя. Г-н Кульмье во фраке с церемониальной красной перевязью и в со провождении элегантно одетых жены и дочери на протяжении всего представления сидит на сцене справа. Но немало здесь и театральности в традиционном смысле – пьеса настойчиво обращается напрямую к нашим зрению и слуху. Квартет обитателейлечебницысосвалявшимисяволосамиисвыбеленнымилицами,вырядившисьв разноцветную мешковину и войлочные шляпы, язвительно распевает безумные куплеты, тогда как другие, кривляясь, разыгрывают содержание этих песенок; пестрый наряд этой четверкиконтрастируетсбесформеннымибелымиблузамиилисмирительнымирубашками и белесыми лицами большинства прочих пациентов – актеров этой мистерии на тему Французской революции. Декламация текста под руководством маркиза постоянно прерывается блистательными выплесками настоящего безумия, самым впечатляющим из которых становится сцена массового гильотинирования, когда одни пациенты скрежещут жестяной посудой, стучат фрагментами оригинальных декораций и сливают в сток целые ведра краски(крови), адругие радостнопрыгают в яму поцентрусцены,так,чторядомс гильотинойостаютсяторчатьлишьихголовы. В постановке Брука безумие оказывается наиболее аутентичным и чувственным проявлением такой театральности. На безумии основывается заразительность и интенсивность«Марата/Сада»,захватывающиенасссамойпервойсцены,когдапохожиена призраков пациенты, отобранные для участия в пьесе Сада, лежат, сжавшись в положении зародыша, качаются в кататоническом ступоре, дрожат в треморе или повторяют без остановки им одним понятные ритуалы, а потом вдруг, спотыкаясь, бросаются навстречу учтивому г-ну Кульмье, поднимающемуся с семьей на сцену и направляющемуся к платформе, с которой им предстоит наблюдать за представлением. Безумие становится и мерой интенсивности игры актеров: Сада, который декламирует свои длинные монологи сквозьзубыстягостномонотоннойнарочитостью;Марата(висполненииКлайваРевилла), закутанноговмокрыепростыни(прописанныетомудлялечениякожногозаболевания)ина протяжении всего действа не вылезающего из переносной металлической ванны – даже самые страстные реплики он произносит уставившись перед собой, как если бы уже был мертв; убийцы Марата Шарлотты Корде, в роли которой выступает очаровательная лунатичка,времяотвремениуходящаявсебяизабывающаятекст,атоипростозасыпающая прямо на сцене, так, что Саду приходится ее будить; Дюперре, депутата-жирондинца и любовника Корде в исполнении долговязого юноши с прямыми жесткими волосами, эротомана, постоянно выходящего из роли джентльмена и ухаживателя и похотливо набрасывающегося на свою партнершу (по ходу пьесы на него даже приходится надеть смирительную рубашку); Симоны Эврар, любовницы и сиделки Марата, которую играет практическиполностьюпарализованнаябольная,едваспособнаяговоритьи,посути,лишь идиотски дергающаяся в сцене перемены бандажей ее подопечному. Безумие становится избранной и самой верной метафорой страсти – или логическим завершением любого мощного переживания, что в данном случае одно и то же. Сон ли (как в сцене «Кошмара Марата»), греза ли – все они должны кончиться насилием. Сохраняя «спокойствие», вы демонстрируете,чтоневсостояниипонятьреальноесостояниепартнера.Соответственно, вслед за замедленной, как в кино, сценой убийства Марата Шарлоттой Корде (история равнозначна театру) пациенты принимаются горланить и распевать о прошедших с того временипятнадцатикровавыхгодах,аподконец«труппа»нападаетнасемействоКульмье, пытающеесяпокинутьсцену. То, как у Вайса обыгрываются театральность и безумие, делает его пьесу также игрой идей. Ядром пьесы становится непрерывный спор сидящего в кресле Сада и Марата в его ванне о значении Французской революции, то есть о психологических и политических предпосылках новейшей истории, рассматриваемой в данном случае сквозь призму предельно современного восприятия – обогащенного перспективой нацистских концлагерей.Приэтомв«Марате/Саде»неидетречьоформулированиинекоейконкретной теории опыта современности. Вайса в его пьесе, кажется, заботит не столько обоснование или интерпретация этого опыта, сколько палитра восприятия, которое на нем сосредоточено–илиявляетсяегосредоточием.Вайснепредставляетидеисвоейпублике,а, скорее,погружаетеевних.Интеллектуальныедебаты–материалпьесы,нонееетемаили цель. Обстановка лечебницы в Шарантоне гарантирует этому спору непреходящую атмосферу едва сдерживаемого насилия: при таком накале любые идеи становятся взрывоопасными.Опятьже,безумиеоказываетсянаиболееаскетичным(дажеабстрактным) и радикальным способом воспроизведения идей средствами театра: разыгрывающие Революциюсумасшедшиепо-настоящемувыходятизсебя,такчтоихприходитсяусмирять, а призыв толпы парижан к свободе внезапно превращается в вопли пациентов, требующих выпуститьихнаволю. У такой пьесы, основополагающим действием которой становится неотвратимое сползание к предельным состояниям чувства, может быть лишь две развязки. Она может замкнуться в себе и пойти по пути формализма – и тогда ее закольцованным окончанием станут начальные строчки. Или же она может обратиться вовне, нарушить границу сцены, атаковать публику. Как признавался Ионеско, изначально он планировал закончить свою дебютную пьесу «Лысая певица» массовым убийством зрителей; в другой версии – сейчас пьеса завершается тем же, с чего началась, – предполагалось, что драматург выходит на сцену и начинает осыпать публику оскорблениями, пока зал полностью не опустеет. В финале«Марата/Сада»Брук–илиВайс,илиониоба–предусмотрелисхожийактагрессии вотношениизрителей.Пациентылечебницы–тоестьактерыпьесыСада–впадаютвражи нападаютнаКульмье;ноихбунт–тоестьпьесаБрука/Вайса–прерываетсяпоявлениемна сценеуправляющейТеатраОлдвич,всовременнойюбке,джемпереикедах.Поеесвистку актеры резко останавливаются и поворачиваются лицом к аудитории. Когда же та взрывается аплодисментами, труппа отвечает медленными зловещими хлопками, перекрывающими «спонтанную» овацию и вызывающими у зрителей предельную неловкость. Восторг и наслаждение, которое доставляет мне «Марат/Сад», по-настоящему безграничны.Пьеса,премьеракоторойпрошлавЛондоневпрошломавгустеи,послухам, готовится к показу в Нью-Йорке, является одним из величайших событий в жизни любого театрала. И вместе с тем почти все – от обозревателей обычных газет до серьезных театральных критиков – встретили постановку Питера Брука градом упреков, а порой и откровеннымнеприятием.Почему? Намойвзгляд,уистоковбольшинствапридироккегоинтерпретациипьесыВайсалежат трираспространенныхстереотипа. Связьтеатра и литературы. Первый такой стереотип: драматургия – это ответвление литературы.Истинажевтом,чтооднипьесыдействительноможнооцениватьпреждевсего каклитературныепроизведения,другие–нет. Поскольку факт этот редко признается и мало кем осознается, нередко приходится слышать,что,мол,кактеатральныйфеномен«Марат/Сад»поистинеошеломителен,иредко когда случается видеть что-либо похожее на сцене – но это «режиссерская вещь», иными словами,первокласснаяпостановкавторосортноготекста.Одинизвестныйанглийскийпоэт как-то сказал мне, что на дух не выносит пьесу именно поэтому: хотя сам спектакль показалсяемувосхитительным,былопонятно,чтопонравилсяонемуисключительноиз-за участия Питера Брука. Говорят также, что версия, показанная Конрадом Свинарским в прошломгодувЗападномБерлине,неидетнивкакоесравнениеснынешнейпоразительной постановкойвЛондоне. Действительно, «Марат/Сад» нельзя отнести к величайшим шедеврам современной драматической литературы, но и второразрядной пьесой я бы его тоже не назвала. Как самостоятельныйтекст«Марат/Сад»–крепкоеизахватывающеепроизведение.Винитьтут нужно не саму пьесу, а узколобое представление о театре, которое видит в режиссере исключительно служителя драматурга, выявляющего лишь тот смысл, что был изначально заложенвтексте. Вконцеконцов,еслитекстВайсавизящномпереводеЭдрианаМитчелладействительно заметновыигрываетвсопряженииспостановкойПитераБрука,чтостого?Помимотеатра диалога (языкового), где первичен текст, существует и театр чувств. Первый я бы назвала «пьесой», а второй – «театральным произведением». В последнем случае драматург, написавший слова, которые предстоит произнести актерам под руководством режиссера, отступает на второй план. Тут «автором» или «создателем» следует, по выражению Арто, считать именно «того, кто контролирует происходящее на сцене». Искусство режиссера носит сугубо материальный характер: он работает с телами актеров, реквизитом, освещением, музыкой. И Брук являет нам блистательное и изобретательное целое – сценическийритм,костюмы,ансамблевыепантомимы.Каждуюдетальпостановки–одним из самых примечательных элементов которой стало мелодично-лязгающее музыкальное оформление Ричарда Писли, использовавшего колокольчики, цимбалы и орган, – отличает неистощимаяизобретательностьматериала,неустанноеобращениекчувствам.Однакоесть вабсолютновиртуозныхсценическихэффектахБрукаинечтораздражающее–большинству кажется,чтоониподавляютсобойтекст.Но,возможно,вэтомвесьзамысел. Янеутверждаю,что«Марат/Сад»–всеголишьтеатрчувств.Вайснаписалсложныйи интеллектуально насыщенный текст, уровню которого необходимо соответствовать. Но «Марат/Сад» требует также и восприятия на чувственном уровне, и утверждение, что всю пьесу должен нести на себе исключительно написанный и впоследствии произнесенный текст,основываетсяначистейшемпредубежденииосущноститеатралишькакответвления литературы. Связьтеатраипсихологии.Второй стереотип–драмасостоитвраскрытиихарактера, которое строится на столкновении реалистичных и правдоподобных мотиваций. Однако наиболее интересными в современном театре являются как раз пьесы, выходящие за пределыпсихологии. Опять обратимся к Арто: «Нам нужно истинное действие, но без практических следствий.Действиевтеатреразворачиваетсяненауровнеобщественныхотношенийиуж тем более не на уровне этики и психологии… Мы упорствуем, заставляя персонажей обсуждатьсвоичувства,страсти,желанияипобужденияисключительнопсихологического порядка, когда одному слову соответствуют тысяча жестов… и в этом упорстве – причина того,чтотеатрутратилсвоеистинноепредназначение». Именно отталкиваясь от этой точки зрения, тенденциозно сформулированной Арто, и можно единственно верно оценить решение Вайса поместить свою пьесу в сумасшедший дом. Очевидно, что за исключением персонажей-зрителей – г-на Кульмье, то и дело нарушающегоходпредставленияобращеннымикСадупротестами,иегоженысдочерью,у которых реплик нет, – все остальные действующие лица безумны. Но если действие «Марата/Сада» и разворачивается в «желтом доме», это не равнозначно утверждению, что весьмирсошелсума.Неидетздесьречьиопримеремодногоинтересакпсихологииили поведению психопатов. Напротив, обращение современного искусства к безумию обыкновенно отражает стремление выйти за пределы психологизма. Являя нам в своих пьесахгероевсненормальнымповедениемилиневменяемыхнасловах,такиедраматурги, как Пиранделло, Жене, Беккет или Ионеско, снимают необходимость воплощать в их действияхиливыражатьврепликахпоследовательноеидостоверноеобоснованиедвижущих ими мотивов. Освободившись от ограничений того, что Арто называет «описанием личности с помощью психологии и диалога», драматическое представление открывает для себя более рискованные, более изобретательные и более философские уровни опыта. Сказанное, разумеется, применимо не только к драме. Выбор «безумного» поведения в качестве предмета искусства сейчас стал почти классической стратегией современных художников, стремящихся преодолеть традиционный «реализм», то есть все ту же психологию. Взять хотя бы сцену, вызвавшую у многих особенные возражения – Сад убеждает ШарлоттуКордевысечьего(вверсииПитераБрукаонадляэтогоиспользуетсвоиволосы), тогда как сам он, корчась от боли, продолжает рассуждать о Революции и сути человеческого естества. Замысел этой сцены, конечно же, не в том, чтобы донести до публики, как выразился один критик, что Сад – «больной в квадрате и даже в кубе»; несправедливо и – вслед за тем же критиком – упрекать вайсовского Сада в том, что тот «используеттеатрдлясобственноговозбуждения,анедлясообщениянамчего-тонового» (почему одно должно исключать другое?). Совмещая рациональное – или почти рациональное – высказывание с иррациональным поведением, Вайс не призывает публику судить о характере, дееспособности или душевном состоянии Сада. Тут он, скорее, делает шаг в сторону театра, сосредоточенного не на персонажах, а на мощных межличностных переживаниях, этими персонажами порождаемых. Он дарит нам тот косвенный эмоциональный опыт – в данном случае опыт откровенно эротический, – которого театр давносторонится. Язык в «Марате/Саде» используется прежде всего как разновидность заклинания, не ограниченного более раскрытием характера и обменом идеями. Такое магическое применение языка становится целью еще одной сцены, которую многие зрители сочли беспричиннопредосудительнойиоскорбительной,–бравурногомонологаСада,вкотором жестокостьчеловеческойнатурытотиллюстрирует,смучительнойподробностьюописывая публичнуюказнь–чудовищнозатянутоечетвертование–Дамьена,несостоявшегосяубийцы ЛюдовикаXV. Связьтеатраиидей.И,наконец,ещеодинстереотип:произведениеискусстваследует воспринимать как выражение «идеи», «про которую» оно рассказывает, которую представляет или отстаивает. С этой точки зрения стандартом для оценки произведения искусства по умолчанию становится ценность содержащихся в нем идей и то, насколько ясноипоследовательноониизложены. Справедливобудетожидать,что«Марата/Сада»станутрассматриватьименноподэтим углом. Пьеса Вайса, при всей ее предельной театральности, также чрезвычайно интеллектуальна. То, как в ней обсуждаются глубинные проблемы современных морали, истории и восприятия, способно посрамить таких торговцев банальщиной и мнимых специалистов в этих вопросах, как Артур Миллер (ср. его идущие сейчас «После грехопадения» и «Это случилось в Виши»), Фридрих Дюрренматт («Визит старой дамы», «Физики»)иМаксФриш(«Бидерманиподжигатели»,«Андорра»).Да,синтеллектуальной точкизрения«Марат/Сад»,несомненно,озадачивает.ИдеисловнобывыдвигаютсяВайсом толькодлятого,чтобызатембытьподорваннымисамимконтекстомпьесы–сумасшедшим домом и открыто декларируемой театральностью всего происходящего на сцене. Действительно,кажется,чтоперсонажиВайсапредставляютлегкоугадываемыепозиции– еслиупрощать,тоСадвыражаетуверенностьвнезыблемостичеловеческойприродывовсей ее подлости, в чем ему противопоставляется революционный пыл Марата и его убежденность в способности человека меняться под влиянием истории. Сад полагает, что «мир состоит из тел», Марат – из сил. Страстно отстаивать те или иные идеи случается и второстепенным персонажам: Дюперре приветствует потенциальные ростки свободы, священникЖанРуобличаетНаполеона.НоСади«Марат»оба–безумцы,пустьикаждый по-своему; «Шарлотта Корде» – лунатик, «Дюперре» страдает от сатириазиса, а «Ру» – от истерических припадков насилия. Но принижает ли это цену их доводов? И, помимо всей проблематикибезумиякакконтекста,вкоторомпредставленыэтиидеи,небудемзабывать и о приеме театра-в-театре. Так, на одном уровне непрерывный спор между Садом и Маратом – где стоящее вне рамок морали утверждение первым приоритета человеческих страстейпротивостоиттомусоциальномуиморальномуидеализму,которыйприписывается второму, – выглядит спором на равных. Но на ином уровне – если вспомнить, что, по замыслу Вайса, «Марат» лишь излагает написанное Садом, – получается, что все эти идеи принадлежат Саду. Один критик даже доходит до утверждения, что, поскольку Марат вынужденно раздваивается на марионетку в садовской психодраме и на его оппонента в состязании равных по силе идеологических соперников, дискуссия сама по себе является мертворожденной. Наконец, некоторые критики поставили пьесе в вину недостаточную историческуюверностьреальнымвзглядамМарата,Сада,ДюперреиРу. Это лишь некоторые из проблем в восприятии «Марата/Сада», способные объяснить упреки пьесе в невразумительности и отсутствии интеллектуальной глубины. Но большинство как этих проблем, так и упреков на самом деле являются чистыми недоразумениями – неправильным пониманием связи между драмой и дидактизмом. К пьесе Вайса нельзя относиться так же, как к утверждениям Артура Миллера или даже Брехта.Здесьмыимеемделостеатром,такжеотличающимсяотихработ,какАнтонионии Годар отличаются от Эйзенштейна. Да, в пьесе Вайса излагаются идеи – или, скорее, ее рабочим материалом являются интеллектуальные дебаты и переоценка истории (природа человеческого естества, предательство идеалов Революции и т. д.). Но идеи в пьесе Вайса второстепенны.Вискусственеобходимосчитатьсяисинымспособомиспользованияидей – когда они служат для стимулирования восприятия. Антониони, говоря о своих фильмах, утверждал,чтостремитсяизбавитьсявнихот«устаревшейсофистикипозитиваинегатива». То же стремление проглядывает – пусть и неочевидно – в «Марате/Саде». Такая позиция, однако, не означает, что эти художники пытаются полностью избавиться от идей. Это, скорее, значит, что идеи в их работах предлагаются по-новому. Идеи могут становиться декорациями,реквизитом,обращатьсякчувствам,анекинтеллекту. Пьесу Вайса можно, скорее, сравнить с прозой Жене. Тот не столько утверждает, что «жестокость есть добро» или «жестокость свята» (что само по себе – утверждение моральное,хотяидиаметральнопротивоположноетрадиционнойморали),сколькосмещает утверждениевинуюплоскость:изморальной–вэстетическую.«Марат/Сад»,впрочем,не доконцаследуетэтомурецепту.Если«жестокость»уВайсанеявляетсявконечномсчете вопросомморали,нельзяотнестиееикэстетике.Этопроблемаонтологическая.Тогдакак сторонников эстетического прочтения «жестокости» интересует разнообразие ее жизненных проявлений, те, кто отстаивает онтологическую версию «жестокости», стремятся разыграть в своем творчестве максимально широкий контекст человеческого действия – по крайней мере шире, чем тот, что предлагает реалистическое искусство. Именно этот широкий контекст Сад и называет «природой» – и именно его Арто имеет в виду, говоря, что «всякое действие есть жестокость». В том искусстве, к которому принадлежит «Марат/Сад», присутствует моральное видение, хотя его очевидно нельзя резюмировать в «гуманистических» лозунгах (это-то и вызывает у публики такую неловкость). При этом «гуманизм» не равнозначен морали. Искусство, подобное «Марату/ Саду»,какразподразумеваетотвержение«гуманизма»какстремленияморализоватьмири темсамымотказатьсяпризнатьте«преступления»,окоторыхговоритСад. Вобсуждении«Марата/Сада»янеоднократноссылаласьнапроизведенияАрто.НоАрто – в отличие от Брехта, другого великого теоретика театра ХХ века – не оставил по себе цельногокомплексаработ,иллюстрирующихеготеориюимироощущение. Зачастую такое чувствование (или, на определенном дискурсивном уровне, теория), задающеетонтехилииныхпроизведенийискусства,можетсложитьсяпрежде,чемпоявятся значительные работы, его воплощающие. Или же теория может быть применима не к тем произведениям, для которых она изначально формулировалась. Так, например, сейчас во Франции такие писатели и критики, как Ален Роб-Грийе («За новый роман»), Ролан Барт («Критические заметки») и Мишель Фуко (эссе в «Тель Кель» и иных публикациях) разработали элегантную и убедительную антириторическую эстетику романа. Но тексты, написанные писателями из течения «нового романа» и анализируемые ими, оказываются кудаменеезначимойиудовлетворительнойиллюстрациейэтойтеории,нежелинекоторые фильмы, более того, фильмы режиссеров, французских и итальянских, которые с этой школойновыхписателейвоФранцииникакнесвязаны,–Брессона,Мельвиля,Антониони, ГодараиБертолуччи(«Передреволюцией»). Точнотакжемненекажется,чтоединственнаясценическаяпостановка,которойАрто руководил лично, – шеллиевские «Ченчи», – или радиоспектакль 1948 года. «Чтобы покончить с Божьим судом» хоть сколь-либо приблизились к воплощению блистательных рецептовновоготеатраизеготекстов,какдалекоотнихиегопубличноечтениетрагедий Сенеки. Пока что мы лишены полноценного примера сформулированной Арто концепции «театра жестокости». Ближе всего к ней подошли хеппенинги – театральные действа, лишенныекакого-либотекстаилидажевразумительнойречи,организованныевНью-Йорке и ряде других городов в последние пять лет в основном усилиями художников (Алана Капроу, Класа Олденбурга, Джима Дайна, Боба Уитмена, Реда Грумза и Роберта Уоттса). ДругимпримеромпроизведенияпочтивдухеАртоявляетсяблестящаяинсценировкапоэмы в прозе Гертруды Стайн «Что случилось», осуществленная в прошлом году Лоуренсом КорнфилдомиЭломКармайнсомвМемориальнойцерквиДжадсона.Можновспомнитьтут и о последнем спектакле нью-йоркского The Living Theater – «Бриге» Кеннета Брауна в постановкеДжудитМалины. Впрочем, даже если отрешиться от проблем конкретного сценического воплощения, пока что все упомянутые мной произведения страдают от узости масштаба и замысла, а также ограниченности чувственных средств. Этим и объясняется мой интерес к «Марату/ Саду», поскольку эта пьеса в большей степени, нежели все остальные известные мне нынешние театральные произведения, приближается к масштабности и замыслу театра Арто. (Я вынуждена оставить здесь за скобками – поскольку их не видела – работы, по описаниям, самой любопытной и целеустремленной современной труппы, Театральной лабораторииЕжиГротовскоговпольскомОполе.Отчетоеепостановках,представляющих собойамбициозноеразвитиепринциповАрто,можнонайтиввыпускеTulaneDramaReview завесну1965года.) Вместе с тем в постановке Вайса – Брука чувствуется влияние не одного только Арто. Как сообщается, Вайс сам заявлял, что в своей пьесе стремился – поразительное честолюбие!–совместитьАртоиБрехта.Действительно,можнопонять,чтоонимелввиду. Некоторые элементы «Марата/Сада» напоминают о брехтовском театре – это и действие пьесы, выстроенное вокруг спора о принципах и причинах, и использование зонгов или обращениекпубликеустамиконферансье.ОнихорошосочетаютсясзаимствованнойуАрто текстурой самой ситуации и ее сценического воплощения. Однако все не так просто. Последним из вопросов, которые поднимает пьеса Вайса, является как раз совместимость двух этих мироощущений и идеалов. Как можно примирить брехтовскую концепцию дидактического театра, театра интеллекта, с дорогим Арто театром магии, жеста, «жестокости»,чувства? Отвечая на этот вопрос, приходится признать, что, если такое примирение – такой синтез–ивозможны,Вайссделалгигантскийшагкихвоплощениюнапрактике.Отсюдаи непроходимая тупость критика, жаловавшегося на «бесплодную иронию, неразрешимые головоломки,двойнойсмысл,которыйможномножитьдобесконечности–переднамився машинерия Брехта без его проницательности или безоговорочной ангажированности», – напрочь позабыв об Арто. Совмещение двух этих слагаемых делает необходимым формирование нового восприятия, разработку новых стандартов. Ведь ангажированность Арто–иужтемболее«безоговорочная»–этоявноепротиворечие,нетакли?Иливсеже нет?Иэтупроблемуврядлиможнорешить,закрываяглазанато,чтоВайсв«Марате/Саде» пытается использовать идеи, как бы пересказывая их (а не утверждая буквально), и тем самым с необходимостью обращает нас за пределы и социального материала, и дидактического заявления. Именно непониманием скрытых в «Марате/Саде» художественных целей по причине узколобого восприятия театра и объясняется недовольство большинства критиков пьесой Вайса – недовольство весьма неблагодарное, если учесть чрезвычайное богатство как самого текста, так и постановки Брука. Если заявленные в «Марате/Саде» идеи не получают интеллектуального разрешения, это менее важно,чемто,насколькоудачноонивзаимодействуютвсферечувств. [1965] Пер.СергеяДубина IV ДуховныйстильфильмовРобераБрессона 1 Есть искусство, которое стремится непосредственно воздействовать на чувства; есть искусство,котороеобращаетсякчувствамчерезразум.Естьискусство,котороезатягиваетв себя,создаваявчувствование.Естьискусство,котороеотстраняет,провоцируярефлексию. Великоерефлексирующееискусствонеобязательнодолжнобытьхолодным.Ономожет возбуждать зрителя, заставлять ужасаться или рыдать. Но его эмоциональная власть не прямая, а опосредованная. Процесс эмоционального вовлечения уравновешивается теми составляющими, которые обеспечивают дистанцию, непредвзятость, беспристрастность. Эмоциональнаявключенностьвсегданабольшийилименьшийсрокотодвигается. Этот контраст может быть представлен в терминах техники или способов репрезентации, даже идей. Однако несомненно, что решающую роль в конечном итоге играет мировосприятие художника. Именно рефлексивное, отстраненное искусство поддерживает Брехт, когда говорит об «эффекте отчуждения». Дидактические цели театрального представления, которые Брехт прокламировал, и обеспечивали темпераментность,котораязаряжалаегопьесы. 2 Вкинематографемастеррефлексивногометода–РоберБрессон. Хотя родился Брессон в 1911 году, большинство его фильмов было снято в последнее двадцатилетие.Ихшесть.(В1934годуонснялкороткометражку«Делаобщественные»,как говорят,комедиювдухеРенеКлера,всекопии[30]которойнесохранились.Всередине1930хонтакжеучаствовалвнаписаниисценариевкдвумкаким-токоммерческимфильмам.В 1940-м работал ассистентом режиссера у Клера на фильме, который не был закончен.) Работанадпервымполнометражнымфильмомначаласьв1941году,когдаБрессонвернулся вПарижпослетого,какполторагодапровелвнемецкомконцлагере.Онпознакомилсясо священником-доминиканцем,писателемотцомБрюкберже,которыйпредложилемувместе поработать над фильмом о Бетани – французской общине доминиканского ордена, посвятившей себя заботе и реабилитации женщин из бывших заключенных. Сценарий они написали сами, Жан Жироду был приглашен сочинить диалоги, и в 1941 году фильм, первоначально называвшийся «Бетани», а впоследствии, по настоянию продюсеров, «Ангелыгреха»,вышелвпрокат.Онбылсэнтузиазмомвстреченкритикамииимелуспеху публики. Сюжет второго фильма, работа над которым началась в 1944 году, и вышедшего на экраныв1945-м,–этосовременнаяверсияоднойизвставныхновеллвеликогоантиромана «Жак-фаталист» Дени Дидро. Брессон написал сценарий, Жан Кокто – диалоги. Первый успех Брессона не повторился, «Дамы Булонского леса» подверглись резкой критике профессионаловиненашлисимпатииузрителей. ТретийфильмБрессона«Дневниксельскогосвященника»появилсятольков1951году; четвертый–«Приговоренныйксмертибежал»в1956-м,«Карманник»в1959-мишестой– «Процесс Жанны д’Арк» – в 1962-м. Все они довольно одобрительно были встречены критикой,новрядлизрителями,еслинесчитатьпоследнейкартины,которуюневзлюбили и многие критики. Некогда объявленный новой надеждой французского кино, теперь Брессонпрочновошел вкатегорию эзотерическихрежиссеров.Он никогданепользовался вниманием артхаусной публики, которая окружала Бунюэля, Бергмана, Феллини, хотя он намного крупнее их. Даже у Антониони аудитория более массовая по сравнению с брессоновской.И,заисключениемтесногокружкаценителей,малоктоизкритиковуделял емувнимание. Причина, по которой Брессон не получил общего признания, соответствующего его заслугам, заключается в том, что традиция, которой он принадлежит, рефлексивная или умозрительная, не вполне осмыслена и понята. В Англии и в особенности в Америке фильмыБрессоназачастуюописываютсякакхолодные,отстраненные,сверхрациональные, геометричные. Но назвать его искусство «холодным» значит тем или иным образом противопоставить его некоему «горячему» искусству. Однако не все искусство является – или должно быть – горячим, хотя бы потому, что люди обладают разным темпераментом. Принятая категоризация темпераментов в искусстве слишком примитивна. Конечно, по сравнению с Пабстом или Феллини Брессон холоден. (Так же как Вивальди холоден по сравнениюсБрамсом,аКитоннафонеЧаплина.)Следуетразобратьсявэстетике,тоесть понять красоту такой холодности. И Брессон, благодаря его масштабу, – замечательный образчикподобнойэстетики.Исследуявозможностирефлексивногокакпротивоположного непосредственно эмоциональному искусству, Брессон движется от математического совершенства«ДамБулонскоголеса»кпочтилиричной,почти«гуманистической»теплоте «Приговоренного к смерти». Он также показывает – а это тоже поучительно, – как такое искусство может стать слишком изысканным, что произошло в его последнем фильме «ПроцессЖанныд’Арк». 3 Врефлексивномискусствеформаживетэмоционально. В результате того, что зритель имеет представление о форме, можно растянуть или затормозить эмоциональное воздействие. В той степени, в какой мы считываем форму в произведенииискусства,мыотстраняемся;нашиэмоциональныереакциивэтомслучаене те,чтовреальнойжизни.Знаниеоформевыполняетодновременнодвефункции:онодает чувственноенаслаждение,независимоеот«содержания»,ипровоцируетинтеллект.Иногда степень рефлексии может быть очень невысокой, как, например, в нарративном кино (переплетение четырех разных историй в гриффитовской «Нетерпимости»). Тем не менее эторефлексия. Типичныйпримерзатенениясодержанияформой–удвоение,дублирование.Симметрия иповторениемотивоввживописи,двойнойсюжетвелизаветинскойдраме,рифмавпоэзии –таковысамыеочевидныепримеры. Эволюция форм в искусстве только частично зависит от эволюции содержаний. (История форм диалектична. Как и определенные типы мировосприятия становятся банальными, скучными и переигрываются своими противоположностями, так и формы в искусствестечениемвремениистощаются.Онистановятсябанальными,неэффективными и заменяются новыми формами, которые в момент своего появления являются антиформами.) Иногда самого замечательного эффекта достигают сталкивая форму и содержание.Брехтчастотакпоступал:помещалгорячийпредметвхолоднуюраму.Вдругих случаях нужный эффект возникает, если форма идеально соответствует теме. Это случай Брессона. Брессоннетолькозначительнее,ноигораздоинтереснее,чем,скажем,Бунюэль,потому что выработал форму, которая совершенным образом выражает и сопровождает то, что он хотелсказать.Фактическиэтоиестьто,чтооннамеревалсясказать. Здесь следует тщательно разграничить форму и метод. Уэллс, ранний Рене Клер, Штернберг, Офюльс – примеры режиссеров с безошибочной стилистической изобретательностью.Ноонитакинесоздалисобственнойстрогойнарративнойформы.У Брессона, как и Одзу, это получилось. Форма брессоновских фильмов (как и у Одзу) организована так, чтобы дисциплинировать эмоции в тот самый момент, когда она их провоцирует,аименно:онарождаетвзрителеопределеннуюумиротворенность,состояние духовногоравновесия,которое,всвоюочередь,иестьпредметфильма. Рефлексивное искусство – это искусство, которое в конечном итоге дисциплинирует зрителя,отдаляянаграду.Дажескукаможетбытьдозволеннымспособомтакойпроцедуры. Ещеодинспособ–подчеркиваниеискусственностивпроизведенииискусства.Здесьнаум приходит брехтовское понимание театра. Брехт утверждал свои стратегии постановки – такиекаквведениерассказчика,помещениенасценемузыкантов,вставкаснятыхнапленку эпизодов, а также использование особой техники актерской игры, чтобы аудитория могла дистанцироваться вместо того, чтобы некритично «вовлекаться» в действие и следить за судьбойперсонажей.Брессонтожеищетдистанцию.Ноегоцель,думается,невтом,чтобы замораживать эмоции ради торжества разума. Типичное для фильмов Брессона эмоциональное дистанцирование, кажется, существует по совершенно иной причине: глубоко заложенные предпосылки идентификации с персонажами – это дерзкий вызов тайнечеловеческогопоступкаичеловеческогосердца. Но,оставляявстороневсепритязаниянаинтеллектуальнуюхолодностьилиуважениек тайне поступка, Брехт, разумеется, знал, как, должно быть, знает Брессон, что такое дистанцирование наделено огромной эмоциональной силой. Уязвимость натуралистического театра или кино состоит в том, что, демонстративно предъявляя это свое качество, они быстро истощают и уничтожают его эффективность. В конце концов, самый важный источник эмоционального воздействия в искусстве заложен не в каком-то особенном содержании, каким бы страстным, каким бы универсальным оно ни было. Он заложенвформе.Отстранениеисдерживаниеэмоцийспомощьюосознанновыстроенной формыделаетихвконечномитогегораздоинтенсивнееидейственнее. 4 Несмотрянаавторитетныйкритическийканон,согласнокоторомуфильм–этопрежде всеговизуальноеискусство,инесмотрянатотфакт,чтоБрессон,преждечемначалснимать кино, был художником, форма для Брессона вовсе не в первую очередь носит визуальный характер.Длянегоэтопреждевсегохарактернаяформаповествования.КинодляБрессона непластический,анарративныйопыт. Форма у Брессона идеально отвечает предписаниям Александра Астрюка в его знаменитомэссе«Камера-стило»:«Подязыкомяпонимаюформу,вкоторойипосредством которойхудожникможетвыразитьсвоимысли,какимибыабстрактнымионинибыли,или передатьсвоюстрастьтакже,каквэссеиливромане…Кинопостепенноосвободитсяот тирании визуальности, от изображения ради него самого, от непосредственного и конкретного эпизода и может стать средством письма таким же гибким и изящным, как написанноеслово…Всегодняшнемкинонасинтересуетименносозданиетакогоязыка». Кино-как-язык означает разрыв с традиционным драматургическим и визуальным способомрассказа.ВфильмахБрессонаэтосозданиеязыкадлякиновлечетзасобойакцент на слове. В первых двух фильмах, где действие еще относительно драматургически выстроено и сюжет предполагает наличие группы персонажей[31], язык (в буквальном смысле)фигурируетвформедиалога.Этотдиалогопределенноотвлекаетнасебявнимание. Этооченьтеатральныйдиалог,точный,афористичный,взвешенный,литературный.Полная противоположность импровизационно звучащему диалогу, излюбленному новыми французскимирежиссерами,включаяГодарав«Житьчтобыжить»и«Замужнейженщине», самыхбрессонианскихизфильмов«новойволны». Однаковпоследующихчетырехфильмах,гдедействиесосредоточенонаодинокомгерое исвязанныхснимсобытиях,диалогзачастуюзаменяетсяповествованиемотпервоголица. Иногда повествование служит связующей нитью между эпизодами. Но интереснее то, что чаще всего нам не сообщается ничего, чего бы мы не знали. Это «удваивает» действие. Обычно мы сперва слышим слова, затем видим описываемую ими сцену. Например, в «Карманнике» мы видим, как герой делает записи в дневнике и слышим его читающий голос.Потомвидимсобытие,котороеонвкратцеописал.Иногдасначалаидетсцена,потом пояснение,описаниетого,чтопроизошло.Например,в«Дневникесельскогосвященника» есть эпизод, где священник лихорадочно спешит к кюре из Торси. Мы видим, как он подъезжаетнавелосипедекдому,емуоткрываетслужанка(кюре,вероятно,нет,ноголоса женщинынеслышно),дверьзакрываетсяисвященникприслоняетсякнейспиной.Далеемы слышим: «Я был так подавлен. Мне пришлось прислониться к двери». Другой пример: в «Приговоренном к смерти» мы видим, как Фонтен срывает наволочку с подушки, обматывает ею проволоку, которую содрал с каркаса койки. Потом слышим голос: «Я крепкозавязалее». Смыслэтой«избыточности»втом,чтобыобозначитьсинтаксисповествования,разбить его интервалами. Это замедляет соучастие зрителя в восприятии действия. Независимо от того, что чему предшествует – комментарий картинке или наоборот, эффект получается одинаковым: подобное удвоение действия одновременно тормозит и интенсифицирует обычныйэмоциональныйплан-эпизод. Заметьте также, что в первом типе удвоения – где мы сперва слышим то, что потом видим,имеетместопренебрежениеоднимизтрадиционныхспособоввовлечениязрителяв действие,саспенсом.ТутопятьвспоминаетсяБрехт.Вначалесцены,считалон,необходимо убрать саспенс с помощью объявления, афишки или комментатора – что будет под рукой. (Годарприменяетэтутехникувфильме«Житьчтобыжить».)Брессонделаеттожесамое, выстреливая с помощью комментария. Самая совершенная для Брессона история – в его фильме «Процесс Жанны д’Арк», где сюжет полностью известен, предопределен, слова актеров не придуманы, а взяты из подлинных протоколов. В идеальном фильме Брессона нетсаспенса.Такимобразом,вединственномфильме,гдесюжетпоидеедолженбыиграть большую роль, – «Приговоренный к смерти бежал», само название – довольно неловко – выдает финал: мы уже знаем, что побег Фонтену удался[32]. В этом плане фильм Брессона отличаетсяоткартиныЖакаБеккера«Дыра»,хотявостальномблестящийфильмБеккера многим обязан «Приговоренному к смерти». (К чести Беккера, он единственный из известныхрежиссеровфранцузскогокино,которыйвступилсязафильм«ДамыБулонского леса»,когдатотвышелнаэкраны.) Таким образом, форма в фильмах Брессона антидраматургична и строго линейна. Эпизоды коротки и смонтированы встык. В «Дневнике сельского священника» примерно тридцать таких коротких эпизодов. Этот метод конструирования истории наиболее четко воплощен в «Процессе Жанны д’Арк». Фильм скомпонован из статичных средних планов разговаривающих людей; сцены допросов Жанны следуют одна за другой. Принцип исключения описательного материала доводится Брессоном до крайности – например, мы почтиничегонезнаемотом,почемуФонтеноказалсявтюрьмевфильме«Приговоренный к смерти бежал». Никаких интерлюдий нет и в помине. Допрос заканчивается; дверь захлопывается за спиной Жанны; затемнение. Клацает ключ в замке; снова допрос; опять хлопаетдверь;затемнение.Этооченьбесстрастнаяконструкция,котораясильнозамедляет эмоциональноевовлечение. Чтобы исключить вовлечение зрителя в сопереживание, Брессон отказывается и от выразительностивактерскойигре.Егоотношениекактерамопять-такинапоминаетманеру Брехта, в духе которой Брессон предпочитал использовать в главных ролях непрофессионалов. Брехт хотел, чтобы актер был «свидетелем», а не самим персонажем; чтобыоннивкоемслучаенеотождествлялсебясним,дабыизрительнеидентифицировал себясгероем.Актер,–настаивалБрехт,–этоподражатель.Он«никогданерастворяетсяв подражаемом. Он никогда не преображается окончательно в того, кому он подражает. Всегда он остается демонстратором, а не воплощением. Воплощаемый не слился с ним, – он, подражатель, не разделяет ни его чувств, ни его воззрений». Брессон, в последних четырех фильмах работая с непрофессионалами (в «Ангелах греха» и «Дамах Булонского леса» он использовал профессиональных артистов), тоже добивается эффекта чуждости. Идеясостоитвтом,чтоактернедолжениграть,произносяслова,алишьпроизноситьихпо возможности наименее выразительно. (Для достижения этой цели Брессон проводил с актерами перед съемками многомесячные репетиции.) Все эмоциональные моменты передаютсяэллиптично. Однакодваэтихподходаобусловленыразнымипричинами.Причина,покоторойБрехт отказывался от актерской игры, отражала его идею приравнивания драматического искусстваккритическомуанализу.Эмоциональнаясилаактерства,считалон,такилииначе вмешивается в замысел пьесы. (Хотя, судя по тому, что я увидела на сцене «Берлинер ансамбль» шесть лет назад, минимизация актерской игры вряд ли препятствует эмоциональной вовлеченности; скорее, на это работала стилизованность постановки.) Причина, по которой игру отвергает Брессон, отражает его понимание чистоты самого искусства. «Актерская игра – для театра, искусства ублюдочного, – сказал он. – Кино же можетстатьистиннымискусством,потомучтовнемавторберетфрагментыреальностии организует их таким образом, что само соположение их меняет». Кино для Брессона – тотальноеискусство,котороеиграразрушает.Вкино«каждыйкадр–какслово,ничегоне значащее само по себе, либо значащее так много, что в результате обессмысливается. Но слово в стихотворении меняется, его значение делается точным и уникальным, когда поставлено в окружение других слов: точно так же кадр в фильме приобретает смысл благодаря контексту, и каждый кадр меняет значение предыдущего, покуда с последним кадром не кристаллизуется общее, расшифрованное значение. Актерская игра тут ни при чем.Фильмможносделать,тольконейтрализовавволютех,ктовнемфигурирует,опираясь ненато,чтоониделают,нонато,чемонисамиявляются». Подытожу: существуют некие духовные источники за пределами предпринимаемых усилий, которые выявляются только если эти усилия оказываются невидимыми. Создается впечатление,чтоБрессонникогданеподталкиваетисполнителейк«трактовке»роли.Клод Лейдю,игравшийсвященникав«Дневнике»,говорил,чтововремясъемокотнегоникогда не требовали изобразить святость, которая тем не менее читается во время просмотра фильма. В конце концов все зависит от актера, который либо обладает выдающейся харизмой, либо нет. У Лейдю она есть. Так же как у Франсуа Летерье в роли Фонтена в «Приговоренномксмерти».НовотМартенЛасальв«Карманнике»выглядитдеревянным, «непроявленным». Вместе с Флоранс Каррез в «Процессе Жанны д’Арк» Брессон экспериментировал с пределами невыразимого. Здесь совсем нет игры; Каррез просто читает строчки сценария. И это могло бы сработать. Но не получилось, потому что среди тех, кого Брессон «использовал» в последующих фильмах, Каррез менее всего обладает харизмой. Скудость этого фильма отчасти обусловлена слабостью актрисы, играющей Жанну,героиню,накоторойондержится. 5 Во всех фильмах Брессона есть одна общая тема: значение свободы и ее ограничений. Для ее раскрытия используется образность религиозного призвания и преступления. То и другоеведетк«темнице». Вовсехегосюжетахглавное–лишениеилиущемлениесвободыипоследствияэтого.В «Ангелахгреха»действиевосновномпроисходитвмонастыре.Тереза,бывшаяпреступница (неизвестная полиции), которая убила изменившего ей любовника, поступает в распоряжение монахинь Бетани. Молодая послушница, пытающаяся установить с ней контакт,узнавеесекрет,пытаетсяуговоритьТерезудобровольносдатьсяполиции;еесаму изгоняютизмонастырязанарушениедисциплины.Однаждыутромеенаходятумирающейв монастырском саду. Тереза под влиянием этих событий в финале протягивает руки полицейскому,которыйнаденетнанихнаручники…В«ДамахБулонскоголеса»метафора заключения повторена несколько раз. Элен и Жан были заключены в тисках любви; он побуждает ее вернуться в мир и стать «свободной». Но она вместо этого устраивает ему ловушку; для этой игры ей понадобились две пешки (Аньес и ее мать), которых она практическиизолируетвквартире,гдеониждутееуказаний.Какив«Ангелахгреха»,это историяместипотеряннойженщины.В«Ангелахгреха»Терезаобретаетсвободу,принимая тюремноезаключение;в«ДамахБулонскоголеса»Аньесоказываетсявизоляции,нопотом, искусственным образом, словно по волшебству, она прощена и получает свободу… В «Дневнике сельского священника» акцент сдвинут. Плохая девочка Шанталь держится на заднемплане.Драманесвободызаключаетсявсамоограничениикюре,вегоотчаянии,его слабости,вегосмертномтеле.(«Ябылузникомсвященнойагонии».)Онобретаетсвободу, принимая бессмысленную и мучительную смерть от рака желудка… В «Приговоренном к смерти»,гдедействиеразворачиваетсявнемецкойтюрьменатерриторииоккупированной Франции, заключение представлено самым буквальным образом. Как и освобождение: герой преодолевает самого себя (свое уныние, соблазн смирения) и устраивает побег. Препятствия на его пути воплощены в материальных предметах и непредсказуемости поведения людей вокруг героя-одиночки. Но Фонтен идет на риск, доверяясь двум постороннимлюдям,которыхвстретилвтюремномдворевначалесвоегозаключения,ите непредалиего.Иблагодарятому,чтоонрискнулдоверитьсямолодомуколлаборационисту, брошенномувегокамерунаканунепобега(унегобылаальтернатива–убитьюношу),побег удался…В«Карманнике»протагонист–молодойзаключенный,мелкийворишка,который живетвкомнатушке,похожейначулани,подобногероюДостоевского,взыскуетнаказания. В финале, когда его схватили и посадили в тюрьму, он, разговаривая через решетку с девушкой,котораяеголюбит,изображаетсякаксущество,вероятно,способноеналюбовь… В«ПроцессеЖанныд’Арк»опятьвседействиесосредоточеновтюрьме.Какв«Дневнике сельского священника», освобождение Жанны происходит через ужасную смерть; но мучения Жанны гораздо менее впечатляющи, чем страдания священника, потому что она настолько лишена личностного начала (в отличие от Жанны в исполнении Фальконетти в великомфильмеДрейера),чтосмертьдлянеекакбынеимеетзначения. Если сердцевина драмы – конфликт, то подлинная драма историй Брессона – это внутреннийконфликт:борьбассамимсобой.Ився статика,всеформальныесвойстваего фильмовработаютнаэтотфинал.Брессонсказалпоповодувыборакрайнестилизованного и искусственного сюжета «Дам Булонского леса», что именно это позволило ему «убрать все, что могло бы отвлечь от внутренней драмы». Тем не менее в этом фильме, как и в предшествующем,внутренняядрамапереданачерезвнешнююформу,причемизощренную, до предела обнаженную. «Ангелы греха» и «Дамы Булонского леса» описывают конфликт вольразныхперсонажей,вбольшейилименьшейстепенизатрагивающийконфликтвнутри одногочеловека. Только в фильмах, снятых после «Дам Булонского леса», брессоновская драма полностьюинтериоризуется.Тема«Дневникасельскогосвященника»–конфликтмолодого кюрессамимсобой;лишьвкачествевспомогательногоматериалаздесьиспользуютсяего отношения с кюре из Торси, Шанталь и графиней, матерью Шанталь. Еще ярче это проявилось в «Приговоренном к смерти», где главный герой буквально изолирован, заключенвкамеру,гдеборетсясосвоимотчаянием.Одиночествоивнутреннийконфликт иначе соединяются в «Карманнике», где одинокий герой избавляется от отчаяния ценой отказаотлюбвиипредаетсямастурбационнойрадостиворовства.Новпоследнемфильме, где мы знаем, какая драма тут должна быть, почти нет никаких ее следов. Конфликт был практически подавлен; он только подразумевается. Жанна у Брессона достигает благодати чутьлинемеханически.Однакокакбынибылапогруженадрамавнутрь,онадолжнабыть явлена.Ав«ПроцессеЖанныд’Арк»этогонепроисходит. Заметьте, однако, что «внутренняя драма», которую стремится обрисовать Брессон, не предполагаетпсихологии.Втерминахреализмамотивыповеденияегогероевчастоскрыты, иногда они вообще невероятны. В «Карманнике», например, когда Мишель подводит итог двухлет,проведенныхвЛондоне,словами«Япотерялвсесвоиденьгинаазартныхиграхи женщинах», в это просто не верится. Не более убедительно и то, что в течение этого временидобрыйЖак,другМишеля,обрюхатилЖаннуибросилеесребенком. Психологическаянедостоверностьврядлиможетсчитатьсядостоинствомпроизведения; примеры, которые я только что привела, безусловно можно отнести к недостаткам «Карманника». Но главным для Брессона – и это, я думаю, неоспоримо – остается убежденность в поверхностности психологического анализа. (Причина: такой анализ приписывает действию зашифрованное значение, которое выходит за пределы подлинного искусства.)Брессоннепытаетсясделатьсвоихгероевнепостижимыми,вэтомяуверена;но пытается, на мой взгляд, сделать их закрытыми. Брессона интересуют формы духовного поведения – скорее в физике, чем в психологии душ. То, почему люди действуют именно так,анеиначе,вконечномсчетенеможетбытьпонято.(Апсихологияпретендуетнатакое понимание.) Например, попытки убеждения могут привести к необъяснимым, непредсказуемым результатам. То, что священник все же находитпуть к сердцу гордой и непреклонной графини (в «Дневнике сельского священника»), как и то, что Жанна не убеждаетМишеля(в«Карманнике»),–этопростофактыили,еслиугодно,загадки. Подобная физика души была предметом самой замечательной книги Симоны Вейль, «Тяжестьиблагодать»,иследующиесловаСимоныВейль–этотритеоремыбрессоновской «антропологии»: «Всеестественныедвижениядушиуправляютсязаконами,подобнымизаконутяготения вматериальноммире.Итолькоблагодатьсоставляетисключение. Благодатьзаполняетпустыепространства,ноонаможетвойтитольковоставленнуюдля неепустоту,онажеэтупустотуисоздает. Воображениеперекрываетименнотеканалы,покоторымтолькоиможетдойтидонас реальная,действеннаяблагодать». Одни души тяжелы, другие легки; некоторые освобождаются или способны освободиться, другие нет. Остается только терпеть, по возможности не задумываясь. При таком порядке вещей нет места воображению, еще меньше идеям и мнениям. Идеал – нейтральность, прозрачность. Вот что имеется в виду, когда в «Дневнике сельского священника» кюре из Торси говорит молодому коллеге: «У священника нет никаких мнений». Если не считать каких-то крайних, непредставимых ситуаций, у священника нет и привязанностей. В поисках духовного света привязанности могут стать обузой. Потому в кульминационнойсцене«Дневника»священникзаставляетграфинюпрекратитьнеистовый траур по умершему сыну. Конечно, настоящий контакт между людьми возможен; но он устанавливаетсянепоихволе,априходитнежданно,какблагодать.Поэтомусолидарность вфильмахБрессонапоказываетсятольконадистанции–например,междусвященникомиз Амбрикура и кюре из Торси в «Дневнике сельского священника» или между Фонтеном и другими заключенными в «Приговоренном к смерти». Нам могут показать, как сходятся люди:Жанвфинале«ДамБулонскоголеса»вотчаяниикричитнадедвапришедшейвсебя Аньес: «Я люблю тебя, останься со мной, останься!»; Фонтен обнимает Жоста в «Приговоренном к смерти»; Мишель в «Карманнике» говорит Жанне через тюремную решетку:«Какдолгояшелктебе».Номыневидим,какживетлюбовь.Втотмомент,когда онадекларируется,фильмкончается. В фильме «Приговоренный к смерти бежал» пожилой мужчина из соседней камеры спрашивает Мишеля: «Зачем ты борешься?» Фонтен отвечает: «Чтобы бороться. Бороться противсебясамого».Борьбассобойозначаетборьбупротивсобственнойтяжести.Оружием в этой борьбе служат труд, замысел, обязательство. В «Ангелах греха» это замысел АннМари по «спасению» Терезы. В «Дамах Булонского леса» это идея мести Элен. Задачи, поставленные перед собой героями, встроены в традиционную форму; они постоянно соотносятся с общими намерениями персонажа, а не разбиты на отдельные самодостаточныепоступки.В«Дневникесельскогосвященника»(переходномвэтомплане) самый трогательный образ – это священник из Амбрикура; не тогда, когда он по званию своемуборетсязадушиприхожан,атогда,когдаонпоказанкакобычныйчеловек:едетна велосипеде, переодевается, ест хлеб, идет по дороге. В следующих двух фильмах Брессона труд растворяется в идее бесконечного избавления от боли. Замысел стал абсолютно конкретным, воплощенным и в то же время более обезличенным. В «Приговоренном к смерти»самыеударныесцены–те,вкоторыхгеройпоказанпоглощеннымработой:Фонтен скребет дверь черенком ложки, Фонтен собирает в кучку стружки, упавшие на пол, единственнойветочкой,оставшейсяотметлы.(«Одинмесяцупорнойработы–имоядверь отворилась».) В «Карманнике» эмоциональный центр фильма там, где Мишеля без слов, равнодушно хватает за руку профессиональный вор и начинается его обучение ремеслу, которым он прежде занимался самодеятельно; нам показывают его неумелые жесты, становится ясной необходимость повторений и упорной работы. Большие куски «Приговоренного к смерти» и «Карманника» бессловесны; они сосредоточены на красоте человека, поглощенного своим замыслом. Лицо его спокойно, а другие части тела, будто послушные слуги, находятся в постоянном движении, они предельно экспрессивны. Вспоминается, как Тереза целует белые ступни мертвой Анн-Мари в финале «Ангелов греха»; голые ступни монахов, ступающие по каменному полу в начале фильма «Процесс Жанны д’Арк». Вспоминаются крупные руки Фонтена, занятые бесконечной работой в «Приговоренномксмерти»,хореографияискусныхпальцевв«Карманнике». Через «замысел» – в противовес «воображению» – человек преодолевает тяжесть, гнетущую его дух. Даже фильм «Дамы Булонского леса», история, которая кажется самой антибрессоновской, основывается на контрасте между замыслом и тяжестью (или неподвижностью). У Элен есть замысел – отомстить Жану за предательство. Но пока она бездействует из-за страдания, ее гнетет неотмщенная обида. Только в «Процессе Жанны д’Арк», в этой самой брессоновской истории, подобный контраст (на беду фильма) отсутствует.УЖаннынетникакойидеи,никакогозамысла.Или,еслисмыслзаключалсяв ее мученичестве, то мы лишь осведомлены о нем, но не видим его проживания, его развития. Она предстает перед нами пассивной. Возможно потому, что нам не показали Жаннувееодиночествевтюремнойкамере,этотфильмБрессонапосравнениюсдругими кажетсятакимнедиалектичным. 6 ЖанКоктосказал(вCocteau on the Film. A Conversation Recordred by André Fraigneau, 1951), что умы и души сегодня «живут без синтаксиса, то есть без моральной системы. Моральнаясистеманеимеетничегообщегоссобственноморальюидолжнакаждымизнас выстраиваться по-своему; без такой индивидуальной системы невозможна и никакая иная, внешняяпоотношениюкней».ФильмыКокто,как,возможно,ифильмыБрессона,можно понимать как изображение той самой подлинной морали. Оба режиссера озабочены изображениемдуховногостиля.Этоможетказатьсянестольочевидным,посколькуКокто воспринимаетдуховныйстильэстетически,аБрессонвпоследнихтрехфильмах(«Ангелы греха», «Дневник сельского священника» и «Процесс Жанны д’Арк), по-видимому, сосредоточился на религиозной точке зрения. Однако различие здесь не так велико, как может показаться. Католицизм Брессона – это язык для передачи определенного видения человеческого поведения, а не некая утверждаемая «позиция». (Сравните для контраста прямоеблагочестие«ЦветочковсвятогоФранциска»Росселлиниисложныйдиспутоверев фильме Мельвиля «Леон Морен, священник».) Потому что Брессон может сказать то же самоеибезкатолицизма,какибылосделановпоследнихтрехегофильмах.Фактическив самомудачномизвсехфильмовБрессона–«Приговоренныйксмертибежал»,несмотряна присутствие на заднем плане чуткого и умного священника (одного из заключенных), эта проблема не получает религиозного освещения. Религиозное призвание помогает обрести идеи о тяжести, свете и мученичестве. Но сугубо секулярные предметы – преступление, местьилипредательствовлюбви,какиодиночноезаключение–несуттотжесмысл. Брессон более близок Кокто, чем кажется – аскетичному Кокто, Кокто, освобождающемуся от чувственности, Кокто без поэзии. Цель у него та же самая: создать образ духовного стиля. Но излишне говорить, что мировосприятие тут совершенно иное. Кокто – чистый пример гомосексуального образа чувств как одной из основных традиций современного искусства: романтичного и остроумного, томно увлеченного физической красотой и в то же время прикрывающегося изяществом и искусностью. Мировосприятие Брессона антиромантично и серьезно, оно отвергает легкие удовольствия, связанные с физической красотой и изяществом ради наслаждения непреходящего, душеспасительного, неподдельного. С эволюцией мировосприятия Брессона его кинематографический инструментарий становится все более и более сдержанным. В первых двух его фильмах, снятых Филиппом Агостини,имеютсяподчеркнутыевизуальныеэффекты,чеговдругихчетырехкартинахуже нет.СамыйкрасивыйвпривычномсмыслесловафильмБрессона–самыйпервый,«Ангелы греха». А в «Дамах Булонского леса», чья красота заметно приглушена, можно отметить лиризм движения камеры, например в том план-эпизоде, где она следует за Элен, сбегающей по лестнице, чтобы успеть спуститься одновременно с Жаном, который спускаетсявлифте;иливеликолепныймонтаж,связывающий,например,распростертуюна кровати Элен, повторяющую «Я отомщу», с первым кадром Аньес в ночном клубе, с цилиндром на голове и в сетчатых чулках, исполняющей эротичный танец. Контрастные цвета–черныйибелый–чередуютсячрезвычайнообдуманно.В«Ангелахгреха»темнота тюремного эпизода монтируется с белизной монастырских стен и одеяний монахинь. В «ДамахБулонскоголеса»контрастподчеркиваетсябольшеодеждой,чеминтерьером.Элен всегдаодетавдлинныечерныебархатныеплатья.УАньестрикостюма:облегающеечерное платье для выступлений, в котором она впервые появляется на экране, светлый плащ, который она носит на протяжении почти всего фильма, и, наконец, белое свадебное платье… Последние четыре фильма, снятые Леонсом-Анри Бюрелем, более скромны в визуальном плане, менее изощренны. Операторская работа максимально стерта. Резкие контрасты, например, черного и белого, отсутствуют. (Почти невозможно представить фильмБрессонавцвете[33].)В«Дневникесельскогосвященника»вообщенельзянаверняка сказать, какого цвета одежда заглавного героя – черного или нет. Почти незаметны пятна крови на рубашке и грязь на штанах Фонтена, в которые он одет в «Приговоренном к смерти»;необращаешьвниманиянапотертыйкостюмМишеляв«Карманнике»;декорации тоженейтральны,неприметны,максимальнофункциональны. Пренебрегая визуальностью, Брессон отказывается и от «красивого». Ни один из его исполнителей-непрофесионалов не может похвастать привлекательностью в привычном понимании. Первая мысль, когда впервые видишь на экране Клода Лейдю (кюре в «Дневникесельскогосвященника»),ФрансуаЛетерье(Фонтенвфильме«Приговоренныйк смерти бежал»), Мартена Ласаля (Мишель в «Карманнике») и Флоранс Каррез (Жанна в «Процессе Жанны д’Арк») – до чего же они неприметны, простоваты. Но постепенно начинаешь замечать, как они на самом деле прекрасны. Это преображение особенно впечатляет в случае Франсуа Летерье в роли Фонтена. Здесь заложено глубокое различие между фильмами Кокто и Брессона, различие, указывающее на особое место «Дам Булонского леса» в брессоновской фильмографии: этот фильм (диалоги к которому писал Кокто) в данном отношении очень коктонианский. Мария Казарес в неизменном черном одеянии своей демонической Элен напоминает героиню, которую она блестяще сыграла у Кокто в «Орфее» (1950). Эта жестко очерченная героиня, персонаж с «мотивом», постоянным на протяжении всего фильма, резко отличается от прочих типичных для брессоновского кино персонажей в «Дневнике сельского священника», «Приговоренном к смерти» и «Карманнике». В последних трех нас ожидает неожиданное открытие: лицо, казавшеесянепримечательным,раскрываетсякакпрекрасное;персонаж,которыйпоначалу кажетсязакрытым,необъяснимымобразомстановитсяпрозрачным.НовфильмахКокто–и в «Дамах Булонского леса» – не происходит открытия ни лица, ни характера. Их следует приниматьтакими,какиеониесть,какимиимуготованобытьвдраме. Если духовный стиль героев Кокто (которых обычно играл Жан Маре) близок к нарциссизму, духовный стиль героев Брессона – это тот или иной вариант человека, не озабоченноготем,какоевпечатлениеонпроизводитнаокружающих.(Отсюдарользамысла вфильмахБрессона:онпоглощаетэнергию,котораявпротивномслучаебылабыобращена насебя.Этостираетличностьвтомсмысле,которыйделаетеенеповторимоуникальной.) Самосознание – это «тяжесть», бремя, отягчающее дух; преодоление самосознания – это «благодать», духовная легкость. Кульминационный момент фильмов Кокто – всегда чувственный акт: падение (в том числе «падение в любовь»), как в «Орфее», смерть («Двуглавый орел», «Вечное возвращение») или воспарение («Красавица и чудовище»). За исключением «Дам Булонского леса» (с эффектной финальной сценой, снятой с верхней точки:Жан склонилсянадАньес,котораялежитнаполукакподстреленнаябелаяптица), финалыфильмовБрессонавсегдааскетичны,сдержанны. Если фильмы Кокто подчинены логике сна и стремятся к истине воображения, а не к «правде жизни», искусство Брессона все явственней движется прочь от вымысла к документальности. «Дневник сельского священника» – это художественный фильм по одноименному роману Жоржа Бернаноса. Но дневниковая форма позволила Брессону придать вымышленной истории квази-документальный стиль. Фильм открывается кадром тетради и руки, которая пишет в ней; голос за кадром читает то, что написано. Многие эпизоды начинаются планом священника, который пишет дневник. Заканчивается фильм письмом, сообщающим кюре из Торси о смерти священника – мы слышим слова, а экран заполняетсилуэткреста.Фильму«Приговоренныйксмертибежал»предпослантитр:«Это подлиннаяистория.Ярасскажуеетак,какбылонасамомделе».Идалее:«Лион,1943».(Во время съемок Брессон постоянно был на связи с прототипом Фонтена, чтобы соблюсти точность.) «Карман ник», снова придуманная история, тоже частично рассказывается в формедневника.Брессонвозвращаетсякдокументальностив«ПроцессеЖанныд’Арк»,на этот раз с особой четкостью. Даже музыки, которая помогала задать верный тон в предыдущих фильмах, здесь почти нет. Использование моцартовской Мессы до минор в «Приговоренном к смерти» или музыки Люлли в «Карманнике» замечательно; но в «ПроцессеЖанныд’Арк»отмузыкиосталисьтолькобарабанывначалефильма. Брессон пытается настаивать на неопровержимости того, что он показывает. Ничто не происходит случайно; не существует альтернатив, не существует фантазии; то, что должно быть,неотвратимо.Все,чтонеявляетсянеобходимым,всенаносноеилипридуманное«для красоты»,должнобытьотметено.ВотличиеотКокто,Брессонстремитсякупрощению,а не к укрупнению или усилению драматургических и визуальных возможностей кино. (В этомБрессонопятьнапоминаетмнеОдзу,которыйвтечениетридцатилетсвоейработыв кино отказывался от движущейся камеры, наплывов и затемнений.) В результате в своем последнеминаиболееаскетичномизвсехфильмовБрессонотказалсяслишкомотмногого, чтобы усовершенствовать свой замысел. Однако, выполняя столь амбициозный замысел, нельзя не дойти до крайностей, и все же «провалы» Брессона стоят дороже, чем удачи большинстварежиссеров.ДляБрессонаискусство–открытиенеобходимогоиничегоболее. Сила шести фильмов Брессона заключается в том, что его пуризм и требовательная утонченность существуют не для демонстрации возможностей кино как такового, что свойственномногимсовременнымхудожникам,которыепишутнекартины,акомментарии к живописи. И еще его фильмы – это размышления о жизни, о том, что Кокто назвал «внутреннимстилем»,осамомсерьезномвчеловеческомбытии. [1964] Пер.НиныЦыркун «Житьсвоейжизнью»Годара ПРЕДИСЛОВИЕ: Мой анализ «Жить своей жизнью» будет по необходимости, скорее, концептуальным, поскольку сам фильм в идейном и эстетическом плане чрезвычайно сложен. Фильмы Годара вообще повествуют об идеях в их высшем, самом чистом и изощренном смысле – насколько произведение искусства как таковое может быть «про» идеи. Работая над этими заметками, я наткнулась на интервью режиссера одному парижскомуеженедельнику,L’Express,от27июля1961года:«Тримоихфильмапосути– ободномитомже,–сказалонтогда.–Меняинтересуетчеловек,одержимыйнекоейидеей и пытающийся довести ее до логического завершения». Помимо нескольких короткометражек, Годар к тому времени снял «На последнем дыхании» (1959) с Джин Сиберг и Жан-Полем Бельмондо, «Маленького солдата» (1960) с Мишелем Сюбором и АннойКаринойи,наконец,«Женщинаестьженщина»(1961)сКариной,БельмондоиЖанКлодомБриали.Насколькоэтозаявлениеприменимок«Житьсвоейжизнью»,четвертому фильмуГодара,которыйонвыпустилв1962году,яинамеренапродемонстрироватьниже. ПРИМЕЧАНИЕ: На сегодняшний день Годар, родившийся в Париже в 1930 году, закончил работу уже над 10 картинами. Помимо четырех упомянутых, это «Карабинеры» (1962–1963) с Марино Мазе и Альбером Жюроссом, «Презрение» (1963) с Брижит Бардо, Джеком Пэлансом и Фрицем Лангом, «Посторонние» («Банда аутсайдеров», 1964) с Кариной,СамиФреемиКлодомБрассером,«Замужняяженщина»(1964)сМашейМерильи Бернаром Ноэлем, «Альфавиль» (1965) с Кариной, Эдди Константином и Акимом Тамировым и, наконец, «Безумный Пьеро» (1965) с Кариной и Бельмондо. Шесть из этих лент выходили в американский прокат. «На последнем дыхании», известный здесь как Breathless,сегодняпризнанклассикойартхауса;«Замужняяженщина»(TheMarriedWoman) вызвала, скорее, смешанные реакции, остальные же – прокатные названия A Woman Is A Woman,MyLifetoLive,ContemptиBandofOutsiders–былиотвергнутыкаккритиками,так изрителями.Превосходство«Напоследнемдыхании»сегодняочевиднодлявсех,причины моего преклонения перед «Жить своей жизнью» я попытаюсь объяснить ниже, и хотя я вовсенеутверждаю,чтопрочиеработыГодараподнимаютсядотогожеисключительного уровня, в каждом его фильме можно отыскать немало примечательных фрагментов высочайшего качества. Невосприимчивость сколь-либо уважаемых здешних критиков к достоинствам «Презрения» – несовершенной, но от того не менее величественной по замыслу и оригинальной картины – представляется мне в особенности достойной сожаления. 1 «Кино в конечном счете остается графической формой искусства, – отмечал в своих «Дневниках» Кокто. – С его помощью я могу продолжать писать – писать образами, – добиваясьтого,чтомоимыслисохраняютсилу,обретаявещнуюформу.Япоказываюто,что остальныерассказывают.В«Орфее»,например,янеописываюто,какмойгеройпроходит сквозьзеркало;япоказываюэто–итемсамымвкаком-тосмыследоказываю,чтоэтофакт. Используемые мной формальные приемы не так уж важны, если зритель видит действия актеров такими, какими хочу показать их я. Величайшая сила фильма состоит в том, что действия, определяемые его логикой и разворачивающиеся у нас на глазах, выглядят неоспоримыми. То, что очевидец того или иного действия преображает его для себя, искажая и неточно передавая его, вполне естественно. Но действие свершилось – и оно будет свершаться каждый раз, как проекционный аппарат воскресит его из небытия. Уже одно это опровергает неточные свидетельские показания и поддельные полицейские сводки». 2 Всеискусствотемсамымможновосприниматькакспособдоказательства,утверждение точности в терминах максимальной интенсивности. В любом произведении искусства можноусмотретьпопыткубезапелляционноотобразитьтеилииныедействия. 3 Доказательство отличается от анализа. Доказательство заключает: что-то случилось. Анализдемонстрирует,почемуэтослучилось.Доказательствокакспособаргументирования поопределениюцелостно,однакоплатитьзаэтуцелостностьприходитсяисключительным формализмомдоказательства.Доказываетсявконечномитогелишьто,чтобылозаложено изначально. Анализ же всегда содержит дополнительные ракурсы понимания, новые слои причинности. Анализ – вещь в себе. Как способ аргументирования он по определению всегданеполон–и,собственноговоря,бесконечен. То,насколькопроизведениеискусствапризванослужитьдоказательством,варьируетсяв каждом конкретном случае. Разумеется, некоторые работы в большей степени, нежели другие, направлены на доказывание, основаны на формальных соображениях. Однако, как мне кажется, все искусство так или иначе тяготеет к формализму, к целостности, которая скореедолжнабытьформальной,нежелисущностной:взятьхотябыразвязки,преждевсего демонстрирующие изящество и расчет – и лишь потом убедительные с точки зрения психологическихобоснованийилисоциальногоконтекста.(Вспомнимпочтиневероятные, но оставляющие чувство высшей удовлетворенности финальные сцены большинства шекспировских пьес, в особенности комедий.) В великих произведениях искусства бал правит именно форма – или, если развить сказанное выше, стремление скорее доказать, нежелипроанализировать.Именноформапозволяетнампоставитьточку. 4 Искусство,озабоченноедоказательством,являетсяформальнымсдвухточекзрения.Его предметом является форма (в большей и высшей степени, чем суть) событий и формы (в большейивысшейстепени, чемсуть)сознания. Еговыразительныесредстваформальны– иными словами, в них заложен очевидный элемент расчета (симметрия, повторение, инверсия, удваивание и пр.). Это может быть справедливо даже в тех случаях, когда произведениенастольконагружено«смыслом»,чтопрактическивыглядитнравоучением– как«Божественнаякомедия»Данте. 5 Фильмы Годара в особенности направлены скорее на доказательство, нежели анализ. «Житьсвоейжизнью»–этоэкспонат,нагляднаядемонстрация.Фильмпоказываетнам,что́ произошло,анепочемувсепроизошлоименнотак.Онобнажаетнеизбежностьсобытия. Именно поэтому ленты Годара являются решительно не-тематическими – хотя внешне таковыми и не кажутся. Искусство, озабоченное социальными вопросами, актуальными темами,никогданеможетпростопоказать,чтонечтосуществует.Онодолжноуказать,как оносуществуетипочему.Новысшийсмысл«Житьсвоейжизнью»–именновтом,чтонам ничего не объясняют. Фильм отвергает причинность. (И, соответственно, обычное причинное развертывание повествования нарушается в картине Годара с помощью чрезвычайно произвольного дробления сюжета на двенадцать эпизодов – эпизодов, связанных лишь очередностью, а не причинной последовательностью.) «Жить своей жизнью»–несомненно,нефильм«опроституции»,равнокаки«Маленькийсолдат»небыл «проалжирскуювойну».Иточнотакжев«Житьсвоейжизнью»Годарнедаетнамкакоголибо – традиционно легко идентифицируемого – объяснения того, что же вынудило его героиню,Нану,статьпроституткой.Онанемоглазанять2000франков,которыезадолжала за квартиру, у своего бывшего мужа или у коллег в магазине грампластинок, где она работает,из-зачегохозяиннепустилеенапорог,–поэтому?Врядли.Ужпокрайнеймере нетолько.Ноничегобольшенамузнатьнедано.Годарлишьпоказывает:онаоказаласьна панели. Опять же, в конце фильма Годар не разъясняет, почему сутенер Наны Рауль «продает» ее, что произошло между ними или почему вообще началась финальная перестрелка,вкоторойНанапогибнет.Онлишьпоказывает:еепродалиионаумирает.Он неанализирует.Ондоказывает. 6 Этодоказываниев«Житьсвоейжизнью»Годарведетдвумяпутями.Ондемонстрирует нам серию образов, иллюстрирующих то, что он хочет доказать, и серию «текстов», их поясняющих.Разделяядваэтихэлемента,Годарприбегаетвсвоемфильмекпо-настоящему новаторскомуспособуизложения. 7 Намерение Годара – то же, что у Кокто. Но Годар усматривает препятствия там, где Кокто их совсем не видел. Кокто пытался продемонстрировать волшебство, стремясь именнонанемосноватьсвоюнеоспоримость–тутиреальностьочарования,ибесконечная возможность преображения (все эти проходы через зеркало и проч.). Годар же хочет показатьнечтосовершеннообратное:антиволшебство,структуруясногосознания.Поэтому Кокто прибегает к приемам, которые за счет визуального сходства образов связывают события в единое чувственное целое, а Годар и не думает использовать красоту таким образом. Он обращается к приемам, которые, наоборот, дробят, разъединяют, отчуждают, разбивают – например, знаменитый рваный монтаж (скачки и пр.) в «На последнем дыхании» или разделение «Жить своей жизнью» на двенадцать эпизодов с длинными титрамивначалекаждогоизних–онинапоминаютподзаголовкивкниге,которыевкратце рассказывают,чтопроизойдетдальше. Ритм «Жить своей жизнью» диктуется перемежающимися остановками и прыжками вперед(виномстиле,ноточнотакжевыдержаниритм«Презрения).Отсюдаидробление фильма на отдельные эпизоды. Отсюда и повторяющиеся кольца – пауза и новый старт – музыкивтитрах,инеожиданнопоявляющеесялицоНаны–сначалалевыйпрофиль,затем (без перехода) анфас, затем (снова без перехода) правый профиль. Но особенно примечательным видится пронизывающее весь фильм размежевание слова и образа, позволяющееидеямичувствамнакапливатьсяикрепнутьнезависимодруготдруга. 8 На протяжении всей истории кино образ и слово работали в связке. В немых фильмах слово – в виде титров – чередовалось с последовательностью образов, буквально связывая этицепочкивединоецелое.Спришествиемвкинозвукаобразисловосталипоявлятьсяна экранеодновременно,анепоследовательно.Иесливнемыхлентахсловомоглобытьлибо пояснениемдействия,либодиалогомегоучастников,взвуковыхсловопочтивсегда–или как минимум в большинстве случаев (за исключением документалистики) – является диалогическим. Годарвосстанавливаетхарактерноедлянемыхфильмовразъединениеобразаислова,но уже на новом уровне. «Жить своей жизнью» несомненно составлен из двух дискретных типов материала – увиденного и услышанного. Но, различая эти материи, Годар демонстрирует поразительную изобретательность, даже, я бы сказала, игривость. Один вариант такого сочетания – стиль документальной телепрограммы или синема-верите в восьмомэпизоде,когдазрительсначалавидитпроносящиесязастекломмашиныпарижские улицы, а затем – стремительно сменяющие друг друга кадры клиентов, тогда как бесстрастный голос за кадром перечисляет рутинные детали, опасности и ужасающие трудности ремесла проститутки. Другой вариант – эпизод XII, когда милые банальности, которыми обмениваются Нана и ее юный возлюбленный, проецируются на экран в виде субтитров.Любовногодискурсаздесьнеслышноивпомине. 9 Соответственно, «Жить своей жизнью» следует рассматривать как продолжение конкретногожанракино:нарративногофильма.Существуютдвестандартныеформыэтого жанра, где образы сопровождаются текстом. В одном случае повествование ведет некий обезличенный голос, который можно счесть авторским. В другом мы слышим внутренний монологглавногогероя,вкоторомонизлагаетпроисходящиеснимнаэкранесобытия. В качестве примеров первого типа, где анонимный комментатор наблюдает за действием,можноназвать«ПрошлымлетомвМариенбаде»АленаРенеи«Ужасныхдетей» Мельвиля. Ко второму типу с внутренним монологом протагониста относится «Тереза Дескейру» Франжю, но, пожалуй, самыми яркими его примерами, когда все действие излагается устами героя, являются «Дневник сельского священника» и «Приговоренный к смертибежал»Брессона. Этотприем,доведенныйБрессономдосовершенства,Годариспользовалвсвоемвтором фильме,«Маленькийсолдат»,снятомв1960годувЖеневе,нонаэкранвышедшемлишьв январе 1963-го – на протяжении трех лет лента была запрещена французской цензурой. Фильм представляет собой череду размышлений главного героя, Брюно Форестье, связанногоскрайнеправойтеррористическойорганизациейиполучающегоприказубрать агента, работающего в Швейцарии на алжирский ФНО. «Время действовать прошло. Я постарел. Настало время размышлять». Брюно – фотограф, он говорит: «Когда фотографируешьчье-толицо,тофотографируешьскрытуюзанимдушу.Фотография–это истина,акино–этоистинаподвадцатьчетырекадравсекунду».Этотключевойфрагмент «Маленького солдата», в котором Брюно размышляет о связи образа и истины, предвосхищаетсложныеразмышленияосвязиязыкаиистиныв«Житьсвоейжизнью». Поскольку сама фабула «Маленького солдата», конкретные связи между персонажами передаются в основном через монологи Форестье, высвобожденный объектив Годара становится инструментом созерцания – определенных аспектов событий и персонажей. Камераизучаетспокойные«события»–лицоКарины,фасадызданий,проносящийсямимо машины город, – словно бы изолируя тем самым сцены насилия. Какие-то кадры кажутся произвольными, выражающими эмоциональную отстраненность; другие, наоборот, указываютнаинтенсивноесопереживание.Кажется,чтоГодарсначаласлышитиужепотом смотритвнаправленииэтогозвука. В «Жить своей жизнью» Годар доводит эту технику взгляда, следующего за услышанным,доновыхпределовсложности.Единойточкизрения–голосапротагониста (как в «Маленьком солдате») или богоподобного рассказчика – уже нет; ее сменяет набор свидетельств (текстов, отрывков повествования, цитат, выдержек, мизансцен), так или иначе описывающих происходящее. Все это в основном слова – но таким свидетельством могутстатьибессловесныезвуки,идажебессловесныеобразы. 10 Главные составляющие этой техники Годара мы встречаем уже в начальных титрах и первомэпизоде.ТитрыидутповерхлевогопрофиляНаны,снятоготакконтрастно,чтоон становитсяпочтисилуэтом.(Названиефильма:«Житьсвоейжизнью.Фильмвдвенадцати частях».)Титрыследуютдругзадругом,имывидимееанфас,азатемсправа,по-прежнему в глубокой тени. Порой она моргает или слегка поводит головой (как если бы ей было труднотакдолгооставатьсянеподвижной),проводит языкомпогубам. Онапозирует.Она знает,чтонанеесмотрят. Затем идет первый подзаголовок: «I. Бистро – Нана хочет бросить Поля – Пинбол». Далее появляется изображение, однако куда важнее то, что мы слышим. Действие фильма начинаетсяпосредиразговораНаныинекоегомужчины;онисидятустойкикафеспинойк камере;поверхихсловдоноситсязвяканьепосудыврукахбарменаиотрывочныереплики другихпосетителей.Изразговорапары–мыпо-прежнемувидимихсоспины–становится понятно,чтомужчина(Поль)–этомужНаны,чтоунихестьребенокионанедавнобросила их обоих в попытке начать актерскую карьеру. В ходе этой короткой встречи (неясно, по чьей инициативе они решили встретиться вот так, на людях) Поль ведет себя скованно и враждебно,новсежепроситеевернуться;Нанаподавленаивотчаянии,онаиспытываетк нему лишь отвращение. После нескольких горьких вымученных реплик Нана произносит: «Чембольшетыговоришь,темменьшетвоисловазначат».Напротяжениивсейэтойпервой сцены Годар систематически обделяет зрителя. Никакой смены планов. Зрителю не дано видеть,соучаствовать.Емупозволенотолькослышать. Увидеть их лица у нас получается, лишь когда, прервав бесплодный разговор, Нана и Польпереходятотстойкикпинболууокнакафе.Однакоитутупорпо-прежнемуделается наслышание.Заигройонипереговариваютсямеждусобой,номывсетакжевидимихсо спины. Поль прекратил мольбы и упреки. Он рассказывает Нане о забавном сочинении, которое одна из учениц в классе его отца написала на заданную тему: курица. «У курицы есть внешность и внутренности, – пишет девочка. – Если убрать внешность, останутся внутренности. Если убрать внутренности, можно найти душу». На этих словах следует затемнение,иэпизодкончается. 11 Рассказ про курицу – это первый из многочисленных «текстов» фильма, иллюстрирующих то, что Годар пытается нам сказать. Понятно, что история курицы – это история самой Наны (во французском здесь заложен каламбур, poule может значить и «цыпочка»).В«Житьсвоейжизнью»мыстановимсясвидетелямипостепенногообнажения Наны. В начале фильма она срывает с себя свою внешность: то, кем она была раньше. Ее новой идентичностью, через несколько эпизодов, станет ремесло проститутки. Но Годара интересует не психологический или социологический аспект проституции. У него проституция становится предельно радикальной метафорой разделения аспектов жизни – тестовойпробиркой,тиглем,вкоторомповеряетсято,чтовжизнипо-настоящемуважно,а чтоповерхностно. 12 Весь фильм «Жить своей жизнью» можно рассматривать как один большой текст. Это описание–опыт–ясностисознания;этотекстосерьезности. И«тексты»(вболеедословномсмысле)использованывдесятииздвенадцатиэпизодах фильма.ПересказанноеПолемсочинениедевочкипрокурицувпервом.Пассажиздешевого литературного журнала, который читает продавщица в эпизоде II. («Вы придаете слишком большое значение логике».) Фрагмент «Жанны д’Арк» Дрейера, который Нана смотрит в эпизоде III. Случай с тысячей франков, который Нана излагает на допросе в полиции, в четвертом.(Тутмыузнаем,чтоееполноеимя–НанаКляйничтоонародиласьв1940году.) ИсторияИветтотом,какеебросилРеймон,иответнаяречьНаны(«Явответе»)вэпизоде VI.Письмоспросьбойоприеменаработу,котороеНанапишетсодержательницепритонав седьмом эпизоде. Словно заимствованное из документального кино изложение жизни и распорядкадняпроституткивэпизодеVIII.Танцевальнаяпластинка,которуюНанаставитв девятом.Ееразговорсфилософомводиннадцатом.ОтрывокизрассказаЭдгараАлланаПо («Овальныйпортрет»),которыйЛуиджичитаетвслухвэпизодеXII. 13 Из всех текстов фильма интеллектуально наиболее искусно сделана беседа Наны с философом (в роли которого снялся философ Брис Парен) в кафе из эпизода XI. Они обсуждаютприродуязыка.Нанаспрашивает,почемуневозможножитьбезслов;потомучто речьравнозначнамысли,объясняетПарен,амысль–речи,ижизнибезмыслейнебывает. Речь не идет о том, говорить или молчать – нужно говорить точно. Точное выражение требует аскезы и выдержки, определенного отстранения. Так, необходимо понимать, что напрямуюкистиненеприйти.Всегданеизбежнаошибка. ВначалеихразговораПаренприводитпримергерояДюмаПортоса–человекадействия, которого погубила первая же его мысль. (Убегая по туннелю, в котором он заложил взрывчатку, Портос вдруг задумался о том, как это люди ходят – кому пришло в голову ставить одну ногу впереди другой. Он остановился, не в силах сделать более ни шагу. Динамит взорвался. Он погиб.) В каком-то смысле и эта история, как и предыдущая, о курице – это история Наны. И она наряду с рассказом По из следующего (и последнего) эпизодаготовятнас–формально,анесодержательно–ксмертиНаны. 14 Эпиграф для этого своего фильма о свободе и ответственности Годар заимствует у Монтеня:«Хотяиследуетодалживатьсебяпосторонним,отдаватьсебянужнотолькосебе самому»[34]. Существование проститутки, разумеется, самая радикальная метафора такого одолжения себя посторонним. Но на вопрос: а как у Годара Нана бережет себя для себя самой,ответомбудет:оннамэтогонепоказывает.Он,скорее,растолковал,какэтомогло быбыть.ОмотивахНанымыможемлишьдогадываться,предполагать.Фильмсторонится любой психологичности; здесь нет никакого исследования эмоциональных состояний, внутреннейтоски. Нана сама считает себя свободной, говорит нам Годар. Но у этой свободы нет внутреннегопсихологическогооснования–это,скорее,внешняяграция,умениебытьсамой собой.ВпервомэпизодеНанаговоритПолю:«Яхочуумереть».Вовтороммывидим,как онаотчаяннопытаетсязанятьхотьукого-тоденегибезуспешнопытаетсяпроскользнутьк себедомоймимоконсьержки.ВэпизодеIIIонаплачет,наблюдаявкинозаЖаннойд’Арк. В шестом эпизоде она в отделении полиции, вновь в слезах, пересказывает унизительный эпизод с тысячей франков, которые она попыталась присвоить. «Я хочу быть другой», – говорит она. Но в эпизоде VI («Внешние бульвары – Первый клиент – Номера») она стала самой собой. Она ступила на путь, который ведет к ее утверждению и к ее гибели. Нану, способную утвердиться, мы видим, лишь когда она стала проституткой. Именно в этом смысл слов, которые Нана обращает своей товарке Иветте в эпизоде VI: «Я в ответе. Я отворачиваюсь–язаэтовответе.Яподнимаюруку–явответе». Быть свободной значит быть в ответе. Понимая, что положения вещей не изменить, становишься свободным – и, значит, ответственным. Поэтому обращенный к Иветте монологзаканчиваетсясловами:«Тарелки–этолишьтарелки.Мужчинысутьмужчины.А жизнь…естьжизнь». 15 Усвободынетпсихологическойподоплеки,адушуможнообнажитьнепомере,алишь после окончательного снятия «внутренности» человека: таково радикальное духовное учение,котороеиллюстрирует«Житьсвоейжизнью». Понятно,чтоГодарпрекрасноосознаетразницумеждуегопредставлениемо«душе»и еетрадиционнымосмыслениемвхристианстве.Этаразницавособенностиподчеркивается цитатой из «Жанны д’Арк» Дрейера: в сцене из фильма, которую показывает нам Годар, молодой священник (в исполнении Антонена Арто) приходит сообщить Жанне (м-ль Фальконетти), что ее ждет костер. Но Жанна уверяет обескураженного священника: на самом деле мученичество несет ей избавление. И хотя выражение этих чувств и идей с помощьюцитатыизфильма ослабляетнашеэмоциональноеимсопереживание,отсылкак мученичеству в данном контексте не выглядит ироничной. Проституция, как мы можем заключитьиз«Житьсвоейжизнью»,действительнопоприродесвоей–мучение.«Счастье– вещьневеселая»,какгласитлаконичныйподзаголовоккдесятомуэпизоду.ИНанатакжев концеумирает. Двенадцатьэпизодов«Житьсвоейжизнью»–этодвенадцатьстоянийНаныпопутина Голгофу. Но в фильме Годара темы святости и мученичества перенесены на полностью светскуюпочву.ВместоПаскаляГодарпредлагаетнамМонтеня–нечтосроднимрачнойи напряженнойдуховностиБрессона,нобезкатолическойсоставляющей. 16 В «Жить своей жизнью» Годар оступается лишь единожды, уже под конец, когда он нарушает единство фильма, внося в него внешнюю точку зрения – как его создатель. В начале эпизода XII мы видим Нану и Луиджи в комнате – она, судя по всему, искренне любитэтогомолодогочеловека(онужепоявлялсяранеевфильме,вдевятомэпизодеНана знакомится с ним в биллиардном салоне и начинает флиртовать). Сцена открывается молчанием,ипоследующиереплики–«Может,пойдемкуда-нибудь?»,«Переезжайжитько мне» и пр. – передаются с помощью субтитров. Затем лежащий на кровати Луиджи принимается читать вслух отрывок из «Овального портрета» По – истории художника, поглощенного работой над портретом своей жены; он стремится достичь абсолютного сходства,но,стоитемузавершитькартину,какегоженаумирает.Заэтимисловамиследует затемнение,ивследующейсценемывидим,какРауль,сутенерНаны,груботащитеечерез двор и заталкивает в машину. Затем – вся их поездка передана лишь парой кадров – он передаетНанудругомусутенеру;однаковыясняется,чтототемунедоплатил,обахватаются за пистолеты, пуля попадает в Нану, и в последней сцене мы видим, как машины разъезжаются,аНанаостаетсялежатьнамостовой. Возраженияздесьвызываетдаженеэтостремительноеокончание,ато,чтоГодарздесь очевидно отсылает к реальности вовне фильма, ведь Анна Карина, молодая актриса, играющая Нану, – его жена. Он иронизирует над своим собственным рассказом, а это непростительно–какеслибыонсорвался,чтоли,будучиневсилахоставитьнаснаедине со смертью Наны, со всей ее ужасающей произвольностью, решив в последний момент придать ей своего рода подсознательную причинность. (Эта женщина – моя жена, художник, рисующий свою жену, тем самым ее убивает, и, соответственно, Нана должна погибнуть.) 17 Заисключениемэтойосечки«Житьсвоейжизнью»кажетсямнеидеальнымфильмом– позамыслуодновременновеличественнымиусложненным,блестящесочетающимобеэти линии. Годар, пожалуй, единственный из нынешних режиссеров, кто стремится делать «философское кино» и обладает необходимыми для этого умом и тактом. Прочие лишь предлагают свои «взгляды» на современное им общество и на то, что определяет нас как людей;поройтакимфильмамудаетсяпережитьизлагаемыевнихидеи.НоГодарпервымиз режиссеров полностью осознал, что для работы на уровне идей необходимо разработать новыйязыкдлявыраженияихвкино–иначеонивыглядятнеповоротливымииплоскими. Эту задачу он пытался решить по-разному в каждом из его фильмов: в «Маленьком солдате», «Жить своей жизнью», «Карабинерах», «Презрении», «Замужней женщине», в «Альфавиле» – и «Жить своей жизнью» представляется мне в этом смысле наиболее удачным.Подобныйзамыселитотзамечательныйкорпусработ,вкоторыхонпопыталсяего претворить, на мой взгляд, делают Годара самым значительным режиссером, заявившим о себевпоследниедесятьлет. Текст для афиши фильма «Жить своей жизнью», написанный Годаром для его парижскойпремьеры. [1964] Пер.СергеяДубина Воображаякатастрофу Поформетиповойнаучно-фантастическийфильмнеменеепредсказуем,чемвестерн,и собранизчастей,которыедлятренированногоглазасталитакойжеклассикой,какдракав салуне, светловолосая школьная учительница из восточных штатов и дуэль героев на безлюднойглавнойулице. Образцовыйсценарийвключаетпятьэтапов. 1. Явление неизвестного (нашествие чудовищ, приземление космического корабля и т. п.). Чаще всего его видит или предполагает один из героев, молодой ученый, член экспедиции.Никтоизокружающихиколлегкакое-товремяневеритегословам.Геройне женат,однакоунегоестьсимпатичная,ностольженедоверчиваяподруга. 2. Подтверждение слов героя толпой свидетелей гигантского разрушительного акта. (Еслипришельцы–сдругихпланет,безрезультатнаяпопыткавступитьснимивконтакти убедить мирно покинуть землю.) Местная полиция, мобилизованная для урегулирования ситуации,безжалостноуничтожена. 3.Встолицестраныидутсовещанияученыхивоенных,геройдержитречьпередсхемой, картой или классной доской. Вводится чрезвычайное положение. Известия о новых разрушениях.Появляютсяпредставителивластейиздругихстран,вчерныхлимузинах.Все международные конфликты стихают перед планетарной угрозой. Вставляется нарезка из радио–ителесообщенийнаразныхязыках,совещанийвООН,новыхконференцийвоенных иученых.Вырабатываютсяпланыуничтоженияврага. 4.Зверствапродолжаются.Вкакой-томоментподругагерояоказываетсявсмертельной опасности. Массированные контратаки международных сил с блестящей демонстрацией ракетной мощи, лучевого оружия и другой передовой техники не приносят успеха. Гигантские потери войск, чаще всего выжженных дотла. Города разрушены и/или эвакуированы. Обязательная сцена с толпами, в панике запрудившими шоссе или большой мост,чьедвижениенаправляютмногочисленныеполицейские;еслифильмяпонский,онив безукоризненнобелыхперчатках,сверхъестественноспокойныинадубляжноманглийском призывают:«Продолжайтедвижение.Никакихпричиндлябеспокойства». 5. Новые конференции с одним мотивом: «Должно же быть против них какое-то средство». Герой в своей лаборатории непрерывно работает ради этой цели. Вырабатываетсяокончательнаястратегия,накоторуювсенадежды;монтируетсяпоследнее оружие – обычно это сверхмощное, но пока не испытанное ядерное устройство. Обратный отсчет.Последнийотпорчудовищилизахватчиков.Всепоздравляютдругдруга,геройиего подругаприжимаютсящекакщекеинастойчивосмотрятвнебо:«Этоконец?» Описанныйфильмдолженбытьцветнымиширокоэкранным.Другойтиповойсценарий, следующийниже,болеепростипредназначендлячерно-белыхнизкобюджетныхфильмов. Здесьэтаповвсегочетыре. 1. Герой (обычно, но не всегда – ученый) и его подруга, либо жена, и двое детей развлекаются в некоем безобидном, совершенно обычном для среднего класса месте – собственномдомевнебольшомгородкеилинаканикулах(впалатке,лодке).Вдругодиниз нихначинает себякак-тостранновестиилинекоебезобидноесвидурастениечудовищно увеличиваетсяиобретаетспособностьдвигаться.Еслигеройзарулемавтомобиля,надороге появляется нечто ужасное. Если дело происходит ночью, в небе сталкиваются странные огни. 2. Пройдя по следам странного существа или обнаружив, что Оно радиоактивно, либо обследовав землю вокруг гигантского кратера, иными словами, проведя что-то вроде предварительной разведки, герой пытается оповестить местные власти, но безрезультатно: никто не верит в неладное. Но герой знает лучше. Если существо осязаемо, весь дом тщательно баррикадируют. Если пришелец – невидимый паразит, вызывают доктора или друга,которыйвсамомскоромвременигибнетили«заражается»сам. 3. Попытки связаться с кем-то вовне оказываются бесполезными. Тем временем Оно продолжает требовать все новых жертв в городке, невероятно отрезанном от мира. Общая беспомощность. 4. Дальше – одно из двух. Либо герой решает сразиться с чудовищем в одиночку, неожиданно обнаруживает у пришельца слабое место и уничтожает его. Либо ему удается каким-тообразомвыбратьсяизгородкаидонестипроисходящеедокомпетентныхвластей. Те(следуяпервомусценарию,новсильномсокращении)разворачиваютсложнуютехнику, которая,посленесколькихсбоев,вконцеконцовприноситпобедунадзахватчиками. Ещеодинвариантэтоговторогосценарияпоказываетгероя-ученоговеголаборатории, расположенной в цокольном или подвальном этаже со вкусом обставленного, богатого дома. Его опыты нечаянно вызывают ужасающие метаморфозы неких растений или животных, которые становятся плотоядными и приходят в ярость. Или же в результате собственных опытов он наносит себе травму (иногда непоправимую) или оказывается «заражен».Онможетэкспериментироватьсрадиоактивностью,конструироватьмашинудля связисобитателямидругихпланетилидляпутешествийвпространствеивремени. В другую же версию первого сценария входит обнаружение неких фундаментальных сдвигов в условиях самой жизни на нашей планете, вызванных ядерными испытаниями, причем эти сдвиги должны в кратчайший срок привести к полному уничтожению человечества. Например, температура земли становится слишком высокой или слишком низкой для поддержания жизни, либо планета раскалывается надвое, либо постепенно покрываетсясмертоноснымиосадками. Наконец, третий сценарий, отличающийся, но не во всем, от первых двух, развивается вокруг космического путешествия – на Луну или другую планету. Путешественники при этомобычнооткрывают,чтоэтаинаяпланетанаходитсявчудовищноопасномсостоянии: ей угрожают инопланетные захватчики или она близка к уничтожению в ходе ядерной войны. Гибельные драмы двух первых сценариев разыгрываются и здесь, но осложняются проблемойотлетасобреченнойи/иливраждебнойпланетыивозвращениянаЗемлю. Разумеется,язнаю,чтосуществуюттысячинаучно-фантастическихроманов(ихрасцвет падаетнавторуюполовину1940-хгодов),неговоряопереложенияхнаучно-фантастической тематики, составляющей основное содержание комиксов. Но я собираюсь говорить о научно-фантастических фильмах (их нынешняя жизнь начинается в 1950-м и, со значительным спадом, длится по сей день) как независимом подвиде, не обращаясь к другим медиа и, в первую очередь, не обращаясь к романам, на которых эти фильмы во многихслучаяхосновываются.Дажееслиуроманаифильмаодинсюжет,фундаментальное различиемеждувозможностямитогоидругогополностьюразрушаетсходство. Конечно же, в сравнении с научно-фантастическими романами их экранные версии имеют уникальные преимущества, среди которых – непосредственное изображение экстраординарного: физических деформаций и мутаций, сверхскоростных и космических сражений,рушащихсянебоскребов.Естественно,фильмыслабеевтом,чемсильнынаучнофантастические романы (не все), – в науке. Но вместо тренировки интеллекта они могут предложитьто,чтонеподсилуроманам:расширениеобластичувств.Спомощьюкартини звуков, а не слов, которые воображение еще должно перевести в видимую форму, зритель фильмаможет участвовать вдействии,переживаявфантазиисобственную гибель,больше того–гибельцелыхгородов,уничтожениевсегочеловечества. Научно-фантастические фильмы посвящены не науке. Они посвящены катастрофе, одному из древнейших предметов искусства. Катастрофы здесь видят без особой глубины, зато всегда широко. Дело в количестве и в изобретательности. Это, если угодно, вопрос масштаба. Но масштаб, особенно в широкоэкранных цветных фильмах (среди которых наиболеетехническиубедительныивизуальноэффектнылентыяпонскогорежиссераИсиро Хонды и американского режиссера Джорджа Пала), переносит содержание на другой уровень. Инымисловами,научно-фантастическиефильмы(какидругой,совершеннонепохожий на них жанр современного искусства – хеппенинг) работают с эстетикой разрушения, с особой привлекательностью, которую находят живые существа, творя разгром и создавая месиво.Сутьхорошегонаучно-фантастическогофильма–вобразахразрушения.Отсюдаже недостатки дешевой ленты: монстр появляется или ракета садится тут в маленьком, бесцветном городке. (Голливудские бюджеты обычно требуют, чтобы он был в пустынях Аризоны или Калифорнии. В фильме «Нечто из иного мира» [1951] убогие, тесные декорации должны были представлять лагерь возле Северного полюса.) Конечно, были хорошие и среди черно-белых научно-фантастических лент. Но более щедрый бюджет, обычно подразумевающий цветную пленку, дает, понятно, куда больше возможностей играть то в одну, то в другую обстановку. Вот вам многолюдный город. Вот замечательно оборудованная,ноаскетическивыглядящаявнутренностькосмическогокорабляпришельцев или землян, полная обтекаемых, поблескивающих хромом приборов, циферблатов и механизмов, чья сложность видна уже по количеству вспыхивающих на них цветных лампочек и странным издаваемым ими звукам. Вот лаборатория, заставленная чудесными шкафами и исследовательской аппаратурой. Вот старомодный на их фоне конференц-зал, гдеученыеразворачиваютчертежииграфики,объясняявоеннымчрезвычайнуюситуацию. Причем любая типовая местность или обстановка существуют в двух видах: целом и разрушенном. Отдельные счастливчики смогут даже войти внутрь этой панорамы плавящихсяцистерн,разлетающихсятел,рушащихсястен,потрясающихкратеровитрещин в земле, вертикально вздымающихся летательных аппаратов, разноцветных смертоносных лучейиуслышатьсимфониюскрежетов,загадочныхэлектронныхсигналов,пронзительный лязгбоевойтехники,глухиеголосалаконичныхобитателейдругихпланетипорабощенных имиземлян. Кое-какие простые радости – скажем, показ городских разрушений в колоссально увеличенных размерах – научно-фантастические фильмы делят с другими типами лент. Особенныхразличиймеждувсеобщимразгромомвстарыхфильмахпроужасыичудовищи в нынешнем научно-фантастическом кино на вид, кроме (опять-таки) масштаба, нет. В старом фильме про чудовищ монстр обычно добирался до большого города, с тем чтобы оставить там по себе изрядное количество с яростью и воем обрушенных мостов, скомканных голыми руками железнодорожных составов, опрокинутых зданий и проч. Архетип здесь – Кинг-Конг из великого фильма Шедсака и Купера 1933 года, в озверении мечущийся сначала по родному городку (давя по пути младенцев в кадрах, удаленных позднее из большинства прокатных копий), а потом по Нью-Йорку. По духу это и впрямь очень похоже на сцену из фильма Исиро Хонды «Родан» (1957), где две гигантские рептилии с размахом крыльев в 500 футов и сверхзвуковой скоростью передвижения вызывают хлопаньем крыльев чудовищный циклон, в черепки разносящий большую часть Токио. Или на разрушение половины Японии исполинским роботом с испепеляющими лучами из глаз в начале его же ленты «Мистериане» (1959). Или на уничтожение НьюЙорка, Парижа и Токио лучами целой флотилии летающих тарелок в фильме «Битва в космосе»(1960)тогожеХонды.ИлиназатоплениеНью-Йоркав«Когдамирыстолкнутся» (1951)РудольфаМате.ИлинагибельЛондонав1966году,показаннуюДжорджемПаломв «Машине времени» (1960). По эстетическим ориентирам эти эпизоды не слишком отличаютсяиотсценразгромавпышныхблокбастерахсмечами,сандалиямиикрасочными оргиями, переносящими действие в библейские или древнеримские времена, – от гибели Содомав«СодомеиГоморре»Олдрича,Газыв«СамсонеиДалиле»СесиляБ.ДеМилля, Родоса в «Колоссе Родосском» Серджо Леоне или Рима в доброй дюжине лент о Нероне. Гриффит начал эту традицию Вавилонским эпизодом своей «Нетерпимости», и сегодня зрительнеиспытываетнималейшеготрепета,видя,какрушатсятогдашниедорогостоящие декорации. Научно-фантастические фильмы 1950-х заимствуют привычные темы и из других источников. Так, знаменитые киносериалы и комиксы тридцатых годов о приключениях Флэша Гордона и Бака Роджерса, равно как более поздние комиксы с их наплывом супергероев внеземного происхождения (самый известный тут – Супермен, подкидыш с планетыКриптон,теперьпишут,чтоонбылвыброшеннаЗемлюядернымвзрывом),делятс научно-фантастическими фильмами последнего времени многие мотивы. Но есть существенная разница. Старые научно-фантастические ленты и большинство комиксов относились к теме катастрофы с глубоким простодушием. Как правило, они вообще предлагали подновленные версии старинных приключенческих романов – отсюда их могучий неуязвимый герой таинственного происхождения, сражающийся против зла на сторонедобра.Нынешниенаучно-фантастическиефильмыотличаютсяявнойжестокостью, к тому же усиленной более высоким уровнем внешнего правдоподобия, что заметно контрастирует со старыми лентами. В современной исторической реальности катастрофические образы представлены куда шире, а главные действующие лица – может быть,всилутого,чтовыпалонаихдолю,–ужедавноневыглядятпростодушными. Соблазнительность таких обобщенных образов катастрофы как продукта фантазии – в том, что они освобождают человека от обычных обязательств. Козырная карта фильмов о конце света – вроде «Дня, когда загорелась Земля» (1962) – гигантская сцена безлюдного Нью-Йорка, Лондона или Токио, жители которых полностью уничтожены. Либо же, как в «Мире,плотиидьяволе»(1957),весьфильмможетбытьпосвященфантазированиюотом, как необитаемую столицу захватывают и жизнь, как на острове у Робинзона Крузо, начинаетсясызнова. Еще одно удовольствие, даруемое подобными фильмами, состоит в предельном упрощении морали, то есть морально допустимом фантазировании, когда человек может дать волю своим жестоким или по меньшей мере аморальным чувствам. В этом плане научно-фантастическиефильмычастичносовпадаютсфильмамиужасов.Речьидетоявном удовлетворении, которое мы испытываем, глядя на чудищ – существа, исключенные из категории человеческого. Чувство превосходства над чудищем, в разных пропорциях смешанное со щекоткой от страха и гадливости, позволяет на время рассеять моральные сомнения и насладиться жестокостью. То же самое – с научно-фантастическим кино. В образе космического монстра, чудовищного, безобразного захватчика сходится всё, и фантазияобращаетсянаэтумишень,чтобыагрессиямогласполнымправомвыплеснутьсяи мыэстетическинасладилисьбольюиразрушением.Научно-фантастическийфильм–одна из чистейших форм зрелища; благодаря ей мы имеем редкую возможность не разделять чувства другого. (Лента Джека Арнольда «Невероятно уменьшающийся человек» [1957] – исключение.)Мы–всеголишьзрители;мынаблюдаем. Новнаучно-фантастическихлентах,посравнениюсфильмамиужасов,нетакужмного ужаса. Тревога, шок, неожиданность по большей части исключены во имя неизменного и неуклонного действия. Научно-фантастические ленты предлагают бесстрастный, эстетический взгляд на катастрофу и агрессию – технологичный взгляд. Главную роль в этих фильмах играют вещи, предметы, механизмы. По большей части этические ценности представлены скорее в декоре этих фильмов, чем собственно в людях. Предметы, а не беспомощные люди воплощают здесь ценности, поскольку мы видим в них, а не в людях, источник силы. По версии научно-фантастического кино, человек без созданных им предметов–какбудтоголый.Онисимволизируюттеилииныеценности,онидаютвласть, они должны быть разрушены, но они же – незаменимые орудия победы над враждебными пришельцамиисредствавосстановленияизуродованнойокружающейсреды. Научно-фантастические фильмы предельно моралистичны. Их обычная тема – правильное, человечное использование науки против ее безумного, маниакального использования. Эту тему они делят с классическими фильмами ужасов 1930-х годов – такими как «Франкенштейн», «Мумия», «Остров потерянных душ», «Доктор Джекил и мистерХайд».(Болеесвежийпример–блистательнаялентаЖоржаФранжюLesyeuxsans visage[35] [1959], в американском прокате поименованная «Комнатой ужасов доктора Фауста».) В фильме ужасов мы видим безумного, маниакального, сбившегося с пути ученого, продолжающего опыты наперекор благим увещеваниям, создающего монстра или монстров и погибающего от руки своего создания – нередко уже признав собственное безумиеипогибаявуспешнойпопыткеуничтожитьсвоетворение.Вариантэтоговнаучнофантастическом фильме – ученый, обычно в составе команды, который переходит на сторонупришельцев,поскольку«их»науканамногосильнее«нашей». Такобстоитдело,кпримеру,в«Мистерианах»,где,всоответствиисжанром,предатель видитвконцесвоюошибкуи,уничтожаякосмическийкорабльмистериан,гибнетвнем.В фильме «Этот остров Земля» (1955) обитатели осажденной планеты Металуна намереваютсязахватитьЗемлю,ноихпланыразрушаетсоотечественник-ученыйпоимени Эксетер,которыйнекотороевремяжилнаЗемлеисумелполюбитьтаммузыкуМоцарта,а потомунеможетдопуститьподобноезлодеяние.Эксетертопитсвойкосмическийкорабльв океане, предварительно отправив на Землю прелестную парочку американских физиков мужского и женского пола. Металуна гибнет. В «Мухе» (1958) герой, поглощенный в подземной лаборатории экспериментами над телепортацией живых существ, использует себявкачествеподопытного,нополучаетголовуилапумухи,случайнопопавшейвместес ним в камеру созданной им машины, превращается в монстра, но, все-таки оставшись, пускайчастично,человеком,уничтожаетсвоюлабораториюиприказываетженеубитьего. Ксчастьюдлячеловечества,отегооткрытиянеостаетсяиследа. Явственно отмеченные как интеллектуалы, ученые в научно-фантастических фильмах всегдаотвечаютзато,чтоокружающиеихлюдигибнутилиоказываютсянакраюбездны.В «Завоевании космоса» (1955) ученый, руководящий международной экспедицией на Марс, внезапно испытывает муки совести, считая затеянное предприятие богохульством, и посредибеладняпогружаетсявчтениеБиблиивместотого,чтобызаниматьсяположенным делом. Сын руководителя, младший офицер, который обращается к отцу как генералу, вынужден убить старика, когда тот пытается помешать их кораблю сесть на Марс. Двойственноеотношениекученымвыражаетсявфильмевдвухпланах.Вцеломдлятого, чтобы занятие наукой представлялось в подобных фильмах с полной симпатией, ему необходимо удостоверение полезности. Лишенная двойственности, наука имеет единственныйсмысл:бытьдейственнымсредствомотугрозы. Незаинтересованная интеллектуальная любознательность чаще всего показывается при этомвкарикатурнойформе–какманиакальноепомешательство,отрезающеегерояотвсех человеческихсвязей.Ноподобныеопасенияобычнообращеныпротивученого,анепротив его труда. Творчески мыслящий ученый может стать жертвой собственного открытия – волей случая или зайдя слишком далеко. Но, как подразумевается, другие, менее оригинальныелюди,корочеговоря–техники,сумеютраспорядитьсяегооткрытиемлучше и безопаснее. Глубоко укорененное в современности недоверие к интеллекту настигает в подобныхфильмахученогокакинтеллектуала. Мысль, будто ученый высвобождает силы, которые, не будь они направлены на благую цель,смогутуничтожитьсамогочеловека,представляетсядостаточнобезобидной.Одиниз самыхстарыхобразовученого–шекспировскийПросперо,абсолютноодинокийграмотей, насильственноотрезанныйотобществананеобитаемомострове,невсостоянииполностью сдержатьмагическиесилы,вкоторыхувяз.Такаяжеклассика–образученогокаксатаниста («ДокторФауст»,новеллыПоиГоторна).Наука–этомагия,акакизвестнокаждому,магия бывает черная и белая. Но мало просто отметить, что отношение современности – в той мере, в какой его выражает научно-фантастическое кино, – остается двойственным и ученыйвыглядитсатанистомиспасителемразом.Пропорциименяются,контекстпрежнего восхищения и страха перед ученым теперь иной. Область его воздействия – не частная сфера,онсамилиегоближайшееокружение.Этопланета,космос. Складываетсявпечатление–особеннонаяпонскихфильмах,нонетольконаних,–что существуетмассоваятравма,вызваннаяядерныморужиемивозможностьюядерныхвойнв будущем.Большинствонаучно-фантастическихфильмовнесутсвидетельствообэтойтравме и,такилииначе,пытаютсяееизжить. Случайное пробуждение сверхразрушительного монстра, спящего под землей с доисторических времен, – зачастую вполне очевидная метафора атомной бомбы. Но во многих случаях к ней отсылают напрямую. В «Мистерианах» на Землю, неподалеку от Токио, садится исследовательский корабль с планеты Мистероид. Ядерные войны практикуются там уже веками, и девяносто процентов зачатых сейчас будут уничтожены при рождении, поскольку из-за избытка в пище стронция-90 они появятся на свет с теми или иными дефектами. Мистериане прибыли на Землю, собираясь взять в жены здешних женщин и, если удастся, овладеть нашей относительно незараженной планетой… Герой «Невероятно уменьшающегося человека» Джон Доу – жертва радиоактивного облака, пронесшегося над водой, когда они с женой были в лодке; от радиации он становится все меньшеименьше,такчтовконцефильма,став«бесконечномаленьким»,онпроходитчерез крохотную ячейку оконной сетки от комаров… В «Родане» перед нами полчища чудовищныхплотоядныхнасекомыхдоисторическихвремен,которыхдополняетещеипара гигантских крылатых рептилий (доисторических археоптериксов); под воздействием взрывовнаядерныхиспытанияхонивылупляютсяизяиц,покоившихсявглубинешахты,и уничтожают немалую часть мира, пока не гибнут под раскаленной лавой извергшегося вулкана… В английской ленте «День, когда загорелась Земля» две водородные бомбы, одновременновзорванныенаиспытанияхвАмерикеиРоссиина11градусовсдвигаютугол наклона земной оси и меняют земную орбиту, так что Земля начинает приближаться к Солнцу. Радиационныекатастрофы,авконечномсчетевесьмиркакжертваядерныхиспытаний и ядерной войны – таков самый грозный образ, с которым имеет дело научнофантастическое кино. Вселенные однократны. Миры заражаются, сгорают, истощаются, исчезают. В фильме «Космический корабль Икс-М» исследователи с Земли высаживаются на Марс, где узнают, что марсианская цивилизация погибла в атомной войне. В «Войне миров» Джорджа Пала красноватые веретенообразные существа с крокодильей кожей вторгаютсясМарсанаЗемлю,посколькуихпланетасталаслишкомхолоднойдляжизни.В фильме «Этот остров Земля», тоже американском, планета Металуна, чьи обитатели в давние времена были загнаны войной в подземелья, погибает от ракетной атаки с враждебной планеты. Запасы урана, чья энергия питает силовое поле, защищающее Металуну, иссякли; на Землю отправляется безрезультатная экспедиция, чтобы привлечь земных ученых к разработке новых источников ядерной энергии. В «Проклятых» Джозефа Лоузи (1963) ученый фанатик растит в темной пещере на побережье Англии девятерых холодных как лед радиоактивных детей, которым предназначено стать единственными выжившимивнеотвратимомядерномАрмагеддоне. Научно-фантастическое кино то и дело хочет выдать желаемое за реальность, и это бывает трогательным, а бывает гнетущим. Снова и снова мы видим тоску по «хорошей» войне, которая не ставит моральных проблем и не подлежит моральным оценкам. Образность научно-фантастического фильма удовлетворит и самого агрессивного приверженца военных лент, поскольку многие радости военного кино в нетронутом виде перекочеваливнаучнуюфантастику.Скажем,потасовки«боевыхракет»землянскораблем пришельцевв«Битвевкосмосе»(1960);растущаяогневаямощьследующихдругзадругом атак на пришельцев в «Мистерианах», которые Дэн Толбет вполне точно окрестил безостановочнымхолокостом;впечатляющаябомбардировкаподземнойцитаделиМеталуны вфильме«ЭтотостровЗемля». Но в то же самое время агрессивность научно-фантастических фильмов умело оборачивается стремлением к миру или по крайней мере мирному сосуществованию. Обычно некий ученый выступает с энергичной запиской о том, что инопланетное вторжение должно подтолкнуть воюющие страны опомниться и забыть о своих распрях. Среди главных тем множества научно-фантастических лент – как правило, цветных, поскольку они располагают бюджетом и возможностями широко развернуть зрелище войны, – именно такая ООН-овская фантазия, фантазия об объединенных военных силах Земли. (Та же любимая ООН тема возникла в недавнем блокбастере, не относящемся к научной фантастике, – фильме «55 дней в Пекине» [1963]. Здесь, что характерно, место марсианскихпришельцевзанимаюткитайцы,ихэтуани,чьевосстаниеобъединяетземлян,– насейразихпредставляютСША,Великобритания,Россия,Франция,ГерманияиЯпония.) Достаточномасштабнаякатастрофасводитнанетпрежнюювраждуивзываеткпредельной концентрациивсехресурсовЗемли. Наука–технология–рассматриваетсяприэтомвкачествевеликойобъединяющейсилы. Темсамымнаучно-фантастическоекинотоженасвойладреализуетутопическиефантазии. В классических образцах утопической мысли – платоновском «Государстве», «Городе Солнца» Кампанеллы, «Утопии» Мора, стране гуигнгнмов у Свифта, вольтеровском Эльдорадо – общество пришло к абсолютному согласию. Разум в этих обществах непоколебимо властвует над чувствами. Поскольку расхождения и социальные конфликты невозможно даже помыслить, ничего неожиданного не может произойти. Здесь, как в мелвилловском «Тайпи», «все думают одинаково». Всеобщие законы разума означают всеобщее согласие. Любопытно, кроме того, что общества, где полностью господствует разум, обычно изображались как ведущие аскетический либо материально умеренный и экономически простой образ жизни. Но в утопическом мировом сообществе научнофантастического кино, где царит абсолютный мир и правит научное единомыслие, требованияпростотыфизическогосуществования,конечно,выгляделибыабсурдом. Ивсежерядомсвоплощеннымивнаучнойфантастикеоптимистическимифантазиями морального упрощения и всемирного единства скрывается глубочайшая тревога по поводу сегодняшнегосуществования.Яимеюввидунетольковполнереальнуютравмузнанияоб атомном оружии – тем, что его уже применяли, что его достаточно, чтобы многократно уничтожить всё на земле, что сегодня можно отлично использовать новые разновидности бомб.Заэтиминовымистрахамипередфизическойкатастрофой,перспективойвсеобщего увечьяилидажеуничтожениявнаучно-фантастическомкиновстаетсильнейшаятревогао судьбечеловеческойпсихики. Дело в том, что научно-фантастическое кино можно описать как общедоступную мифологию, отражающую современное негативное представление о безличном. Стремящиеся поработить «нас» инопланетные существа – всегда «оно», а не «они». Космическиепришельцыобычновыглядяткакзомби.Онидвигаютсястранно,механически, онинеуклюжи,бесформенны.Ноодинаковы.Еслиэтонечеловекоподобныесущества,они передвигаются абсолютно ритмично и неизменно (когда нет поломок). Если человекоподобные – одеты в космические скафандры и проч., – то подчиняются строжайшейвоеннойдисциплинеинеимеюткакихбытонибылоперсональныхотличий. Стоит им победить, и они навяжут миру эту бесчувственность, безликость, единообразие. «Нетбольшенилюбви,никрасоты,ниболи»,–хвастаетсяобращенныйвихверуземлянин во «Вторжении похитителей тел». Наполовину земные, наполовину инопланетные дети в «Детях проклятых» абсолютно бесчувственны, двигаются как один, читают мысли друг друга,всеони–вундеркинды.Этодесантизбудущего,человечествонаследующейступени развития. Инопланетные захватчики совершают преступление, которое хуже убийства. Они не просто убивают людей. Они стирают их с лица земли. В «Войне миров» исходящий из ракетылучразрушаетнасвоемпутивсехлюдейипредметы,оставляяотнихтольколегкий пепел. В «Водородном человеке» Хонды (1959) ползущая по земле нашлепка расплавляет любую плоть, которой касается. Если нашлепка, выглядящая как большой кусок красного желе, способная просачиваться сквозь перегородки, взбираться и спускаться по стенам, всего лишь коснется вашей босой ступни, от вас останется только кучка одежды на полу. (Более многочленную и крупную нашлепку представляет собой источник злодейств в английской ленте «Ползучий незнакомец» [1956].) В другой версии этой фантазии тело остаетсянетронутым,ноегоносительполностьюменяется,превращаясьвавтоматического слугу или агента чуждых сил. Конечно, это переиначенная фантазия о вампире. Человек мертв,нонезнаетобэтом.Онтеперьзомби,онстал«бывшим».Такпроисходитсцелым калифорнийским городком во «Вторжении похитителей тел», с несколькими земными учеными в фильме «Этот остров Земля» и с разных сортов простаками в «Пришельце из космоса», «Нападении людей-марионеток» (1958) и «Пожирателях мозгов» (1958). Как жертва всегда вырывается из ужасающих объятий вампира, так в научно-фантастических фильмах личность сопротивляется «захвату», хочет восстановить свою человеческую суть. Но если дело сделано, жертва остается в высшей степени удовлетворена. Ее человеческая мягкость не сменилась чудовищной «кровожадностью» зверя (метафорическое усиление сексуальной страсти), как бывало в старых фантазиях о вампиризме. Она лишь стала действовать более эффективно – воплощенный образец технократического человека, освобожденногоотчувств,неимеющегособственнойволи,спокойного,послушноголюбым приказам.(Темныетайнычеловеческойприродыобычносвязывалисусилениемживотного начала, как в «Кинг-Конге». Опасность для человека, его способность расчеловечиваться крылась в его собственной животной природе. Теперь угрозу связывают со способностью человекапревратитьсявмашину.) Как правило, эта жуткая и неотвратимая разновидность гибели может коснуться в фильме любого – за исключением, понятно, главного героя. В какой бы серьезной опасности ни находились он сам и его семья, они всегда избегают роковой участи, а захватчиковвконцефильмаизгоняютилиуничтожают.Язнаюединственноеисключение, «ДеньвторжениясМарса»(1963),гдепослевсехстандартныхсраженийгерой-ученый,его жена и двое детей оказываются «захвачены» враждебными пришельцами, и всё тут. (В последние минуты фильма мы видим, как их сжигают лучи марсиан, так что пепельные силуэты осыпаются в пустой плавательный бассейн, тогда как их симулякры уезжают на семейном автомобиле.) Другой, более оптимистичный вариант отступления от правила представлен в «Сотворении гуманоидов» (1964). Там герой в конце фильма обнаруживает, что он тоже был превращен в металлического робота, наделен безукоризненно работающими и практически неподвластными разрушению внутренностями, но не был об этомосведомленинезаметилвсебеникакихперемен.Такилииначе,онузнает,чтоскоро будетмодернизировандо«гуманоида»,сохраниввсеособенностиреальногочеловека. Из всех типовых мотивов научно-фантастического кино эта тема обесчеловечения, может быть, самая захватывающая. Поскольку теперь, как я уже отмечала, ситуация не выглядиттакойчерно-белой,какаяонабылавпрежнихфильмаховампирах.Всегодняшних научно-фантастических лентах отношение к деперсонализации не такое простое. С одной стороны, они ее осуждают как нечто самое ужасное. С другой, некоторые черты дегуманизированных пришельцев, существ управляемых и переиначенных, – скажем, господство разума над чувствами, идеализация работы в команде и ориентация научной деятельностинаобщеесогласие,высокийуровеньморальногоупрощения–приписываются самому спасителю-ученому. Интересно, что в случаях, когда ученый в этих фильмах изображается негативно, он обычно приобретает вид исследователя-индивидуалиста, который закрылся в своей лаборатории и, поглощенный дерзкими, опасными экспериментами,забываетоневестеилилюбящейженеидетях.Ученыйкаклояльныйчлен команды, а потому индивидуализированный заметно слабей, изображается с гораздо большимпочтением. В научно-фантастических фильмах полностью отсутствует социальная критика, даже в скрытой форме. Так, мы не найдем в них ни малейшей критики в адрес нашего общества, порождающего обезличивание и расчеловечение, которое научно-фантастическое воображение приписывает воздействию инопланетного Оно. Точно так же отсутствует представление о науке как социальной деятельности, неразрывной с социальными и политическими интересами. Наука здесь попросту либо приключение (с хорошим или плохим концом), либо технически оснащенный ответ на угрозу. Характерно, что в случаях преобладающегострахапереднаукой,когдаонапредставляетсянебелой,ачерноймагией, зло в научной фантастике связывают исключительно с извращенной волей одинокого ученого.Вобсуждаемыхздесьфильмахпротивостояниечернойибелоймагиивыглядиткак разрыв между благодетельной технологией и сбившейся с пути индивидуальной волей одиночки-интеллектуала. Тем самым научно-фантастические фильмы дают аллегорическое изображение нескольких главных тем, насыщенное типовыми современными ожиданиями. Тема деперсонализации («захвата» другим существом), о которой говорилось выше, – это новая аллегория давнего сознания, что даже в здравом уме человек тем не менее всегда опасно близок к сумасшествию и неразумию. Однако тут есть нечто большее, чем просто распространенный в последнее время образ, выражающий вечную и все же по большей части неосознаваемую тревогу людей о собственном душевном здоровье. Значительную часть своей силы этот образ черпает в той особой, исторически обусловленной, но тоже бессознательно переживаемой тревоге, которую испытывает каждый в деперсонализирующей обстановке современного города. Точно так же недостаточно отметить, что аллегории научной фантастики – из разряда новых мифов о вечном человеческомстрахесмерти,направленныхнато,чтобыснимсвыкнутьсяиегопреодолеть. (Мифы о рае, аде и призраках несут ту же функцию.) Потому что этот страх тоже многократноусиленоднойисторическойособенностью.Яговорюотравмевсехлюдейсередины двадцатого столетия, которые ясно увидели: отныне и до конца человеческой истории каждый из нас обречен вести свое индивидуальное существование под угрозой не только собственной смерти, что очевидно, но и психологически почти непереносимой опасности коллективного истребления и уничтожения, которые могут настигнуть в любую минуту и фактическибезпредупреждения. В психологическом плане образы катастрофы не слишком меняются от одной историческойэпохикдругой.Иноедело–впланеполитическомиморальном.Ожидание апокалипсисаможетприводитькрадикальномуразрывусобществом,какэтослучилосьс тысячами европейских евреев в семнадцатом столетии, когда они, услышав пророчества Саббатая Цви о неотвратимом приходе Мессии и конце света, бросили дома и занятия и отправились в Палестину. Однако люди реагируют на свой приговор по-разному. Как известно, жители Берлина без особого волнения восприняли известие о том, что Гитлер решил казнить их всех до прихода союзников, поскольку они оказались недостойными, проиграввойну.Нашеположениесегодня,увы,похожескореенаситуациюберлинцев1945 года, чем восточноевропейских евреев XVII столетия, и наша реакция опять-таки ближе к первым. Я хочу сказать, что образ катастрофы в научно-фантастических фильмах прежде всегосимволизируютнеадекватныйответ.Вовсенесобираюсьнападатьнанихзаэто.В конце концов, они – лишь немудреный образец той неадекватности, которой большинство изнасотвечаетнаневыносимыестрахи,отравляющиесознание.Значимостьэтихфильмов, помимо немалой кинематографической притягательности, состоит в том, что они балансируют между простецкими, широко порицаемыми коммерческими поделками и самымиглубокимидилеммамисовременногомира. Наша эпоха и впрямь эпоха крайностей. Нам постоянно угрожают две одинаково чудовищные, но, на первый взгляд, противостоящие друг другу судьбы: беспросветная банальность и необъяснимый ужас. Справиться с двумя этими наваждениями многим помогаетфантазия,которуюбольшимипорциямираздаетпопулярноеискусство.Фантазия может одно: вознести над невыносимой обыденщиной и отвлечь от реального или предвосхищаемого страха, погружая в экзотические и опасные ситуации, которые в последнюю минуту разрешаются счастливой концовкой. Но фантазия может еще смягчить то, что психологически непереносимо, приучив нас к нему. В первом случае фантазия приукрашиваетмир.Вовтором–егообезвреживает. Фантазия в научно-фантастическом кино делает и то и другое. Фильмы передают распространенные тревоги и вместе с тем помогают их ослабить. Они прививают необыкновенную апатию по отношению к радиации, эпидемии, гибели, в которой я, например, вижу иллюзию и депрессию. Эти наивные фильмы ловко ослабляют ощущение инаковости,чуждостиоптовымипартиямипривычного.Вчастности,диалогвбольшинстве научно-фантастических лент, который отличается поразительной, но нередко даже трогательнойбанальностью,делаетпроисходящеечудесно,неожиданнозабавным.Реплики вроде«Бегисюда,уменявваннойчудовище»,«Сэтимнужночто-тосделать»,«Минуточку, профессор. Мне кто-то звонит», «Но это невероятно» и старое американское подспорье «Надеюсь, это подействует» среди красочной и оглушительной бойни звучат смешно. Вместестемвфильмахестьнемаложестокогоиубийственносерьезного. Вопределенномсмыслевсеэтифильмысоучаствуютвчудовищном.Какяговорила,они егонейтрализуют.Возможно,такпоступаетлюбоеискусство,делаяпубликусоучастницей того,чтооноизображает.Новэтихфильмахмыимеемделостем,что(почтибуквально) немыслимо. Однако «мысль о немыслимом» – не как предмете калькуляции, по Герману Кану, а как о предмете фантазирования – сама по себе, пусть даже без нашего желания, становится актом, с моральной точки зрения достаточно сомнительным. Фильмы увековечивают стереотипные представления о личности, воле, силе, знании, счастье, общественном согласии, вине, ответственности, которые в нынешней крайней ситуации, самое малое, непригодны. Коллективные кошмары не прогнать, показывая, что они, в моральномиинтеллектуальномплане,иллюзорны.Этоткошмар–втомилииноммасштабе отраженныйвнаучно-фантастическихфильмах–слишкомпохожнанашуреальность. [1965] Пер.БорисаДубина «Пламенеющиесоздания»ДжекаСмита Крупные планы обмякших пенисов и подпрыгивающих грудей, кадры мастурбации и орального секса, которыми изобилуют «Пламенеющие создания» Джека Смита, вызывают сожалениелишьтем,чтообсуждатьэтотзамечательныйфильмстановитсякрайнесложно– его приходится защищать. Но, защищая его или просто обсуждая, мне не хотелось бы принижать скандальность этой ленты или ее способность шокировать. Смотрите сами: в «Пламенеющих созданиях» пара женщин и куда более многочисленные мужчины, в большинствесвоемодетыевцветистыеженскиенарядыизмагазиновподержанногоплатья, резвятся, красуются и позируют, танцуют друг с другом, разыгрывают мизансцены чувственности, сексуальной одержимости, увлеченности и вампирической кровожадности под аккомпанемент звуковой дорожки, составленной из известных номеров латин-попа («Сибоней», «Амапола»), рок-н-ролла, царапающих звуков скрипки, музыки корриды, китайской песни, текста совершенно безумной рекламы новой марки «губной помады в форме сердца», достоинства которой на экране демонстрирует группа мужчин – кто-то из них пере одет в женщин, кто-то нет, – и хора пронзительных визгов и криков, сопровождающих групповое изнасилование полногрудой молодой женщины, счастливой развязкойкоторогостановитсяэкстатическаяоргия.«Пламенеющиесоздания»,конечноже, скандальны–вэтомвесьзамыселфильма(очемговоритхотябыегоназвание). Привсемэтом«Пламенеющиесоздания»нельзяназватьпорнографией,еслиопределять ее как открытое намерение и способность провоцировать сексуальное возбуждение. Изображения наготы и самых разнообразных чувственных объятий (с примечательным отсутствием откровенного траха) здесь далеки от похоти – для этого они одновременно слишкомпафосныислишкомизобретательны.ОбразысексауСмитанесентиментальныи неразвратны,а,скорее,топо-детскиневинны,топо-взросломуостроумны. Враждебность полиции по отношению к «Пламенеющим созданиям» понять легко. За право на жизнь фильму Смита, увы, придется бороться в судах. А вот безразличие, брезгливость и открытое неприятие фильма, исходящие почти от каждого представителя сложившегося интеллектуального и артистического сообщества, как раз весьма досадны. Немногочисленныесторонникилентыотыщутсялишьвузкомкружкекинематографистов, поэтов и молодых обитателей Гринич-Виллиджа. «Пламенеющие создания» еще не вышли за рамки культового объекта, предмета гордости группы Нового Американского Кино, рупоромкоторойсталжурналFilmCulture.СледуетпоблагодаритьЙонасаМекаса,который практически в одиночку, с редким упорством, а подчас и героизмом, сделал все для того, чтобы познакомить нас с фильмом Смита и рядом других новых работ. Вместе с тем приходитсяпризнать,чтодекларацииМекасаикогортыегосоратниковрежутслух,апорой ипопростуотпугивают.Егопопыткапредставитьсериюснятыхвпоследнеевремяфильмов, и«Пламенеющиесоздания»вихчисле,какрадикальноновуюотправнуюточкувистории кино совершенно абсурдна. Такая категоричность способна лишь навредить Смиту, без нужды усложняя определение истинных достоинств «Пламенеющих созданий». На самом деле фильм Смита – это пусть и не выдающаяся, но ценная работа в русле весьма специфической традиции: лирического шок-кинематографа. К ней можно причислить «Андалузскогопса»и«Золотойвек»Бунюэля,фрагментыдебютногофильмаЭйзенштейна «Стачка», «Уродцев» Тода Браунинга, «Безумных господ» Жана Руша, «Кровь животных» Франжю, «Лабиринт» Леницы, ленты Кеннета Энгера («Фейерверки», «Восход Скорпиона»)и«Новициат»НоэляБёрча. Старшеепоколениеамериканскогокиноавангарда(МайяДерен,ДжеймсБротон,Кеннет Энгер)снималокороткометражки,отмеченные поискомтехнического совершенства.Цвет, работа оператора и игра актеров, синхронизация звука и изображения выдержаны у них настолько профессионально, насколько это возможно при их мизерных бюджетах. Приметой же одной из двух нынешних школ авангарда в американском кино (Джек Смит, Рон Райс и др., но не Грегори Макропулос или Стэн Брэкидж) является намеренная техническаянеобработанность.Новыефильмы–какдостойные,такиневзрачные,скучные работы – демонстрируют досадное безразличие ко всем аспектам техники, старательную примитивность. Это очень современный – и очень американский – стиль. Нигде в мире застарелоеклишеевропейскогоромантизма–противостояниехолодногогубительногоума иничемнескованнойдуши–неоказалосьстольживучим,каквАмерике.Здесьнаиболее прочна вера в то, что техническая искусность и аккуратность мешают спонтанности, истинности, непосредственности. Этой убежденностью дышит большинство распространенныхсейчасвавангардномискусстветехническихприемов(ведьтехникавам нужнадажедляпротивостояниятехнике).Вмузыкеэтоалеаторика–каквисполнении,так ивкомпозиции,новыеисточникизвукаиновыеспособыкалечитьстарыеинструменты;в живописиискульптуре–тяготениекнеустойчивымили«найденным»материаламизамена объекта одноразовым (создаваемым по конкретному случаю) окружением или хеппенингами. «Пламенеющие создания» по-своему иллюстрируют этот снобизм по отношению к связности и технической отточенности произведения искусства. В них, разумеется, нет никакой истории или развития сюжета, и семь (насколько я могла сосчитать) четко вычленяемых эпизодов фильма не связаны никакой определенной последовательностью. Порой кажется, что та или иная бобина негатива сознательно передержана. Нет и уверенности, что продолжительность каждого эпизода должна быть именно такой, а не короче или длиннее. Кадрированы сцены тоже весьма произвольно: головы порой обрезаны, а на полях иногда появляются посторонние фигуры. Съемка по большей части ведется в ручном режиме, и изображение часто дрожит (что выглядит особенноэффектно–несомненно,сознательно–всценеоргии). Однако в отличие от многих других недавних андеграундных фильмов, такое дилетантствов«Пламенеющихсозданиях»нераздражает.Деловтом,чтоСмит–режиссер визуально чрезвычайно щедрый: практически в любой момент на экране буквально разбегаются глаза. Более того, его «картинку» отличают удивительные энергия и красота, даже когда действенность по-настоящему сильных изображений ослаблена кадрами непродуманными (их могла бы улучшить предварительная работа продюсера). Сегодня безразличие к технике часто сопровождается скудостью; современный бунт против расчетливости в искусстве нередко принимает форму эстетического аскетизма. (Такая аскеза отличает, например, работы большинства абстрактных экспрессионистов.) «Пламенеющие создания», однако, вышли из другой эстетики: они до предела наполнены визуальнымматериалом.Здесьнетидей,символов,комментариевиликритикичегобыто нибыло.ФильмСмита–чистыйпирчувств,прямаяпротивоположность«литературному» кино (каковыми были многие работы французского авангарда). Наслаждение, которое испытываешь от просмотра «Пламенеющих созданий», кроется не в понимании или способностиистолковатьто,чтовидишьнаэкране,авнепосредственности,силеиобилии самих изображений. В отличие от большинства произведений серьезного современного искусства,здесьречь неидеторасстройствахсознанияилиличностныхтупиках.Поэтому примитивная техника Смита становится редким по красоте подспорьем воплощенному в «Пламенеющихсозданиях»мироощущению,котороенепростоотвергаетидеи,новыходит запределыотрицаниякактакового. «Пламенеющиесоздания»иестьтакоередкоепроизведениеискусства:главноевнем– веселье и простодушие. Оговоримся, эти радость и невинность складываются из тем, которые по общепринятым нормам считаются извращенными, декадентскими или уж по крайней мере до предела театральными и неестественными. Но именно в этом, на мой взгляд,залогкрасотыисовременностифильма.«Пламенеющиесоздания»–очаровательный пример тенденции, обозначаемой сейчас в одном из видов искусства легкомысленным термином«поп-арт».ФильмСмитаотличаетшалопайство,произвольностьираскованность поп-арта.Мынайдемвнемивесельепоп-арта,егобесхитростность,пьянящуюсвободуот морализаторства.Одноизглавныхдостоинствпоп-арта–егоспособностьпробитьбрешьв давнемимперативе,согласнокоторомухудожникобязанзаниматьпозициюпоотношениюк своейтеме.(Самособой,янеспорюстем,чтосуществуютвещи,поотношениюккоторым заниматьопределеннуюпозициюпростонеобходимо.Идеальнымпримеромпроизведения, пытающегосястакимивещамиразобраться,являетсяпьесаРольфаХоххута«Наместник».Я всеголишьхочусказать,чтонекоторыеаспектыжизни,исексуальноенаслаждениепрежде всего,формулированиякакой-либопозициисовершеннонетребуют.)Лучшиепроизведения из тех, что обычно относят к поп-арту, как раз заставляют нас отказаться от старой привычкиодобрятьилиосуждатьпредметискусства–или,еслишире,впечатленияжизни. (Именно поэтому отметать поп-арт, считая его симптомом нового конформизма, преклонением перед артефактами массовой цивилизации, попросту глупо.) Поп-арт открываетчудесныеинезнакомыедоселесочетанияоценок,которыераньшепоказалисьбы антагонистичными. «Пламенеющие создания» тем самым могут быть одновременно блистательным шаржем на тему секса – и полным лиризма воспеванием эротического влечения. Фильм полон противоречий и на чисто зрительном уровне. Чрезвычайно продуманные визуальные эффекты (кружевная текстура, осыпающиеся лепестки, картины) вписаны в хаотичные, откровенно импровизированные сцены, где тела – то пышные и несомненноженские,токостлявыеиволосатые–падаютзамертво,сплетаютсявтанцеили любовномобъятии. Кому-то, наверное, покажется, что тема «Пламенеющих созданий» – это поэзия трансвестизма.FilmCulture,присудившийфильмусвоюПятуюпремиюнезависимогокино, так отозвался о Смите: «У него поражает не банальное сострадание или интерес к извращению, но настоящее сияние, великолепие Трансильвестрии и волшебство Педикландии. Своим фильмом он осветил целый срез жизни – хотя большинство такую жизнь открыто презирает». На самом же деле «Пламенеющие создания» посвящены в большей степени не гомосексуальности, а интерсексуальности. Видение Смита можно сравнить с населяющими картины Босха видами рая и ада извивающихся, бесстыдных, немыслимых тел. В отличие от героев таких серьезных и проникновенных фильмов о прелестяхиужасахгомоэротическойлюбви,как«Фейерверки»КеннетаЭнгераили«Песнь любви» Жене, фигурантов ленты Смита отличает прежде всего то, что не так-то просто определить, мужчина перед нами или женщина. Они – именно «создания», пламенеющие интерсексуальным, полиморфным наслаждением. Фильм вырастает из запутанной сети неопределенности и двусмысленности, основным образом которой становится неразличимость мужской и женской плоти. Трясущаяся грудь и дрожащий пенис оказываютсявзаимозаменимыми. Выстроенная Босхом причудливая, недоношенная, нереальная природа служит фоном для его обнаженных фигур, его андрогинных видений страдания и наслаждения. Фона как таковогоуСмитанет(так,вбольшинствесценсложносказать,снятыонинанатуреилив павильоне) – его заменяет полностью искусственный и вымышленный пейзаж костюмов, жестовимузыки.Мифинтертекстуальностиразыгрываетсявовселеннойпошлыхпесенок, рекламы, одежды, танцев и, прежде всего, стандартного набора фантазий из дешевых фильмов. Ткань «Пламенеющих созданий» сплетена на основе богатого багажа кэмпмотивов:женщинавбелом(висполнениитрансвестита)стомноопущеннойголовойи букетом лилий в руке; изможденная красавица, выбирающаяся из гроба, – как выясняется позднее, это вампир и, опять же, мужчина; дивная испанская танцовщица (также трансвестит) с огромными темными глазами, черной кружевной мантильей и веером; картина из «Аравийского шейха» с полулежащими мужчинами в бурнусах и соблазнительной арабкой, флегматично обнажающей одну грудь; сцена с участием двух женщин, раскинувшихся на покрывале из цветов и ветоши, воскрешающая в памяти плотную, насыщенную фактуру фильмов Штернберга начала 1930-х годов с участием МарленДитрих.Всловареобразовитем,изкоторогочерпаетСмит,мынайдемитомность прерафаэлитов, и ар-нуво, и эпическую экзотику двадцатых с ее смешением испанского и мавританскогостилей,и,собственно,современноекэмп-смакованиемассовойкультуры. «Пламенеющие создания» – победоносный пример эстетизированного видения мира, и такоевидение,пожалуй,восновесвоейнеизбежнобудетбесполым.Нодопониманияэтого искусства нашей стране еще далеко. Пространство, в котором существуют «Пламенеющие создания», – это не вселенная моральных идей, а именно там, по представлению американской критики, и водится истинное искусство. Я же настаиваю на том, что исключительно моральным измерением – по законам которого «Пламенеющие создания», бесспорно, выглядят из рук вон плохо, – искусство не ограничивается: в нем должно быть место и для эстетического измерения, для законов наслаждения. Именно в таком пространствеиобитаетфильмСмита:этоегосреда. [1964] Пер.СергеяДубина «Мюриэль»АленаРене «Мюриэль» – самый на сегодняшний день трудный из трех игровых фильмов Рене и тематически примыкает к первым двум. Несмотря на специфическую манеру очень независимых сценаристов, которых он привлекает (Маргерит Дюрас – «Хиросима, любовь моя»,АленРоб-Грийе–«ПрошлымлетомвМариенбаде»иЖанКейроль–«Мюриэль»),все трифильмасосредоточенынаодном:поискахневыразимогопрошлого.НовыйфильмРене дажеимеетвторойзаголовоквдухестаринныхроманов,подчеркивающийэтутематику.Он называется«Мюриэль,илиВремявозвращения». Предмет «Хиросимы» – сопоставление двух разобщенных, противоречивых прошлых. Фильм рассказывает о неудачной попытке двух главных героев, японского архитектора и французскойактрисы, извлечь изпрошлогосубстанциючувства(игармонию памяти), что помогло бы поддержать их любовь в настоящем. В начале фильма они в постели. На протяжении всего фильма они буквально как заученный урок излагают друг другу факты своейжизни.Ноонинемогутпереступитьзапределысвоих«утверждений»,своейвиныи разобщенности. «ПрошлымлетомвМариенбаде»–другойварианттойжетемы.Здесьтемапомещенав тщательно продуманную, театрально статичную декорацию, соединяющую вызывающее современноеуродствоновойХиросимыисолиднуюпровинциальнуюподлинностьНевера. Эта история разворачивается в чужеземном, прекрасном, безлюдном месте, где тема обретенного времени (le temps retrouvé) разыгрывается абстрактными персонажами, лишенныминадежногосознания,илипамяти,илипрошлого.Мариенбад–этоформальная инверсия идеи Хиросимы с меланхолическими обертонами пародии на свою собственную тему. Так же, как идея «Хиросимы» – это тяжесть постоянно возвращающегося в памяти прошлого, так и идея «Мариенбада» – открытость, абстрактность памяти. Претензия прошлого к настоящему сведена к шифру, балету или – в контролируемой образности фильма – к игре, результаты которой полностью определены первым ходом (если тот, кто делаетэтотход,понимает,чтоделает).Поверсиии«Хиросимы»,и«Мариенбада»,прошлое – фантазия настоящего. «Мариенбад» медитирует в форме воспоминаний, скрыто присутствующихв«Хиросиме»,нобезидеологическихпокрововэтогофильма. Трудность «Мюриэли» заключается в том, что в ней содержится попытка выполнить задачуи«Хиросимы»,и«Мариенбада».Вфильмезатрагиваютсяважнейшиетемы–войнав Алжире,ОАС,расизмвколониях–подобнотому,какв«Хиросиме»говорилосьобатомной бомбе, пацифизме и коллаборационизме. Кроме того, как и в «Мариенбаде», здесь предпринимается попытка представить чисто абстрактную драму. Бремя этой двойной задачи – быть одновременно конкретным и абстрактным – удваивает техническую виртуозностьисложностьфильма. Здесь вновь рассказывается история группы людей, одержимых воспоминаниями. Элен Огэн, вдова лет сорока с лишним, жительница провинциального городка Булонь-сюр-мер, внезапно приглашает к себе бывшего любовника, с которым не виделась двадцать лет. Мотив, который еюруководил,неназывается;судяповсему,этопоступокбеспричинный. Элен занимается продажей антикварной мебели прямо из своей квартиры, она азартный игрок и по уши в долгах. Вместе с ней живет недавно вернувшийся с алжирской войны молчаливыйзамкнутыйпасынокБернарОгэн,тожеодержимыйвоспоминаниями.Бернарне может забыть о своем соучастии в преступлении: пытках и убийстве алжирской политической заключенной, девушки по имени Мюриэль. Он не просто не способен работать; страдания доводят его до отчаяния. Под предлогом свидания с несуществующей невестой(которуюонназываетМюриэль)Бернарчастоуходитизуютногодомамачехи,где каждый предмет прекрасен и предназначен на продажу, в комнату, которую он снимает у пожилойпарывдоме,разрушенномприбомбардировкевовремяВтороймировойвойны… Фильм начинается с приезда из Парижа давнего любовника Элен, Альфонса. Его сопровождает любовница Франсуаза, которую он выдает за племянницу. Заканчивается фильмнескольконедельспустя;воссоединенияЭлениАльфонсанепроизошло.Альфонси Франсуаза, чьи отношения необратимо портятся, возвращаются в Париж. Бернар – после тогокаконстрелялвдругадетства,который,будучисолдатом,устроилпыткиМюриэль,а теперь,демобилизовавшись,стал членом подпольнойячейкиОАСво Франции–покидает мачеху. В финале мы видим, как в опустевшую квартиру Элен приходит жена Альфонса Симона,чтобывернутьмужа. Вотличиеот«Хиросимы»и«Мариенбада»в«Мюриэли»имеетсяпроработанныйсюжет и сложные взаимоотношения персонажей. (В описании фильма я не упомянула второстепенных,но важных персонажей,втомчиследрузейЭлен.)Сложностьжефильма усугубляется тем, что Рене избегает прямого повествования. Он предлагает нам серию коротких, эмоционально однообразных эпизодов, каждый из которых фокусируется на бытовых моментах, лишенных драматизма: Элен, ее пасынок, Альфонс и Франсуаза ужинают вместе; Элен поднимается или спускается по ступеням казино; Бернар едет на велосипеде в центр города; Бернар едет верхом в скалах за городом; Бернар и Франсуаза, прогуливаясь, разговаривают и т. д. Следить за событиями нетрудно. Я смотрела фильм дважды,идумала,чтоприповторномпросмотреувижубольше.Неслучилось.«Мюриэль», каки«Мариенбад»,непредставляетсобойзагадки,потомучтоникакоговторогопланаза плоскими, стаккатными планами нет. Их нельзя расшифровать, потому что они не могут сказать больше, чем уже сказали. Как будто Рене взял историю, которую можно было рассказать самым простым способом, и разрезал ее поперек, вопреки ожиданиям. Это ощущение «вопреки», «против шерсти» – особый знак «Мюриэли». Таким образом Рене превращаетреалистичнуюисториювисследованиеформычувств. Итак,хотяследитьзаразвитиемсобытийнетрудно,техникаРене,спомощьюкоторойон о них рассказывает, тщательным образом отстраняет зрителя от истории. Прежде всего в этой технике бросается в глаза эллиптическая, децентрированная организация эпизода. ФильмначинаетсяспрощанияЭленсразборчивымклиентомнапорогеееквартиры;затем следуеткраткийобменрепликамимеждуусталойЭленираздраженнымБернаром.Вэтих эпизодах Рене начисто лишает зрителя возможности сориентироваться в визуальных координатах фильма. Нам показывают руку на кнопке звонка, формальную, неискреннюю улыбкуклиента,кипящийкофейник.Способ,которымснятыисмонтированыэтиэпизоды, скорее сбивает с толку, чем что-то объясняет в сюжете. Потом Элен спешит на вокзал встречатьАльфонса,которыйприезжаетвсопровожденииФрансуазы,ипешкомведетихк себе домой. Во время этой ночной пешей прогулки Элен все время нервно болтает, рассказываяоБулони,почтиполностьюразрушеннойвовремявойныизанововыстроенной вновомфункциональномстиле;кадрыгорода,сделанныевдневноевремя,перемежаютсяс кадрами этих людей, шагающими по нему ночью. Голос Элен связывает эти быстро сменяющиесякартинки.ВфильмахРеневсяречь,втомчиследиалоговая,превращаетсяв повествование,скореевоспаряянадизображением,чемвытекаяизнего. Чрезвычайно быстрый монтаж в «Мюриэле» не похож на рваную, джазовую резку у Годара в фильмах «На последнем дыхании» и «Жить своей жизнью». Скачкообразный монтаж Годара вовлекает зрителя в историю, вселяет в него беспокойство и провоцирует аппетит к динамическому действию, создавая своего рода визуальный саспенс. Монтируя стольжеэнергично,Ренеуводитзрителяотистории.Монтажслужиттормозомнарратива, некимэстетическимотливомволны,выполняетфункциюотчуждения. Словесный текст у Рене имеет сходный «отчуждающий» эффект по отношению к чувствамзрителя.Посколькувглавныхперсонажахнетолькоестьнечтооцепенелое,вних явносквозитбезнадежность,ихслованенесутэмоциональнойокраски.Произнесениеслов в фильме Рене – это случай типичной фрустрации, будь то подобное трансу обсуждение непередаваемых переживаний некоего события в прошлом или отрывистые, лаконичные фразы, которыми персонажи обмениваются в настоящем. (Поскольку речь в фильмах Рене не имеет конкретной цели, особую роль в них играют глаза. Вот типичная последовательность драматургических моментов, если можно так выразиться: несколько банальных слов, молчание, взгляд.) К счастью, в «Мюриэли» нет ничего от невыносимо заклинательного стиля диалогов «Хиросимы» и нарратива «Мариенбада». Если не считать несколькихжесткихвопросов,неполучившихответов,персонажи«Мюриэли»произносятв основном пустые, уклончивые фразы, особенно когда они очень несчастливы. Но подчеркнутаяпрозаичностьдиалоговв«Мюриэли»непредназначенадляпередачичего-то иного, чем то, что было выражено с помощью навязчивой поэтичности двух предыдущих фильмов.ПредметвовсехтрехфильмахРенеедин.Всеонионевыразимом.(Главныетемы невыразимогодве:винаиэротическоежелание.)Адвойникневыразимого–банальность.В высокомискусствебанальность–этосмирениеневыразимого.«Нашаисториябанальна»,– горестно говорит страдающая Элен мягкотелому, нерешительному Альфонсу. «Историю Мюриэль нельзя рассказать», – говорит Бернар постороннему человеку, которому он поведалмучающиееговоспоминания.Обапризнанияободномитомже. Несмотря на блестящее визуальное качество, техника Рене, как мне кажется, ближе литературе,чемтрадициямкинематографакактакового.(В«Мюриэли»Бернар–режиссердокументалист,онсобирает«свидетельства»,каксамэтоназывает,оделеМюриэль;точно такжевомногихсовременныхроманахцентромповествованияявляетсяписатель.)Самым литературным качеством Рене является формализм. Сам формализм не литературен. Но чтобы освоить сложный и специфический нарратив, чтобы тщательно его затушевать, написать поверх него абстрактный текст, требуется чисто литературная процедура. В «Мюриэли» есть история, история неблагополучной женщины среднего возраста, пытающейсявозродитьлюбовьдвадцатилетнейдавности,имолодогосолдата,вернувшегося с фронта, которого мучает чувство вины из-за участия в варварской войне. Но «Мюриэль» выстроенатак,чтовкаждыймоментфильматоткакбудтониочем.Вкаждыймоментмы видимформальнуюконструкцию,ивплотьдосамогоконцаотдельныеэпизодывыстроены неясно,временнаяпоследовательностьсбита,диалогсодержитминимуминформации. Это именно то, что характерно для многих новых романов, поступающих сегодня из Франции: их авторы стараются приглушить историю в ее традиционном психологическом или социальном звучании в пользу формального исследования структуры эмоции или события.Так,подлиннойзаботойМишеляБюторавромане«Изменение»являетсянепоказ того,уйдетлиегогеройотжены,чтобыжитьслюбовницей,иещеменеепривязатькфакту его выбора некую теорию любви. Бютора интересует само «изменение», формальная структурамужскогоповедения.ТочновтакомдухеРенеоперируетисториейв«Мюриэли». Типичная формула новых формалистов в романистике и в кино – смесь холодности и пафоса: холодность обволакивает и смягчает излишний пафос. Великое открытие Рене состоит в применении этой формулы к «документальному» материалу, к подлинным событиям,имевшимместовисторическомпрошлом.Вдокументальныхлентах«Герника», «Ван Гог» и особенно в фильме «Ночь и туман» эта формула срабатывает замечательно, воспитывая и предоставляя свободу восприятию зрителя. «Ночь и туман» показывает нам Дахаудесятьлетспустя.Камерадвижетсяпотерритории,подмечаятраву(фильмцветной), выросшуювтрещинахкирпичнойкладкикрематория.ЖуткаябезмятежностьДахау–ныне пустая,тихая,безлюднаяоболочка–противопоставляетсяневообразимойреальноститого, что происходило здесь в прошлом; это прошлое представлено негромким голосом, рассказывающим о жизни в лагере, приводящим статистику уничтожения (текст Жана Кейроля), и несколькими фрагментами черно-белой кинохроники, отснятой во время освобождения лагеря. (Отсюда эпизод в «Мюриэли», когда Бернар рассказывает историю пыток и убийства девушки во время проекции любительского фильма, запечатлевшего его улыбающихся товарищей в Алжире. Саму Мюриэль мы так и не увидим.) Удача «Ночи и тумана» обусловлена абсолютным контролем, точной проработкой предмета, в которой сокрытчистейший,мучительнейшийпафос.Опасностьтакогопредметасостоитвтом,что онможетоглушить,заставитьонеметь,вместотогочтобывзбудоражитьнашичувства.Рене избежал этой опасности благодаря дистанцированию от предмета; это не сентиментальность и не страх внушить ужас. «Ночь и туман» точно движется в этом направлении,носохраняябезошибочныйтактпередлицомневообразимого. Однако во всех трех игровых фильмах эта стратегия не кажется столь же уместной и убедительной. Было бы упрощением сказать, будто причиной тому то, что блестящий и сострадательный документалист был задавлен эстетом-формалистом. (В конце концов, фильмы–явлениеэстетическогопорядка.)Новнихестьощущениепотеримощи,поскольку Ренехочетслишкоммногосказатьикакhommedegauche(левый),икакформалист.Цель формализма в том, чтобы разрушить содержание, поставить его под вопрос. Предмет всех фильмовРене–спорная,проблематичнаяреальность.Точнее,дляРенепрошлое–этотакая реальность, которая одновременно темна и непонятна. (Новый формализм французских романов и фильмов это, следовательно, абсолютный агностицизм относительно самой реальности.) Но в то же время Рене верит и хочет, чтобы мы разделили его веру в то, что прошлоенесетнасебеотпечатокистории.Этонесоздаетпроблемыв«Ночиитумане»,где память о прошлом вынесена за пределы фильма, передана, так сказать, безличному повествователю.НокогдаРенерешилвыбратьпредметомне«память»,а«воспоминание»и поместитьпамятьвперсонаживнутрифильма,возникподспудныйконфликтмеждуцелями формализмаиэтикойпринятогонасебяобязательства.Результатиспользованиядостойных всяческого одобрения чувств, вроде вины, связанной с бомбардировкой (в «Хиросиме»), и преступлениями французов в Алжире («Мюриэль») в качестве предмета для эстетической демонстрации, – ощутимый надрыв и смазанность в структуре, как будто Рене утратил фокус фильма. Таким образом, будоражащая парадоксальность «Хиросимы» – это подразумеваемое приравнивание ужаса атомной бомбардировки и ее многочисленных жертв,таящегосявпамятияпонца,иотносительнонезначительногоужасавоспоминанийо прошлом, которое лежит бременем в памяти француженки, – ее романе с немецким солдатом во время войны, по окончании которой она пережила унижение – ей обрили голову. Ясказала,чтонепамять,новоспоминанияявляютсяпредметомРене:саманостальгия становится объектом ностальгии, память о чувствах, которые нельзя пережить вновь, становитсяпредметомчувствования.ЕдинственныйизигровыхфильмовРене,вкоторомне обнаруживаетсяэтотрасфокус,–«Мариенбад».Здесьсильнаяэмоция–пафосэротической фрустрации и желания – поднята на уровень метачувства, будучи помещенной в то место, котороевоспринимаетсякакабстракция,–вгромадныйдворец,заполненныйманекенами, одетымиhaute couture. Этот метод оказывается убедительным, потому что он тотально аисторичен; это аполитичная память, которую Рене разместил в своеобразном обобщенном Прошлом. Однако абстрагирование через обобщение, по крайней мере в этом фильме, похоже,приводиткпотереэнергетики.Настроениепередаетсячерезмолчание,ноприэтом нечувствуется–вовсякомслучаевдостаточноймере–давлениетого,очеммолчатгерои фильма. В «Мариенбаде» есть свой центр, но он будто заморожен. В нем чувствуется подчеркнутая,инойразгрубоватовыраженнаявеличавость,вкоторойвизуальнаякрасотаи изысканность композиции постоянно подтачиваются дефицитом эмоциональной напряженности. В «Мюриэли» энергии больше, и это гораздо более амбициозный фильм. Однако Рене вновь столкнулся с проблемой, от которой, при своей чувствительности и сосредоточенности на определенной тематике, не может избавиться: как примирить формализм с этикой сострадания. Нельзя сказать, что он решил эту проблему, но в конечном счете «Мюриэль» можно считать достойным поражением; Рене продемонстрировал, какие сложности лежат на пути ее решения. Он не повторил ошибку подспудного отождествления исторического кошмара с частным бедствием (как в «Хиросиме»). То и другое просто существует в разветвленной сети взаимоотношений, психологическуюподоплекумынезнаем.Ренепыталсярепрезентироватьдокументы,бремя мучительной памяти об участии в реальном историческом событии (Бернар в Алжире) и скрытые страдания исключительно личного прошлого (Элен и ее роман с Альфонсом) в манере одновременно абстрактной и конкретной. Это не скупой документальный реализм егорепрезентацииХиросимы,нечувственныйреализмфотосъемокНевера;неабстрактная музейная застылость, воплощенная в экзотической локации «Мариенбада». Абстракция «Мюриэли» тоньше и сложнее, поскольку обнаруживается в самой повседневной обыденности, а не в отходе от нее во времени (через флешбэки в «Хиросиме») или в пространстве (замок в «Мариенбаде»). Она передается прежде всего в напряжении композиционной осмысленности, но это можно найти во всех фильмах Рене. И она ощущается в быстром монтаже эпизодов, о чем я уже говорила, в ритме, новом для кинематографаРене,ивиспользованиицвета.Опоследнемможномногоесказать.Цветная съемка оператора Саша Верни в «Мюриэли» ошеломляет и восхищает, создавая ощущение возможностей цвета в кино, какого не случалось с таких фильмов, как «Врата ада» и «Чувство»Висконти.НовоздействиецветавфильмеРенезависитнетолькооттого,чтоон так прекрасен. Цвета в нем обладают агрессивной, нечеловеческой интенсивностью, что придаетбытовымпредметам,кухоннойутвари,современнымзданиямимагазинамособую абстрактностьиотдаленность. Еще один источник интенсификации через абстрактность – музыка Ханса Вернера Хенцедляголосаиоркестра,однаизтехредкихпартитурдлякино,котораяпредставляет ценность сама по себе. Иногда музыка используется в условных драматургических целях: проиллюстрироватьиликомментироватьто,чтопроисходитнаэкране.Так,вэпизоде,где Бернар,веселоулыбаясь,показываетсвойфильмотоварищахвАлжире,музыкастановится резкой, темп ее ускоряется – и это противоречит невинности образов. (Нам известно, что это те самые солдаты, которые вместе с Бернаром виновны в гибели Мюриэль.) Но еще интереснее использование музыки как структурного элемента повествования. Атональная вокальнаяпартия,исполняемаяРитойШтрайх,используетсякакголосвдиалоге,парящий наддействием.Именночерезмузыкумыпонимаем,когдаЭленособенносильнострадает, притом что чувства ее остаются скрытыми от нас. А самое сильное воздействие музыки проявляется, когда она полностью замещает собой диалог, делая лишней речь вообще. В короткомбессловесномэпизодефинала,когдавдомЭленвходитСимонавпоискахмужаи никогоненаходит,музыкастановитсяееречью;голосиоркестрвозвышаютсядокрещендо ламентации. Но,несмотрянавсюкрасотуиэффективностьсоставляющих,окоторыхяупомянула(и тех, о которых я не сказала, в том числе игры актеров – чистой, сдержанной и умной[36]), проблема«Мюриэли»–иработыРене–остается.Расслоениезамысла,котороеРенедосих пор не сумел преодолеть, породило множество вспомогательных средств, каждый из которых оправдан и очень эффективен, но в целом создает неприятное ощущение хаотичности. Вероятно потому «Мюриэль», тем не менее вызывающий восхищение, как фильм трудно полюбить. Беда, прошу прощения за повтор, не в формализме. «Дамы Булонскоголеса»Брессонаи«Житьсвоейжизнью»Годара–назовутолькодвапримераиз формалистской традиции – эмоционально волнуют даже несмотря на свой крайний интеллектуализм.Но«Мюриэль»как-тоудручающетяжеловесна.Еедостоинства,такиекак интеллектуальность и чрезвычайно высокая визуальная культура, все-таки несут на себе отпечаток (пусть незначительный) той манерности, той выверенности, той искусственности, которые повредили «Хиросиме» и «Мариенбаду». Рене все знает о красоте.Ноегофильмамнехватаетнапряженностиимощи,прямотыобращениякзрителю. Ониосторожны,как-топеренасыщеныисинтетичны.Онинеидутдоконца,нивидейном смысле,нивсмыслевнушаемыхимиэмоций,чтодолжноделатьвсякоевеликоеискусство. [1963] Пер.НиныЦыркун Заметкаороманахифильмах Пятьдесят лет истории кино неожиданным образом повторяют более чем двухсотлетнюю историю романа. В лице Д. У. Гриффита кинематограф получил своего Сэмюэла Ричардсона; режиссер «Рождения нации» (1915), «Нетерпимости» (1916), «Сломанныхпобегов»(1919),«ПутинаВосток»(1920),«Однойтревожнойночи»(1922)и сотен других фильмов артикулировал многие из тех же моральных проблем и занял примернотакоежеместовразвитиикиноискусства,чтоиавтор«Памелы»и«Клариссы»в эволюции романа. И Гриффит, и Ричардсон были гениальными новаторами; оба обладали интеллектом, отмеченным вопиющей пошлостью и поверхностностью; творчество обоих джентльменов источает дух пылкого морализаторства по поводу сексуальности и насилия, энергия которых питается подавленной чувственностью. Главная героиня двух романов Ричардсона, чистая юная девица, на которую имеет виды звероподобный совратитель, находит своего абсолютного кинодвойника, точно также концептуально задуманного и стилистически выписанного, в виде Чистой Юной Девушки, Идеальной Жертвы, которую, какправило,игралитоЛилианГиш(прославившаясявподобныхролях),тонынезабытая, но гораздо более талантливая Мэй Марш. Как и у Ричардсона, морализирующие благоглупости Гриффита (запечатленные характерными для его стиля пространными титрами, выписанными на специфическом английском, где названия пороков и добродетелей начинаются с заглавных букв), скрывали тайное вожделение; как и у Ричардсона, лучшее у Гриффита – поразительная способность изображать самые тонкие оттенкиженскихчувстввовсемихразвитии,чегоневсостояниизаслонитьего«идейная» пошлость.И опятьже,подобномируРичардсона,мирГриффитакажется насовременный взгляддоотвращениясентиментальнымислегкабезумным.Нокакбытонибыло,именно этидвое,каждыйвсвоемжанре,гдеонибылипервопроходцами,открыли«психологию». Разумеется, не каждому великому режиссеру можно подыскать пару из числа великих романистов. Не следует проводить слишком прямых аналогий. Однако в любом случае у кинематографа был не только свой Ричардсон, но свой Диккенс, свой Толстой, свой Бальзак, свой Пруст, свой Натанаэл Уэст. А кроме того, и свои забавные альянсы родственныхстилейизамыслов.Шедевры,которыесоздалвГолливуде1920-хгодовЭрих фон Штрогейм («Слепые мужья», «Глупые жены», «Алчность», «Веселая вдова», «Свадебный марш», «Королева Келли») можно описать как невероятный и блистательный симбиозЭнтониХоупаиБальзака. Сказанноенеозначает,будтокиноможнополностьюуподобитьроманистикеилибудто кинофильмыможноанализироватьспомощьютогожеинструментария,чтоилитературные произведения. У кино свои методы и своя логика репрезентации, не исчерпывающаяся ссылкаминаприматвизуального.Кинооткрываетнамновыйязык,способнепосредственно предъявлять эмоции через мимику и жесты. Тем не менее между кинематографом и романистикой можно провести полезные аналогии, причем их гораздо больше, чем между киноитеатром.Подобнороману,фильмзакрепляетзанамиточкузрения,вкаждыймомент подконтрольнуюрежиссеру(писателю).Нашглазнеможетсвободнобродитьпоэкрану,как он блуждает по сцене. Камера – абсолютный диктатор. Она показывает нам лицо именно тогда, когда нам надлежит увидеть лицо и ничего более; стиснутые руки, пейзаж, убыстряющий ход поезд, фасад здания посреди объяснения с глазу на глаз, – и все это только тогда, когда ей требуется, чтобы мы все это увидели. Мы движемся вместе с движением камеры, остаемся неподвижными, когда неподвижна она. Соответствующим образом роман предъявляет читателю набор мыслей и описаний, существенных для авторского замысла, и мы должны следовать за ними по указке писателя; они не расстилаются перед нами наподобие фона, предоставляя нам свободу выбора в этом множестве,какнакартинеилитеатральнойсцене. Ещеоднопредостережение.Вкинематографесуществуюттрадиции–книмприбегают не столь часто, как к традиции, прочно сближающей фильм с романом, – аналогичные не романным,адругимлитературнымформам.«Стачка»,«БроненосецПотемкин»,«Октябрь», «Старое и новое» Сергея Эйзенштейна; «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Потомок Чингисхана» Пудовкина; «Семь самураев», «Трон в крови», «Три негодяя в скрытой крепости» Акиры Куросавы; «Человек-рикша» Инагаки; «Самурай-убийца» Окамото, да и большинство фильмов Джона Форда («Искатели» и другие) – принадлежат, скорее, к кинематографическому эпосу. Существует также традиция кино как поэзии; многие короткометражные ленты французского авангарда 1920-х годов («Андалузский пес» и «Золотой век» Бунюэля; «Кровь поэта» Кокто; «Маленькая продавщица спичек» Жана Ренуара; «Раковина и священник» Антонена Арто) естественнее сравнивать с произведениями Бодлера, Рембо, Малларме и Лотреамона. Однако доминирующей в кинематографе остается романная традиция развертывания сюжета и замысла с помощью тщательно индивидуализированных персонажей, действующих в точно очерченном социальномокружении. Разумеется, кино руководствуется иными представлениями о современности, нежели роман; так что вздумай кто-нибудь сочинить сейчас роман в духе Джейн Остин, он показался бы нам анахронизмом, зато поставить фильм как кинематографический эквивалент той же Джейн Остин было бы вполне «прогрессивно». Обусловлено это, несомненно,тем,чтоисториякиногораздокорочеисториихудожественнойлитературы,и возникло оно в эпоху разительно убыстрившихся темпов, которыми теперь развивается искусство. В результате различные возможности кино пересекаются и перекрывают друг друга. Еще одна причина заключается в том, что кино, как более поздно появившееся в семье собратьев искусство, пользуется привилегией пользоваться накопленным ими богатством,применяядажеустаревшиеэлементывбесчисленныхновыхкомбинациях.Кино в определенном смысле пан-искусство. Оно способно включать в себя, жадно поглощать любые виды искусства: романы, поэзию, театр, живопись, скульптуру, танец, музыку, архитектуру. В отличие от оперы, которая (фактически) является застывшей формой, кино былоиостаетсяплацдармомплодотворноговзаимодействияидейиразнообразныхэмоций. Всамыхизощренныхсовременныхфильмах(таких,например,как«Чувство»или«Роккои его братья» Висконти) вы найдете мелодраматические перипетии и тот накал страстей, которыеизсовременныхинтеллектуальныхромановдавноизгнаны. Впрочем, одно связующее романы и фильмы звено, о котором часто говорят, не представляется мне достаточно плодотворным. Речь идет об укоренившейся привычке делитьрежиссеровналитературоцентричныхсоднойстороны,ивизуалистов–сдругой.На самомделемалоктоизрежиссеровможетбытьохарактеризовантакимпростымспособом. Возможно, более эффективно разделение фильмов на «аналитические», «описательные» или «поучающие». Примерами первых могут служить фильмы Карне, Бергмана (особенно «Как в зеркале», «Причастие» и «Молчание»), Феллини и Висконти; примеры второго можно найти в кинематографе Антониони, Годара и Брессона. Первый тип можно охарактеризовать как психологическое кино, концентрирующееся на выявлении мотивов человеческого поведения. Второй тип – антипсихологический; предмет здесь – отношения между чувством и окружением; персонажи этих фильмов, действуя по ситуации, остаются длянасзакрытыми,непроясненными.Подобноеразличиеобнаруживаетсяивроманистике. Диккенс и Достоевский – авторы первого типа литературы, Стендаль – представитель второго. [1961] Пер.НиныЦыркун V Бессодержательноеблагочестие Такиеразныеисточники,как«Орестея»и«Психо»,говорятнам:извсехпреступлений, которые может совершить человек, матереубийство имеет наименьшие шансы на психологическое оправдание. А из всех преступлений, которые может совершить целая культура, самое невыносимое психологически – богоубийство. Мы живем в обществе, где самстильжизнисвидетельствуетотом,кактщательнобылоустраненовсебожественное,– нофилософы,писатели,совестливыелюдиповсеместностонутподношей.Гораздопроще задуматьисовершитьпреступление,чемпотомжитьсним. ПокаубийствоиудеохристианскогоБогаещенепроизошло,противникисобеихсторон занималипозициивесьмарешительно,суверенностьювсвоейправоте.Нокогдасталоясно, чтоделосделано,линияфронтаначаларазмываться.ВXIXвекемеланхолическиепопытки предложить возрожденное язычество взамен побежденной библейской традиции (Гёте, Гёльдерлин) и трепетные надежды на то, что хоть что-то человеческое возможно спасти (Джордж Элиот, Мэтью Арнольд), были слышны среди громких, даже визгливых голосов победителей, которые провозглашали триумф разума и зрелости над верой и детской наивностью, неизбежный приход человечества под стяг науки. В XX веке здоровый вольтерьянский оптимизм, с которым рационалисты атакуют религию, еще менее убедителен и привлекателен – хотя мы до сих пор находим его у искренних в раскрепощении евреев, например Фрейда, а среди американских философов – у Морриса КоэнаиСидниХука.Похоже,чтонатакойоптимизмспособнытолькоте,докогонедошла «дурнаявесть»,которуюНицшеохарактеризовалсловами«Богумер». Внашемпоколении,особенновАмерике,наволнекрушениярадикально-политических надежд,кудабольшеераспространениеполучилапозиция,которуюможноназватьразвечто религиозным попутничеством. Это благочестие, но бессодержательное, религиозность без веры и соблюдения обрядов. Ее составные части в разных пропорциях – ностальгия и облегчение: ностальгия из-за потери священного, облегчение – из-за того, что снята непосильная ноша. (Убеждение в том, что крах старых верований был неизбежен, подкреплялось неотвязным чувством обнищания.) В отличие от политического попутничества, религиозное не проистекает из того известного очарования, которое свойственномассовомуивсеболееуспешномуидеализму;такоеочарованиечеловекостро чувствует, в то время как не может полностью отождествить себя с тем или иным движением. Религиозное попутничество, скорее, проистекает из ощущения слабости религии: зная, что старое доброе правое дело повержено, попутничество торопится пнуть его. Современное религиозное попутничество живет благодаря пониманию того, что сегодняшние религиозные сообщества заняты самообороной: таким образом, быть антиклерикалом(какифеминистом)–ужестаромодно.Теперьможносмотретьнарелигию сочувственно, извлекать подпитку из того, чем получается восхищаться. Все религии объединилисьводну«религию»,такжекакживописьискульптураразныхэпох,сразными мотивами, объединились в «искусство». Для современного пострелигиозного человека музейрелигии, какимирсовременногоценителяискусства,лишенстен:можно выбирать чтоугодноибытьвернымлишьсвоемупочтенномустатусузрителя. У религиозного попутничества есть несколько очень нежелательных последствий. Вопервых, понимание нынешней и всегдашней сути религий становится грубым, интеллектуальнонечестным.Вполнеобъяснимоидажеестественно,когдаинтеллектуалы- католики начинают называть Бодлера, Рембо, Джеймса Джойса – убежденных атеистов – настоящими, пусть и глубоко страдавшими, сыновьями церкви. Но такая стратегия совершеннонепростительна,есликнейприбегаютрелигиозныепопутчики,действующиев рамках ницшеанской парадигмы «Бог умер». Эти люди не видят ничего дурного в том, чтобывсесталирелигиозны.Ониневыступаютзакакую-либотрадицию,ккоторойхотят вернуть заблудших. Они всего лишь коллекционируют примеры серьезности, моральной честности или интеллектуального пыла – именно с ними они сегодня связывают возможностьрелигии. Рецензируемая книга[37] – пример именно такого религиозного попутничества. О ней стоит поговорить, потому что она наглядно демонстрирует недостаток интеллектуальной ясностиусторонниковэтойвесьмараспространеннойпозиции.Итак,переднамисобрание текстов двадцати трех авторов «от Толстого до Камю», составленное и подготовленное ВальтеромКауфманом,адъюнкт-профессоромфилософиивПринстоне. О строении книги говорить не приходится – никакого строения у нее нет, кроме условного хронологического порядка. С уместностью некоторых фрагментов трудно поспорить: ясно, например, почему здесь оказались две главы из «Братьев Карамазовых» Достоевского – «Бунт» и «Легенда о Великом инквизиторе» (Кауфман, конечно, прав, говоря, что нельзя понять рассказ о Великом инквизиторе без предшествующих рассужденийИванаостраданияхдетей);отрывкииз«Антихриста»Ницше,«Будущееодной иллюзии» Фрейда, эссе Уильяма Джеймса «Воля к вере». Есть здесь также несколько неочевидных текстов, которые заслуживают, чтобы их знали: «Список важнейших заблуждений» папы Пия IX, переписка Карла Барта с Эмилем Бруннером об антикоммунистической позиции Церкви и эссе Уильяма Клиффорда, вызвавшее знаменитую отповедь Джеймса. Но по большей части подбор текстов представляется неверным. Нельзя всерьез назвать Оскара Уайльда религиозным писателем. Ничем не оправдано включение в книгу главы Мортона Скотта Энслина о Новом завете – благопристойного рассказа о Евангелии и исторических обстоятельствах, в которых разворачивается их действие: в антологии религиозной мысли такому тексту не место. Уайльд и Энслин – два полюса неуместности в книге Кауфмана: легкомыслие и академизм[38]. В предисловии Кауфман пишет: «Почти все публикуемые здесь авторы были “за” религию,нонезатумассовуюрелигию,котораяедвалипривлекалахотьодноговеликого духовногодеятеля».Ночтоозначаетбыть«за»религию?Естьлиупонятия«религия»хоть какое-тосерьезноезначение?Поставимвопроспо-другому:можнолинаучитьлюдей–или предложить им – быть солидарными с «религией вообще»? Это явно не то же самое, что быть «убежденными» или «правоверными». По моему мнению, «религиозным вообще» можно быть не более, чем говорить на «языке вообще»: в каждый данный момент мы говоримпо-французски,по-английски,по-японскиилинасуахили,ноне«наязыке».Точно так же человек не может быть «последователем религии»: он может быть верующим католиком, иудеем, пресвитерианином, синтоистом или талленси. Религиозные верования могут быть, как указывает Уильям Джеймс, предметом выбора, но предметом не обобщенным.Этоположениедовольнолегконеверноистолковать.Янеимеюввиду,будто иудейдолженбытьортодоксальным,католик–томистом,протестант–фундаменталистом. Укаждогобольшогорелигиозногосообществасложнаяистория,и(какпишетКауфман)те, кого впоследствии признавали великими духовными учителями, обычно критически относились к массовым религиозным практикам и ко многим элементам традиций своего времени.Какбытонибыло,дляверующегоидея«религии»(ирешенияпринятьрелигию) неимееткатегориальногосмысла.(Длякритиков-рационалистов,отЛукрециядоВольтера и Фрейда, понятие «религия» имеет определенный полемический смысл: оно противопоставляется«науке»или«здравомусмыслу».)Онанеимеетсмыслаикакпредмет социологического или исторического исследования. Религиозный человек всегда приверженец(дажееслионеретик)определеннойсистемысимволов,всегдапринадлежитк определенному историческому сообществу – какую бы интерпретацию этих символов и этого сообщества он ни выбирал. Быть религиозным значит быть связанным с определенными верованиями и практиками, а не просто соглашаться с философскими утверждениями,чтотот,когомыназываемБогом,существует,чтоужизниестьсмысл,итак далее.Религиянетожесамое,чтопредположениеосуществованииБога. Значимость книги Кауфмана в том, что она – еще один пример доминирующего отношениякрелигии,котороепредставляетсямневлучшемслучаеглупым,ачащепросто бесцеремонным. Попытки современных светских интеллектуалов поддержать пошатнувшийся авторитет «религии» каждый вдумчивый верующий и каждый честный атеистдолженотвергать.ЦарьНебесный,моральнаяубежденность,культурноеединство– всего этого не восстановить ностальгией. «Подвешенное» благочестие религиозных попутчиковтребуетвыбора–либововлечения,либоотречения.Наличиерелигиознойверы действительноможетоказатьбесспорнуюпсихологическуюпомощьчеловекуибесспорную социальную помощь обществу. Но мы никогда не сорвем с дерева плодов, не заботясь о корнях;мыникогданевернемавторитетстарымверованиям,показавихпсихологическиеи социальныепреимущества. Не стоит и возиться с утраченным религиозным сознанием: мы бездумно ставим знак равенства между религией и серьезностью — серьезностью по отношению к важным человеческим и моральным вопросам. Самые нерелигиозные западные интеллектуалы на деле не обдумали как следует, не прожили атеистический вариант – они только приближаются к нему. Пытаясь смягчить тяжелый выбор, они часто заявляют, что все возвышенное и глубокое имеет религиозные корни или может быть рассмотрено с «религиозной»(иликрипторелигиозной)позиции.ОттогочтоТолстойв«АннеКарениной» и «Смерти Ивана Ильича» занят проблемами отчаяния и самообмана (что выделяет Кауфман),онздесьнестановится«сторонником»религии–какнеделаетэто(чтопоказал Гюнтер Андерс) «религиозным» Кафку. В конце концов, если то, чем мы восхищаемся в религии, – это, как полагает Кауфман, ее «пророческий» или «критический» взгляд, и мы хотим этот взгляд спасти (ср. также с лекциями Эриха Фромма «Психоанализ и религия», где проводится различие между «гуманистической», или хорошей, и «авторитарной», или плохой,религиями),томысебяобманываем.«Критическийвзгляд»ветхозаветныхпророков невозможен без священства, культа, конкретной истории Израиля; он укоренен в этой матрице.Нельзяотделитькритикуотеекорней–иоттойстороны,противкоторойкритика выстраивается.Кьеркегорвсвоих«Дневниках»пишет,чтопротестантизмнеимеетсмысла сам по себе, без диалектической оппозиции католицизму. (Если нет священников, нет смысла возмущаться тем, что священником может быть любой мирянин; если нет институциализированного понятия потустороннего мира, то нет религиозного смысла осуждатьмонашествоиаскетизмипризыватьлюдейобратитьсякпосюстороннемумиру,к их мирским призваниям.) Голос подлинного критика всегда заслуживает самого специального внимания. Попросту неверно и грубо говорить о Марксе (как это делает ЭдмундУилсонвкниге«НаФинляндскийвокзал»имногиедругие),чтоонбылнастоящим пророкомпоследнихвремен.ЭтоневерноивотношенииФрейда,хотяздесьлюдиследуют за самим Фрейдом, двусмысленно отождествлявшим себя с Моисеем. Важнейший компонентученийМарксаиФрейда–критический,абсолютнонерелигиозныйподходко всем проблемам человечества. Их личная энергия, безмерная нравственная серьезность их философии заслуживают, конечно, лучшей похвалы, чем избитое сравнение с авторитетом духовныхучителей.Камю–серьезныйписатель,достойныйуважения,потомучтовзываетк разуму исходя из пострелигиозных предпосылок. Он не принадлежит к «сюжету» современнойрелигии. Еслимыпримемэтокакфакт,намстанутяснеепрошлыепопыткиопределитьвлияние атеизма на мысль и личную мораль. Наследие Ницше составляет одну такую традицию: сюда относятся, например, эссе Э. М. Чорана. Французские морализм и антиморализм – Лакло, Сад, Бретон, Сартр, Камю, Жорж Батай, Леви-Стросс – другую. Третья традиция – гегельянско-марксистская.Ещеестьфрейдистскаятрадиция,кудавходятнетолькоработы самого Фрейда, но и таких диссидентов, как Вильгельм Райх, Герберт Маркузе («Эрос и цивилизация»)иНорманБраун(«Жизньпротивсмерти»).Созидательнаяфазавжизниидеи совпадаетспериодом,вовремякоторогоонасвоенравноутверждаетсобственныеграницы, указывает на то, что ее отличает; но идея становится ложной и беспомощной, когда начинает искать примирения – по скидочной цене – с другими идеями. Современная серьезность,представленнаяразнымитрадициями,действительносуществует.Но,размывая все границы и называя эту серьезность «тоже религиозной», мы служим дурной интеллектуальнойцели. [1961] Пер.ЛьваОборина Психоанализи«Жизньпротивсмерти»НорманаО.Брауна Публикация книги Нормана О. Брауна «Жизнь против смерти» в мягкой обложке – событиезнаменательное. Вследза«Эросомицивилизацией»(1955)ГербертаМаркузеэта книга свидетельствует о серьезном отношении к идеям Фрейда в отличие от большинства предыдущих выпущенных в Америке сочинений – будь то схоластика психоаналитических журналов правого крыла или критика со стороны «ревизионистов» фрейдизма (Фромма, Хорни и др.) слева, которые на ее фоне обнаруживают свою теоретическую несостоятельность или, в лучшем случае, поверхностность. Но еще более важным, нежели реинтерпретацияодногоизсамыхвлиятельныхумовнашейкультуры,являетсятасмелость, скакойздесьобсуждаютсяфундаментальныепроблемы–олицемериинашейкультуры,об искусстве, деньгах, религии, труде, сексе и мотивах, которые движут нашим телом. Серьезное размышление об этих проблемах – совершенно справедливо, на мой взгляд, сфокусированное на значении сексуальности и свободы – развивалось во Франции со времен де Сада, Фурье, Кабаниса и Анфантена; сегодня его можно встретить в таких далекихдруготдругапроизведениях,какразделы,посвященныетелесностииотношениямс другимив«Бытиииничто»Сартра,вэссеМорисаБланшо,в«ИсторииО»,пьесахипрозе ЖанаЖене. Однако в Америке серьезное изучение тем-близнецов – эротики и свободы – только начинается. Большинство из нас все еще чувствуют себя обязанными вести застарелую борьбу против ханжеских запретов, воспринимая сексуальность как нечто, что всего лишь нуждается в более свободном выражении. Страна, где оправдание такой сексуально реакционнойкниги,как«ЛюбовникледиЧаттерлей»,считаетсясерьезнымделом,простонапросто стоит на низкой ступени сексуальной зрелости. Идеи Лоуренса по поводу секса серьезно ограничены его классовым романтизмом, мистикой мужского одиночества, пуританской зацикленностью на генитальном сексе; многие из его современных защитников это признали. Тем не менее Лоуренс еще нуждается в защите, особенно когда многиеизтех,ктоегоотвергает,занялиболеереакционнуюпозицию,чемон,рассматривая секс как неотъемлемую принадлежность любви. На самом деле любовь более сексуальна, более телесна, чем воображал Лоуренс. И революционные последствия сексуальности в современномобществепокадалеконеполностьюосмыслены. Книга Нормана Брауна – шаг в этом направлении. Если принимать «Жизнь против смерти» в личностном плане, книга не может не шокировать, поскольку не рассчитана на окончательноепримирениесобыденнымсознанием.Ещеодноееотличительноесвойство: онаубедительнопоказывает,чтопсихоанализнеможетбытьописан–чтобылопроделано многимисовременнымиинтеллектуалами–какещеодинвульгарныйтрадиционный«изм» (наряду с марксизмом, экзистенциализмом, дзен-буддизмом и прочая, прочая). Разочарование в психоанализе, которое охватило наиболее изощренные умы нашей культуры,понятно:труднонеотказатьсяотучения,котороеприобрелоофициальныйстатус ивыхолостилось.Психоаналитическийсловарьпревратилсявповседневноеоборонительное средство против личностной агрессии и обыденным способом описания (и тем самым защиты)оттревогвамериканскомсреднемклассе.Посещениепсихоаналитикасталотакой жебуржуазнойинституцией,какобучениевколледже,аидеипсихоанализа,воплощенныев бродвейских пьесах, на телевидении и в кино, преследуют нас повсеместно. Проблема с идеями психоанализа, как она многим сегодня представляется, состоит в том, что они предлагают форму бегства, а следовательно, подчинения реальности. Лечение психоанализом не бросает вызов обществу; оно возвращает нас в мир лишь немного более способными его выносить и не добавляет надежды. Психоанализ понимается как антиутопическая и антиполитическая – отчаянная, но безнадежно пессимистическая – попыткаохранитьиндивидаотподавляющихинеизбежныхтребованийобщества. Однако разочарование американских интеллектуалов в идеях психоанализа, как и разочарованиеранеевмарксизме(историяаналогична)преждевременно.Марксизм–этоне сталинизм и не подавление Венгерской революции; психоанализ – не аналитик с Паркавеню, не журналы по психоанализу и не матрона из пригорода, обсуждающая эдипов комплекс своего чада. Разочарование – характерное состояние современных американских интеллектуалов, но зачастую разочарование – продукт лени. Мы не достаточно крепки в своихидеях,такжекакнебылисерьезныиличестнывпроблемахсексуальности. Вот в чем значимость «Жизни против смерти» Брауна и «Эроса и цивилизации» Маркузе.КакиМаркузе,БраунрассматриваетидеиФрейдакакобщуютеориючеловеческой природы,анетерапию,котораявозвращаетлюдейвобщество,гдевозникаютболезненные ситуации. Психоанализ воспринимается Брауном не как средство смягчения невротичного беспокойства,нокакпроектизменениячеловеческойкультурыикакновый,болеевысокий уровень человеческого сознания в целом. Таким образом, психологические категории Фрейдаточноувиденыкак,втерминахМаркузе,категорииполитические. Шаг,которыйделаетБрауникоторыйуводитнасзапределыосознанияегоконцепции самим Фрейдом, – это утверждение, что психологические категории суть и категории телесные. Для Брауна психоанализ (и он не имеет в виду институции сегодняшнего психоанализа) обещает не менее чем излечение разрыва между телом и сознанием: трансформация эго человека в его телесное эго и воскресение тела, как было обещано христианскиммистицизмом(Бёме),атакжевсочиненияхБлейка,НовалисаиРильке.Мы– не что иное, как тело, говорит Браун, все наши ценности – ценности телесные. Он призываетнаспринятьандрогинныйтипбытияинарциссическийспособсамовыражения, который скрыт незамеченным в теле. Согласно Брауну, человечество – в подсознании – непреложно восстает против сексуального разделения и генитальной организации. Корень человеческих неврозов – неспособность человека жить в своем теле, жить (то есть быть сексуальным)иумереть. В эпоху, когда нет ничего более обыденного или более приемлемого, чем критика общества и отвращение к цивилизации, хорошо бы отличать аргументацию Брауна (и Маркузе) от общего потока критики, либо по-детски нигилистичной, либо предельно конформистской и бессмысленной (или же той и другой одновременно). А поскольку обе книги остро критически отзываются о Фрейде по многим пунктам, важно также провести различие между ними и попытками модифицировать теорию Фрейда и расширить ее до теории природы человека и критики общества с точки зрения морали. Браун и Маркузе – прямаяпротивоположностьтойбессмысленной«ревизионистской»интерпретацииФрейда, котораяпронизываетамериканскуюкультурнуюиинтеллектуальнуюжизнь–наБродвее,в детской, на вечеринках и в супружеской постели пригородных домов. Этот «ревизионистский» фрейдизм (от Фромма до Пэдди Чаевски) сходит за критику механической, нервозной Америки с мозгами, промытыми телевидением. Он нацелен на возвращение приоритета индивида перед обществом; предлагает достойный идеал самоосуществления через любовь. Но эта ревизионистская критика поверхностна. Утверждать ценность любви, когда любовь понимается как удобство, защита от одиночества, самооборона – не затрагивая никакого иного смысла сублимации – вряд ли соответствует истинному духу фрейдизма. Фрейд неслучайно предпочитал использовать термин«секс»,когда,поегособственномупризнанию,могбысказать«любовь».Длянего был принципиален секс, принципиальна телесность. Мало кто из его последователей понимал смысл этих предпочтений, в том числе применительно к теории культуры; исключениеммогутслужитьФеренциизлополучныйВильгельмРайх.Тотфакт,чтооба–и Ференци,иРайх,согласноБрауну,некорректнопонялилогическиеследствияфрейдовской теории,вчастностиприписываяпервостепенноезначениеоргазму,нестольважнонафоне того, что они правильно поняли ее критическую направленность. Они гораздо ближе к фрейдизму, чем ортодоксальные психоаналитики, которые из-за неспособности трансформировать психоанализ в социальную критику вновь обрекают желание подавлению. Конечно, в определенной степени учитель заслуживает тех учеников, которые у него есть. Современное обличье психоанализа в форме дорогостоящего духовного консультирования, основанного на техниках примирения и приспособления к культуре, происходит из ограниченности теории самого Фрейда, что детально исследует Браун. Несмотрянавсюреволюционностьегомышления,Фрейдвсе-такиподдерживалнеизбывное стремлениекультурыкрепрессивности.Онпринималнеизбежностькультурыкаконаестьс двумя характерными признаками – «усилением интеллекта, который начинает управлять жизнью инстинктов, и интернализацией агрессивных импульсов со всеми следующими из этого плюсами и минусами». Тех, кто считает Фрейда приверженцем максимально открытого выражения либидо, вероятно удивит факт, что под «психологическим идеалом» онпонималнечтоиное,как«приматинтеллекта». В более общем плане Фрейд является наследником платоновской традиции западной мысливдвухпервостепенныхивзаимосвязанныхисходныхпосылках:дуализмадушиитела исамоочевидной(теоретическойипрактической)ценностисамосознания.Перваяпосылка выразилась в том, что Фрейд разделял взгляд на сексуальность как «низшее», а ее сублимацию в искусстве, науке, культуре как «высшее». К этому следует добавить пессимистический взгляд на сексуальность, согласно которому сексуальное является в структуре личности зоной уязвимого. Либидинальные импульсы находятся в неконтролируемомконфликтедругсдругом,являютсяисточникомфрустраций,агрессийи интроекций вины; репрессивное вмешательство культуры необходимо для того, чтобы обуздать саморепрессивные механизмы, встроенные в саму человеческую природу. Вторая посылка отражается в том, как фрейдовская терапия принимает на себя целительную функцию самосознания, знание о том, чем и как мы больны. Выведение на свет тайных мотивов,считалФрейд,автоматическиихуничтожает.Болезненныйневроз,поеготеории, это форма амнезии, забвения (самодеятельного подавления) болезненного прошлого. Не знать прошлого – значит быть под его бременем; вспомнить, знать его – значит освободитьсяотэтогобремени. Браункритикуетобеэтифрейдовскиепосылки.Человек–этонедуализмдушиитела, говорит он; это означало бы отрицать смерть, а значит отрицать и жизнь. Самосознание, отлученное от опыта тела, также приравнивается им к жизнеотрицающему отрицанию смерти.АргументацияБрауна,слишкомразветвленная,чтобыприводитьеездесьцеликом, не предполагает отречения от ценности сознания или рефлексии. Тут, скорее, проводится необходимое различие. Сознанию у Фрейда, по брауновской терминологии, недостает не аполлоновского(сублимирующего),акакраздионисийского(телесного)начала. Термины «аполлоновское» или «дионисийское» напомнят Ницше, и эта ассоциация вполне закономерна. Ницше – ключ к данной интерпретации Фрейда. Интересно, однако, что Браун привязывает свое рассуждение не к Ницше, а, скорее, к эсхатологической традициивхристианстве. Особенность христианской эсхатологии заключается в отказе от платоновской враждебности по отношению к человеческому телу и «материи», отказе идентифицировать платоновский путь сублимации с высшим спасением, а также в утверждении, что вечная жизнь может быть только жизнью в теле. Христианский аскетизм может возложить на падшее тело наказание, непостижимое для Платона, но этому же падшему телу уготована христианская надежда на искупление грехов. Отсюда утверждение Тертуллиана: «…плоть воскреснет, и воскреснет всякая, и та же самая, и нисколько не поврежденная». Средневековый католический синтез христианства и греческой философии с его понятием бессмертной души запутал этот вопрос; только протестантизмвполноймеренесетбремяличнойхристианскойверы.Лютеррешительно отрешился от доктрины сублимации (добрых дел), но истинным теологом воскресения плотибылсапожникизГёрлицаЯкобБёме. Вэтомпассажепроявиласьеслинетонкостьдеталировки,тополемическийзадоркниги Брауна.Одновременноэтоианализцелогосрезафрейдовскойтеории,теорииинстинктови культуры, и набор примеров из истории мысли. Однако приверженность Брауна протестантизму как провозвестнику культуры, которая отказалась от сублимации, с исторической точки зрения сомнительна. Прежде всего бросается в глаза, что протестантизм–этовтомчислеикальвинизм,акальвинистскаяэтика(какпоказалМакс Вебер) дала самый сильный толчок идеалам сублимации и самоограничения, воплотившихсявсовременнойурбанистскойкультуре. Тем не менее, помещая свои идеи в раму христианской эсхатологии (а не сближая с такими пламенными атеистами, как Сад, Ницше и Сартр), Браун поднимает ряд дополнительныхоченьважныхвопросов.Вхристианствесовремениудаизмазамечательно развитие исторического взгляда на мир и человека. И анализ Брауна, вступая в союз с некоторыми подспудными перспективами христианской эсхатологии, открывает возможности для психоаналитической теории истории, которая не просто редуцирует историюкультурыкпсихологиииндивидов.Своеобразие«Жизнипротивсмерти»состоитв выработкеточкизрения,котораяявляетсяодновременноисторическойипсихологической. Браун показывает, что психологическая точка зрения не обязательно подразумевает отрицание истории с ее эсхатологическими претензиями, не требует отступления к «границам человеческой природы» и необходимости подавления либидо посредством культуры. Однако если так, то нам следует пересмотреть значение эсхатологии и, шире говоря, утопизма. Традиционно эсхатология принимала форму ожидания будущего перехода всего человечества в условия непременно более прогрессивной исторической фазы. Оппонируя этиможиданиям,будьтобиблейскаяэсхатология, Просвещение,теориипрогресса,учения Маркса и Гегеля, современные критики-«психологи» занимали крайне консервативную позицию. Но не все эсхатологические теории являются историческими. Есть другой тип эсхатологии, которую, в отличие от трансцендентной, можно назвать имманентной эсхатологией.Этоименнотанадежда,которуюНицше,величайшийкритикплатоновского обесценивания мира (и его наследника, «популярного платонизма», известного как христианство), выразил в своей теории «вечного возвращения» и «воли к власти». Однако дляНицшеперспективачистойимманентностидоступнатолькоизбранным,«хозяевам»,и основываетсянасохранении,замораживанииисторическоготупикаобщества,держащегося на отношении хозяина и раба; никакого коллективного достижения цели быть не может. Браун отвергает логику господства, которую Ницше принимал как неизбежную плату за счастье немногих. Самая высокая похвала книге Брауна – признание того, что, кроме важнойпопыткипроникнутьвсутьпрозренийФрейдаиразвитьих,онасодержитивпервые предпринятую существенную попытку сформулировать эсхатологию имманентности через семьдесятлетпослеНицше. [1961] Пер.НиныЦыркун Хеппенинги:искусствобезоглядныхсопоставлений Не так давно в Нью-Йорке объявилась новая, и довольно эзотерическая, разновидность театральных зрелищ. На первый взгляд нечто среднее между художественной выставкой и театральной постановкой, они носят скромное и дразнящее имя «происшествий», хеппенингов.Устраиваютихначердаках,вмаленькиххудожественныхгалереях,назадних дворахивнебольшихтеатрахпередпубликой,которойнабираетсячеловекоттридцатидо сотни. Объяснить непосвященному, что такое хеппенинг, можно одним способом: рассказав, каким он не бывает. Хеппенинг происходит не на обычной сцене, а в загроможденном предметамипомещении,котороеможновыстроить,подогнатьили найти (а можно и то, и другое, и третье разом). В этом помещении некоторое количество участников (не актеров) то производят некие телодвижения, то тем или иным манером обращаются с вещами, сопровождая это (иногда, но не обязательно) словами, внесловесными звуками, вспышками света и запахами. Сюжета у хеппенинга нет – есть действиеили,скорей,набордействийисобытий.Связнойиосмысленнойречиздесьтоже избегают,хотямогутвстречатьсясловавроде«Помогите!»,«Vogliounbicchierediacqua»[39], «Обнимименя»,«Авто»,«Раз,два,три»…Речьстерилизована,уплотненапаузами(говорят здесь только если нужно) и движется своей безрезультатностью, отсутствием отношений междуучастникамихеппенинга. Устроители хеппенингов в Нью-Йорке – хотя явление это Нью-Йорком не ограничивается и независимые друг от друга группы делали похожие вещи в Осаке, Стокгольме, Кельне, Милане и Париже – молодежь, люди двадцати, самое большее – тридцатилет.Чащеэтохудожники(АланКапроу,ДжимДайн,РедГрумз,РобертУитмен, Клас Олденбург, Эл Хансен, Джордж Брехт, Йоко Оно, Кэроли Шниман), есть несколько музыкантов(ДикХиггинз,ФилипКорнер,ЛамонтЯнг).СрединихтолькоАланКапроу–он отвечает за возникновение и развитие жанра больше других – имеет отношение к высшей школе: он изучал изобразительное искусство и историю искусств в Ратгерсе и преподает теперь в университете штата Нью-Йорк на Лонг-Айленд. Капроу, художнику и ученику Джона Кейджа (в течение года), хеппенинг после пятьдесят седьмого заменил живопись, или,какобъясняетонсам,егоживописьпринялаформухеппенинга.Удругих–иначе:они продолжают заниматься живописью или сочинять музыку, время от времени устраивая хеппенингииливключаясьвзатеидрузей. Первым прилюднымхеппенингомстали«Восемнадцатьпроисшествийвшестичастях» Алана Капроу, показанные в октябре 1959 года на открытии галереи Рейбена, в создании которойКапроу,нарядусдругими,участвовал.НескольколетгалереиРейбена,Джадсона,а потомГринабыливНью-Йорке главнымивыставочнымивитринамихеппенингов Капроу, РедаГрумза,ДжимаДайна,РобертаУитменаидругих.Позжеединственнымирегулярными хеппенингами остались еженедельные представления Класа Олденбурга в трех задних комнатенкахего«лавки»наВторойулицеИст-Энда.Запятьлетпредставленийнапублике первоначальныйкружокблизкихдрузейразросся,взглядыучастниковдалекоразошлись,и на нынешний день единой трактовки хеппенинга как жанра у включенных в это занятие людей нет. Некоторые хеппенинги малолюдны, на иных почему-то толпятся; одни – жестокие, другие – забавные; есть короткие, как хокку, есть развернутые, как эпос; те – всего лишь сценки, иные – едва ли не целые спектакли. Как бы там ни было, можно обнаружитьвихустройствеобщееядроисформулироватьнекоторыесоображенияосвязях хеппенингасживописьюитеатром.Кстати,Капроупринадлежитлучшаянасегоднястатья о хеппенингах, их месте среди современных сценических искусств вообще и в его собственной работе в частности (майский номер «Арт Ньюс» за 1961 год); к ней я и отсылаю читателей за описанием того, что там в буквальном смысле слова происходит, – описаниемкудаболееполным,чемсмогупредпринятьнаэтихстраницахсама. Наверное, больше всего в хеппенингах поражает (назовем его так) «обращение» с аудиторией. Как будто цель затеи – либо потешиться над публикой, либо ей нагрубить. Аудиторию могут окатить водой, осыпать мелочью или свербящим в носу стиральным порошком.Могутоглушитьбарабаннымбоемпоящикамиз-подмасла,направитьвсторону зрителей паяльную лампу. Могут включить одновременно несколько радиоприемников. Публикузаставляюттеснитьсявбиткомнабитойкомнате,жатьсянакраюканавыусамой воды. Никто тут не собирается потакать желанию зрителя видеть все происходящее. Чаще егонамереннооставляютсносом,устраиваякакие-тоизпредставленийвполутьмеиливедя действие в нескольких комнатах одновременно. Во время «Весеннего хеппенинга» Алана Капроу, показанного в марте шестьдесят первого в галерее Рейбена, публика толпилась в длинном ящике, похожем на скотофургон; в дощатых стенках были проделаны отверстия, сквозь которые зрители пытались разглядеть происходящее снаружи; по окончании хеппенингастенкиповалили,априсутствующихразогналисенокосилкойсмотором. (За неимением прочего, это насильственное, оскорбительное втягивание аудитории в происходящееисоставляетдраматургическуюосновухеппенинга.Чемближеонкчистому спектаклю, а публика – как во «Внутреннем дворике» Алана Капроу, показанном в Ренессанс-хаузе в ноябре 1962 года, – к обычным театральным зрителям, тем напряжение зрелищаслабееитемменееоноубедительно.) Другая поразительная особенность хеппенингов – их обращение со временем. Сколько будет длиться тот или иной, предсказать нельзя: может быть, десять минут, может быть – сорок, в среднем – около получаса. Насколько я смогла заметить за два последних года, аудиторияхеппенингов(публикаверная,восприимчиваяипобольшейчастиопытная),тем не менее чаще всего не понимает, закончилось представление или нет, и ждет знака расходиться.Посколькусредизрителейвидишьодниитежелица,врядлиможносписать эту неуверенность на счет незнакомства с формой. Скорее, непредсказуемые продолжительностьисодержаниекаждогоконкретногохеппенинга–неотрывнаячастьего воздействия. Именно поэтому в хеппенинге нет ни действия, ни интриги, ни элемента ожидания(асоответственно,иудовлетворенияожиданий). В основе воздействия хеппенингов – незапланированная цепь неожиданностей без кульминации и развязки: скорей алогичность сновидений, чем логика большинства искусств. Времени в снах не чувствуешь. То же самое – в хеппенингах. Поскольку ни сюжета,нисвязнойразумнойречивнихнет,тонетипрошлого.Какпонятноизназвания, хеппенинг–всегдавнастоящем.Одниитежеслова,еслионивообщеесть,воспроизводятся снова и снова: речь сведена к заиканию. Действие в каждом отдельном хеппенинге, случается, тоже заедает (что-то вроде жестикуляционной запинки), или оно заторможено, словновремяостанавливаетсяуваснаглазах.Нередкохеппенингпринимаетформукольца, начинаясьизаканчиваясьоднойитойжепозойилижестом. Средиспособов,которымихеппенинготстаиваетсвоюсвободуотвремени,–предельная скоротечность происходящего. Создатели хеппенинга – будь то художник или скульптор – непроизводятничегонапродажу.Хеппенингнельзякупить,егоможнолишьматериально поддержать.Навыносегонедают–толькораспивочно.Этокакбудтосближаетхеппенинг с театром: на театральном представлении ведь тоже только присутствуют, домой его не возьмешь. Но в театре есть текст, полная печатная «партитура» представления, которую можно купить, прочесть и которая ведет существование, не зависимое от любых исполнителей.Еслиподтеатромразуметьпьесу,хеппенинг–нетеатр.Однаконеверноито, что хеппенинги (как утверждали, случалось, его устроители) – всегда импровизация на месте. Их скрупулезно, от недели до нескольких месяцев, репетируют, хотя текст или партитура редко составляют больше странички самого общего перечня движений либо используемых предметов и материалов. То, что потом увидит публика, и ставят, и разучивают на репетициях сами исполнители, а если хеппенинг дают несколько вечеров подряд, многое в нем – куда больше, чем в театре – от представления к представлению меняется. Но даже несколько раз показанный хеппенинг не становится от этого репертуарным спектаклем, который можно просто повторять. После одного показа или серии представлений его разберут и никогда больше не воскресят, никогда не сыграют снова. Отчасти это связано с совершенно нестойкими материалами, идущими в дело, – бумагой, деревянными ящиками, жестянками, пеньковыми кулями, едой, наспех размалеванными стенами, – материалами, которые по ходу представления чаще всего, в буквальномсмыслеслова,потребляютилиразрушают. Напервомместевхеппенинге–именноматериалыипереходымеждуними:твердое– мягкое,грязное–чистое.Этаозабоченностьматериалом,какбудтосближающаяхеппенинг уженестеатром,асживописью,выражаетсяещеивтом,чтолюдиздесьиспользуютсяили представляются в качестве не столько «характеров», сколько неодушевленных вещей. Участники хеппенинга часто придают себе вид предметов, забираясь в пеньковые кули, прибегаякбумажнымоберткам,саванамимаскам.(Либоучастникможетфигурироватьна правах реквизита, как в мартовском 1962 года «Хеппенинге без названия» Алана Капроу, показанномвподвалекотельнойтеатраМейдмена:обнаженнаяженщинапролежалавнем всепредставлениенаприставнойлестнице,перекинутойнадпомещением,гдеразвивались события.)Действиевхеппенинге,предусматриваетононасилиеилинет,побольшейчасти включаетподобноеиспользованиечеловекавкачественеодушевленногопредмета.Нередко сфизическойличностьюисполнителярезкообращаетсяонсам(прыгая,падая)илидругие (взбираясь на него, преследуя, роняя, выталкивая, колотя, борясь), иногда с ним более медленноичувственно(поглаживая,грозя,пялясь)обращаютсядругиеилионсам.Другой тип обращения с вещами – это демонстрация материала либо его увлеченное, повторяющееся использование не для какой-то цели, а ради самого процесса: бросание кусков хлеба в ведро воды, сервировка стола, расстилание на полу огромного бумажного рулона,развешиваниебелья.Вконце«Автомобильнойаварии»ДжимаДайна,показаннойв ноябре1960годавгалерееРейбена,человекрасшибаликрошилцветныемелкиобклассную доску.Простыедействиявродекашляилипереноскитяжестей,бритья,совместногоужина будутздесьдлитьсяиповторяться,поканедойдутдоодержимостибесноватого. Чтокасаетсяиспользуемыхматериалов,замечу,чтотеатральноеразличениедекораций, реквизитаикостюмовдляхеппенинганегодится.Нижнеебельеилиуцененныетряпкина исполнителе–здесьтакаяжечастьпостройки,каксвисающиесостензаляпанныефигуры изпапье-машеилирассыпанныйпополумусор.Каквсовременнойживописи–ивотличие от театра – предметы в хеппенинге не размещают, а чаще раскидывают либо громоздят. Место проведения хеппенингов лучше всего назвать «средой», и среда эта, обычно до предела захламленная, перевернутая вверх дном и битком набитая, изготовлена из материалов, одни из которых непрочны, вроде бумаги и ткани, а другие выбраны за их скверное, сомнительной чистоты и просто опасное для человека состояние. Тем самым хеппенинги выражают (вполне натуральный, а не только идеологический) протест против музейного подхода к искусству с его представлением о труде художника как о создании предметовдляхраненияилюбования.Забальзамироватьхеппенингнельзя,алюбоватьсяим можнонебольше,чемфейерверком,стояпосредишарахающихпетард. Иногдахеппенингизовут«театромхудожников».Помимопринадлежностибольшинства ихучастниковкживописцам,этоозначает,чтохеппенинги–своегорода«живыекартины», точней – «живые коллажи» или оживленные «обманки». Кроме того, в возникновении хеппенингов легко увидеть логическое продолжение нью-йоркской живописной школы пятидесятых годов. Гигантские параметры большинства написанных в Нью-Йорке за последнеедесятилетиеполотен,какбызадавшихсяцельюнакрытьивобратьзрителявсебя, вместе с использованием других, неживописных материалов, налепленных на холст и торчащих потом с его поверхности, отмечали скрытую попытку подобной живописи вырваться в трехмерное пространство. Чем некоторые из художников и занялись. Следующий решающий шаг был сделан в середине и конце пятидесятых Робертом Раушенбергом, Аланом Капроу и другими в виде новой формы так называемых «ассамбляжей» – гибрида живописи, коллажа и скульптуры, в котором сардонически скрещены самые разные, но, как правило, доведенные до стадии отбросов материалы, включаяномерныезнакиавтомобилей,газетныевырезки,осколкистекла,деталимашини носкиавтора.Отассамбляжадоотдельнойкомнатыили«среды»оставалсяодиншаг.Этот последнийшаг ибыл сделанхеппенингом:людей попросту включиливсредуизаставили двигаться. Совершенно очевидно, что большинством элементов стиля – общим пристрастием к грязи, любовью к использованию готовых, но не наделенных художественнымпрестижемматериалови,преждевсего,отходовгородскойцивилизации– хеппенинг обязан опыту и воздействию нью-йоркской живописи. (Вместе с тем стоит отметить, что, по мысли, например, Капроу, городские отбросы – вовсе не обязательная принадлежностьхеппенингов,которыеточнотакжемогутбытьразыгранывпасторальной обстановкеипользоваться«чистыми»природнымиматериалами.) Итак,живописьпоследнихлетпомогаетобъяснитьвзглядхеппенинганамирикое-чтов егостиле.Носамойформыонанеобъясняет.Дляэтогонужновыйтизапределыживописи и, в частности, обратиться к сюрреализму. Под сюрреализмом я не имею в виду особое направлениевживописи,котороебылоучрежденов1924годуманифестомАндреБретонаи скоторымсвязаныименаМаксаЭрнста,Дали,Кирико,Магриттаидругих.Яимеюввиду тип мировосприятия, проходящий сквозь все искусство ХХ века. Своя сюрреалистская традиция есть в театре, живописи, поэзии, кино, музыке, романе; даже в архитектуре существует если не сама подобная традиция, то по крайней мере ее родоначальник – испанский зодчий Гауди. Сюрреалистские традиции во всех этих искусствах объединяет идея подрыва любых условностей и создания новых смыслов или бессмыслиц путем безоглядного сопоставления (по принципу коллажа). Красота – это, говоря словами Лотреамона, «негаданная встреча швейной машинки и зонтика на операционном столе». Понимаемое так искусство с очевидностью одержимо агрессией – агрессией против предрассудковпублики,новещебольшей степени–противсебясамого.Сюрреалистский образ чувств стремится шокировать, безоглядно сопоставляя все со всем. В конце концов, дажевтакомклассическомметодепсихоанализа,каксвободныеассоциации,можновидеть еще одно приложение сюрреалистского принципа безоглядных сопоставлений. Считая важным любое непредумышленное высказывание пациента, интерпретаторская техника фрейдизма свидетельствует, что она идет от той же логики связей наперекор противоречиям,ккоторойнасприучилосовременноеискусство.Вруслеподобнойлогики дадаист Курт Швиттерс создает свои блистательные «мерцы» начала двадцатых годов из материаловабсолютновнехудожественных:кпримеру,одинеготогдашнийколлажсобран из обрезков водосточных труб жилого массива. Это напоминает о фрейдовской характеристике собственного метода как вылавливания смысла «из мусорной кучи… наблюдений»,изсличенияникчемныхмелочей;временныеграницыежедневныхконтактов психоаналитикаспациентом,вконцеконцов,стольжепроизвольныинесущественны,как пространственные границы жилого массива, из водосточных труб которого художник отобралсвойхлам,–всерешаеттворческаяслучайностьсочетанийиозарений.Что-товроде непреднамеренныхколлажейможновизобилиивидетьивсамихсовременныхгородах–в чудовищной разноголосице размеров и стиля зданий, диковинном соседстве вывесок, кричащейверсткенынешнихгазетит.д. Искусство безоглядных сопоставлений может, понятно, преследовать разные цели. Сюрреализм,побольшейчасти,ставилсвоейцельюсострить–либовформемягкойшутки над скудоумием, ребячеством, экстравагантностью, одержимостью, либо в виде прямой социальной сатиры. В частности, так понимал дело дадаизм – да и сюрреализм – на Парижской международной выставке сюрреалистов в январе тридцать восьмого, на ньюйоркских выставках в сорок втором и шестидесятом. Во втором томе своих воспоминаний СимонадеБовуартакописывает«домспривидениями»образца1938года: ВходящихвстречалаоднаизхарактерныхпридумокДали:таксиподпроливнымдождем снаружиисобморочнойсветловолосойкуклойвнутри,–ивсеэтоокруженноечем-товроде салата из латука с цикорием и посыпанное улитками. «Сюрреалистская улица» была уставлена другими похожими фигурами, в одежде и без, работы Мана Рея, Макса Эрнста, Домингеса и Мориса Анри. Залепленное анютиными глазками лицо Массона глядело из птичьей клетки. Главный зал Марсель Дюшан отделал под пещеру, где, среди прочего, имелсяпрудичетырекровати,составленныевокругжаровни,апотолокбылобитмешками из-подугля.Повсюдупахлобразильскимкофе,ииззаботливоустроеннойполутьмывдруг проступалиразныепредметы:тообшитоемехомблюдо,токакой-тостолнаженскихногах. Повсюдуисовершенносвободноотобщепринятогоназначениявалялисьвпереломанноми расколотом виде обычные вещи вроде стен, дверей и цветочных горшков. Впрямую на нас сюрреализм, по-моему, не повлиял, но им был пропитан сам воздух, которым мы дышали. Скажем,именносюрреалистыввеливмодупосещенияБлошиногорынка,кудаСартр,Ольга иясталинередкозахаживатьповоскресеньямпослеобеда. Особенно интересны здесь последние слова. Они напоминают, что сюрреалистский подход дал начало остроумной переоценке выброшенных на свалку, обессмыслившихся, устаревших образцов современной цивилизации – породил вкус к самозабвенному неискусству,известномуподкличкой«кэмп».Меховаячайнаячашка,портретизкрышечек от пепси-колы, ночной горшок на колесах – все это попытки создать своеобразные предметы,привнесявнихтоостроумие,тонкийобладателькоторого,изощривсвойвзгляд на кэмпе, может испытывать удовольствие от фильмов Сесиля Б. Демилля, книжеккомиксовиабажуроввстилеар-нуво.Главноетребованиеподобногоостроумия–чтобывсе этипредметынеимелинималейшегоотношенияквысокомуискусствуихорошемувкусув любом из общепринятых значений упомянутых слов, а чем ничтожней использованный материалитривиальнеевыраженныеимчувства–темтольколучше. Но сюрреалистский подход может служить и другим целям, не ограничиваясь остроумием,будьтоневозмутимоеостроумиеутонченностиилинаступательноеостроумие сатиры. К нему можно относиться более серьезно, как к терапевтическому средству – инструменту перевоспитания чувств (в искусстве) или переделки характера (в психоанализе). Наконец, с его помощью можно вызывать ужас. Если смысл современного искусства – в открытии за фасадом повседневной логики алогичного мира снов, то от искусства, добившегося свободы сновидений, естественно ожидать и соответствующего эмоционального разнообразия. Есть сны остроумные, сны возвышающие, но есть и кошмары. Образцы ужасов сюрреалистского толка легче отыскать в искусствах, где преобладает фигуративная традиция, в литературе и кино, чем в музыке (Варез, Шеффер, Штокхаузен, Кейдж) или живописи (де Кунинг, Бэкон). Из литературы вспоминается лотреамоновский «Мальдорор»,рассказыироманыКафки,прозекторскиестихиГотфридаБенна.Изкино– «Андалузский пес» и «Золотой век» Бунюэля и Дали, «Кровь животных» Франжю, две недавние короткометражки – польская «Жизнь прекрасна» и американское «Кино» Брюса Коннера, некоторые сцены в фильмах Альфреда Хичкока, А. Ж. Клузо, Кона Итикавы. Но самую глубокую трактовку использованию сюрреалистского подхода в целях устрашения далфранцузАнтоненАрто,шедшийвжизничетырьмяосновнымииобразцовымипутями– поэта, лунатика, киноактера и теоретика театра. В сборнике эссе «Театр и его двойник» Артони большенименьшекакначистоперечеркиваетсовременныйзападныйтеатрсего культом шедевров, исключительной опорой на писаный текст (слово) и прирученными эмоциями. Процитирую Арто: «Театр должен стать равным жизни – не индивидуальной жизни, где господствует характер, а никому не подотчетной жизни, сметающей всякую человеческуюиндивидуальность».Подобногоосвобожденияотбремениирамокличного– тема, соблазнявшая также Д. Г. Лоуренса и Карла Юнга, – можно достичь только обратившись к коллективному (в подавляющем большинстве) содержимому сновидений. Только во сне, ночью, мы пробиваемся за плоскую поверхность того, что Арто пренебрежительноименует«психологическойисоциальнойличностью».НосондляАрто– не просто поэзия, воображение, это еще и преступление, безумие, кошмар. Линия сна с необходимостью ведет к тому, что Арто в заголовках двух своих манифестов называет «театром жестокости». Театр должен поделиться «со зрителем правдоподобным осадком егособственныхснов,вкоторыхтягазрителякнасилию,эротическиенаваждения,дикость, химеры, утопическое чувство жизни и материальности мира, даже его каннибализм выплескиваютсяненафальшивомииллюзорномуровне,аглубоковнутри…Театр,каксны, долженстатькровавымибесчеловечным». Предписания,изложенныеАртов«Театреиегодвойнике»,даютнаилучшеепонятиео хеппенинге. Арто показывает связь между тремя самыми характерными чертами хеппенинга:егонадличнымилибезличнымотношениемк«я»,опоройнажестизвукпри недовериикосмысленномусловуи,наконец,нескрываемымстремлениемвлюбуюминуту броситьсянааудиторию. Вкускагрессии–феноменвискусственетакойужновый.Ополчаясьна«современный роман» (среди прочего, на «Гая Мэнеринга» и «Холодный дом»!), Рёскин в 1880 году заметил,чтотягакфантастическому,чрезмерному,неприятномувместесостремлениемк шоку составляют, пожалуй, отличительные черты нынешней публики. Это неизбежно толкаетхудожниканавсеболеедалекиеинапряженныепоискиэмоциональногооткликасо стороны аудитории. Вопрос в одном: только ли страхом подобный отклик вызывается? Участники хеппенингов, кажется, молчаливо признают, что возбуждение любого другого сорта (скажем, сексуальное) далеко не так действенно, и что последний бастион эмоциональнойжизни,которыйпредстоитвзять,–этоужас. Любопытно,однако,чтозрелище,целькоторого–пробудитьсегодняшнююпубликуот ее уютной эмоциональной анестезии, строится на образах целиком анестезированных людей, движущихся в какой-то загипнотизированной обособленности друг от друга и создающихвпечатлениенекоегодейства,чьиглавныехарактеристики–церемониальность и безрезультатность. В этой точке сюрреалистские техники устрашения соприкасаются с глубочайшим смыслом комического искусства – утверждением неуязвимости героев. Эмоциональная анестезия – сердцевина комедии. Мы хохочем, следя за малоприятными и гротескными ситуациями, поскольку уверены, что попавшие в них люди на самом деле сохраняютбесстрастность.Сколькобыонинистановилисьнадыбы,нивопили,ниругались последними словами и ни кляли свою незадачливость, аудитория знает: не так уж они чувствительны.Влюбомизпротагонистовизвестнойкомедииестьчто-тоотавтоматаили робота.Втомисекреттакихразныхобразцовкомическогоискусства,какаристофановские «Облака»,«ПутешествияГулливера»,комиксыТексаЭйвери,«Кандид»,«Добрыесердцаи золотыекороны»,фильмысБастеромКитоном,«Убю-король»ишоуГуна.Секреткомедии – невозмутимость либо преувеличенная или сдвинутая реакция, то есть пародия на подлинный отклик. В комедии, как и в трагедии, работает стилизация эмоциональной отзывчивости.Вслучаетрагедии–превышениенормальныхчувств,вслучаекомедии–их обезболиваниеилисмещение. Вероятно, сюрреализм доводит идею комедии до предела, перебирая весь спектр реакций от смеха до ужаса. Перед нами скорей комедия, нежели трагедия, поскольку сюрреализм (во всех своих разновидностях, включая хеппенинг) подчеркивает границы «отчужденности», которая, собственно, и есть предмет комедии, как предмет и источник трагедии–напротив,«вовлеченность».Вовремяхеппенингая,вместесдругимизрителями, нередко смеюсь. Не думаю, будто мы всего-навсего обескуражены (или напуганы) угрожающими(либоабсурдными)действиямиучастников.Думаю,мысмеемсяоттого,что происходящеевовремяхеппенинга,всамомглубокомсмыслеслова,забавно.Чтонемешает ему, кстати, быть пугающим. Что-то – в границах, конечно же, позволенного социальным благочестием и в высшей степени условным чувством серьезного – подталкивает нас смеятьсянадсамымичудовищнымиизнынешнихкатастрофижестокостей.Всовременном опытевообщеестьчто-тонеуловимокомическое.Толькокомедияэта–небожественная,а бесовская, и ровно в той мере, в какой для современного опыта характерны эти бессмысленные,механическиеситуацииполнойотчужденности. Комедиянеперестаетбытькомичнойоттого,чтонесетвозмездие.Ей,какитрагедии, нужен свой козел отпущения – жертва, которая будет наказана и отлучена от социального порядка, правдоподобно воссоздаваемого на сцене. Развитие действия в хеппенинге попросту следует предписаниям Арто с его мечтой о зрелище, упраздняющем подмостки, иначеговоря,дистанциюмеждуисполнителямиипубликой,и«физическивтягивающемв себязрителя».Козелотпущениявхеппенинге–егоаудитория. [1962] Пер.БорисаДубина Заметкиокэмпе Естьмногоенасвете,чтоникогданебылоназвано,имногое,что,дажебудучиназвано, никогда не было описано. Таково мировосприятие – безошибочно современное, разновидность извращения, но вряд ли тождественное ему, – известное под культовым именем«кэмп». Восприятие (в отличие от идеи) – одна из самых сложных тем для разговора; однако существуютспециальныепричины,покоторымименнокэмпникогданеобсуждался.Этоне естественный вид мировосприятия, если таковые вообще существуют. Действительно, сущность кэмпа – в его любви к неестественному: искусственному и преувеличенному. К тому же кэмп эзотеричен – что-то вроде частного кода, скорее даже знака отличия, среди маленьких городских замкнутых сообществ. Если не брать в расчет ленивый двухстраничный набросок в романе Кристофера Ишервуда «Мир вечером» (1954), то он с трудом поддается печатному изложению. Таким образом, говорить о кэмпе значит предавать его. Если подобное предательство может быть оправдано, то это оправдание может быть найдено в назидании, заключенном в нем, или в достойности конфликта, им разрешаемого. Сама себя я оправдываю обещанием самоназидания и осознанием острого конфликта в моем собственном мировосприятии. Я испытываю сильную тягу к кэмпу и почти такое же сильное раздражение. Потому я хочу говорить о нем и потому же – могу. Никто из тех, кто всем сердцем разделяет подобное мировосприятие, не может его анализировать; независимо от намерений, он может только продемонстрировать его. Для того чтобы дать мировосприятию имя, набросать его контуры и рассказать его историю, необходимаглубокаясимпатия,преобразованнаяотвращением. Хотяяговорютолькоовосприятии–причемименноотаком,которое,средипрочего, обращает серьезное во фривольное – это все равно представляется безнадежным делом. Большинство людей думают о восприятии или вкусе как области чисто субъективных предпочтений, некоей загадочной привлекательности, в основном чувственной, которая никогда не была подконтрольна разуму. Они допускают, что соображения вкуса играют определенную роль в их реакции на людей и на произведения искусства. Однако эта позициянаивна.Хужетого.Смотретьсвысоканавкус,которымтынаделен,–этосмотреть свысока на самого себя. Поскольку вкус управляет каждым свободным – в отличие от рутинного–человеческимдвижением.Ничтонеявляетсяболееопределяющим.Существует визуальный вкус и вкус в том, что касается людей, в том, что касается эмоций – и существуетвкусвобластиискусства,вкусвобластиморали.Интеллекттожепредставляет из себя нечто вроде вкуса: вкуса в области идей. (Можно обнаружить, что вкусовые способности развиваются очень неравномерно. Редко удается встретить человека, разом обладающегохорошимвизуальнымвкусом,хорошимвкусомналюдейивкусомнаидеи.) Во вкусе нет ни системы, ни доказательств. Однако существует нечто вроде логики вкуса: постоянная восприимчивость, которая лежит в основе и взращивает тот или иной вкус. Восприимчивость почти, но не вполне, невыразимая. Всякое восприятие, которое может быть втиснуто в жесткий шаблон системы или схвачено грубыми орудиями доказательства,большеуженевосприятие.Онозатверделовидею… Чтобы удержать в сети слов мировосприятие, особенно живое и влиятельное[40], необходимадостаточнаяловкостьиизворотливость.Формазаметоквбольшейстепени,чем эссе (с его требованием линейных и последовательных доводов), подходит для уловления особенностей этой прихотливой и ускользающей материи. Затруднительно быть торжественным и трактатоподобным, говоря о кэмпе, поскольку при этом сам рискуешь создатьнизшийегообразчик. ЭтизаметкипосвященыОскаруУайльду. «Следует либо быть произведением искусства, либо одеваться в произведения искусства». «Изреченияиразмышлениядляпользыюношества» 1.Дляначалавсамомобщемвиде:кэмп–этоопределенныйвидэстетизма.Существует некийспособвидетьмиркакэстетическоеявление.Этотспособ,способкэмпа,выразимне втерминахкрасоты,новтерминахстепениискусственностиилистилизации. 2.Подчеркнем,чтостильпренебрегаетсодержаниемлибозадаеттакуюточкузрения,с которой содержание безразлично. И это не говоря о том, что восприимчивость кэмпа не ангажирована,деполитизирована–илипокрайнеймереаполитична. 3.Кэмп–нетолькоопределенныйвзгляд,способсмотретьнавещи.Кэмп–этоинекое качество, открываемое в объектах или поведении людей. Существуют «кэмповские» фильмы,одежда,мебель,популярныепесни,романы,люди,здания…Подобноеразделение принципиально. Поистине, глаз кэмпа обладает способностью преображать действительность. Однако не все может быть увидено как кэмп. Не все зависит от наблюдающегоглаза. 4.Разрозненныепримерытого,чтовходитвканонкэмпа: «ЗулейкаДобсон» СветильникиотТиффани Фильмыдлямузыкальныхавтоматов Ресторан«БраунДерби»набульвареСансетвЛос-Анджелесе «Инквайрер»,заголовкиистатьи РисункиОбриБердслея «Лебединоеозеро» ОперыБеллини РежиссураВисконтив«Саломее»и«Какжальееразвратницейназвать» Некоторыепочтовыеоткрыткирубежавеков «Кинг-Конг»Шедсака Кубинскаяпоп-певицаЛаЛупе РоманЛиндаУордавгравюрахнадереве«Божийчеловек» СтарыекомиксыоФлэшеГордоне Женскаяодеждадвадцатых(боаизперьев,платьясдлиннымшлейфомит.д.) РоманыРональдаФербэнкаиАйвиКомптон-Бернет Порнофильмы,увиденныебезвожделения 5.Вкускэмппредпочитаетоднивидыискусствабольше,чемдругие.Например,одежда, мебель, различные элементы внешнего убранства составляют большую часть кэмпа. Для кэмпа всякое искусство – искусство чаще всего декоративное, выделенная текстура, чувственная поверхность и стиль для покрытия издержек содержания. Вместе с тем концертная музыка, несмотря на ее бессодержательность, редко является кэмпом. Она, скажем, просто не предлагает противопоставления, необходимого для контраста между глупым или экстравагантным содержанием и богатой формой… Временами целые виды искусствоказываютсянасыщеныкэмпом.Классическийбалет,опера,киновыгляделитакв течение долгого времени. В последние два года кэмп поглотил и популярную музыку (построк-н-ролл, то, что французы называют «йе-йе»). И, вероятно, кинокритика (списки типа«10самыхплохихфильмов,которыеякогда–либовидел»)–этосегоднявеличайший популяризаторвкусакэмп,посколькубольшинстволюдейвсеещеходятвкиновхорошем настроенииинепредъявляябольшихпретензий. 6.Внекоторомсмыслеверноутверждение:«Этослишкомхорошо,чтобыбытькэмпом». Или – «слишком важно», недостаточно маргинально (чаще последнее). Таким образом, личностьимногиепроизведенияЖанаКокто–кэмп,ноэтонетакприменительнокАндре Жиду;таковыоперыРичардаШтрауса,нонеВагнера;стряпняТинПэнЭллииЛиверпуля, но не джаз. Многие примеры кэмпа с «серьезной» точки зрения – либо плохое искусство, либокитч.Хотяиневсе.Кэмп–необязательноплохоеискусство,равнокакинекоторые произведения, находящиеся на подступах к кэмпу (пример: большинство фильмов Луи Фейяда),заслуживаютболеесерьезноговосхищенияиисследования. «ЧембольшемыизучаемИскусство,темменьшебеспокоимсяоПрироде». «Упадоклжи» 7. Все, что является кэмпом – люди и предметы – содержит значительный элемент искусственности. Ничто в природе не может быть кэмповским… Сельский кэмп все еще рукотворен, и наиболее кэмповские объекты – городские. (Однако они часто проявляют безмятежность–илинаивность,–которыесутьэквивалентпасторальности.Замечательное пониманиекэмпадемонстрируетвыражениеЭмпсона«городскаяпастораль».) 8.Кэмп–этонекотороепредставлениемиравтерминахстиля,новполнеопределенного стиля. Это любовь к преувеличениям, к «слишком», к вещам-которые-суть-то-чем-они-неявляются.Лучшийпримерможнонайтивар-нуво,наиболеехарактерномиразвитомстиле кэмпа. Характерно то, что ар-нуво превращает любую вещь во что-то совсем другое: подставки светильников в форме цветущих растений, жилая комната в виде грота. Знаменательныйпример:парижскийвходвметро,выполненныйЭкторомГимаромвконце 1890-хвформечугунногостебляорхидеи. 9.Вкачествеиндивидуальноговкусакэмпприводитикпоразительнойутонченности,и к сильной преувеличенности. Андрогин – вот определенно один из величайших образов кэмповского мировосприятия. Примеры: замирающие, утонченные, извивающиеся фигуры поэзии и живописи прерафаэлитов; тонкие, струящиеся, бесполые тела ар-нуво; завораживающая, андрогинная пустота, таящаяся за совершенной красотой Греты Гарбо. Здесь кэмп рисует наиболее непризнанную истину вкуса: самые утонченные формы сексуальной привлекательности (равно как наиболее утонченные формы сексуального наслаждения) заключаются в нарушении чьей-либо половой принадлежности. Что может быть прекраснее, чем нечто женственное в мужественном мужчине; что может быть прекраснее, чем нечто мужественное в женственной женщине… Парным к андрогинным предпочтениям кэмпа является нечто, на первый взгляд, совершенно отличное, но не являющееся таковым: вкус к преувеличенным сексуальным характеристикам и персональной манерности. По очевидным причинам в качестве лучших примеров могут быть названы кинозвезды. Банальная пышность женственности Джейн Мэнсфилд, Джины Лоллобриджиды,ДжейнРассел,ВирджинииМайо;преувеличеннаямужественностьСтива Ривза, Виктора Метьюра. Великие стилисты темперамента и манерности, подобные Бетт Дэвис,БарбареСтенвик,ТаллулеБэнкхед,ЭдвижФейер. 10.Кэмпвсевидитвкавычках,какцитату.Этонелампа,но«лампа»;неженщина,но «женщина».Ощутитькэмп–применительноклюдямилиобъектам–значитосознатьбытие какисполнениероли.Этодальнейшеерасширениеметафорыжизникактеатранаобласть восприятия. 11.Кэмп–этотриумфстиля,неразличающегополов.(Взаимообратимость«мужчины» и «женщины», «личности» и «вещи».) Но все стили, так сказать, искусственны и, в конце концов,неразличаютполов.Жизньнестильна.Такжекакиприрода. 12. Вопрос не в том, почему травестия, деперсонификация, театральность? Напротив, вопрос в том, когда травестия, деперсонификация и театральность приобретают специфический привкус кэмпа? Почему атмосфера комедий Шекспира («Как вам это понравится»ит.п.)неблагоприятствуетсмешениюполовойпринадлежности,тогдакакDer Rosenkavalerблагоприятствует? 13. Линия раздела, по-видимому, проходит в конце восемнадцатого века; там обнаруживаются оригиналы кэмпа (готические романы, «китайщина», карикатуры, искусственные руины и т. д.). Но связь с природой была совсем иной, чем в последующие века. В XVIII веке люди вкуса или покровительствовали природе (Строубери Хилл), или пытались включить ее во что-то искусственное (Версаль). Они также неутомимо покровительствовали прошлому. Сегодняшний кэмп не включает в себя природу или даже открытоотвергаетее.Исвязькэмпаспрошлымтожеисключительносентиментальна. 14. Краткая история кэмпа может, конечно, начаться и раньше – с маньеристов подобныхПонтормо,РоссоилиКараваджо,илипричудливыхтеатральныхработЖоржаде Латура; или с эвфуизма (Лили и т. д.) в литературе. Все же наиболее бурно зарождение кэмпа происходило в конце XVII – начале XVIII века, поскольку именно этот период был наделенчутьемнапричудливость,наповерхность,насимметрию;вкусомнаживописность и напряженность, элегантным обычаем передачи мимолетного ощущения и постоянным присутствиемперсонажа–вэпиграммеирифмованномкуплете(всловах),взавитушках(в жестахимузыке).КонецXVII–началоXVIIIвека–великийпериодкэмпа:Поуп,Конгрив, Уолпол и т. д. – но не Свифт; les precieux во Франции; церкви рококо в Мюнхене; Перголези.Немногопозднее:многоеизМоцарта.НовXIXвекето,чтобылораспределено повсюду в высокой культуре, становится особым вкусом; он принимает оттенок остроты, эзотеричности, извращенности. Подтверждая сказанное только на примере одной Англии, мывидим,каккэмптусклопродолжаетсянапротяжениивсегоэстетизмаXIXвека(БернДжонс, Патер, Рёскин, Теннисон), сливаясь наконец с движением ар-нуво в визуальных и декоративных искусствах и находя своих сознательных идеологов в таких «парадоксалистах»,какУайльдиФербэнк. 15.Конечно,сказать,чтовсеперечисленноепринадлежиткэмпу,незначитсогласиться с тем, что все это только лишь кэмп. Например, развернутый анализ ар-нуво едва ли уравняет его с кэмпом. Но такой анализ не сможет игнорировать и того, что в ар-нуво позволяет воспринимать себя как кэмп. Ар-нуво полон «содержания», даже моральнополитического сорта; он был революционным движением в искусстве, подгоняемым утопическим видением (что-то между Уильямом Моррисом и группой Баухауз) в коммунитаристской политике и общественном вкусе. Но в ар-нуво проявляются черты, которые предполагают неангажированный, несерьезный, «эстетский» взгляд. Это говорит нам что-то важное об ар-нуво – и о том, что такое оптика кэмпа, которая и затемняет содержание. 16. Таким образом, мировосприятие кэмпа есть нечто, что живо двойным смыслом, в котором могут быть осмыслены некоторые вещи. Но это не простенькая двухступенчатая конструкциябуквальногозначениясоднойстороныисимволическогозначения–сдругой. Напротив,эторазницамеждувещью,означающейчто-тоилиозначающейвсе,чтоугодно,– ивещьюкакчистойискусственностью. 17. Это приводит нас прямо к вульгарному использованию слова кэмп как глагола, to camp, чего-то, что люди делают. Кэмп есть вид извращения, при котором используют цветистую манерность для того, чтобы породить двойную интерпретацию; жесты наполнены двойственностью, остроумное значение для понимающих и другое, более безличное,длявсехостальных.Вравноймереиприрасширениизначения,когдаэтослово становится существительным, когда человек или вещь становятся «кэмпом», некая двойственность всегда присутствует. За прямым, обычным смыслом, в котором что-либо можетбытьпонято,находитсячастноешутовскоевосприятиевещи. «Естественность–такаятруднаяпоза». «Идеальныймуж» 18.Что-то,должнобыть,теряетсямеждунаивнымипреднамереннымкэмпом.Чистый кэмпвсегданаивен.Кэмп,осознавшийсебякэмпом(«кэмпизация»),обычноменееудачен. 19.Чистыепримерыкэмпанепреднамеренны;ониудручающесерьезны.Мастервремен ар-нуво, сделавший светильник со змеей, обвившейся вокруг него, не ребячился и не старался быть «очаровательным». Он говорит со всей серьезностью: «Вуаля! Смотрите: Восток!»Неподдельныйкэмп–например,многочисленныемюзиклы,поставленныеБасби Берклидля«УорнерБразерс»вначалетридцатых(«42-яулица»,«Золотоискательницы1933 года»…1935года…1937годаит.д.)–несобираютсябытьзабавными.Авоткэмпизация– скажем, пьесы Ноэла Кауарда – напротив. Представляется маловероятным, что такое количествооперизтрадиционногорепертуарадотакойстепенибылибыкэмпом,еслибы композиторы не воспринимали всерьез мелодраматическую бессмыслицу их сюжетов. Нет нужды знать собственные намерения художника. Произведение скажет все. (Сравним какую-нибудь типичную оперу XIX века с «Ванессой» Сэмюэла Барбера, образцом выверенного,сконструированногокэмпа,иразницастанеточевидной.) 20. Вероятно, стремление к кэмпизации всегда пагубно. Совершенство «Переполоха в раю» и «Мальтийского сокола» среди других произведений кинокэмпа коренится в спокойствии, которым поддерживается интонация. Иначе дело обстоит с такими знаменитыми как бы кэмповскими фильмами пятидесятых, как «Всё о Еве» и «Бейте дьявола». В этих последних фильмах есть прекрасные места, но первый слишком приглажен,авторойслишкомистеричен;онитакстараютсябытькэмпом,чтоокончательно сбиваются с ритма… Возможно, однако, что это не столько вопрос о непреднамеренном эффектеиосознанномнамерении,сколькотонкаясвязьмеждупародиейисамопародиейв кэмпе. Фильмы Хичкока – лучший пример этой проблемы. Когда самопародия теряет кипение и взамен приобретает (пусть даже временами) пренебрежение к собственным темам и материалу – как в «Поймать вора», «Окно во двор», «К северу через северо- запад», – в результате получается что-то натянутое и неуклюжее, но редко – кэмп. Успешный кэмп – кино подобное «Странной драме» Карне; игра Мей Уэст и Эдварда Эверета Хортона; отдельные места в шоу Гуна; даже выглядя иногда самопародией, они благоухаютсамовлюбленностью. 21. Итак, еще раз: опора кэмпа – невинность. Это значит, что кэмп изображает невинность, но также то, что он разрушает ее, когда может. Неодушевленные объекты не меняются, когда они рассматриваются кем-либо как кэмп. Люди, однако, откликаются на своюаудиторию.Ониначинают«кэмпизоваться»:МейУэст,БеаЛилли,ЛаЛупе,Таллула Бэнкхедв«Спасательнойшлюпке»,БеттДэвисво«ВсёоЕве».(Людимогутбытьвовлечены вкэмпсамитогонезная.Вспомним,какФеллинизаставляетАнитуЭкбергпародировать себясамув«Сладкойжизни».) 22. Рассматриваемый не так строго, кэмп или полностью наивен, или целиком преднамерен (когда он изображает кэмпизацию). Последний пример: эпиграммы Уайльда насебя. «Глупо делить людей на хороших и плохих. Люди или очаровательны, или утомительны». «ВеерледиУиндермир» 23.Неотъемлемыйэлементнаивного,иличистого,кэмпа–этосерьезность,серьезность вплоть до полного провала. Конечно, не всякое произведение, где серьезность приводит к краху, может быть спасено кэмпом. А только то, которому присуща смесь преувеличенности,фантастичности,страстностиинаивности. 24. Когда что-то просто плохо (еще хуже, чем кэмп), это часто происходит из-за посредственности изначальных претензий. Художник даже и не пытается создать чтонибудь подлинно выдающееся. («Это слишком грандиозно», «Это слишком фантастично», «Вэтониктонеповерит»,–вотфразы,обычновызывающиеэнтузиазмулюбителякэмпа.) 25. Отличительный знак кэмпа – дух экстравагантности. Кэмп – это женщина, закутаннаявплатье,сделанноеизтрехмиллионовперьев. КэмпэтоживописьКарлоКривелли,сегонастоящимидрагоценностямииtrompe-l’oeil ввиденасекомыхитрещинвкирпичнойкладке.Кэмпэтовсепоглощающийэстетизмшести американских фильмов Штернберга с Марлен Дитрих, всех шести, но в особенности последнего,«Дьявол–этоженщина»…Зачастуюdémesuré[41]вкэмпезаключаетсявразмахе претензий,нетольковстилепроизведения.СенсационныеипрекрасныестроенияГаудив Барселоне – это кэмп не только из-за стиля, но и из-за того, что они обнаруживают – наиболеезаметныевСобореСаградаФамилия–претензииодногочеловекасоздатьто,что создаетсянеменьшечемпоколением:целуюкультуру. 26.Кэмп–этоискусствокотороеставитцельюбытьполностьюсерьезным,нонеможет восприниматьсявсемикаксерьезное,потомучтооновсегда«слишком».«ТитАндроник»и «Страннаяинтерлюдия»–почтикэмп,вовсякомслучаеонимогутбытьсыграныкаккэмп. ВнешнийимиджириторикадеГоллязачастуючистейшейводыкэмп. 27.Некотороепроизведениеможетбытьдостаточноблизкимккэмпу,нотакинестать им, будучи слишком удачным. Фильмы Эйзенштейна навряд ли кэмп, несмотря на все их преувеличения:онислишкомудачны(драматически),безмалейшейнатяжки.Еслибыони были немножко больше «чересчур», они были бы отличнейшим кэмпом – в частности, «Иван Грозный», первый и второй фильм. То же самое относится к рисункам и картинам Блейка, бредовым и манерным. Они не становятся кэмпом; хотя ар-нуво, зараженное Блейком,ужекэмп. Все, что оригинально противоречивым или бесстрастным образом, – не кэмп. Также ничтонеможетбытькэмпом,еслиононекажетсяпорожденнымнеукротимой,фактически не управляемой, восприимчивостью. Без страсти получается лишь псевдокэмп, который лишь декоративен, безопасен, одним словом, элегантен. На этом бесплодном краю кэмпа можно найти много привлекательного: приглаженные фантазии Дали, откутюрная жеманность «Девушки с золотыми глазами» Альбикокко. Однако есть две вещи – кэмп и жеманность,–которыенеследуетпутать. 28.Иещераз:кэмп–этопопыткасделатьчто-либонеобычное.Нонеобычноевсмысле особенное, обаятельное (завивающаяся линия, экстравагантный жест). Вовсе не экстраординарное в смысле напряженное. Перечисляемое Рипли в «Хотите верьте, хотите нет»редкооказываетсякэмпом.Всемуэтому,будьоночудомприроды(двухголовыйпетух, баклажанвформекреста)илирезультатомупорноготруда(человек,дошедшийдоКитаяна руках, женщина, выгравировавшая Новый Завет на кончике иглы) недостает зрительного вознаграждения – очарования, театральности, что и отличает подобные экстравагантности откэмпа. 29. Причины того, что фильмы, подобные «На последнем берегу», и книги типа «Уайнсбург,Огайо»или«Покомзвонитколокол»,недостаточносмешны,хотяиспособны доставить удовольствие, заключена в том, что они слишком напряженны и претенциозны. Им недостает фантазии. Но кэмп есть в таких плохих фильмах, как «Мот» и «Самсон и Далила», итальянских цветных кинозрелищах о супергерое Мачисте, в неисчислимых японских научно-фантастических фильмах («Родан», «Мистериане», «Водородный человек»), которые из-за относительной непретенциозности и вульгарности более чрезмерны и безответственны в своей фантазии – и, следовательно, вполне трогательны и приятны. 30.Конечно,канонкэмпаможетменяться.Время–большойспециалиствтакихделах. Время может повысить ценность того, что кажется нам просто нудным и лишенным фантазиитеперь,когдамынаходимсяслишкомблизко,–кажетсянамслишкомпохожимна наши ежедневные фантазии, фантастическую природу которых мы не ощущаем. Мы куда лучшеспособнывосхищатьсяфантазиями,когдаонинамуженепринадлежат. 31.Этообъясняет,почемустольмногоеизвыделяемогокэмповскимвкусомстаромодно, устарело,сталоdemodé. Это вовсе не любовь к старине и тому подобное. Дело в том, что процесс старения или упадка предполагает необходимое отдаление – или пробуждение некоторой симпатии. Когда тема важна и современна, неудача в подобном произведении искусства заставляет нас негодовать. Время может изменить это. Время освобождает произведениеискусстваоттребованийморальнойпользы,передаваяеговосприимчивости кэмпа… Другой аспект: время перекраивает границы банальности (банальность, грубо говоря, всегда категория современности). Что могло показаться банальным, с течением временистановитсяфантастичным.Многиелюди,ввосхищениислушающиевоскрешенный английскойпоп-группой«Темпераментнаясемерка»стильРудиВалли,моглибыполезтьна стенкуотРудиВалливпоруегорасцвета. Такимобразом,что-тостановитсякэмпомнепотому,чтостареет,апотому,чтомысами оказываемся в него уже не столь вовлечены и можем радоваться, а не огорчаться, неудаче предпринятой попытки. Однако эффект времени непредсказуем. Может быть, «метод» актерскойигры,используемыйДжеймсомДином,РодомСтайгером,УорреномБитти,будет выглядеть когда-нибудь таким же кэмпом, как Руби Килер сегодня или как Сара Бернар в фильмах,которыеонасоздавалавконцесвоейкарьеры.Аможетбыть,инет. 32.Кэмп–этопрославление«персонажа».Заявленияневажны–исключая,разумеется, характеризующие автора (Лой Фуллер, Гауди, Сесиль Б. Де Милль, Кривелли, де Голль и т. д.) Что ценит глаз кэмпа, так это целостность, силу личности. В каждом движении постаревшейМартыГрэмзвучит,чтоона–МартаГрэмит.д.ит.п.Этоещеяснеевслучае великих идолов кэмпа, таких как Грета Гарбо. Несовершенство (или, по крайней мере, отсутствиеглубины)Гарбокакактрисыискупаетсяеекрасотой.ОнавсегдаГретаГарбо. 33.Кэмповскийвкусотзываетсяна«вспышкусамовольства»(что,конечно,оченьвстиле XVIII века); напротив, развитие персонажа оставляет его равнодушным. Персонаж понимается как состояние безостановочного пылания – личность, представляющая одну себя, и притом очень напористо. Такое отношение к персонажу – ключ к непременной театрализации переживания, неотъемлемой от кэмповского мировосприятия. И оно же помогает объяснить, почему опера и балет воспринимаются как сущий кладезь кэмпа: ни одна из этих форм не может без натуги воздать должное всей сложности человеческой природы. Там, где есть развитие характера, кэмп отступает. Среди опер, например, «Травиата» (в которой намечено такое развитие) является кэмпом в гораздо меньшей степени,чем«Трубадур»(гденичегоподобногоненаблюдается). «Жизньслишкомсерьезнаявещьчтобыговоритьонейсерьезно». «Вера,илиНигилисты» 34.Вкускэмпаупраздняетразделениепоосихороший–плохойобычногоэстетического суждения. Но ничего не переворачивает. Он не считает, будто плохое – это хорошее или хорошее–плохое.Чтоонделает,такэтопредлагаетдляискусства(атакжеижизни)некий иной–дополнительный–наборстандартов. 35. Обычно мы расцениваем произведение искусства в зависимости от того, насколько серьезноиблагородното,чегоонодостигает.Мыценимегозаудачновыполненнуюзадачу – за способность быть тем, чем оно является, если оно, как мы полагаем, реализует те намерения, которые лежат в его основе. Мы предполагаем некую правильную, так сказать прямолинейную,связьмеждунамерениемирезультатом.Наоснованииэтихстандартовмы ценим«Илиаду»,пьесыАристофана,баховское«Искусствофуги»,«Миддлмарч»,живопись Рембрандта, Шартрский собор, поэзию Донна, «Божественную комедию», квартеты Бетховена, а среди людей – Сократа, Христа, Св. Франциска, Наполеона, Савонаролу. Короче,пантеонвысокойкультуры:истина,красотаисерьезность. 36. Однако существуют другие разновидности мировосприятия помимо трагической и комическойсерьезностивысокойкультурыивысокогостилясамихоценивающих.Ичтить толькостильвысокойкультуры,оставляявседругиедействияиличувствавстороне,значит обманутьсебякакчеловеческоесущество. Например, существует серьезность, чьей меткой является мучение, жестокость, помешательство. Здесь нам уже придется разделить намерение и результат. Я говорю, разумеется,какостилеличногомироощущения,такиостилевискусстве;однакопримеры лучшебратьизпоследнего.ПодумаемоБосхе,Саде,Рембо,Жарри,Кафке,Арто,подумаем о большинстве крупнейших произведений искусства XX века, чьей целью является не создание гармонии, а непомерное напряжение и ввод все более сильнодействующих, неразрешимых тем. Это мировосприятие настаивает также на том, что произведения в старом смысле этого слова (опять-таки в искусстве, но также и в жизни) невозможны. Возможнытолько«фрагменты»…Разумеется,здесьоказываютсяприменимысовсемдругие стандарты,чемвтрадиционнойвысокойкультуре.Что-тостановится«хорошим»непотому, что это некое достижение, а потому, что другой истины о человеческой жизни, об ощущении того, что значит быть человеком – короче, другого обоснованного мировосприятия–обнаружитьнеудается. И третьим среди великих творческих мировосприятий является кэмп: чувство обанкротившейся серьезности, тяга к театрализации опыта. Кэмп отказывается как от гармонии традиционной серьезности, так и от риска полной идентификации с крайними состояниямичувств. 37. Первое мировосприятие, связанное с высокой культурой, в основе своей моралистично. Второе, требующее крайних состояний и представленное в современном искусстве авангардом, достигает эффекта за счет многократно усиленного напряжения междуморальнойиэстетическойстрастью.Третья,кэмп,полностьюэстетична. 38. Кэмп – это последовательно эстетическое мировосприятие. Он воплощает победу «стиля»над«содержанием»,эстетикинад«моралью»,ирониинадтрагедией. 39.Кэмпитрагедия–антитезы.Вкэмпечувствуетсясерьезность(серьезностьвуровне вовлеченности художника), а часто и пафос. Страдание также является одной из тональностей кэмпа; высокая степень мучительности во многих вещах Генри Джеймса (например, «Европейцы», «Неуклюжий возраст», «Крылья голубки») ответственна за наличие большого элемента кэмпа в его произведениях. Но там никогда, никогда нет трагедии. 40.Стиль–этовсе.МыслиЖене,например,этосамыйнастоящийкэмп.Утверждение Жене, что «единственный критерий действия – это его элегантность»[42], фактически полностьюсовпадаетсуайльдовским:«Чтодоподлинногоуспеха,тоегожизнеспособный элемент не искренность, а стиль». Но что в конце концов принимается в расчет, так это стиль, вмещающий в себя идеи. Скажем, идеи о морали и политике в «Веере леди Уиндермир» и в «Майоре Барбара» – это кэмп, но не из-за идей как таковых. Это идеи, представленныеособым,игровымспособом.Идеикэмпав«Богоматерицветов»изложены слишком жестко, и авторское письмо само по себе слишком совершенно, возвышенно и серьезно,чтобыкнигиЖенесделалисьнастоящимкэмпом. 41. Один из главных моментов кэмпа – развенчание серьезности. Кэмп игрив, антисерьезен. Точнее, кэмп подключает к «серьезности» новые, более сложные, связи. Он можетбытьсерьезенвофривольностиифриволенвсерьезности. 42. Кэмп начинает вдохновлять, когда осознаешь, что «искренность» сама по себе недостаточна.Искренностьможетбытьпростообывательством,интеллектуальнойузостью. 43. Традиционные способы для преодоления прямолинейной серьезности – ирония, сатира – выглядят сегодня слабовато, перестают соответствовать культурно насыщенной среде, в которой современное мировосприятие вызревает. Кэмп вводит новый стандарт: искусственностькакидеал,театральность. 44.Кэмппредполагаеткомическийвзгляднамир.Ноэтонегорькаяилиполемическая комедия.Еслитрагедия–этопереживаниесверхвовлеченности,токомедия–переживание недововлеченности,отстраненности. «Яобожаюпростыеудовольствия.Они–последнееприбежищесложныхнатур». «Женщина,нестоящаявнимания» 45. Отстраненность – прерогатива элиты; и насколько денди XIX века был суррогатом аристократа в сфере культуры, настолько кэмп является современным дендизмом. Кэмп – эторешениепроблемы:какбытьдендиввекмассовойкультуры. 46. Денди был сверхэлитарен. Его поза выражала презрение, даже скуку. Он был занят поисками редких сенсаций, не испорченных массовыми восторгами (модели: Дезэссент в «Наоборот» Гюисманса, «Марий-эпикуреец», «Господин Тест» Валери). Он целиком посвящалсебя«хорошемувкусу». Знаток кэмпа находит более искусные наслаждения. Не в латинских стихах и редких винах да бархатных куртках, но в грубейшем, распространеннейшем наслаждении, в искусстведлямасс.Явноеиспользованиенезапачкалопредметегонаслаждения,таккакон научилсяобладатьимнасвойособыйманер.Кэмп–дендизмввекмассовойкультуры–не различает вещей уникальных и вещей, поставленных на поток. Кэмп преодолевает отвращениеккопиям. 47.СампосебеУайльдбылпереходнойфигурой.Человек,которыйвпервыепоявилсяв Лондоне одетым в бархатный берет, кружевную рубашку, вельветовые бриджи и черные шелковые чулки, никогда не сможет отклониться в своей жизни слишком далеко от удовольствийдендибылыхвремен;этотконсерватизмотраженв«ПортретеДорианаГрея». Номногоевуайльдовскойпозициипредполагаетнечтоболеесовременное.Яимеюввиду Уайльда, который сформулировал важнейший элемент кэмповского мировосприятия, равенство всех предметов, когда он объявлял о намерении «оживить» свой бело-голубой фарфор или утверждал, что дверной порог может быть столь же восхитителен, сколь и картина. Когда он провозглашает важность галстука, бутоньерки или кресла, Уайльд предвидитдемократическийнастройкэмпа. 48. Денди былых времен ненавидел вульгарность. Денди последнего призыва, поклонникикэмпа,вульгарностьценят.Гдевкусдендипостояннобылбыоскорблен,асам он заскучал бы, ценитель кэмпа пребывает в постоянном восторге. Денди носил надушенный платок как галстук и был подвержен обморокам; ценитель кэмпа вдыхает зловониеигордитсясвоимикрепкиминервами. 49. Конечно, это трюк. Трюк, подстегиваемый, при ближайшем рассмотрении, угрозой пресыщения. Эту связь между пресыщением и кэмповским вкусом трудно переоценить. Кэмп по своей природе возможен только в обществах изобилия, в обществе или в кругах, способныхпереживатьпсихопатологиюизобилия. «Все, что неестественно в Жизни, представляется естественным Искусству. И это единственноепроявлениеЖизни,котороепредставляетсяИскусствуестественным». «Несколькоправилдлянаставленияпресытившихсяобразованием» 50.Аристократиянаходитсялицомлицускультурой(какисвластью),иисториякэмпа –эточастьисторииснобскоговкуса.Нотаккакникакаяаутентичнаяаристократиявстаром смыслеслованынчеособыхвкусовнеподдерживает,токтоженосительэтоговкуса?Ответ: спонтаннообразовавшийся,самсебяизбравшийкласс,преимущественногомосексуальный, назначающийсебяаристократиейвкуса. 51. Особая связь между кэмповским вкусом и гомосексуальностью должна быть объяснена. Несмотря на то, что в общем случае неверно, будто кэмп является гомосексуальным вкусом, нет сомнения в их сходстве и частичном совпадении. Не все либералы евреи, но евреи демонстрируют определенную приверженность к либерализму и реформам. Так же и не все гомосексуалисты обладают кэмповским вкусом. Но гомосексуалисты, в основном, составляют авангард – и одновременно самую чуткую аудиторию–кэмпа.(Этааналогиявыбрананеслучайно.Евреиигомосексуалистыявляются наиболее выдающимися творческими меньшинствами в современной городской культуре. Тоестьтворческимивсамомчтонинаестьпрямомсмысле:онитворцымировосприятий. Таковыдвеведущиесилысовременногомировосприятия–иудейскаяморальнаясерьезность игомосексуальныйэстетизмиирония.) 52. Причины для расцвета аристократической позы среди гомосексуалистов, повидимому, близки к тем же у евреев. Каждому мировосприятию способствует необходимость некой группы в самообслуживании. Еврейский либерализм есть жест самоузаконения. То же в случае кэмпа, который определенно пропагандирует нечто подобное.Нетнуждыговорить,чтоэтапропаганданаправленапрямовпротивоположную сторону. Евреи возлагали свои надежды интегрироваться в современное общество на развитие морального чувства. Гомосексуалисты добивались интеграции, опираясь на чувство эстетическое. Кэмп – растворитель морализма. Он нейтрализует моральное негодование,поддерживаялегкостьиигру. 53.Темнеменеекэмповскийвкус,хотягомосексуалистыипредставлялиегоавангард,– это нечто большее, чем вкус гомосексуальный. Очевидно, его метафора жизни как театра частично отвечает оправданию и защите определенного положения дел с гомосексуалистами.(Настойчивостькэмпавстремлениинебыть«серьезным»,играть,пока играется, также связано с гомосексуальным желанием удержать молодость.) Однако возникаетчувство,чтоеслибыдажегомосексуалистынеразвиваликэмп,этосделалбыктотодругой.Посколькуаристократическийжестнеможетумеретьдотехпор,покаонсвязан с культурой, хотя и может уцелеть, только если будет все более и более изощренным и изобретательным.Кэмп–это(повторюсь)связьсостилемвтовремя,когдаосвоениестиля кактаковогонаходитсяподбольшимвопросом.(Всовременнуюэпохукаждыйновыйстиль, еслионнеявляетсяоткровенноанархичным,утверждаетсянаправахантистиля.) «Надоиметькаменноесердце,чтобычитатьосмертималюткиНеллбезсмеха». Изразговора 54. Мы не оценили бы кэмп без выдающегося открытия, состоящего в том, что у носителей высокой культуры нет никакой монополии на утонченность. Кэмп утверждает: хороший вкус – это не просто хороший вкус; на самом деле, в плохом вкусе есть свой хороший. (Жене говорит о чем-то похожем в «Богоматери цветов».) Открытие хорошего вкуса в плохом имеет огромный освободительный эффект. Требующий исключительно высокихисерьезныхудовольствийлишаетсебяудовольствия;онраззаразомограничивает себя в том, чем мог бы наслаждаться, и, в конце концов, скажем так, набивает себе непомерную цену. Кэмповый вкус – продолжение того же хорошего вкуса, его суть – безбоязненный и веселый гедонизм. Он возвращает носителю хорошего вкуса радость жизни, тогда как раньше тот постоянно боялся остаться неудовлетворенным. Такая переменаполезнадляпищеварения. 55. Кэмповский вкус – это, помимо всего, еще и некий вид наслаждения, высокой оценки, никак не осуждения. Кэмп великодушен. Он хочет наслаждаться. Он только выглядитзлобнымициничным.(Или,еслионциничен,тоэтонебезжалостный,алегкий цинизм.) Кэмп не утверждает, будто быть серьезным значит иметь дурной вкус; это не насмешканадтем,ктопреуспеваетвсвоейсерьезности.Онучитлишьтому,какпревращать вуспехнекоторыеобжигающиенеудачи. 56.Кэмповскийвкус–эторазновидностьсимпатии,симпатиикчеловеческойприроде. Он скорее любит, чем судит маленькие победы и неуклюжую горячность «персонажа»… Кэмповский вкус самоотождествляется с тем, что несет наслаждение. Люди, которые разделяют это мировосприятие, не смеются над тем, что они называют кэмпом, они наслаждаютсяим.Кэмп–этонежностьчувства. (Здесь можно сравнить кэмп с поп-артом, который – когда он не является попросту кэмпом–представляетизсебянекуюпозицию,связаннуюсним,нодостаточноотличную. Поп-артболееплосокиболеесух,болеесерьезен,болееотделен,предельнонигилистичен.) 57.Кэмповскийвкуспитаетсялюбовью,которуюизлучаютнекоторыепредметыистили поведения.Отсутствиетакойлюбвииестьпричина,покоторой«ПейтонПлейс»(книга)и ТишманБилдинг–этонекэмп. 58. Предельное выражение кэмпа: это хорошо, потому что это ужасно… Конечно, не всегда можно сказать так. А только при определенных условиях, которые я и попыталась обрисоватьвэтихзаметках. [1964] Пер.СергеяКузнецова Единаякультураиновоемировосприятие За последние несколько лет было немало споров о предполагаемой пропасти, которая примерно два столетия назад, с началом промышленной революции, разверзлась между двумя культурами – литературно-художественной и научной. Если верить подобному диагнозу,каждыйразумный,отдающийсебеотчетчеловекживетводнойизэтихкультури отрезан от другой. Его будут интересовать другие документы, другие технологии, другие проблемы;онбудетговоритьнадругомязыке.Но,чтоещеважнее,мастерскоевладениетой либо иной культурой потребует от индивида абсолютно разных усилий. Литературнохудожественнуюкультурупонимаютприэтомкаквсеобщую.Онаадресуетсячеловекувтой мере, в какой он человек. Это культура или, точнее, стимул к культуре, как ее понимал Ортега-и-Гассет: то, чем владеет человек, позабывший все прочитанные книги. Культура научная – это, напротив, культура для специалистов; она держится памятью и требует целиком посвятить себя усилиям понимания. Литературно-художественная культура стремится к внутреннему усвоению, поглощению, иначе говоря, самосовершенствованию, научная–кнакоплениюивнешнемуосвоениюсложныхинструментовдлярешениязадач, особыхтехнологийоттачиваниямастерства. Хотя Т. С. Элиот возводил упомянутую пропасть между двумя культурами к более отдаленномупериодуновойистории,говорявизвестномэссео«распадемировосприятия», проявившемся уже в семнадцатом веке, проблему стало принято прочно связывать с промышленной революцией. Многие литераторы и художники испытывали историческую антипатию к переменам, характеризующим современное общество. Прежде всего, к индустриализацииитемеепоследствиям,которыеиспытывалнасебекаждый:разрастанию гигантскихбезликихгородовигосподствуанонимногоукладагородскойжизни.Иневажно, рассматриваласьлииндустриализация,порождениесовременной«науки»,пообразуXIX– начала XX столетия как шумный и дымный искусственный процесс, уничтожающий природу и стандартизирующий культуру, или, по более новому образцу, как вторжение стерильной автоматизированной технологии во второй половине века двадцатого. Оценка оставалась прежней. Люди литературы, ощущая вызов самому положению человека со стороныновойнаукииновойтехнологии,ненавиделииосуждалиперемены.Однакотакие люди литературы, как Эмерсон, Торо и Рёскин в XIX веке, или интеллектуалы XX века, говорившие о современном обществе как о чем-то по-новому непостижимом, «отчужденном», неминуемо оказывались в оборонительной позиции. Они понимали: научнуюкультуру,приходэрымашиннеостановить. Обычным ответом на проблему «двух культур» – на много десятилетий опередившим грубоватое, обывательское решение, несколько лет назад предложенное в известной публичнойлекцииЧ.П.Сноу,–сталалибослабаязащитаважностиискусства(втерминах еще более расплывчатой идеологии «гуманизма»), либо заблаговременный отказ от нее в пользу науки. В этом втором случае я не имею в виду обывательский взгляд ученых (и их единомышленников из числа художников и философов), которые отвергают искусство как нечто неопределенное, ложное, в лучшем случае – простую забаву. Я говорю о серьезных сомнениях тех, кто со всей страстью поглощен искусством. Под вопрос снова и снова ставится роль отдельного художника, занятого созданием уникальных предметов, предназначенных приносить наслаждение, воспитывать сознание и восприимчивость. Некоторые литераторы и художники заходят при этом так далеко, что пророчат окончательнуюгибельтворческойдеятельностичеловека.Вобществе,автоматизированном попоследнемусловунауки,искусствотеряетроль,становитсябесполезным. Однако такой вывод, я бы сказала, абсолютно не обоснован. Здесь, по-моему, неверно сформулированасамасутьпроблемы.Вопросо«двухкультурах»предполагает,чтонаукаи техника меняются, находятся в движении, тогда как искусство пребывает неизменным, исполняя некую вечную, родовую для человечества роль (утешение? воспитание? развлечение?). Только приняв эту ложную посылку, можно утверждать, будто искусству грозитустарелость. Да,вискусственетпрогрессавтомсмысле,вкакомегознаютнаукаитехнология.Но искусство тоже движется и меняется. К примеру, именно в наше время искусство во все большей мере становится уделом специалистов. Самое интересное и изобретательное в искусстве нашего времени не понятно тем, кто получил общее образование: оно требует специальных усилий и говорит особым языком. Музыка Милтона Бэббитта и Мортона Фельдмана,живописьМаркаРоткоиФрэнкаСтеллы,танецМерсаКаннингемаиДжеймса Уэринга требуют такого воспитания восприимчивости, трудности и протяженность обучения которой по меньшей мере сопоставимы с трудностями овладения нынешней физикой или инженерными специальностями. (Из всех искусств разве что роман, по крайней мере в Америке, не создал образцов такого уровня сложности.) Параллель между изощренностьюсовременногоискусстваисовременнойнаукислишкомочевидна,чтобыее не замечать. Еще одна черта, близкая к научной культуре, это сосредоточенность современного искусства на своей истории. Самые интересные вещи в современном искусстве полны отсылок к истории данного средства сообщения; комментируя прежнее искусство, они требуют знания по меньшей мере недавнего прошлого. Как не раз подчеркивал Гарольд Розенберг, современная живопись – не только творчество, но и критика. То же самое можно сказать по большей части о новейшем кино, музыке, танце, поэзиии(вЕвропе)прозы.Здесьтакжеможновидетьблизостькскладунаучногопознания, наэтотраз–ккумулятивнойстороненауки. Конфликт «двух культур» на самом деле всего лишь иллюзия, временное явление, порожденноепериодомглубокихиошеломляющихисторическихперемен.Мы–свидетели не столько конфликта двух этих культур, сколько возникновения нового (возможно, единого) мировосприятия. Это новое восприятие коренится, как и должно быть, в нашем опыте, опыте, который нов для человека: в высочайшей социальной и физической мобильности, в переполненности публичного пространства (как людьми, так и материальными благами, умножающимися с головокружительной быстротой), в общедоступности новых ощущений – таких как скорость (физическая скорость в самолете, скорость смены образов в кино), и в пан-культурном взгляде на искусство, произведения котороговоспроизводятсясегоднямассовымтиражом. Мыимеемделонесустареваниемискусства,астрансформациейегороли.Возникшеев человеческомобществекакдеятельностьмагическаяирелигиозная,апотомпревратившись в технику изображения и толкования мирской реальности, в наше время искусство присвоило себе новую роль. Она не относится к религии как таковой, не исполняет роль обмирщенной религии, но и не сводится к чему-то попросту светскому или мирскому (понятия, теряющие смысл, как только выходят из употребления их противоположности – «религиозное» или «священное»). Искусство сегодня это новый вид инструмента – инструмента,изменяющего сознаниеиформирующегоновые типы мировосприятия.Резко расширилисьивидыхудожественнойпрактики.Всоответствиисэтойновойролью(скорее ощутимой, чем сформулированной четко), художники стали развивать в себе эстетическое самосознание: они постоянно ставят под вопрос собственные средства, свои материалы и методы. На завоевании и использовании новых материалов и методов, заимствованных из мира«не-искусства»–скажем,изпроизводственныхтехнологий,коммерческихпрактики представлений,абсолютночастных,субъективныхфантазийиснов,–зачастую,кажется,и сосредоточены основные усилия многих сегодняшних художников. Художники больше не чувствуют, что ограничены холстом и красками – они используют волосы, фотографии, воск,песок,велосипедныешины,собственныезубныещеткииобувныестельки.Музыканты не ограничиваются звучанием традиционных инструментов, а подвергают их специальной подготовке и обращаются (обычно пользуясь магнитофоном) к синтезированным звукам и производственнымшумам. Тем самым под вопросом оказываются все условно признанные границы: не только между «научной» и «литературно-художественной» культурой или «искусством» и «НСискусством», но и многие устоявшиеся различия внутри самого мира искусства – между формойисодержанием,легкомысленнымисерьезным,атакже(противопоставление,столь любимоелитераторами)между«высокой»и«низкой»культурой. Различение«высокой»и«низкой»культуры(онаже«массовая»,онаже«популярная») отчастиосновываетсянаоценкенесходствмеждууникальнымимассовотиражированным предметом. В эпоху массового технизированного производства произведение серьезного художника обладало особой ценностью просто потому, что оно было уникальным и несло его личную, индивидуальную подпись. Изделия популярной культуры (под эту категорию долгое время подпадали даже фильмы) рассматривались как малоценные, поскольку они фабриковались машинным способом и не несли индивидуального отпечатка, – этакая коллективная стряпня для недифференцированной публики. Но для нынешней художественнойпрактикитакоеразличениенегодится.Многиесерьезныехудожественные произведения последних десятилетий явно не несут в себе ничего личного. Произведение искусства заново утверждает себя как «вещь» (и даже как вещь, по образцу популярных искусств промышленно сфабрикованная и в массовом порядке изготовленная), а не как «индивидуальноевыражениеличности». Работа с безличным (или надличным) в современном искусстве – это новая разновидностьклассицизма;покрайнеймерепротестпротивтого,чтопонималосьпрежде как романтический дух, с очевидностью преобладает в сколько-нибудь интересном искусственынешнегодня.Нынешнееискусство,сегопредпочтениемхолодности,отказом от всего, что может показаться сентиментальным, его духом точности, ориентацией на «исследование»и«проблемы»,ближекдухунауки,чемискусствавпрежнемсмыслеслова. Часто произведение сегодня – всего лишь его идея, концепт. В архитектуре, как известно, этовещьобычная. Можновспомнить,что художникиэпохи Ренессансанередкооставляли доделыватьчастихолстаподмастерьям,авпериодрасцветаконцертнойформыфинальную каденциюпервойчастидоверялиизобретательностиисвободномувыборусолиста.Однако сегодня, в постромантическую для искусств эпоху, подобные практики имеют иной, более полемическийсмысл.Когдатакиехудожники,какДжозефАльберс,ЭлсуортКеллииЭнди Уорхол,поручаютчастьработы–скажем,самонанесениекрасокнахолст–приятелюили местному садовнику, когда композиторы вроде Штокхаузена, Джона Кейджа и Луиджи Ноноприглашаютисполнителейксоавторству,оставляяимсвободупроизводитьслучайные эффекты, менять порядок в партитуре, импровизировать, – они нарушают основополагающие правила, по которым большинство из нас опознает произведение искусства.Темсамымониговорятнам,какоеискусствосегодняненужно.Илипокрайней меренеобязательно. Главнаяособенностьновогомировосприятиясостоитвтом,чтоеготипичныйобъект– это не литературное произведение и уж точно не роман. Сегодня сложилась внелитературная культура, о чьем существовании, не говоря уж о значении, большинство литераторов даже не подозревают. В эти новые круги входят некоторые художники, скульпторы, архитекторы, проектировщики, кинорежиссеры, люди с телевидения, невропатологи, музыканты, инженеры-электронщики, артисты балета, философы и социологи. (Можно добавить разве что нескольких поэтов и прозаиков.) Ряд основополагающих для этой среды текстов следует искать у Ницше, Витгенштейна, Ч. С. Шеррингтона,БакминстераФуллера,МаршаллаМаклюэна,ДжонаКейджа,АндреБретона, РоланаБарта,КлодаЛеви-Стросса,НорманаО.БраунаиДьёрдяКепеша. Те, кто встревожен разрывом между «двумя культурами» – а к ним относятся практически все литераторы в Англии и Америке – принимают за данность такое представление о культуре, которое само нуждается в решительном пересмотре. Это представление лучше всех выразил, вероятно, Мэтью Арнольд, для которого главным культурнымактомбылосозданиелитературы,понимаемойкаккритикакультуры.Попросту игнорируяполноежизни,захватывающее(такназываемоеавангардное)движениевдругих искусствах и ослепляясь собственным персональным вкладом в увековечение прежнего понятия культуры, литераторы продолжают цепляться за литературу как образец творческогосамоутверждения. Превосходство литературы обеспечивается тяжелым бременем «содержания», будь то репортерская новость или моральный суд. (Отсюда возможность для большинства англоамериканскихкритиковкудачащеиспользоватьлитературныйтексткакпрепаратилидаже аппаратдлясоциальнойикультурнойдиагностики,чемсосредоточиватьсянаособенностях, скажем, данного романа или пьесы как произведений искусства.) Между тем образцовые искусства нашего времени куда меньше отягощены содержанием и гораздо спокойнее относятся к моральному суду – таковы музыка, кино, танец, архитектура, живопись, скульптура.Практикаэтихискусств–авсеони охотноинечинясьодолжаютсясегодняу наукиитехники–иестьместообитанияновойвосприимчивости. Корочеговоря,запроблемой«двухкультур»стоитбезграмотное,устаревшеепонимание нынешней культурной ситуации. Оно возникает из-за того, что большинство пишущих интеллектуалов (и ученых с поверхностным знанием искусства, вроде самого ученогороманистаЧ.П.Сноу)игнорируютновуюкультуруинарождающеесямировосприятие.На самом деле никакого разрыва между наукой и техникой, с одной стороны и искусством с другой не может быть, как не может быть разрыва между искусством и формами социальнойжизни.Произведенияискусства,психологическиеформыиформысоциальные отражают друг друга и меняются вместе друг с другом. Но большинство, конечно же, медленнопримиряетсясэтимипеременами,особенносегодня,когдаизмененияпроисходят сбеспримернойскоростью.МаршаллМаклюэнописывалчеловеческуюисториюкакчереду актов, технологически расширяющих возможности человека, каждый из которых в корне преображает окружающий нас мир и наши способы думать, чувствовать, оценивать. Тенденция, отмечал он, заключается в возвышении прежней среды до художественной формы(такПриродавновомпромышленномокружениисталавместилищемэстетическихи духовныхценностей),«тогдакакновыеусловияжизнисталирассматриватьсякакпорочные и унижающие человека». Как правило, лишь некоторые художники имеют в любую эпоху «возможность и смелость войти в прямое соприкосновение со средой своего времени… Именно поэтому они кажутся “опережающими эпоху”… Люди более скромных способностей предпочитают принимать… ценности прежней среды как унаследованную реальность собственной эпохи. Обычно мы склонны воспринимать новую диковинку (скажем,автоматику)както,чтовполнеможноприладитькстаромуморальномупорядку». Проблема«двух»культурдействительновырастаетдопроблемытольковрамкахтого,что Маклюэн называет старым моральным порядком. Для большинства творческих людей нашего времени (включая считанных по пальцам романистов) это не проблема: большинство этих людей, знают они о том или нет, порвали с пониманием культуры в терминах Мэтью Арнольда, считая подобное понимание исторически и человечески отжившим. Толкующий культуру по Мэтью Арнольду видит в искусстве критику жизни, что означает утверждение определенных моральных, социальных и политических идей. Новое мировосприятие рассматривает искусство как расширение жизни, что означает представление (новых) способов жить. Не нужно понимать это как отрицание всяческой роли моральных оценок. Просто их шкала изменилась, стала менее грубой и, потеряв в прямотевыражения,выигралавточностииподсознательнойсилевоздействия.Потомучто мы есть то, что мы видим (слышим, осязаем, обоняем, чувствуем) в гораздо большей и глубокой степени, чем тот реквизит идей, которыми нам набили головы. Разумеется, поборники кризисного диагноза «двух культур» по-прежнему сосредоточиваются на вопиющемконтрастемеждунепостижимойморальнойнейтральностьюнаукиитехники,с одной стороны, и моральной вовлеченностью, человеческим измерением искусства, с другой. Но дело обстоит – и всегда обстояло – не так просто. Выдающееся в искусстве никогда не бывает просто (и даже по большей части) передатчиком идей и моральных переживаний. Оно преображает наше сознание и чувства, меняет, пусть медленно, состав перегноя, которым питаются все чего-нибудь стоящие идеи и переживания. Пожалуйста, отметьтеэтосебе,господавозмущенныегуманисты.Нетникакихпричиндлябеспокойства. Произведение искусства – по-прежнему значимая часть человеческого сознания, но моральноесознание–лишьоднаизфункцийсознаниякактакового. Впечатления, переживания, абстрактные формы и стили чувств значат ничуть не меньше. И современное искусство обращено к ним. Основной элемент современного искусства–неидея,аисследованиеирасширениеспособностичувствовать.(Дажееслиэто идея,тоонаотноситсякформамчувства.)Рилькеописывалхудожникакактого,ктозанят «расширением областей индивидуального переживания»; Маклюэн называет художников «экспертами по способности чувствовать». Самые интересные вещи в современном искусстве (по крайней мере начиная с поэзии французского символизма) – это приключения в области чувств, новые «смеси переживаний». Такое искусство в принципе экспериментально – не в смысле элитистского презрения ко всему, что доступно большинству, а точно в том смысле, в каком говорят об экспериментальной науке. Кроме того,подобноеискусствозаметносторонитсяполитикиидидактикиили,точнее,прямойи явнойдидактики. Когда Ортега-и-Гассет в начале двадцатых годов писал свое знаменитое эссе «Дегуманизация искусства», он связывал особенности современного искусства (такие как безличность, запрет на патетику, неприятие прошлого, игровое начало, намеренная стилизованность, свобода от моральных и политических обязательств) с духом молодости, который, как ему казалось, возобладал в наше время[43]. Глядя назад, кажется, что «дегуманизация» означает не открытие детской невинности, а, скорее, вполне взрослый, продуманныйответ.Да ичегоеще,крометоскивкупесанестезией,закоторымиследуют ирония и победа разума над чувством, можно было ждать в ответ на социальный разлад и массовые жестокости нашего времени, на столь же важные для мировосприятия, но куда реже отмечаемые небывалые сдвиги, приведшие окружающую среду от понятности и очевидности к тому, что лишь с большим трудом доступно пониманию и невидимо? Искусство,котороеслужитдляменяорудиемизмененияивоспитаниявосприимчивостии сознательности,существуеттеперьвсреде,которуюнесхватитьпростымичувствами. БакминстерФуллерписал: «С Первой мировой войной производство разом перешло от видимых основ к невидимым, от следов к неуследимому, от проволоки к беспроволочному, от видимых структур к структурам невидимым, многосоставным. Самое важное в Первой мировой то, что человечество вышло за пределы спектра чувств, которые прежде служили главным критерием, обосновывающим новации… Важнейшие успехи после Первой мировой войны были связаны с инфра– и ультрасенсорными частотами электромагнитного спектра. Все крупнейшие технические находки сегодня невидимы… Прежние мастера, опиравшиеся на чувства, открыли ящик Пандоры с его феноменами, недоступными для контроля чувств, феноменами, которых они до того времени избегали… Они разом потеряли свое превосходство, поскольку уже сами не понимали, что происходит. А если нет понимания, нетипревосходства…ПослеПервоймировойпрежниемастераустарели…» Но, конечно же, искусство постоянно связано с чувствами. Как никто не может подвесить краски в пустоте (художнику нужна какая-то поверхность, что-то вроде холста, пусть даже без цвета и текстуры), никто не может создать произведение искусства, не посягающееначеловеческиеорганычувств.Новажнопонимать,чтоаппаратчеловеческих чувств–этонетолькобиология,ноиособаяистория:каждаякультураподчеркиваетодни чувства и приглушает другие. (То же относится к области первичных эмоций.) Вот что фиксирует сейчас искусство (и не оно одно) и вот почему все наиболее интересное в искусстве нашего времени так остро переживает тоску и упадок, каким бы забавным, абстрактным или морально безразличным на вид оно ни казалось. Можно сказать, что западный человек, по крайней мере со времен промышленной революции, прошел через массированную анестезию чувств (сопровождавшую процесс, который Макс Вебер назвал «бюрократическойрационализацией»).Современноеискусствовыступалоприэтомсвоего родашоковойтерапией,возмущаяивместестемобновляянашичувства. Одно из важнейших последствий нового мировосприятия (порвавшего с пониманием культуры по Мэтью Арнольду) уже упоминалось – речь о том, что различия между «высокой»и«низкой»культурамиоказываютсявсеменеезначимыми.Подобноеразличие– неотъемлемое от инструментария Мэтью Арнольда – попросту бессмысленно для творческогосообществахудожниковиученых,включенныхвпрограммированиечувствине интересующихся искусством как разновидностью поучающей журналистики. Впрочем, искусствокнейникогданесводилось. Еще одна характерная черта нынешней культурной ситуации в ее наиболее творческих областях – новое отношение к удовольствию. С одной стороны, новое искусство и новое мировосприятие достаточно скептически смотрят на удовольствие. (Выдающийся современный французский композитор Пьер Булез дюжину лет назад озаглавил свое программное эссе «Против гедонизма в музыке».) Современное искусство серьезно и потому сторонится удовольствия в его расхожем понимании – удовольствия от мелодии, которуюможномурлыкать,выходяизконцертногозала,отхарактероввроманеилипьесе, которые можно узнавать, примерять к себе и толковать в терминах реальных психологических мотивировок, от красивого ландшафта или драматического момента, представленногонахолсте.Еслигедонизмозначаетподдержкупрежнихспособовискатьв искусствеудовольствие(прежнейманерычувствоватьипереживать),тогдановоеискусство антигедонистично.Сменаилинапряжениеоргановчувствпричиняетболь.Новаясерьезная музыка ранит слух, новая живопись не ласкает взгляд, новые фильмы и то немногое, что интересно в новой прозе, не проглотишь без труда. Самый обычный упрек фильмам Антониони,прозеБеккетаилиБерроуза–втом,чтоихтяжелосмотретьиличитать,чтоони «скучные». Но такая оценка – явное лицемерие. Такой вещи, как скука, строго говоря, не существует.Скука–всеголишьдругоеназваниевполнеопределенныхвидовфрустрации.И новые языки, на которых говорит все наиболее интересное в искусстве нашего времени, действительнофрустрируютвосприимчивостьобразованныхслоевобщества. Однаковконечномсчетецельюискусствавсегдаостаетсяудовольствие,наскольконаши чувства в состоянии воспринять те формы удовольствия, которые искусство данного временивсостояниипредложить.Вместестемстоитдобавить,что,уравновешиваяявный антигедонизм современного серьезного искусства, современное мировосприятие оказываетсяпривязаннымсильнее,чемкогдабытонибылоикудовольствиямврасхожем смыслеслова.Новоемировосприятиеменьшетребуетотискусств«содержания»,затоболее открыто к удовольствию от «формы» и стиля, к тому же в нем меньше снобизма и морализаторства, почему оно и не требует, чтобы удовольствие от искусства было непременносвязаноспоучительностью.Есливидетьвискусствеформувоспитаниячувств и программирования ощущений, тогда чувства (или ощущения), вызываемые живописью Раушенберга,будутвомногомпохожинате,чторождаютпеснигруппыTheSupremes.Блеск и элегантность фильма Бадда Беттикера «Взлет и падение Легса Даймонда» или исполнительский стиль Дионы Уорик можно с удовольствием оценить как полноценное событие.Ипереживатьихбезснисходительности. Последнееяхочуособенноподчеркнуть.Важнопонять,чтосимпатиямногихмолодых художниковиинтеллектуаловкпопулярномуискусству–этоненовоеобывательство(как его нередко оценивают), подновленная разновидность антиинтеллектуализма или некий отказоткультуры.Тотфакт,чтомногиеизнаиболеесерьезныхамериканскиххудожников, к примеру, любят «новое звучание» популярной музыки, не свидетельствует о простом поиске развлечений или желании расслабиться, – это, скажем так, не то же самое, что теннис для Шёнберга. Это свидетельство нового, более открытого взгляда на мир и его подробности, на наш общий мир. Он вовсе не означает отречения вообще от любых стандартов: существует масса тупейшей популярной музыки, так же как низкопробной и претенциозной «авангардной» живописи, музыки или кино. Речь о том, что это новые стандарты, новые стандарты красоты, стиля, вкуса. Новое мировосприятие подчеркнуто плюралистично, оно открыто для мучительной серьезности и для забавы, шутки, ностальгии. Оно в высшей степени внимательно к истории; ее неутолимый энтузиазм (во множестве и взаимопереплетенности его проявлений) стремителен и лихорадочен. Оно исходит из того, что красота автомобиля, решения математической задачи, картины ДжаспераДжонса,фильмаЖан-ЛюкаГодара,личностейимузыки«Битлз»вравноймере доступнывсем. [1965] Пер.БорисаДубина Послесловие:тридцатьлетспустя Оглядываться на то, что написала тридцать и больше лет назад, – занятие не слишком плодотворное. Энергия писателя понукает меня смотреть вперед, чувствовать себя начинающей, на самом деле начинающей только сейчас, поэтому мне трудно обуздывать нетерпениетойначинающей,какойябуквальнобылатогда. «Против интерпретации», моя вторая книга, появилась в 1966-м, но некоторые из вошедшихвнееэсседатируются1961годом,когдаяещеписала«Благодетеля».Яприехала вНью-Йорквначалешестидесятых,чтобытрудитьсякакписатель,которымпокляласьстать ещевюности.Моепредставлениеописателе:тот,ктоинтересуется«всем».Уменявсегда быломножествоинтересов,и,естественно,японималаписательскоепризваниеименнотак. Резонно предположить, что подобную горячность лучше оценят в большом городе, чем в любой разновидности провинциальной жизни, включая замечательные университеты, которыеяпреждепосещала.Меняждалаединственнаянеожиданность:такихлюдей,какя, большенеоказалось. Я знаю, что в книге «Против интерпретации» видели типичный текст теперь уже мифическойэпохи,известнойкак«шестидесятые».Уменяэтотярлыквызываетнеприятие: янеразделяювсеобщуюуверенностьвтом,чточеловеческуюжизнь,жизньтогоилииного времени можно расфасовать на десятилетия. Не было тогда никаких «шестидесятых». Для меня это было прежде всего время, когда я писала два моих первых романа и начала избавляться от того груза соображений об искусстве, культуре и задаче самопонимания, которыеотрывалиотработынадроманами.Меняобуревалевангелизаторскийпыл. Решительная перемена в моей жизни, перемена, неотрывная от переезда в Нью-Йорк, состояла в том, что я вовсе не собиралась быть академическим ученым: я думала разбить палатку в стороне от соблазнительных каменных цитаделей университетского мира. Конечно,новыевозможностиужевиталиввоздухе,астарыеиерархиибылиготовырухнуть, нонемогу сказать,чтояэтоосознавала,покрайнеймере–дотоговремени(1961–1965), как эти эссе были написаны. Свободы, которые я отстаивала, страсть, которую исповедовала,казалисьмне–икажутсяпосейдень–достаточнотрадиционными.Явидела себя новобранцем в очень старой битве против обывательства, против этического и эстетическоговерхоглядстваибезразличия.Иникогданемоглабыпредположить,чтоНьюЙорк, куда я переехала после долгих лет университетской учебы (в Беркли, Чикаго, Гарварде),иПариж,кудаясталаприезжатькаждоелето,чтобыцелымиднямипросиживать в Синематеке, испытывают первые родовые схватки того периода, который потом оценят как необычайно продуктивный. И Нью-Йорк, и Париж оказались такими, какими они, по моим представлениям, и должны были быть – полными открытий, вдохновения, чувства новых возможностей. Самоотверженность, отвага, бескорыстие художников, чья работа была для меня важна, казались мне сами собой разумеющимися. Я считала вполне нормальным, что каждый месяц появляются новые замечательные вещи – прежде всего, в кино и балете, но и на периферии театрального мира, в галереях и импровизированных художественныхпространствах,втом,чтописалинекоторыепоэтыидругие,нетаклегко поддающиесяклассификацииавторыпрозы.Неисключаю,чтояочутиласьнагребневолны. Казалось, я парю, обозревая панораму и время от времени пикируя, чтобы разглядеть происходящеепоближе. Я восхищалась то тем, то этим: поводов для восхищения хватало. Я осматривалась и видела важность того, чему никто вокруг не отдавал должного. Возможно, я была лучше приспособлена к тому, чтобы видеть то, что видела, и понимать то, что понимала, в силу моей оторванности от жизни, любви к Европе, энергии, которую вкладывала в поиск эстетического наслаждения. И все же меня на первых порах удивляло, что кто-то находил мной сказанное «новым» (для меня оно таким уж новым не было), что меня видели в авангарде нового мировосприятия и, после появления самых первых эссе, считали законодательницей вкусов. Конечно, меня подбадривало ощущение, что я, по-видимому, первой увидела те предметы, о которых писала; порой я не могла поверить собственному счастью: они как будто ждали именно моего описания. («Как странно, – думала я, – что Оден не написал чего-то вроде моих “Заметок о кэмпе”».) Мне казалось, что я попросту переношу на некий новый материал ту эстетскую точку зрения, которую, изучая в юности философию и литературу, почерпнула у Ницше, Патера, Уайльда, Ортеги (Ортеги времен «Дегуманизацииискусства»)иДжеймсаДжойса. Я была задиристым эстетом и абсолютно кабинетным моралистом. Я не собиралась писатьстолькоманифестов,нонеистребимоепристрастиекафористичнымвысказываниям соединялось с их упорно противоречившими друг другу предметами так, что это иногда ставило меня в тупик. В страницах, составивших книгу «Против интерпретации», мне большевсегонравитсяупорство,краткость(думаю,ямоглабысказатьздесь,чтоисегодня разделяю большинство тогдашних позиций), а также некоторые суждения о психологии и морали в эссе о Симоне Вейль, Камю, Павезе и Мишеле Лейрисе. А больше всего не нравятсятепассажи,гденапутипрозывстаетпедагогическийпорыв.Охужэтисписки,эти советы!Неисключаю,чтоониполезны,носегодняонинаводятнаменятоску. Я оспаривала иерархии (высокое/ низкое) и антитезы (форма/ содержание, разум/ чувство), которые мешали пониманию того, что меня восхищало. У меня не было программнойприверженности«современному»,новстатьнасторонуновогопроизведения, особенно пренебрегнутого, незамеченного или истолкованного неверно, казалось мне полезней, чем защищать испытанных фаворитов. Рассказывая о своих открытиях, я не отрицала превосходство канонических сокровищ прошлого. Нарушения норм, которые я приветствовала, казались мне абсолютно благотворными, нисколько не умаляющим силы прежних запретов. Современные вещи, вызывавшие мое одобрение (и служившие платформойдляновогозапускасоображенийотворчествеисамосознании),неуменьшали величие того, чем я восхищалась раньше. Наслаждаясь дерзкой энергией и остроумием представлений, именуемых хеппенингами, я не забывала об Аристотеле и Шекспире. Я выступала–ивыступаю–замногообразную,разносоставнуюкультуру.Значитлиэто,что никакой иерархии нет? Отчего же, есть. Если бы я должна была выбирать между Достоевскимигруппой«Дорз»,ябывыбралаДостоевского.Нодолжналиявыбирать? Самым большим откровением для меня стало кино, особенно фильмы Годара и Брессона.Яписалаокинобольше,чемолитературе,непотому,чтолюблюфильмыбольше романов,апотому,чтолюблюновыефильмыбольшеновыхроманов.Мнебылосовершенно ясно,чтоникакимдругимискусствомнезанималисьтакшироконатакомвысокомуровне. Наибольшим счастьем тех лет, когда писались эссе, собранные потом в книгу «Против интерпретации»,былото,чтониднятогданепроходилодляменябезфильма,атоидвухтрех. По большей части, они были «старыми». Погруженность в историю кино только усиливаламоюпризнательностьнесколькимновымлентам,которые(вместеслюбимцами из эпохи немого кино и фильмов тридцатых годов) я пересматривала снова и снова, так опьяняла меня свобода и изобретательность их повествовательной манеры, их чувственная сила,серьезностьикрасота. Вгоды,когдаяписалаэтиэссе,образцомискусствабылокино,нопоразительныевещи происходили и в других искусствах. Свежий ветер дул отовсюду. Художники снова стали дерзкими,какпослеПервоймировойвойныидоподъемафашизма.Идеямодернавсееще была жива. (Это потом наступила капитуляция под флагом постмодерна.) Не упоминаю сейчас о политических баталиях времен, когда появлялись последние эссе этой книги: я имеюввидунарождавшеесядвижениепротивамериканскойвойнывоВьетнаме,занявшее немалуючастьмоейжизнис1965годадоначаласемидесятых(которые,какясчитаю,были всетемижешестидесятыми).Дочегозамечательновсеэтовыглядит,когдасмотришьназад. До чего хотелось бы, чтобы хоть часть тогдашней отваги, тогдашнего оптимизма, тогдашнего презрения к торгашеству дожила до нынешнего дня. У современного мироощущения два полюса: утопия и ностальгия. Вероятно, самой замечательной чертой лет,накоторыетеперьналепилиярлыкшестидесятых,былото,какмаломестазанималав нихностальгия.Вэтомсмысле,тогдаивправдубылаутопическаяэпоха. Мира,вкоторомписалисьэтиэссе,большенет. Вместоутопическойэпохимысуществуемтеперьвовремени,котороепереживаетсякак конец – точнее, уже пройденный конец – любых идеалов. (А значит, и конец культуры, посколькунастоящаякультуранемыслимабезальтруизма.)Можетбыть,этолишьиллюзия конца–неболееиллюзорная,чемубеждениетридцатилетнейдавности,будтомынапороге великих позитивных изменений культуры и общества. Но я думаю, что это все-таки не иллюзия. Делонепростовтом,чтоотшестидесятыхотреклись,чтотогдашнийдухинакомыслия отвергнут и стал предметом острейшей ностальгии. Все сильнее победоносные ценности потребительского капитализма подразумевают – больше того, навязывают – смешение культур,дерзостьиправонаудовольствие,которыеяотстаиваласовсемподругимрезонам. Любые рекомендации действуют в определенных рамках. Рекомендации и воодушевления, выраженные в эссе моей книги, стали теперь достоянием многих. Произошло нечто, сделавшее эти маргинальные взгляды более приемлемыми, – то, о чем я не подозревала и что, разумей я лучше мое время, тогдашнее время (присваивайте ему, если угодно, имя десятилетия), сделало бы меня более осторожной. Произошло то, что можно без преувеличения назвать полной трансформацией культуры, тотальной переоценкой ценностей,укотороймногоимен.Воцарившийсяпорядокдопустимоназватьиварварством. Воспользуемся выражением Ницше: мы вступили, по-настоящему вступили в эпоху нигилизма. Поэтому я не могу никому помочь посмотреть на эссе, составившие книгу «Против интерпретации» с известной иронией. Мне по-прежнему нравится большинство из них, а некоторые – скажем, «Заметки о кэмпе» или «О стиле» – особенно. (Единственное, что в сборнике не нравится мне совершенно, это две театральные хроники, краткий результат заказаотлитературногожурнала,скоторымябылатогдасвязана,–увы,ябылавынуждена, вопреки нежеланию, его принять.) Да и кому бы не польстил факт, что сборник его задиристых эссе, написанных больше тридцати лет назад, продолжает занимать новые поколения читающих по-английски и на многих других языках? И все же я советовала бы читателям–возможно,импотребуетсянекотороеусилиевоображения–неупускатьизвиду более широкий контекст того восхищения, которым были продиктованы страницы этой книги. Призыв к «эротике искусства» вовсе не означал для меня умаления критически настроенного интеллекта. Похвала произведению, третировавшемуся в ту пору как «популярная» культура, вовсе не означала тайного заговора против высокой культуры и ее сложности. Когда я (например, в эссе о научной фантастике и о Лукаче) осуждала некоторые разновидности легковесного морализма, то делала это во имя более внимательнойименеесамодовольнойсерьезности.Ятольконепонимала(и,можетбыть, меньше других была способна понять), что сама серьезность выступала тогда одним из первых симптомов утраты доверия к культуре в целом и что некоторые образцы нонконформистского искусства, которыми я наслаждалась, могут подпитывать поверхностный, чисто потребительский нонконформизм. Тридцать лет спустя нормы серьезности едва ли не полностью подорваны, воцарилась культура, наиболее явные и влиятельные ценности которой заимствованы из индустрии развлечений. Сама идея серьезного (и достойного) представляется большинству чудаковатой, «нежизненной», а кому-то–взависимостиоттемперамента–ещеивредной. На мой взгляд, прочтение или перечитывание «Против интерпретации» как влиятельного и новаторского свидетельства об ушедшей эпохе не будет ошибкой. Но я читаю – и, поддаваясь ностальгии по утопии, хотела бы, чтобы эту книгу читали – совсем иначе. Я надеюсь, что ее нынешнее переиздание и привлечение к ней новых читателей внесут свой вклад в донкихотское предприятие по поддержке тех ценностей, исходя из которых писались эти эссе и рецензии. Выраженные в них вкусовые оценки можно опровергнуть.Обосновывающиеихценности–нет. [1996] Пер.БорисаДубина Комментарии ПолТек(ДжорджДжозефТек,1933–1988)–американскийхудожникискульптор,друг Сонтаг, среди их общих друзей были скульптор Ева Хессе и фотограф Питер Худжар; впоследствииСонтагпосвятилапамятиТекасвоюкнигу«СПИДиегометафоры»(1988). Настоящий сборник составили эссе и заметки, написанные Сьюзен Сонтаг в 1962– 1965гг.ипечатавшиесявжурналахPartisanReview,NewYorkReviewofBooks,Commentary, TheNationидр. Противинтерпретации Виллем де Кунинг (1904–1997) – американский живописец нидерландского происхождения,одинизосновоположников«абстрактногоэкспрессионизма». …теория искусства, созданная греческими философами… – проблематику функций искусстваиподражаниявискусствеПлатонразрабатывалвдиалогах«Кратил»и«Софист», вIIIиXкнигах«Государства»,Аристотель–втрактате«Поэтика». «Нетфактов,естьтолькоинтерпретации».–ЭтумысльотносительноморалиНицше формулируетвглаве«“Исправители“человечества»своейкниги«Сумеркиидолов»(1888). Филон Александрийский (ок. 25 до н. э. – ок. 50 н. э.) – иудейский эллинистический философ, заложил основы аллегорического истолкования библейских текстов и образов в духенеоплатонизма. «Трамвай “Желание”» (1951) – фильм американского кинорежиссера Элиа Казана (ЭлиасКазанджоглу,1909–2003)поодноименнойдрамеТеннессиУильямса. «Кровь поэта» (1930), «Орфей» (1949) – фильмы французского писателя, художника и кинорежиссераЖанаКокто,снятыепособственнымсценариям. «Прошлым летом в Мариенбаде» (1961) – фильм французского кинорежиссера Алена РенепосценариюАленаРоб-Грийе. «Молчание»(1963)–фильмшведскогокинорежиссераИнгмараБергмана. Дейвид Уорк Гриффит (1875–1948) – американский кинорежиссер, один из отцовоснователейамериканскогокино. «Стреляйте в пианиста» (1960), «Жюль и Джим» (1961) – фильмы французского кинорежиссера Франсуа Трюффо, которые, вместе с другими здесь перечисленными, обозначиликонтурыновогоевропейскогокино1960-хгг. «Напоследнемдыхании»(1959),«Житьсвоейжизнью»(1962)–фильмыфранцузского кинорежиссераЖан-ЛюкаГодара,эссеСонтаговторомизнихвошловнастоящуюкнигу. «Приключение»(1960)–фильмитальянскогокинорежиссераМикеланджелоАнтониони. «Женихиневеста»(1963)–фильмитальянскогокинорежиссераЭрманноОльми. Джордж Кьюкор (1899–1983), Рауль Уолш (1892–1980), Говард Хоукс (1896–1977) – американские кинорежиссеры, ставшие, среди прочего, ориентирами для французских режиссеров«новойволны». Эрвин Панофский (1892–1968) – немецкий искусствовед, основоположник иконологическойшколывисторииискусств. Нортроп Фрай (1912–1991) – канадский историк и теоретик литературы, в книгах «Анатомия критики» (1957), «Притчи о тождестве» (1963) и др. исследовал мифопоэтическиеструктурыповествовательногоидраматическогоискусства. Пьер Франкастель (1900–1970) – французский историк и социолог изобразительного искусстваНовоговремени,преждевсего–революцииживописногопространства,начинаяс мастеровВозрождения. Эрих Ауэрбах (1892–1957) – немецкий историк словесности, специалист по романской филологии, автор основополагающего труда «Мимесис: Изображение действительности в западноевропейской литературе» (1946), который открывается главой «Рубец на ноге Одиссея». Вальтер Беньямин (1892–1940) – немецкий писатель, литературный и художественный критик,философ-эссеист,вомногомопределившийразвитиемировойгуманитарноймысли второй половины ХХ в. (позже Сонтаг посвятила ему эссе «Под знаком Сатурна», включенноезатемвкнигутогоженазвания).ОчеркБеньямина«Рассказчик.Размышленияо творчествеНиколаяЛескова»былопубликованв1936г. МэнниФарбер(1917–2008) – американский художник и кинокритик, в 1950–1960-х гг. авторпервыхиобразцовыхработоподпольномиэкспериментальномкиноСШАиКанады, фильмах категории «Б», французской «новой волне» и др., позже собранных в книге «Пространствоотрицания»(1971).Средипрочего,отозвалсяинафильмСонтаг«Дуэтдля каннибалов»,показанныйнанью-йоркскомкинофестивалев1969г. ДоротиБендонВанГент(1907–1967)– американский историклитературы,авторкниг обанглийскомромане,творчествеДж.Китсаидр.,написанныхвруслемифокритикиКарла Юнга, Джозефа Кэмпбелла и Джейн Харрисон. Ее статья о Диккенсе опубликована в журнале«Севениревью»в1950г. Рэндалл Джаррелл (1914–1965) – американский поэт и эссеист, его статья «Уолт Уитмен: Смелости ему не занимать» была опубликована в журнале «Кенион ревью» в 1952г.иперепечатананаследующийгодподназванием«НесколькострокУитмена». Робер Брессон (1901–1999) – французский кинорежиссер, его ключевые для европейского кино 1950–1960-х гг. фильмы «Дневник сельского священника» (1950), «Как получится, Бальтазар» (1966), «Мушетта» (1967) и др. отличались сочетанием почти документальной естественности и редкой, причем совершенно несубъективистской, экспрессии.ЭссеСонтагонемсм.внастоящейкниге. Ясудзиро Одзу (1903–1963) – японский кинорежиссер, известен тонкой выразительностью и гармонией фильмов «Токийская история» (1953), «Осенний день» (1962),повлиявшихнамировойкинематограф(ВимВендерсидр.). «Правила игры» (1939) – одна из лучших лент французского кинорежиссера Жана Ренуара. Остиле …рецензии на «Постороннего»… – имеется в виду эссе Сартра «Объяснение “Постороннего”»(1943). «Нулевойуровеньписьма»(или«Нулевойградусписьма»,1953)–эссеРоланаБарта. Россо (Джованни Баттиста де Якопо де Росси, Россо Флорентинец, 1494–1540) – итальянский живописец, с 1531 г. по приглашению короля Франциска I работал во Франции,где,вчастности,оформлялгалереюФранцискаводворцеФонтенбло. ЭкторЖерменГимар(1867–1942)–французскийархитекторидекоратор,близкийкарнуво. Проектировал вестибюли парижского метро, которые не сохранились, до нас дошло толькооформлениевходовнанесколькихстанциях. Луис Комфорт Тиффани (1848–1933) – американский художник и дизайнер, изобретатель особого радужного стекла для окон, ваз и светильников, названного его именем. Джозеф фон Штернберг (1894–1969) – немецкий и американский кинорежиссер, мировуюизвестностьемупринесфильм«Голубойангел»(1930,поромануГенрихаМанна «УчительГнус»),главнуюрольвнемисполнилаМарленДитрих,скоторойШтернбергснял вГолливудеещепятьфильмов. АльбертоДжакометти(1901–1966)–швейцарскийхудожникискульпторитальянского происхождения, преобладающую часть жизни работал в Париже. В 1920–1930-х гг. был близок к сюрреалистам, Мишелю Лейрису и Жоржу Батаю, печатался в журналах «Минотавр»и«Сюрреализмнаслужбереволюции». Карло Кривелли (1430 или 1435–1495) – итальянский живописец венецианской школы, заново открыт в XIX в. Для его работ характерна сложная символика и причудливые, заботливовыписанныедетали. «ЛедиизШанхая»(1947)–«черный»фильмОрсонаУэллса,главныероливнемсыграл самрежиссер-постановщикиеготогдашняяженаРитаХейворт. «Потерянный рай» (1667, в дополненном виде 1674) – библейская поэма Джона Мильтона. Жан Жене (1910–1986) – французский писатель, первую половину жизни – профессиональный вор, автор автобиографических, проникнутых мотивами ресентимента, агрессии и гомоэротизма романов («Богоматерь цветов», 1942; «Чудо розы», 1944) и пьес («Служанки», 1947; «Ширмы», 1961). Среди тех, кто ходатайствовал за Жене перед французской юстицией, был Жан-Поль Сартр, чьей монографии о Жене (1952) Сонтаг посвятиластатью,вошедшуювнастоящуюкнигу. Лени Рифеншталь (1902–2003) – немецкий кинорежиссер и фотограф, во времена нацизма была близка к лидерам Третьего рейха, своими фильмами поддерживала и распространялаихидеологию.ПозднееСонтагпосвятилаееэстетикестатью«Магический фашизм»,вошедшуювкнигу«ПодзнакомСатурна»(1980). Ремон Байе (1898–1960) – французский философ искусства, один из основателей (в 1948г.)журнала«Эстетическоеобозрение». УильямЭрл(1919–1988)–американскийфилософ. Жан Старобинский (р. 1920) – швейцарский историк культуры и словесности, упоминаетсяегоисторико-культурнаямонография1964г. Ремон Радиге (1903–1923) – французский писатель, друг Жана Кокто. Умер от тифа, оставивдваромана–«Дьяволвоплоти»(1923)и«Балуграфад’Оржель»(опубл.1924). ЧарльзВуоринен(р.в1938)–американскийкомпозитор,авторсериальноймузыки. Эд Рейнхардт (1913–1967) – американский художник-авангардист, в 1950-х гг. создал сериюмонохромныхполотен,изкоторыхнаиболееизвестны«черные». Художниккакпримермученика Чезаре Павезе (1908–1950) – итальянский писатель, его самоубийство и посмертная публикациядневников(«Ремесложизни»,1952),которые,например,ЭлиасКанеттисчитал наиважнейшимизвсегоимсозданного,вызваливлитературноммиребольшойрезонанс. ИньяциоСилоне(СекондоТранквилли,1900–1978)–итальянскийпрозаик,известныего повесть«Фонтамара»(1933),роман«Горстьчерники»(1952)идр. ТоммазоЛандольфи(1908–1979)–итальянскийпрозаик,переводчикПушкинаиГоголя, авторэссеорусскойлитературе. Исаак Динесен – псевдоним датской писательницы Карен Бликсен (1885–1962), в Америке хорошо известной, поскольку свои новеллы-притчи с элементами романтической фантастикионаписалавосновномнаанглийскомязыке,азатемпереводилаихнадатский. НесколькоразвыдвигаласькандидатомнаНобелевскуюпремиюполитературе. ДжамбаттистаВико(1668–1744)–итальянскиймыслитель,втруде«Основанияновой наукиобобщейприроденаций»(1725)развилфилософиюистории,повлиявшуюнамногие историософские идеи и художественные представления ХХ в. (Шпенглер, Тойнби, Джойс, Т.С.Элиотидр.). …романасамериканскойкинозвездой…–имеетсяввидумодель,актрисатеатраикино КонстансДоулинг(1920–1969). «ЛюбовникледиЧаттерлей»(1928)–романД.Г.Лоуренса,всвоевремяшокировавший публикуоткровенностьюлюбовныхсцен;стехпорнеразбылэкранизирован. «Любовники», иначе – «Влюбленные» (1958) – дебютный фильм французского кинорежиссера«новойволны»ЛуиМаля. Дени де Ружмон (1906–1985) – швейцарский франкоязычный писатель, литературный критик,философ-эссеист;имеетсяввидуегонаиболееизвестный,неразпереиздававшийся ипереведенныйнамногиеязыкитруд«ЛюбовьиЗападныймир»(1939). Леон Гинзбург (1909–1944) – итальянский филолог-русист и литературный критик, выходец из России, работал в издательстве «Эйнауди»; участник Сопротивления, замучен фашистамивримскойтюрьме(Сонтагошибласьвдатеегогибели). СимонаВейль СимонаВейль(Вайль)(1909–1943)–французскаямыслительница-мистик,радикальнаяи бескомпромиссная социалистка в политике, участница гражданской войны в Испании и антифашистскогоСопротивления,скончаласьвэмиграциивВеликобритании.Еетруды(сб. эссе «Тяжесть и благодать», 1947, «Ожидание Господне», 1966 и др.) опубликованы посмертноприсодействииГабриэляМарселяиАльбераКамю. Все,чтооттолкнулозрелогоГётевюномКлейсте...–Гёте-рецензентувиделвдрамахи новеллахКлейсталишь«душевнуюнескладицу»и«закоренелуюипохондрию». Алкивиад (ок. 450 – ок. 404 до н. э.) – афинский политик и военачальник, его воспитателембылСократ. «Дневники»Камю ЛайонелЭйбл(1910–2001) – американский драматург, театральный критик и теоретик; ввелтермин«метатеатр»(1963)–см.обэтомнижевэссе«Смертьтрагедии». ЭнтониХартли(1925–2000)–американскийписательилитературныйкритик. Ремон (Раймон) Арон (1905–1983) – французский философ и социолог, в молодости принадлежалклевым,впоследствииантикоммунист. «Поразрелости»МишеляЛейриса Мишель Лейрис (1901–1990) – французский писатель, в 1920–1930-х гг. близок к сюрреализму, в конце 1930-х вместе с Жоржем Батаем и Роже Кайуа основал «Коллеж социологии», работал как полевой этнолог-африканист. Автор автобиографической тетралогии «Закон игры» (1948–1976), продолжившей его рецензируемую здесь книгу (оконч.1935,опубл.1939). Макс Жакоб (1876–1944) – французский писатель и художник, друг Аполлинера и Пикассо,блестящийкаламбуристимистификатор.Умервнацистскомконцлагере. Марсель Жуандо (1888–1979) – французский прозаик, автор, среди прочего, автобиографическихкниг«Опытосамомсебе»(1946),«Размышленияостаростиисмерти» (1956)идр. Бенжамен Констан (1767–1830) – французский писатель, автор психологического «романастановления»«Адольф»(1816),автобиографическойкниги«Краснаятетрадь»(изд. 1907). Норман Мейлер (1923–2007) – американский прозаик, леворадикальный публицист анархистского толка, автор остро критических и шумно встреченных романов «Берег варваров»(1951),«Американскаямечта»(1965)идр. Антон Веберн (1883–1945) – австрийский композитор-экспрессионист, ученик, друг и соратник Арнольда Шёнберга, один из основоположников сериальной техники, для предельно лаконичных сочинений которого характерна мерцающая, «пунктирная» манера музыкальногозвучания. Антропологкакгерой Томас Эдвард Лоуренс, Лоуренс Аравийский (1888–1935) – британский офицер, путешественник, писатель, переводчик гомеровской «Одиссеи», легендарная личность. Погибвдорожнойкатастрофе. Анри де Монтерлан (1895–1972) – французский писатель, член Французской академии (1960). ПольНизан(1905–1940)–французскийписатель,коммунист(вышелизкомпартиипосле заключения пакта Молотова – Риббентропа), погиб на фронте. В 1940-х гг. оклеветан сотоварищамипопартииМорисомТорезомиЛуиАрагоном,ихобвинениявпредательстве былиопровергнутылишьв1960-х. Уильям Робертсон-Смит (1846–1894) – английский востоковед, библеист, активно обращалсякданнымантропологии. РобертГенрихЛоуи(1883–1957)–американскийэтнограф,выходецизАвстро-Венгрии. Франц Боас(1858–1942) – крупнейший американский антрополог и лингвист, выходец изГермании. АльфредЛуисКрёбер(1876–1960)–американскийантрополог,ученикФ.Боаса. Бронислав Каспер Малиновский (1884–1942) – британский антрополог и социолог культурыпольскогопроисхождения. Альфред Реджинальд Рэдклифф-Браун (1881–1955) – британский антрополог, преподавалвАфрике,Австралии,США. МирчаЭлиаде(1907–1986)–румынскийписатель,философ,исследовательмифологийи религиймира. Натали Саррот (Наталья Черняк, 1900–1999), Ален Роб – Грийе (1922–2008), Мишель Бютор(р.1926)–французскиеписатели,в1940–1960-хгг.лидеры«новогоромана»(Бютор, впрочем,всегдаотрицалсвоюпринадлежностькданнойшколе). ЛитературнаякритикаДьёрдяЛукача Дьёрдь Лукач (Лёвингер, 1885–1971) – венгерский философ-неомарксист, член коммунистическойпартииВенгрии,с1919г.жилвэмиграции(Австрия,СССР),в1945-м вернулсявВенгрию. КарлМангейм(1893–1947)–немецкийибританский(с1933г.)философисоциолог. ГеоргЗиммель(1858–1918)–крупнейшийнемецкийфилософисоциолог. Бела Кун (1886–1938) – венгерский коммунистический политический деятель и журналист,с1919г.–вэмиграциивАвстрииивСоветскойРоссии. ДавидБорисовичРязанов(Гольдендах,1870–1938)–русскийисоветскийобщественный деятель, ученый-марксист, первый директор музея Маркса – Энгельса в Москве. Репрессирован,расстрелян. Имре Надь (1896–1958) – венгерский политик и государственный деятель, в 1929– 1944 гг. жил в СССР, с 1933-го был секретным осведомителем НКВД. В 1950-е гг. инициатор политических реформ в социалистической Венгрии. После революционных событий 1956 г. и их подавления советскими войсками был обвинен в измене и казнен в будапештскойтюрьме. ЯношКадар(1912–1989)–коммунистическийлидерВенгрии. Герберт Рид (1893–1968) – английский поэт, влиятельный литературный и художественныйкритик,историкискусства. Джордж Стайнер (р. 1929) – американский писатель, литературный критик, космополитическийтеоретиккультуры,жилипреподавалвЕвропеиСША. Шарль Огюстен де Сент-Бёв (1804–1869) – французский писатель, влиятельный литературныйкритик,членФранцузскойакадемии. Эдмунд Уилсон (1895–1972) – американский писатель, литературный критик, переводчик,другикорреспондентВ.Набокова. Альфред Казин (1915–1998) – американский писатель и литературный критик, друг ХанныАрендт. Готфрид Бенн (1886–1956) – крупнейший немецкий поэт-экспрессионист, врачпатологоанатом. В начале 1930-х гг. сблизился с национал-социалистами, но вскоре разошелсясними,емубылоофициальнозапрещенопубликоваться.Авторэссеопоэзиии автобиографическойпрозы. Теодор Визенгрунд Адорно (1903–1969) – немецкий философ и социолог, крупнейшая фигура«франкфуртскойшколы».В1934–1949гг.–вэмиграции(Великобритания,США). Герберт Маркузе (1898–1979) – немецкий и американский философ и социолог «франкфуртскойшколы». Джон Рёскин, или Раскин (1819–1900) – английский писатель, художник, влиятельный теоретик искусства, его идеями питалось художественное движение прерафаэлитов. С 1885г.страдалпсихическойболезнью,жилзатворником. Якоб Буркхардт (1818–1897) – швейцарский историк искусства, теоретик культуры, средиегоучениковбылиФридрихНицшеиГенрихВёльфлин. ЛюсьенГольдман(1913–1970)–французскийфилософисоциолог-неомарксист. …не коснулся ни одного писателя XX века. – Здесь Сонтаг неточна: Беньямину принадлежатэссеоПрусте,Валери,сюрреалистах,ЖюльенеГринеидр. «СвятойЖене»Сартра ЭдмундГуссерль(1859–1938) – немецкий философ феноменологического направления, глубокоповлиявшийна взглядыМ.Хайдеггера,Ж.-П.Сартра,П.Рикёра,Х.-Г.Гадамераи др. НаталиСарротироман Марсель Дюшан (1887–1968) – французский живописец и скульптор, крупнейший и наиболее радикальный экспериментатор среди современников, в конце жизни полностью отказалсяоттворчества. ДжанкарлоМенотти(1911–2007)–американскийкомпозиторимузыкальныйпедагог итальянского происхождения. Автор популярных опер, киномузыки, дважды лауреат Пулитцеровскойпремии(1950,1955). Бернар Бюффе (1928–1999) – французский художник; его минималистская, сумрачная манерабылачрезвычайнопопулярнавконце1940–1950-хгг.СтрадаяболезньюПаркинсона, покончилссобой. Эмиль Мишель Чоран (1911–1995) – румынский и французский философ-эссеист, радикальный пессимист и скептик; позже Сонтаг посвятила ему эссе «Думать наперекор себе»,вошедшеевкнигу«Образцыбезогляднойволи»(1969).Здесьцитируетсячорановское эссе«Потусторонуромана»,включенноеимвкнигу«Соблазнсуществования»(1956). Жоаким Мария Машаду де Ассиз (1839–1908) – крупнейший бразильский прозаик, переводчик Шекспира, основатель Бразильской литературной академии. Вобрал достижения европейской литературы XVIII–XIX вв. (Стерн, Бальзак, Флобер, Золя), стал первым классиком национальной словесности. Эссе Сонтаг о нем вошло в ее книгу «Куда падаетударение»(2001). Итало Свево, или Звево (Арон Гектор Шмиц, 1861–1928) – итальянский прозаик и драматургавстро-венгерскогопроисхождения. ВирджинияВулф(1882–1941)–английскаямодернистскаяписательница,эссеист,автор содержательныхдневников.Вприступеглубокойдепрессиипокончилассобой. Гертруда Стайн (1874–1946) – американская писательница-модернистка, ценитель и собирательсовременногоискусства,после1903г.жилавоФранции. Натанаэл Уэст (Натан Вайнстайн, 1903–1940) – американский писатель, потомок еврейскихэмигрантовизЛитвы,другФ.СкоттаФицджеральда.Погибвавтокатастрофе.Не получивший признание при жизни, сегодня относится к крупнейшим американским писателямпервойполовиныХХв.,егопрозанеразбылаэкранизирована. Луи-Фердинанд Селин (Детуш, 1894–1961) – французский писатель. Патологический антисемит и расист, коллаборационист, отрицатель холокоста, оказал тем не менее глубокоевоздействиенапрозусерединыивторойполовиныХХв. Джуна Барнс (1892–1982) – американская писательница-модернистка, в 1920–1940-х жилавПариже.Сонтагвысокоценилаеероман«Ночнойлес»(1936,вышелвредакцииис предисловиемТомасаСтернзаЭлиота). Морис Бланшо (1907–2003) – французский писатель, философ-эссеист, за протяжении 1940–1980-хгг.влиятельнаяфигураинтеллектуальнойжизниФранции. ЖоржБатай(1897–1962)–французскийписательифилософ,с1930-хгг.влиятельная фигурафранцузскойинтеллектуальнойсцены.Егопрозевомногомпосвященопозднейшее эссеСонтаг«Порнографическоевоображение»,вошедшеевеекнигу«Образцыбезоглядной воли»(1969). ПьерКлоссовский(1905–2001)–французскийписатель,философ,художник,переводчик литературыифилософиислатыниинемецкого.БылблизоккЖ.Батаю.СнятР.Брессоном вфильме«Какполучится,Бальтазар»(1966). Клод Симон (1913–2005) – французский писатель, представитель «нового романа». ЛауреатНобелевскойпремииполитературе(1985). Мэри Маккарти (1912–1989) – американская писательница, жена Эдмунда Уилсона, подругаХанныАрендт. ГенриДжеймс(1843–1916)–американскийписатель,братфилософаУильямаДжеймса, преобладающую часть жизни прожил в Европе. В романах и новеллах ХХ в. пришел к экспериментальной манере, оказавшей влияние на европейскую и американскую прозу модернизма. Ионеско Эжен Ионеско (1909–1994) – французский писатель, выходец из Румынии, один из основоположников«театраабсурда».ЧленФранцузскойакадемии(1970). Борис Виан (1920–1959) – французский джазовый музыкант, певец, писательнонконформист;«Строителиимперии»–егопьеса,написаннаяв1959г. «Амедей»(1954)–пьесаИонеско. Антонен Арто (1896–1948) – французский писатель и художник, актер театра и кино, теоретикрадикальногоэкспериментавжизниивискусстве. В1973г.Сонтагсоставилаи сопроводилаобширнымпредисловиемобъемистыйтомего«Избранного». ЖанЖироду(1882–1944) – французский прозаик и драматург, дипломат, служивший в томчислевМоскве,активнопереводилсянарусскийвовторойполовине1920-хгг. Ричард Н. Коу (1923–1987) – американский писатель и переводчик, автор книг о французскихдраматургахХХв. ЖоржФейдо(1862–1921)–французскийкомедиограф,авторводевилей,имевшихуспех в«бульварных»театрах,авпоследствиивмассовомкино. КеннетТайнен(1927–1980)–крупнейшийбританскийтеатральныйкритик. Размышленияо«Наместнике» «Наместник, христианская трагедия» (1963) – политическая драма немецкого драматурга Рольфа Хоххута (р. 1931). Была поставлена в Берлине Эрвином Пискатором (1963), с успехом шла на многих сценах мира, в США вышла с предисловием Альберта Швейцера, позднее по ней был снят фильм Коста-Гавраса «Амен» (2002). В 2007 г. появилась засекреченная прежде информация о том, что написание пьесы было инспирированоКГБСССРирумынскойразведкой«Секуритате».В2000-егодыХоххутстал известен также публичным выступлением в защиту отрицающего холокост английского историкаиписателяДэвидаИрвинга,ктомувремениосужденногозаэтосудамиГермании иВеликобритании. Адольф Эйхман (1906–1962) – высший офицер Третьего рейха, ответственный за массовое уничтожение евреев Европы (холокост). В 1961 г. был арестован в Аргентине израильскойразведкой,предсталвИерусалимепередсудом,приговоренксмертнойказни (повешен). ХаннаАрендт(1906–1975)–немецкийиамериканскийфилософ,с1933г.вэмиграции (Франция,США).Средипрочегоавторкниги«ЭйхманвИерусалиме:отчетобанальности зла»(1963),вызвавшейжаркуюполемикувИзраиле,Германии,США. Гарольд Розенберг (1906–1978) – американский художественный критик, теоретик акционизма и абстрактного экспрессионизма в американском искусстве, автор ставшего знаменитымсборникастатей«Традицияновизны»(1959). Пий XII, до интронизации – Эудженио Мария Джузеппе Джованни Пачелли (1876– 1958)–ПапаРимскийс1939г.Внастоящеевремяидетпроцессегобеатификации,в2009г. онбылпризнан«досточтимым». ГюнтерЛеви(р.1923)–американскийисторикиполитологнемецкогопроисхождения, в 1939-м эмигрировал из нацистской Германии в Палестину, с 1946-го жил в США. Упоминаетсяегомонография1964г.,многократнопереиздававшаясяпозднее. Питер Брук (р. 1925) – выдающийся британский театральный режиссер, в 1963 году поставилпьесуХоххута«Наместник»впарижскомтеатре«Атеней». Бернхард Лихтенберг (1875–1943) – немецкий католический священник, открыто выступавшийпротивнацизмаинацистскогоантисемитизма;в1942г.заключенвтюрьму, затем тяжело больным направлен в концлагерь Дахау и по пути умер; в 1996 г. беатифицирован. Максимилиан Кольбе (1894–1941) – польский священник-францисканец, добровольно пошелвАушвиценасмертьвместодругогоосужденного;в1982г.причисленкликусвятых мучеников. Смертьтрагедии Название эссе, как и монографии Джорджа Стайнера (1961) – антоним заглавия знаменитойкнигиНицше«Рождениетрагедии»(1872). Фридрих Дюрренматт (1921–1990) – швейцарский драматург и прозаик, в данном контексте,скореевсего,имеетсяввидусборникегостатей«Проблемытеатра»(1955). Мартин Эсслин (Дюла Переслень, 1918–2002) – британский драматург, переводчик, теоретиктеатра,еврейскийвыходецизАвстро-Венгрии,эмигрировалв1938г.Автор,среди прочего,знаменитойкниги«Театрабсурда»(1961). БастерКитон(1895–1966)–выдающийсяамериканскийкомическийактер. ЯнКотт(1914–2001)–польскийлитературныйитеатральныйкритик,теоретиктеатра, публицист, драматург, эссеист, переводчик, с 1966 г. жил в США. Его книга «Шекспир – нашсовременник»(англ.изд.1964)глубокоповлияланашекспировскиепостановкиПитера Брукаидр. Пройдясьпотеатрамивокруг «После грехопадения» (1964) – автобиографическая пьеса Артура Миллера, в январе 1964г.еепоставилвНью-ЙоркережиссерЭлиаКазан. Вилли Ломан — герой драмы А. Миллера «Смерть коммивояжера» (1949), впервые экранизированной в 1951 г. Ласло Бенедеком (и пьеса, и фильм имели огромный успех); пьесуипотомнеоднократнопереносилинаэкран. АбрахамНорманФранцблау(1901–1982)–американскийпсихиатрипедагог. Заговор 20 июля – попытка мятежа германских военных с целью антинацистского переворота; их покушение на Гитлера 20 июля 1944 г. оказалось неудачным, планы сорвались, участники были осуждены, часть их казнена, притом с особой жестокостью. О событияхбылснятхудожественныйфильмГ.В.Пабста«Этослучилось20июля»(1955). Мэрилин Монро (1926–1962) – американская актриса и певица, в 1956–1961 гг. была женойАртураМиллера. Барбара Лоден (1932–1980) – американская фотомодель, актриса театра и кино, кинорежиссерипродюсер,женаЭлиаКазана. «Бульвар Сансет» (1950) – фильм о забытых звездах Голливуда американского режиссераБиллиУайлдера. ГлорияСвенсон(1899–1983) – американская кинозвезда, исполнила в фильме «Бульвар Сансет»главнуюженскуюрольбывшейкино-звездыНормыДесмонд. Эрих фон Штрогейм (1885–1957) – американский кинорежиссер и актер, выходец из Австро-Венгрии; сыграл в фильме «Бульвар Сансет» роль бывшего кинорежиссера, а ныне дворецкого бывшей «звезды». По ход у действия героиня смотрит в домашнем кинотеатре старую картину Штрогейма «Королева Келли», снятую им в 1929 г. на студии «Глория СвенсонПикчерз». «Марко-миллионщик»(1923–1925)–сатирическаяпьесаЮджинаО’Нила. Бэббит—стандартныйсреднийамериканец,заглавныйгеройроманаСинклераЛьюиса (1922),егоимясталонарицательным. WEVD – популярная радиостанция, вещавшая с 1927 г. из Квинса (Нью-Йорк), рупор социалистическойпартииСША. ДжейсонРобардс(1922–2000)–американскийактертеатраикино,игралуС.Люмета, С. Леоне, С. Пекинпа, А. Пакулы, Ф. Циннемана, Дж. Демми и др., считался одним из лучшихисполнителейролейвдрамахЮ.О’Нила. ХэлХолбрук(р.1925)–американскийактер. ЗораЛамперт(р.1937)–американскаяактриса,дочьеврейскихвыходцевизРоссии. Хосе Кинтеро (1924–1999) – американский театральный режиссер, продюсер, педагог, выходецизПанамы. Бени Монтрезор (1926–2001) – итальянский актер, режиссер, художник и дизайнер, многоработалвСША. Сэмюэл Натаниэл Берман (1893–1973) – популярный американский драматург, сценарист,журналист,писатель-биограф. Герман Шумлин (1898–1979) – американский (бродвейский) театральный режиссер и продюсер. Курт Герштейн (1905–1945) – офицер СС, свидетель массовых убийств в концлагерях Белжец и Треблинка. В начале 1930-х гг. входил в круг евангелического пастора Мартина Нимёллера(см.онемниже).В1940-хпередалсведенияохолокостешведскомудипломату Йорану Оттеру и папе Пию XI;, впоследствии, после ареста французскими войсками, составил о виденном развернутый отчет для публикации в СМИ. Покончил с собой в военнойтюрьме.Кегообразупозднейшаялитература,театрикиновозвращалисьнераз.В фильме Коста-Гавраса «Амен» (2007), по мотивам пьесы Р. Хоххута, его роль исполнил немецкийактерУльрихТукур. Август Хирт (1898–1945) – немецкий антрополог и врач, гауптштурмфюрер СС; проводил на узниках концлагерей медицинские опыты с отравляющими веществами (в частности, с ипритом), собрал в Страсбургском университете гигантскую коллекцию черепов, скелетов и частей тел погибших евреев. После разгрома нацизма скрывался от преследований,покончилссобойвШварцвальде. Рубен Тер-Арутюнян (1920–1992) – американский театральный дизайнер, выходец из Грузии,училсявГерманиииАвстрии. ЭмлинУильямс(1905–1987)–уэльскийдраматургитеатральныйактер. Джереми Бретт (Питер Джереми Уильям Хаггинс, 1933–1995) – британский актер театраикино. «Дилан»–пьесаСидниМикаэлсаопоследнихдняхпоэтаДиланаТомаса,шлав1964г.в Нью-Йорке в постановке Плимутского театра; заглавную роль исполнил Алек Гиннесс, награжденныйзаэтоамериканскойтеатральнойпремиейТони. СтэнлиКубрик(1928–1999)–американскийкинорежиссерипродюсер. Полетт Годар (Марион Полин Леви, 1910–1990) – американская актриса, жена Ч.Чаплина(1936–1942)иЭ.М.Ремарка(1958–1970). Американский легион – ветеранская организация в США, отличается крайним политическимконсерватизмом. MadMagazine–популярныйамериканскийюмористическийжурнал,издаетсяс1952г. «We’ll Meet Again» («Мы встретимся снова») – популярнейшая со времен Второй мировой войны до нынешнего дня американская песня, написанная в 1939 г. Россом ПаркеромиХьюЧарльзом. СтерлингУолтерХэйден(1916–1986)–американскийактерисценарист. Рингголд Уилмер (Ринг) Ларднер (1885–1933) – американский писатель и журналист, отличался«черным»юмором. ДжорджКэмпбеллСкотт(1927–1999)–американскийактер,режиссер,продюсер. ПитерСеллерс(1925–1980)–британскийактер. СлимПикенс(ЛуисБёртонЛиндли,1919–1983)–американскийактер. Эмиль де Антонио (1919–1989) – американский кинорежиссер и продюсер, далее упоминается его (и Дэниэла Толбета) документальный фильм о маккартистских расследованиях«Процедурныйвопрос»(1964). Роберт Тен Брук Стивенс (1899–1983) – американский бизнесмен, политический деятель. Уильям Стюарт Саймингтон (1901–1988) – американский бизнесмен и политик, сенаторотштатаМиссури. ДжозефНайУэлч(1890–1960)–американскийюрист,главныйсоветникармииСША. Рой Кон (1927–1986) – американский консервативный политик, активный участник «охотынаведьм». Джозеф Маккарти (1908–1957) – американский сенатор, инициатор расследований «антиамериканскойдеятельности»иее«зарубежногофинансирования». Уильям Клод Филдс (Дьюкенфилд, 1880–1946) – американский комический актер, жонглерифокусник,писатель. «В ожидании Лефти» (1935) – пьеса о рабочем протесте американского драматурга КлиффордаОдетса. «Стража на Рейне» (1941) – антивоенная пьеса американской писательницы Лилиан Хеллман,поставленнаяГерманомШумлиномив1943г.экранизированнаяим. «Завтра весь мир» (1943) – антивоенная бродвейская пьеса Джеймса Гоу, более известнаяпоееэкранизацииЛеслиФентономв1944г. «Глубокиекорни»(1945)–пьесаДжеймсаГоу. «Суровое испытание» (1953) – пьеса Артура Миллера об «охоте на ведьм» в Америке XVIIв.,аллегориямаккартистскихпроцессовпротивинакомыслящихв1950-хгг. ДжеймсБолдуин(1924–1987)–афроамериканскийписатель,публицист,общественный деятель;с1948г.восновномжилвоФранции. Эмметт Тилл (1941–1955) – афроамериканский подросток, зверски убитый в штате Миссисипи родственниками белой женщины, с которой он, по их словам и показаниям свидетелей на суде, пытался флиртовать. Это событие дало толчок движению афроамериканцевзагражданскиеправа. МедгарУайлиЭверс(1925–1963)–афроамериканскийправозащитник,былубитчленом расистской организации через несколько часов после транслированной по всем национальныммедиаречипрезидентаДжонаКеннедивзащитугражданскихправ. «…памяти детей, убитых в Бирмингеме». – Имеются в виду многотысячные гражданскиевыступленияафроамериканскогонаселениявамериканскомштатеАлабамав апреле-мае1963г.Внихучаствовалимассышкольниковистудентов(газетчикиназвалиэто «крестовымпоходомдетей»),многиеизкоторыхбылиарестованы,ноожертвахсрединих, какисредидругихучастников,сведенийнет.ОднимизруководителейакциибылМартин Лютер Кинг (он, кстати, не поддерживал тактику вовлечения детей в протесты), реакцией нанеебыловыступлениепрезидентаДжонаКеннедиогражданскихправах. «Рождениенации»(1914)–фильмД.У.ГриффитаобамериканскомЮге. Эверетт Лерой Джонс (1934–2014, в 1967 принял имя Имаму Амири Барака) – афроамериканскийписатель,общественныйдеятель,правозащитник. …примеромресентимента,описанногоНицше.– Эточувство«рабов»поотношениюк «господам»былоописаноНицшевтруде«Кгенеалогииморали»(1887). Пэдди Чаефски (1923–1981) – популярный американский сценарист и драматург, активноработалнателевидении. …впоследнемроманеБолдуина…–имеетсяввидуроман«Другаястрана»(1962). РобертХукс(р.1937)–американскийактер,продюсер,политическийактивист. Дженнифер Уэст (р. 1939) – американская актриса театра, кино и, особенно, телевидения1960-хгг. Эдвард Олби (р. 1928) – американский драматург и режиссер, испытал влияние Э.Ионескоиегоабсурдистскоготеатра;былоднимизпостановщиковпьесыЛерояДжонса «Летучийголландец». БёрджессМередит(1907–1997)–американскийактер,режиссерисценарист. РипТорн(р.1931)–американскийактертеатра,киноителевидения. Эл Фримен (1934–2012) – американский актер и режиссер; позднее исполнил главную мужскуюрольвфильме-экранизациибританскимрежиссеромЭнтониХарвидрамыЛероя Джонса«Летучийголландец»(1967). ДайанаСэндс(1934–1973)–американскаяактрисатеатраикино. ПэтХингл(1924–2009)–американскийактер. «Странная интерлюдия» – пьеса Юджина О’Нила, закончена в 1923 г., впервые поставленав1928г. Фрэнк О’Хара (1926–1966) – американский авангардный поэт, автор нескольких экспериментальныхдрам. Тейлор Мид (1924–2013) – американский писатель и актер, принадлежал к ньюйоркскомуандеграунду,снималсявфильмахЭндиУорхола. Рон Райс (1935–1964) – американский кинорежиссер-экспериментатор, сотрудничал с ЭндиУорхолом. ГарриЛэнгдон(1884–1944)–американскийактер-комик. Харпо Маркс (1888–1964) – американский комический актер, один из пяти братьев- комиков. ТряпичныйЭнди–кукла,персонаждетскойкнигиДжонниГруэлла(1920),впоследствии ставшийперсонажемнесколькихкнигимультфильмов. Тамми Граймс (р. 1934) – американская актриса и певица, упоминается одна из ее наиболееизвестныхролей–призракумершейженыглавногогероявмюзиклеХьюМартина иТимотиГрэя. Беатрис (Би) Лилли (1894–1989) – канадская комедийная актриса; играла на сценах Лондона,Нью-Йорка,Чикаго,выступалапорадио,дружиласЧ.Чаплином,У.Черчиллем, Дж.Б.Шоу. «Домашнее кино» (1964) – одноактный мюзикл Розалин Дрекслер (р. 1936) и Эла Кармайнса(1936–2005). Провинстаун-плейхаус – экспериментальный театр в Гринич-Виллидже, открылся в 1916г. Маргарет Дюмон (Дэйзи Джульетт Бейкер, 1882–1965) – американская комедийная актрисатеатраикино. ШейндиТокайер–актрисаэкспериментальногоБалетноготеатраДжадсона. Фредерик (Фредди) Герко (1936–1964) – американский актер, музыкант, хореограф и танцовщик,близкийкЭндиУорхолу;повсейвероятности,покончилссобой. Барбара Энн Тир (1937–2008) – афроамериканская писательница, актриса, продюсер и педагог. Братья Мейзелс – Альберт (род. 1926) и Дэвид (1932–1987), американские кинорежиссеры-документалисты. Джон Гилгуд (1904–2000) – английский актер и режиссер, крупнейший исполнитель шекспировскихролей. ДжорджРоуз(1920–1988)–английскийактертеатраикино. ЭйлинХерли(1918–2008)–шотландскаяиамериканскаяактриса. …в фильме, снятом Лоуренсом Оливье… – Оливье снял фильм «Гамлет» в 1948 г. и сыгралвнемзаглавнуюроль. РичардБёртон,илиБартон(Дженкинс,1925–1984)–британскийактертеатраикино. «Конецигры»(также«Эндшпиль»,1957)–пьесаСэмюэлаБеккета. Исаму Ногути (1904–1988) – американский скульптор и дизайнер японского происхождения. ЧарльзМаровиц(р.1934)–американскийрежиссер,драматург,театральныйкритик. ПолСкофилд(1922–2008)–английскийактер,прославилсяисполнениемшекспировских ролей. Ирен Уорт (Гарриэт Элизабет Абрамс, 1916–2002) – американская актриса театра и кино, много лет жила в Великобритании, работала в театрах Олд Вик и Олдвич, позже играла на Бродвее. Неоднократный лауреат театральных и кинопремий Великобритании и США,неразсотрудничаласПитеромБруком. Марат/Сад/Арто Петер Вайс (1916–1982) – немецкий прозаик и драматург, с 1933 г. жил в эмиграции (Чехословакия,с1938–Швеция). ПатрикМэги(Макги,1922или1924–1982)–ирландскийактерирежиссер,зарольСада впьесеВайсаполучилвСШАпремиюТони. КлайвРевилл(р.1930)–британскийхарактерныйактертеатраикино,родилсявНовой Зеландии. Конрад Свинарский (1929–1975) – польский театральный режиссер; поставил пьесу ВайсавЗападномБерлинев1964г.,в1967-мпоказалеевВаршаве. ЭдрианМитчелл(1932–2008)–английскийпоэтидраматург. Ричард Писли (р. 1930) – английский композитор, известный прежде всего музыкой к театральнымпостановкам. Робер-Франсуа Дамьен (1717–1757) – француз, совершивший покушение на жизнь короля, был подвергнут за это публичной казни на Гревской площади в Париже, чудовищнойпожестокостиидлительности(онапродолжаласьболеечетырехчасов). БернардоБертолуччи(р.1941)–итальянскийкинорежиссер;«Передреволюцией»–его второйфильм(1964),воднойизглавныхролей–итальянскаяактрисаАдрианаАсти(род. 1933),черезнескольколетСонтагснялаеевсвоемфильме«Дуэтдляканнибалов»(1969). Хеппенинг – см. посвященное этому театральному жанру эссе в настоящей книге и примечаниякнему. Алан Капроу (1927–2006) – американский художник-концептуалист, режиссер авангардноготеатра. Клас Олденбург (р. 1929) – американский художник и скульптор шведского происхождения,представительпоп-арта. Джим Дайн (р. 1935) – американский художник, представитель поп-арта, один из родоначальниковхеппенингаиэнвайронмента. РобертУитмен(р.1935)–американскийхудожник,авторперформансов. Ред Грумз (р. 1937) – американский художник, представитель акционизма, работал в театреикино. Роберт Уоттс (1923–1988) – американский авангардный художник, представитель движения«Флуксус». «Бриг»–пьесаободномднезаключенныхвносящейэтоимятюрьмеКорпусаморской пехоты США, написанная бывшим военным моряком Кеннетом Брауном (род. 1936). Постановка пьесы Джудит Малиной (1963, см. ниже) получила премию Оби. В 1964 г. спектакльснялнапленкуавангардныйамериканскийкинорежиссерЙонасМекас. Джудит Малина (р. 1926) – американская актриса и театральный режиссер немецкоеврейского происхождения; в 1947 г. вместе с Джулианом Беком основала независимую компанию«Живойтеатр». Ежи Гротовский (1933–1999) – польский театральный режиссер, с 1984 г. работал в ИталиивсозданномиминтернациональномЦентретеатральногоэксперимента. ДуховныйстильфильмовРобераБрессона Рене Клер (Шометт, 1898–1981) – французский кинорежиссер, мастер комедийного и музыкальногожанра.ЧленФранцузскойакадемии(1960). Георг Вильгельм Пабст (1885–1967) – австрийский актер и кинорежиссер, начинал в немом кино («Безрадостный переулок», 1925; «Любовь Жанны Ней», 1927; «Ящик Пандоры»,1929).Ссередины1950-хиз-заболезнейбольшенеснимал. Макс Офюльс (Максимилиан Оппенхаймер, 1902–1957) – немецкий кинорежиссер, мастерромантическихпостановок,работалвГермании,СШАиФранции. АлександрАстрюк(р.1923)–французскийактер,сценарист,режиссер;егопрограммное эссе«Рождениеновогоавангарда:камера-стило»былоопубликованов1948г. «Дыра» (1960) – последний фильм Жака Беккера, снят по сценарию Хосе Джованни, написанномунаосновеегокриминальногоромана(1957). КлодЛейдю(1927–2011)–французскийактерипродюсер. ФрансуаЛетерье(р.1929)–французскийактерирежиссер. МартенЛасаль(ок.1935)–французскийактер,выходецизУругвая. ФлорансКаррез(Делэ,р.1941)–французскаяактрисаиписательница. Рене-ЖаннаФальконетти(1892–1946)–французскаяактрисатеатраикино. КарлТеодорДрейер(1889–1968)–выдающийсядатскийкинорежиссер,работалвДании, Швеции, Германии, Норвегии, Франции. Его фильмы «Страсти Жанны д’Арк» (1928), «Деньгнева»(1943)и«Слово»(1955)входятвсокровищницумировогокинематографа. «ЦветочкисвятогоФранциска»(1950)–фильмитальянскогокинорежиссера,классика неореализмаРобертоРосселлини. «Леон Морен, священник» (1961) – фильм французского кинорежиссера Жан-Пьера МельвилясЭммануэльРиваиЖан-ПолемБельмондо. Филипп Агостини (1910–2001) – французский кинооператор, режиссер, сценарист, снималфильмыМ.Карне,М.Офюльса,Р.Брессонаидр. Леонс-Анри Бюрель (1892–1977) – французский кинооператор, начинал в немом кино, много работал с Абелем Гансом. Снял четыре брессоновских фильма – от «Дневника сельскогосвященника»до«ПроцессаЖанныД’Арк». Мария Казарес (1922–1996) – французская актриса испанского (галисийского) происхождения, чаще выступала на театральной сцене, в кино снималась у М. Карне, Ж.Кокто,Р.Брессонаидр. Жан Маре (1913–1998) – французский актер театра и кино, художник и скульптор; на протяжении20летспутникЖанаКокто,снималсявбольшинствеегофильмов. Жорж Бернанос (1888–1948) – французский писатель-католик, по его романам сняты фильмыР.Брессона,М.Пиала,Ф.Агостини. «Житьсвоейжизнью»Годара ДжинСиберг(1938–1979)–американскаякиноактриса,чащевсегоснималасьвЕвропе, в том числе у Ж.-Л. Годара и Кл. Шаброля. В 1962–1970 гг. была замужем за писателем РоменомГари.Покончилассобой. Жан-Поль Бельмондо (р. 1933) – французский актер, начинал у режиссеров «новой волны»(Годар,Шаброль,Трюффо,ЛуиМаль,АленРене),впоследствиичащевсегоработал вкоммерческомкинематографе. Мишель Сюбор (р. 1935) – французский киноактер, в 1960-е гг. успешно снимался у режиссеров«новойволны»иуА.Хичкока;послебольшогоперерывавернулсявкиноужев 2000-хгг.ипоявилсянаэкраневфильмахКлерДени,ФилиппаГареляидр. АннаКарина(ХаннаКаринБайер,р.1940)–датскаяифранцузскаякиноактриса,в1961– 1967гг.–женаЖан-ЛюкаГодара. Жан-КлодБриали (1933–2007) – французский киноактер, часто работал с режиссерами «новойволны»(Шаброль,Годар,Трюффо,ЭрикРомер). МариноМазе(р.1939)–итальянскийкиноактер. Альбер Жюросс (Патрис Мулле, р. 1946) – французский композитор, создатель музыкальныхинструментов,актер. Брижит Бардо (р. 1934) – французская киноактриса; известность пришла к ней после фильма «И Бог создал женщину» (1956), режиссерского дебюта Роже Вадима, который в 1952–1957гг.былеемужем.СнималасьтакжеуЖан-ЛюкаГодараиЛуиМаля. ДжекПэланс(ВолодимирПалагнюк,1919–2006)–американскийкиноактерукраинского происхождения. Фриц Ланг (1890–1976) – немецкий кинорежиссер австрийского происхождения, крупнейший представитель экспрессионизма, после 1933 г.работал воФранции, а затемв США.В1963г.выступилвролисамогосебявфильмеГодара«Презрение». Сами(Самуэль)Фрей(р.1937)–французскийактертеатраикино. КлодБрассер(Эспинас,р.1936)–французскийактер. МашаМериль(МарияВладимировнаГагарина,р.1940)–французскаяактрисатеатраи кино,писательница. БернарНоэль(1924–1970)–французскийактертеатраикино,раноумеротрака. Эдди Константин (Эдвард Константиновский, 1917–1993) – американский, а с 1950-х гг. французский певец и актер; помимо Годара, снимался у Фассбиндера, Триера, Мики Каурисмяки. Аким(Оваким)Тамиров(1899–1972)–американскийактерармянскогопроисхождения. Жорж Франжю (1912–1987) – французский кинорежиссер, один из основателей парижской синематеки. Прославился образами крайней жестокости и уродства, с подчеркнутымбесстрастиемснятыхвегораннихдокументальныхиигровыхлентах.«Тереза Дескейру»(1962)–егофильм,снятыйпоодноименномуромануФрансуаМориака. Брис Парен (1897–1971) – французский философ, эссеист, друг Альбера Камю; кроме Годара,егоснялвсвоейдокументальнойленте«РазговороПаскале»(1965)ЭрикРомер. Воображаякатастрофу Исиро Хонда (1911–1993) – японский кинорежиссер, специализировался на фильмах о чудовищахисупергероях. Джордж Пал (1908–1980) – венгерский, немецкий, а с 1940 г. американский кинорежиссер, аниматор, автор и продюсер нескольких научно-фантастических фильмов 1950–1960-хгг. «Нечтоизиногомира»,илипросто«Нечто»(1951)–фильмамериканскогорежиссера ГовардаХоукса(втитрахфигурировалподпсевдонимомКристианНиби). Кинг-Конг – гигантская горилла из одноименного фильма американских режиссеров МерианаКупераиЭрнстаШёдсака(1933)сучастиемФэйРэйиРобертаАрмстронга. РудольфМате(собственноРудольфМайер,1898–1964)–американскийкинооператори режиссер; начинал среди немецких экспрессионистов, снимал «Страсти Жанны д’Арк» Карла Дрейера, с середины 1930-х работал в Голливуде, с 1947 г. выступал как самостоятельныйрежиссер. Роберт Олдрич (1918–1983) – американский кинорежиссер; его фильм «Содом и Гоморра» с участием нескольких американских и европейских звезд, включая Анук Эме, критикапризналаоткровеннослабым. Сесил Блаунт Демилль (1881–1959) – американский кинорежисер, автор пышных постановокнабиблейскиеиисторическиетемы(пеплумов);заглавныероливего«Самсоне иДалиле»игралитакиезвезды,какВикторМэтьюриХэдиЛамарр. «Колосс Родосский» (1961) – дебютный фильм в жанре «пеплум» итальянского режиссера Серджо Леоне (1929–1989), позднее прославившегося вестернами и гангстерскимисагами. ФлэшГордон–персонажмногихевропейскихиамериканскихтелесериалов,комиксов, анимационныхиигровыхфильмов.ВпервыепоявилсявкомиксеАлексаРеймондав1934г., сталмифологизированнымобразомспасителямираотгибельныхопасностейисоперничал в этом качестве с аналогичным героем Баком Роджерсом, вышедшим на публичную сцену несколькораньше–вкомиксеФилиппаФрэнсисаНоулана«Армагеддон,год2419»(1928). Супермен–герой-иконаамериканскойпопулярнойкультуры;созданписателемДжерри СигеломихудожникомДжоШустером,впервыепоявилсявжурналекомиксовв1938г. «День,когдазагореласьЗемля»(1962)–фильмбританскогорежисераВэлаГеста(1911– 2006). «Мир, плоть и дьявол» (1959) – «постапокалиптический» фильм американского режиссераРанальдаМакдугалла(1915–1973). «Невероятноуменьшающийсячеловек»(1957)–фильмамериканскогорежиссераДжека Арнольда(1912–1992). «Франкенштейн» (1931) – фильм британского режиссера Джеймса Уэйла по роману МэриШелли(1818,с1910г.романбылнеразэкранизирован).ВролиМонстравыступил английскийактерБорисКарлофф(УильямГенриПратт,1887–1969),хотяпервоначальнона эту роль планировался Бела Лугоши, уже известный по сценическому исполнению роли Дракулы. «Мумия» (1932) – фильм немецкого, а с 1929 г. американского оператора и режиссера Карла Фройнда, его режиссерский дебют; в получившей известность картине Тода Броунинга«Дракула»(1931)онвыступалкакоператор.Египетскогожреца,мумиякоторого «оживает»вфильмеФройнда,сыгралБорисКарлофф. «Остров потерянных душ» (1932) – научно-фантастический фильм ужасов американского режиссера Эрла Кентона (1896–1980) по роману Герберта Уэллса «Остров доктораМоро». «Доктор Джекил и мистер Хайд» (1931) – фильм американского режиссера Рубена Мамуляна по повести Р. С. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (1886, с 1908 г. повесть многократно экранизировалась). Исполнитель заглавных ролей в мамуляновском фильме, американский актер Фредрик Марч получил за эту роль премию«Оскар». «ЭтотостровЗемля»(1955)–фильмамериканскогокинорежиссераДжозефаНьюмана (1909–2006). «Муха» (1958) – научно-фантастический фильм ужасов американского режиссера, выходцаизГерманииКуртаНойманна(1908–1958). «Завоеваниекосмоса»(1955)–научно-фантастическийфильмДжорджаПала. «КосмическийкорабльИкс-М»(1950)–приключенческийфильмКуртаНойманна. «Проклятые» (1963) – фантастический фильм американского, а в это время уже британского,кинорежиссераДжозефаЛоузи(1909–1984). Дэн(Дэниэл)Толбет–деятельамериканскогокино,владелецкинотеатранаМанхэттене, азатемосновательизвестнойпрокатнойфирмыNewYorkerFilms(1965),распространявшей в США зарубежные (французские, немецкие, латиноамериканские) образцы «авторского кино». «55днейвПекине»(1963)–историческаядрамаНиколасаРэясучастиемАвыГарднери ЧарлтонаХестона. «Вторжение похитителей тел» (1956) – научно-фантастический фильм ужасов американскогорежиссераДона(Дональда)Сигела(1912–1991),экранизацияроманаДжека Финни«Похитителител»(1955). «Дети проклятых» (1963) – научно-фантастический фильм британского режиссера ЭнтонаЛидера. «Ползучий незнакомец» (1955) – под этим названием в американском прокате шел научно-фантастический фильм ужасов Вэла Геста «Эксперимент Куотермасса», снятый на основе одно именного телесериала (1953); за ним последовали два продолжения – 1957 и 1967гг. «Пришелецизкосмоса»(1953)–фильмДжекаАрнольда. «Нападение людей-марионеток» (1958) – научно-фантастический фильм ужасов Берта АйрыГордона. «Пожиратели мозгов» (1958) – научно-фантастический фильм ужасов, снятый Бруно ВесотапоромануРобертаХайнлайна«Кукловоды»(1951). «День вторжениясМарса» (1963) – фильм режиссера Мори Декстера, объединяющий сюжетныемотивы«Войнымиров»и«Вторженияпохитителейтел». «Сотворение гуманоидов» (1962) – «пост-апокалиптический» фильм американского режиссера Уэсли Барри (1907–1994), более известного своими детскими ролями в немом кино,гдеонигралвместесМэриПикфордиГлориейСвенсон. Герман Кан (1922–1983) – американский экономист и футуролог, в первой половине 1960-х гг. выступивший с прогнозами развития мира в перспективе ядерной угрозы («Термоядернаявойна»,1960;«Обэскалации»,1965). «Пламенеющиесоздания»ДжекаСмита ДжекСмит(1932–1989)–американскийактерирежиссер,занимавшийсянезависимым экспериментальнымкино. Film Culture – влиятельный журнал по истории и теории киноискусства, кинокритике; былсозданвНью-Йоркев1954г.американскимирежиссерамилитовскогопроисхождения, братьями Адольфасом и Йонасом Мекас; издавался (с перерывами) до 1996 г. Фильм Дж. Смита«Пламенеющиесоздания»(1963)получилвтомжегодупремиюжурнала. «Андалузскийпес»(1929),«Золотойвек»(1930)–ранниесюрреалистскиефильмыЛуиса Бунюэля. «Стачка»(1925)–первыйполнометражныйфильмСергеяЭйзенштейна. «Уродцы»(1932)–фильмужасовамериканскогорежиссераТодаБроунинга(1880–1962). «Безумные господа» (1955) – документальный фильм французского режиссера Жана Руша(1917–2004),получилглавнуюпремиюВенецианскогокинофестиваля(1957). «Лабиринт» (1962) – анимационный фильм польского художника и режиссера Яна Леницы(1928–2001),получилрядмеждународныхнаград. Кеннет Энгер (р. 1927) – американский кинорежиссер; упоминаются его экспериментальные фильмы «Фейерверки» (1947) и «Восход Скорпиона» (иначе – «СкорпионВосставший»,1963). «Новициат» (1964) – фильм французского режиссера, влиятельного теоретика кино НоэляБёрча(р.1932),выходцаизСША. Майя Дерен (Элеонора Деренковская, 1917–1961) – американский кинорежиссерэкспериментатор. Джеймс Бротон (1913–1999) – американский поэт и кинорежиссер, принадлежал к санфранцисскомуавангарду. Рон Райс (см. выше) снял Джека Смита в своей ленте «Царица Савская встречает Атомногочеловека»(1963). ГрегориМакропулос(1928–1992)–американскийкинорежиссер;входилвкругжурнала «Film Culture», с 1967 г. работал в Европе, настойчиво избегая любой публичности (его фильмы30летнепоказывалисьпублике). Стэн Брэкидж (1933–2003) – американский кинорежиссер, один из лидеров независимогокино. «Песнь любви» – короткометражный гомоэротический фильм Жана Жене, снятый в 1950-мивыпущенныйнаобщедоступныйэкранлишьв1975г. «Аравийскийшейх»—возможно,отсылкакфильмуДжорджаМелфорда«Шейх»(1921), прославившемуРудольфаВалентино. …фильмов Штернберга начала 1930-х годов с участием Марлен Дитрих. – Это уже американскиелентыДжозефафонШтернберга«Обесчещенная»(1931),«БелокураяВенера» (1932), «Шанхайский экспресс» (1932), «Распутная императрица» (1934), «Дьявол – это женщина»(1935). «Мюриэль»АленаРене Маргерит Дюрас (Донадьё, 1914–1996) – французская писательница, кинорежиссер, актриса. Жан Кейроль (1911–2005) – французский писатель; в годы Второй мировой войны участник Сопротивления, затем узник концлагеря Маутхаузен. Среди прочего ему принадлежатсценариифильмовАленаРене«Ночьитуман»и«Мюриэль». СашаВерни(1919–2001)–французскийкинооператор;работалсА.Рене,Л.Бунюэлем, П.ГринуэемидругимикрупнейшимирежиссерамиЕвропы. «Вратаада»(1953)–цветнойфильмяпонскогорежиссераТэйносукэКинугаса;завоевал премииКаннскогофестиваляиАмериканскойкиноакадемии(«Оскар»). ЛукиноВисконти(1906–1976)–итальянскийрежиссертеатраикино;«Чувство»(1954)– снятаяимвцветеисторическаямелодрамапосценариюСузоЧеккиД’Амико. Ханс Вернер Хенце (1926–2012) – немецкий композитор; в 1953 г. переехал в Италию, вступилвитальянскуюкомпартию,жилипреподавалнаКубе. РитаШтрайх(1920–1987)–немецкаяопернаяпевица. ДельфинСейриг(1932–1990)–французскаяактрисатеатраикино.СнималасьуА.Рене, Ф.Трюффо,М.Дюрас,Л.Бунюэля,Ф.Циннемана,Дж.Лоузи,Ш.Аккерманидр. Заметкаороманахифильмах Сэмюэл Ричардсон (1689–1761) – английский романист, родоначальник литературного сентиментализма. Лилиан Гиш (1893–1993) – американская киноактриса, звезда немого кино; играла в лучшихфильмахД.У.Гриффита. Мэй Марш (1894–1968) – американская киноактриса; много работала с Д. У. Гриффитом. Энтони Хоуп (Хоукинс, 1863–1933) – английский писатель; известен остросюжетными романами«УзникЗенды»(1894)и«РупертизХенцау»(1898),которыебылинесколькораз экранизированыивошливпопулярнуюкультуру. ХиросиИнагаки(1905–1980)–японскийкинорежиссер;известенвосновномфильмами осамураях. КихатиОкамото(1923–2005)–японскийкинорежиссер,такжеизвестныйпреждевсего своимисамурайскимилентами. ДжонФорд(1894–1973)–американскийкинорежиссер,мастервестерна. ЖанРенуар(1874–1979)–французскийкинорежиссер,сынхудожникаОгюстаРенуара. Начиналвнемомкино,в1940-хгг.работалвСША. Лотреамон (Изидор Дюкасс, 1846–1870) – французский поэт, «черный романтик», позднее – кумир сюрреалистов. Его главное произведение – книга новаторских стихотворенийвпрозе,названнаяпоимениеегероя-бунтаря«ПесниМальдорора»(1869). ДжейнОстин(1775–1817)–английскаяписательница;развивалажанр«романанравов». Марсель Карне (1909–1996) – французский кинорежиссер; наиболее известны его фильмы по сценариям Жака Превера «Странная драма» (1937), «Набережная туманов» (1938),«Деньначинается»(1939),«Вечерниепосетители»(1942),«Детирайка»(1944)идр. Бессодержательноеблагочестие «Психо»(1960)–фильм-триллерАльфредаХичкока. МоррисРафаэльКоэн(1880–1947)–американскийфилософправа. СидниХук(1902–1989)–американскийфилософ,близкийкпрагматизму. …«дурнаявесть»…–отсылкактрактатуНицше«Антихрист»(39). Вальтер Кауфман (1921–1980) – американский философ и переводчик, выходец из Германии; переводил и популяризировал Гегеля, Ницше, Бубера, составил ряд антологий философскоймысли. Карл Барт (1886–1968) – швейцарский кальвинистский богослов, активный борец с нацистскимрежимомвГермании. ЭмильБруннер(1889–1966)–швейцарскийпротестантскийтеолог. Уильям Кингдон Клиффорд (1845–1879) – английский математик и философ; в эссе «Этика веры» (1877) выдвинул тезис о ложности веры в то, что недостаточно очевидно, позжеоспоренныйУильямомДжеймсомвеголекции«Воляквере»(1896). МортонСкоттЭнслин(1897–1980)–американскийбогослов,преподавательтеологиии раннехристианскойистории. ЖакМаритен(1882–1973)–французскийфилософ,католическийбогослов,крупнейший представительнеотомизма.В1948–1960гг.преподавалвСША. ЛордАктон(ДжонДальберг-Актон,1834–1902)–английскийисторик;порелигиозным взглядам–католик. МартинНимёллер(1892–1984)–немецкийпротестантскийбогослов,одинизнаиболее активныхпротивниковнацизма. ПаульТиллих(1886–1965)–немецкийиамериканскийпротестантскийтеолог. РудольфКарлБультман(1884–1976)–немецкийпротестантскийтеолог. ФранцРозенцвейг(1886–1929)–немецко-еврейскийфилософ,переводчикнанемецкий языкТанаха(вместесМ.Бубером),поэзииИегудыГалеви. Герхардт (Гершом) Шолем (1897–1982) – немецкий и еврейский философ, историк религииимистики,другикорреспондентВальтераБеньямина;с1923г.вПалестине,затем вИзраиле,одинизоснователейИзраильскойакадемиинаук. «Апокалипсисидругиесочиненияоботкровении»(опубл.1931,переизданв1980идр.)– сборникпамфлетовД.Г.Лоуренсанарелигиозныетемы. ГюнтерАндерс(1902–1992)–австрийскийфилософ,переводчик,публицист;выходециз Германии,былблизоккфилософамфранкфуртскойшколы,в1936–1950гг.вэмиграциив США.Средипрочегоемупринадлежиткнига«Кафка:заипротив»(1951). ЭрихФромм(1890–1980) – немецкий философ, социолог, психоаналитик; с 1933 г. – в эмиграции,восновномвСША. ВильгельмРайх(1897–1957)–австрийскийиамериканскийпсихолог,психоаналитик. Норман Оливер Браун (1913–2002) – американский филолог-классик, переводчик; стал широкоизвестенв1960-хгг.психоаналитическимитрудами«Жизньпротивсмерти»(1959, см.статьювнастоящейкниге)и«Телолюбви»(1966). Психоанализи«Жизньпротивсмерти»НорманаО.Брауна Карен Хорни (1885–1952) – американский психолог и психоаналитик немецкого происхождения;вСШАс1932г.Выступаласкритикойортодоксальногопсихоанализа. Пьер Жан Жорж Кабанис (1757–1808) – французский врач, философ, масон; развил учениеоб«идеологии»какнаукеобразованияидей. Бартелеми Проспер Анфантен (1796–1864) – французский философ-утопист, социальный реформатор; организатор общин в духе сен-симонистского «нового христианства», за что в 1832 г. был осужден на год тюремного заключения и денежный штраф. «ИсторияО»(1954)–эротическийроманДоминикОри(опубл.подпсевдонимомПолин Реаж),имелуспех,в1975г.былэкранизирован. Якоб Бёме (1575–1624) – немецкий философ-мистик; по социальному положению – владелец сапожной мастерской в саксонском городе Гёрлиц. Оказал большое влияние на философскуюмысльXVII–ХХвв. Шандор Ференци (1873–1933) – венгерский психоаналитик, ближайший сотрудник З.Фрейда. Тертуллиан – цитируется его трактат «О воскресении плоти» (пер. Н. Шабурова и А.Столярова). Хеппенинги,искусствобезоглядныхсопоставлений Эл Хансен (1927–1995) – американский художник, ученик Дж. Кейджа и Э. Уорхола, участникарт-движения«Флуксус»,участникмногочисленныхперформансов,авторкнигио хеппенинге (1965); в начале 1980-х переехал в Кёльн, где открыл школу искусств «ПоследняяАкадемия». Джордж Брехт (1926–2008) – американский художник и композитор, участник артдвижения«Флуксус»,с1970-хгг.жилвКёльне. Йоко Оно (р. 1933) – американская художница, композитор, певица японского происхождения; в 1969–1980 гг. – жена Джона Леннона, музыканта из группы «Битлз»; в 1994г.выступилалибреттистомикомпозиторомрок-оперы«Нью-Йорк-Рок». Кэроли Шниман (р. 1939) – американская художница, участница ранних хеппенингов, позже–авторинсталляцийипроизведенийдлямультимедиа. Дик Хиггинз (1938–1998) – американский авангардный поэт, переводчик, композитор, художник; директор издательства «И кое-что еще», где выпускал книги Г. Стайн, Дж. Кейджа, А. Капроу, М. Каннингема и др., автор работ о модернизме в постмодернистскуюэпоху. ФилипКорнер(р.1933)–американскийкомпозиторихудожник-авангардист. Ламонт Янг (р. 1935) – американский композитор-авангардист; учился с К. Штокхаузеном, близок к Дж. Кейджу, испытал влияние блюза и индийской музыки, в начале1960-хучаствовалвхеппенингахвместесЙокоОно,основалгруппу«Театрвечной музыки» (распалась в 1975 г., но впоследствии многократно возрождалась под разными названиями). ДжонКейдж(1912–1993)–американскийкомпозиторитеоретикискусства. РобертРаушенберг(1925–2008)–американскийживописециграфик,художниккниги, начиналврамкахабстрактногоэкспрессионизма,откоторогоперешелкконцептуализмуи поп-арту. Макс Эрнст (1891–1976) – французский живописец, скульптор, писатель немецкого происхождения,дадаист,апозднее–сюрреалист. Джорджо де Кирико (1888–1978) – итальянский живописец, представитель «метафизической» живописи; был близок к сюрреалистам, с 1930-х гг. отошел от авангардистскогоэксперимента. Рене Магритт (1898–1967) – бельгийский живописец-сюрреалист; оказал большое влияниенаамериканскийпоп-арт. АнтониоГауди(1852–1926)–испанский(каталонский)архитектор;работалвБарселоне, гдепостроил,средипрочего,знаменитыйхрамСвятогоСемейства. «…негаданная встреча швейной машинки и зонтика на операционном столе» – цитата из «Песен Мальдорора» Лотреамона (песнь VI), ставшая ходячей и реализованная в ассамбляжеМанаРея(см.ниже). Курт Швиттерс (1887–1948) – немецкий живописец, скульптор и писатель, один из основателей группы дада; мастер коллажной техники с использованием отбросов промышленной цивилизации (жанр, а потом и авторский журнал, названные им – по обломкуслова«коммерция»–«мерц»). …о фрейдовской характеристике собственного метода… – сюрреалисты вполне сознавалипреемственностьсвоихпоисковиэкспериментовпоотношениюкработеФрейда, публиковали фрагменты его трудов в собственных изданиях (например, в «Сюрреалистической революции» 1927 г. и др.), многократно на них ссылались в своих программныхстатьяхиманифестах. Ман Рей (Эммануэль Реденский, 1890–1976) – американский художник, фотограф, скульптор,кинорежиссер;работалвЕвропе,членгруппыдада,азатем–сюрреалистов. ОскарДомингес(1906–1957)–испанскийхудожник;с1930г.жилвоФранции,связанс сюрреалистами,участвовалвихвыставках. МорисАнри(1907–1984)–французскийпоэт,художникиграфик;всередине1920-хгг. близкий к группе «Большая игра» (Рене Домаль, Жозеф Сима и др.), позднее примкнул к сюрреалистам;мастерюмористическогорисунка. Андре Массон (1896–1987) – французский живописец-сюрреалист, блестящий график, писатель,другМ.Лейриса,Ж.Батая,А.Арто. Ольга – Ольга Козакевич, по мужу Бост (1915–1983), французская модель и актриса еврейско-украинского происхождения, подруга Симоны де Бовуар и Ж.-П. Сартра; стала прототипомгероеввнесколькихихпроизведениях. ЭдгарВарез(1885–1965)–американскийкомпозитор-авангардист,выходецизФранции; многоработалнадрасширениемакустическихграницмузыки(электроннаятехникаидр.). ПьерШеффер(1910–1995)–французскийкомпозиториинженер-акустик;в1940–1950хгг.экспериментаторвобластиконкретноймузыки(балеты«Орфей51»,«Орфей53»идр.), позднее–еекритик. КарлхайнцШтокхаузен(1928–2007)–немецкийкомпозитор-экспериментатор,теоретик музыки. Фрэнсис Бэкон (1909–1992) – английский живописец, близкий к экспрессионизму; во ФранцииегооткрылипропагандировалМишельЛейрис,позднееонемписалЖильДелёз. …прозекторские стихи… – имеется в виду ранняя экспрессионистская лирика немецкогопоэта,попрофессииврача-дерматолога,ГотфридаБенна(1886–1956),собранная вкнигах«Морг»и«Плоть»(обе–1912). «Жизнь прекрасна» (1957) – документальный короткометражный фильм польского кинорежиссера Тадеуша Макарчинского (1918–1987); имел большой успех на западных фестивалях. БрюсКоннер(1933–2008)–американскийкинорежиссер,художникискульптор;после короткометражного«Кино»(1958)снялэротическуюленту«Мэрилинвпятиэкземплярах» (1968–1973),«Фильмна10секунд»(1964),полнометражныйфильм«Перекрестки»(1976); егоживописныеискульптурныеработыэкспонировалисьвСан-ФранцискоиНью-Йорке. АльфредХичкок(1899–1980)–англо-американскийкинорежиссер,мастернапряженной психологическойатмосферывфильмахсдетективнымсюжетом. АнриЖоржКлузо(1907–1977)–французскийкинорежиссер,мастер«черного»фильма («Убийцаживетвдоме21»,1942;«Ворон»,1943;«НабережнаяОрфевр»,1947,идр.). Кон Итикава (1915–2008) – японский кинорежиссер; наиболее известны его фильмы 1950-х гг.: «Бирманская арфа» (1956), «Пожар» (1958), «Полевые огни», «Ключ» (оба – 1959). «ГайМэнеринг,илиАстролог»(1815)–романВальтераСкотта;«Холодныйдом»(1853)– романЧарльзаДиккенса. Джон Рёскин (см. о нем выше) – Сонтаг цитирует здесь его эссе «Словесность прекраснаяибезобразная». Текс (собственно Фредерик Бин, 1907–1980) – американский режиссер анимационного кино,авторизвестныхсериаловоБагзеБанни,ДаффиДакеидр. «Кандид» («Кандид, или Оптимизм») (1759) – философская сатирическая повесть Вольтера. «Добрые сердца и золотые короны» (1949) – комедийный фильм английского кинорежиссераРобертаХамера(1911–1961),однуизглавныхролейвнемблестящесыграл АлекГиннесс. «Убю-король» (1896) – сатирический фарс для кукольного театра французского писателя-новатораАльфредаЖарри(1873–1907). Гун-шоу – развлекательная комедийная программа, созданная поэтом, музыкантом и комическим актером Спайком Миллиганом (1918–2002) на Би-би-си в 1952–1960 гг.; она широко расходилась на пластинках и компакт-дисках, ее сценарии опубликованы несколькимикнижнымиизданиями. Заметкиокэмпе Кристофер Ишервуд (1904–1986) – английский писатель, друг и соавтор Уистена Х. Одена; по одной из частей его автобиографической книги «Прощай, Берлин» (1939) позжебылснятизвестныймюзиклБобаФосса«Кабаре»(1972). ЙоханХёйзинга(1872–1945)–нидерландскийисториккультуры,имеетсяввидуеготруд «ОсеньСредневековья»(1919). ЛюсьенФевр(1878–1956)–французскийисторик,одинизоснователейтакназываемой школы «Анналов» (по созданному им вместе с Марком Блоком профессиональному журналу); шестнадцатому столетию посвящены его книги «Мартин Лютер: Закат» (1928), «Любовьнебесная,любовьземная:вокруг“Гептамерона”»(1944),«ПроблеманевериявXVI веке:религияРабле»(1942)идр. «Зулейка Добсон» (1911) – пародийно-сатирический роман английского писателя и художника-карикатуристаМаксаБирбома(1872–1956)ожизниоксфордскихстудентов. «Инквайрер»—известныйамериканскийтаблоид,издаетсяс1926г. Винченцо Беллини (1801–1835) – итальянский композитор, крупнейший мастер стиля бельканто,авторпопулярнойоперы«Норма»(1831)идр. Лукино Висконти (1906–1976) – итальянский режиссер; опера Рихарда Штрауса «Саломея» (1905) по либретто, основанному на символистской драме Оскара Уайльда, и пьеса английского барочного драматурга Джона Форда (1586–1640) «Как жаль ее развратницейназвать»(1633)былипоставленыимв1961г. Ла Лупе (Лупе Виктория Йоли Раймонд, 1936–1992) – кубинская певица, королева латиноамериканскогосоула;с1962г.жилавСША. Линд Уорд (1905–1985) – американский график, автор серии романов в картинках, начатойв1929г.выпуском«Божийчеловек». Рональд Фербэнк (1886–1926) – английский романист, декадентские произведения которого («Тщеславие», 1915; «Причуда», 1917 и др.) отличались гротескным юмором, повлиявшимпозднеенаО.Хаксли,И.ВоиМ.Спарк. Айви Комптон-Бернет (1884–1969) – английская писательница, автор «семейных» романов «Братья и сестры» (1929), «Мужья и жены» (1931), «Родители и дети» (1941), «Старшиеилучшие»(1944)идр.,действиекоторыхпроисходитввикторианскойАнглии. Тин Пэн Элли (букв. «улица жестяных кастрюль») – обобщенное название всего связанного в Америке с поп-музыкальным бизнесом (появилось около 1900 г.); так, в частности, именовали 28-ю улицу в Нью-Йорке, где располагались многочисленные музыкальныеиздательства,жиликомпозиторыиавторытекстовмодныхпесенок. Ливерпуль – здесь, вероятно, упомянут как родной город музыкантов рок-группы «Битлз». Луи Фейяд (1873–1925) – французский режиссер и сценарист; снял более 800 лент практическивовсехжанрахкино,написалоколо100сценариевдлядругихпостановщиков, известен своими сериалами «Жизнь как она есть» (1911–1913), «Фантомас» (1913–1914), «Вампиры»(1915–1916),«Жюдекс»(1916)идр.;егоретроспективавпарижскойсинематеке послеВтороймировойвойнысталаоткрытиемдляновогопоколениякинематографистов. УильямЭмпсон(1906–1984)–английскийпоэт,историкитеоретиклитературы,видный представитель «новой критики» в Великобритании; имеется в виду его книга «Разновидностипасторали:исследованиепасторальнойформывлитературе»(1966). Грета Гарбо (Густафсон, 1905–1990) – американская киноактриса шведского происхождения,вСШАс1925г.Голливудскаязвезда,блиставшаявроляхромантических, загадочных героинь («Мата Хари», 1931; «Королева Христина», 1933; «Анна Каренина», 1935;«Дамаскамелиями»,1936;«Ниночка»,1939,идр.);после1941г.неснималась. Джейн Мэнсфилд (Вера Джейн Палмер, 1933–1967) – американская актриса, секссимвол 1950–1960-х гг., стала широко известна после фильма Фрэнка Ташлина «Испортит лиуспехРокаХантера?»(1957);снималасьуСтэнлиДонена(«Поцелуйихзаменя»,1957, где ее партнером был Кэри Грант), Теренса Янга («Горячо – не обожгись!», 1961), не раз выступалапартнершейСтиваРивза(см.ниже). ДжинаЛоллобриджида(р.1927)–итальянскаякиноактриса,звезда1950-хгг.(«Ночные красавицы» Рене Клера, «Фанфан Тюльпан» Кристиана-Жака, «Хлеб, любовь и фантазия» ЛуиджиКоменчини,«СоборПарижскойБогоматери»ЖанаДеланнуа). ДжейнРассел(1921–2011)–американскаяактриса,модель,танцовщица;еекинодебют –вестернГовардаХьюза«Внезакона»(1943,всоавторствесГ.Хоуксом,фильмнесколько лет не пропускался цензурой в прокат), среди наиболее известных лент – экранизация автобиографического романа американской писательницы и киносценаристки Аниты Лус (1893–1981) «Джентльмены предпочитают блондинок» (1925), где она играла вместе с МэрилинМонро(реж.Г.Хоукс,1953;егопродолжение–«Аженятсянабрюнетках»,1955), мюзиклЛ.Бэкона«Французскаялиния»(1954)идр. Вирджиния Майо (Джонс, 1920–2005) – американская киноактриса 1940–1950-х гг. («Лучшие годы нашей жизни» Уильяма Уайлера, 1946; комедия Нормана Мак Леода «ТайнаяжизньУолтераМитти»поновеллеД.Тербера,1947,идр.). СтивРивз(1926–2000)–американскийкиноактериатлет,обладательтитулов«Мистер Америка», «Мистер Мир» и «Мистер Вселенная»; снимался преимущественно в Италии в костюмных постановках античных («Геракл», 1957) и восточных («Багдадский вор», 1961) сюжетов,всериалеоСандокане(«СандоканВеликий»,1965). ВикторМетьюр(1915–1999)–американскийкиноактер;игралвфильмахСесилаБ.де Милля(«СамсониДалила»),Дж.Форда(«МоядорогаяКлементина»,1946)идр. БеттДэвис(1908–1989)–американскаякиноактриса,в1930–1940-х–однаизведущих звезд Голливуда; наиболее известны ее роли в фильмах «Бремя страстей человеческих», «Лисички»,«ВсёоЕве». Барбара Стенвик (Руби Стивенс, 1907–1990) – американская киноактриса, одна из наиболее популярных голливудских звезд 1930–1940-х гг. («Стелла Даллас», 1937; «Леди Ева»,1941,идр.). ТаллулаБэнкхед(1903–1968)–американскаяактрисатеатраикино;известныееролив пьесеЛ.Хеллман«Лисички»(1939)ифильмеА.Хичкока«Спасательнаяшлюпка»(1944). ЭдвижФейер(Кунати,1907–1998) – французская актриса театра и кино; более 60 лет выступала на сцене и свыше 40 лет появлялась на экране, снималась у А. Ганса, М.Офюльса,М.Л’Эрбьеидр.,играланасценахПарижаиЛондона,вчастностиисполнила рольНастасьиФилипповнывэкранизации«Идиота»(1946),внаписаннойспециальнодля неепьесеЖанаКокто«Двуглавыйорел»(1946)иееэкранизации(1948). «DerRosenkavaler»(«Кавалеррозы»,1911) – опера Рихарда Штрауса по либретто Гуго фонГофмансталя. «Китайщина» – стиль оформительского искусства, популярный в начале XVIII века в Англии,ФранциииСША. Строубери Хилл – бывший пригород Лондона, теперь входит в Большой Лондон; известен среди прочего неоготической виллой, спроектированной для себя в 1749 г. писателемХорейшоУолполом(см.онемниже). ЯкопоПонтормо(1494–1557)–итальянскийживописец,представительфлорентийской школы,одинизосновоположниковманьеризма. МикеланджелодаКараваджо(1573–1610)–итальянскийживописец;егоэкспрессивная манерасложиласьвсложномпротивостояниигосподствовавшемуманьеризму. Жорж де Латур (1593–1652) – французский живописец, стилистика которого сформироваласьподвлияниемКараваджо. Эвфуизм – изысканный и витиеватый слог, характерный для английской литературы 1580–1590-х гг., имя и начало которому дал маньеристский прозаик и пасторальный драматургДжонЛили(1553–1606)всвоихроманах«Эвфуэс,илиАнатомияума»(1579)»и «ЭвфуэсиегоАнглия»(1580). АлександрПоуп(1688–1744)–английскийпоэт,переводчикГомера;наиболееизвестной былаегоироикомическаяпоэма«Похищениелокона»(1712). УильямКонгрив(1670–1729)–английскийдраматург,авторкомедийизсветскойжизни («Старыйхолостяк»,1693;«Любовьзалюбовь»,1695;«Такпоступаютвсвете»,1700). Хорейшо Уолпол (1717–1797) – английский писатель, автор романа «Замок Отранто» (1764),заложившегоосновы«готической»прозы. les precieux (фр. жеманники) – явление аристократического быта и салонных вкусов, сложившееся во Франции около середины XVII в. и отраженное в маньеристской поэзии Вуатюра, романах Скюдери; над ним издевался Мольер (комедия «Смешные жеманницы», 1659). ДжованниБаттистаПерголези(1710–1736)–итальянскийкомпозитор,представитель неаполитанской оперной школы, классик жанра комической оперы – так называемой оперы-буффа(«Служанка-госпожа»,1733). Эдвард Берн-Джонс (1833–1898) – английский художник и график, испытал влияние Дж. Рёскина и У. Морриса, наиболее известны его изысканные иллюстрации к роману Т.Мэлори«СмертьАртура». Уолтер Патер (Пейтер) (1839–1894) – английский писатель, художественный критик, истолковательэстетическихидеаловВозрождениявдухемодерна. Уильям Моррис (1834–1896) – английский поэт, прозаик, художник, общественный деятель,входилвгруппупрерафаэлитов. Баухауз–школастроительстваидизайна,основаннаяв1919г.вВеймареархитектором Вальтером Гропиусом и закрытая немецкими властями в 1932 г.; среди ее преподавателей были такие художники, как П. Клее и В. Кандинский, такие архитекторы, как Л. Мис ван дерРоэ;вшколеразвивалсяфункционалистскийподходкискусству. Басби Беркли (1895–1976) – американский хореограф и режиссер; известен классическими постановками бродвейских мюзиклов, с 1930-х гг. в Голливуде, где стал ведущим постановщиком мюзиклов: «42-ая улица» (реж. Ллойд Бэкон, в ролях Уорнер Бакстер,РубиКилериДжинджерРоджерс)и«Золотоискательницы1935года»(сГлорией Стюарт,ЭлисБрэди,ГлендойФаррел,ДикомПауэлломиАдольфомМенжу,гдеонбыли режиссером); последний фильм – второй из упоминаемого Сонтаг цикла, два других – «Золотоискательницы 1933 год а» (реж. М. Ле Рой, в гл. роли – Джинджер Роджерс) и «Золотоискательницы 1937 года» (реж. Л. Бэкон, в ролях – Гленда Фаррел, Дик Пауэлл и ВикторМур)–поставленыбезучастияБеркли. НоэлКауард(1899–1973) – английский драматург, сценарист, актер и продюсер, автор салонныхдрам,музыкальныхкомедийиревю. Сэмюэл Барбер (1910–1981) – американский композитор, автор кантаты «Молитвы Кьеркегора»(1954),опер«Ванесса»(1958),«АнтонийиКлеопатра»(1966)идр. «Переполох в раю» (1932) – фильм немецкого и американского кинорежиссера Эрнста Любича(1892–1947). «Мальтийский сокол» (1941) – знаменитый дебютный «черный» фильм американского кинорежиссера Джона Хьюстона (1906–1987) по мотивам одноименного «крутого» детективного романа Дэшила Хэммета (1930); в главных ролях – Хэмфри Богарт и Петер Лорре. «Всё о Еве» (1950) – музыкальный фильм американского кинорежиссера Джозефа Манкевича (1909–1993), получивший премию «Оскар» (1950) и приз Каннского кинофестиваля (1951); главную роль в нем исполнила Бетт Дэвис (см. выше), в эпизодическойролисняласьМэрилинМонро. «Бейте дьявола» (1954) – еще один «черный» фильм Джона Хьюстона, на этот раз по сценариюТрумэнаКапоте;вролях–Х.Богарт,Дж.Лоллобриджида,ДженниферДжонси ПетерЛорре. «Странная драма» (1937) – фильм Марселя Карне по сценарию Жака Превера с участием Луи Жуве, Мишеля Симона, Жан-Луи Барро; в эпизодической роли здесь снялся молодойЖанМаре. МейУэст(1892–1980)–американскаяактрисатеатраикино,яркийсекс-символ1930-х гг. («Красавица девяностых» Лео Мак Кэри, 1934; «Каждый день – воскресенье» Эдварда Сазерленда,1937,идр.);пьесыифильмысееучастиемнераззапрещалацензура. Эдвард Эверет Хортон (1887–1970) – американский характерный актер; снимался у Любича(«Переполохвраю»),Штернберга(«Дьявол–этоженщина»)идр. АнитаЭкберг(р.1931)–американскаямодельиактриса;снималасьвкинос1953г.,в том числе исполнила роль Элен Курагиной в экранизации «Войны и мира» Кингом Видором(1956).ВфильмеФедерикоФеллини«Сладкаяжизнь»(1959)сыграларолькинозвезды Сильвии; позднее появлялась у него в фильмах «Бокаччо-70» (1962), «Клоуны» (1970),«Интервью»(1987)идр. Марлен Дитрих (Мария Магдалена фон Лош, 1901–1992) – немецкая и американская актриса;кромефильмовДж.фонШтернбергаснималасьуФ.Ланга,Э.Любича,О.Уэллса, А.Хичкока,С.Крамераидр. «Девушка с золотыми глазами» (1961) – осовремененная экранизация одноименного романа О. де Бальзака французским кинорежиссером Жан-Габриэлем Альбикокко (1936– 2001). РобертЛеройРипли(1890–1949)–популярныйамериканскийкарикатурист,спортсмен, путешественник, собиратель разнообразных диковин, «звезда» радио, кино и телевидения несколькихдесятилетий;«Хотитеверьте,хотитенет»–ежедневная(с1918г.)рубрикаего спортивных карикатур в нью-йоркской газете «Глоб», давшая затем название музеямкунсткамерамвгородахигородкахСША,вплотьдонынешнегоодноименногопавильонав Голливуде. «На последнем берегу» (1959) – известный антивоенный фильм американского кинорежиссераСтэнлиКрамерапоромануНевиллаШюта;вфильмеснялисьАваГарднер, Энтони Перкинс и Грегори Пек, драматическую роль сыграл замечательный танцовщик ФредАстер. «Уайнсбург, Огайо» (1919) – книга рассказов американского писателя Шервуда Андерсона. «Мот»(1955)–фильмамериканскогокинорежиссераРичардаТорпасЛанойТернер. Мачисте – сверхчеловек, своего рода новый Геракл в итальянском кино 1910-х гг.; изобретен писателем Габриэле Д’Аннунцио и режиссером Бартоломео Пагано. Впервые появился в фильме «Кабирия» (1914), где его роль сыграл Джованни Пастроне, затем фигурировалвтомжеисполненииещевдесяткенемыхфильмов;был«воскрешен»в1960-х гг., когда его роль играли итальянские актеры, предпочитавшие выступать под «американскими»псевдонимами(КиркМоррис,РегПарк,МаркФорестидр.). «Родан» (1957), «Мистериане» (1959), «Водородный человек» (1959) – так называемые фильмы о чудищах японского кинорежиссера Исиро Хонды (см. о нем выше в эссе «Воображаякатастрофу»икомментарияхкнему). Руди Валли (Хьюберт Прайор, 1901–1986) – американский певец, ведущий на радио, актер кино, исполнитель сентиментальных песенок, особенно известный в 1920-е гг.; в 1928г.создалсвоюгруппу«ЯнкиизКоннектикута». «Темпераментная семерка» – английский поп-септет; приобрел популярность после 1957г.,специализировалсянаисполнении«белогоджаза»1920-хгг. ДжеймсДин(1931–1955)–американскийактер;учился,какиР.Стайгер(см.ниже),в Нью-Йорскской актерской студии, снимался в ролях молодых бунтарей 1950-х гг. («К востокуотрая»ЭлииКазанапоодноименномуромануДж.Стейнбека,1955),сталлегендой тогдашнеймолодежипослегибеливавтокатастрофе. Род Стайгер (Родни Стивен, 1925–2002) – американский актер; известен по фильмам «Душнойюжнойночью»(1967)Н.Джуисона,«Наполеон»(1970)С.Бондарчукаидр. УорренБитти(р.1937)–американскийкиноактер;самаяизвестнаяизраннихролей– Клайд в фильме Артура Пенна «Бонни и Клайд» (1967); в 1990 г. поставил по мотивам известного комикса фильм «Дик Трейси», где сыграл заглавную роль, в 1992-м выступил продюсеромгангстерскогофильма«Багси»,вкоторомтакжесыгралзаглавнуюроль. РубиКилер(1910–1993) – американская актриса, танцовщица, исполнительница песен; выступаланаБродвее,снималасьвмюзиклах. Сара Бернар (1844–1923) – французская актриса; играла мелодраматические и трагическиероли(«Дамаскамелиями»,ГамлетвдрамеШекспираидр.),в1910–1920-хгг. снялась в нескольких фильмах («Королева Елизавета», 1912; «Адриенна Лекуврёр», 1913; «Ясновидящая»,1923,идр.). МарияЛуиза(Лой)Фуллер(1862–1928)–американскаяактрисамюзик-холла;с1892 г. выступалавпарижскомтеатре«ФолиБержер». МартаГрэм(1893или1894–1991)–американскаятанцовщица,хореограф,крупнейшая представительница танца модерн; в 1927 г. открыла собственную балетную школу, выступаланасценевплотьдо1960-хгг. «Миддлмарч» (1871–1872) – роман из жизни британской провинции английской писательницыДжорджЭлиот(МэриЭннЭванс,1819–1880). «МайорБарбара»(1905)–драмаДжорджаБернардаШоу. «Марий-эпикуреец»(1885)–роман-стилизацияУ.Патераизантичнойжизни. МалюткаНелл(НеллТрент)–героиняроманаДиккенса«Лавкадревностей». «ПейтонПлейс»(1956) – роман о захолустном городке в Новой Англии американской писательницы Грейс Метелиос (Репентини, 1924–1964); в 1957 г. экранизирован Марком Робсоном(вглавнойроли–ЛанаТернер),позжесталосновойпопулярноготелесериала. Тишман Билдинг – так называются два офисных здания в Нью-Йорке, построенные в 1957 и 1959 гг. Более популярен, вошел в кино, песни, литературу и др. небоскреб на 5-й авенюМанхэттенамежду52и53-йулицами. Единаякультураиновоемировосприятие …о«распадемировосприятия»…–изэссеТ.С.Элиота«Поэты-метафизики»(1921). …лекции Ч. П. Сноу… – имеется в виду лекция английского писателя Чарльза Перси СноувКембриджскомуниверситете(1959),тогдажеопубликованнаяотдельнымизданием под титулом «Две культуры и научная революция» и развивавшая положения его более ранней статьи «Две культуры» в журнале «Нью стейтсмен» (1956); в 1963 г. писатель выпустил в Кембридже расширенное издание книги с учетом ее широкого обсуждения. Стоит отметить, что критике Сноу подвергал не столько состояние культуры, сколько технологическийуклонуниверситетскогопреподаваниявВеликобританиипосравнениюс ГерманиейиСША. Милтон Бэббитт (1916–2011) – американский композитор; развивал сериальную техникувмузыке. Мортон Фельдман (1926–1987) – американский композитор, развивавший концепцию музыкальной непредопределенности, близкую Джону Кейджу и во многом вдохновленную абстрактнымэкспрессионизмомвсовременнойамериканскойживописи(М.Роткоидр.). МаркРотко(МаркусРоткович,1903–1970)–американскийхудожник-новатор,выходец изРоссии. ФрэнкСтелла(р.1936)–американскийхудожникискульптор-минималист. Мерс Каннингем (1919–2009) – американский хореограф, радикальный обновитель «современноготанца». Джеймс Уэринг (1922–1975) – американский хореограф, одна из ведущих фигур ньюйорского авангарда конца 1950-х – начала 1960-х гг., чьи эксцентрические эксперименты повлиялинастановлениежанрахеппенинга. Гарольд Розенберг (1906–1978) – американский художественный критик, теоретик акционизма и абстрактного экспрессионизма в американском искусстве, автор ставшего знаменитымсборникастатей«Традицияновизны»(1959). Джозеф Альберс (1988–1976) – немецкий, а с 1933 года американский художник и дизайнер,теоретикискусства,педагог,представительоп-арта. ЭлсуортКелли(р.1923)–американскийхудожник-минималист. Чарльз Скотт Шеррингтон (1857–1952) – британский ученый-нейробиолог, лауреат Нобелевскойпремиипофизиологииимедицине(1932). Ричард Бакминстер Фуллер (1895–1983) – американский изобретатель, архитектор и дизайнер,теоретиксложныхсистем. Дьёрдь Кепеш (1906–2001) – австро-венгерский, а затем английский и американский художник, дизайнер, теоретик визуальных искусств, педагог. Многие годы работал в Массачусетском технологическом институте в тесном контакте с Норбертом Винером, Р. Бакминстером Фуллером, архитектором Вальтером Гропиусом, психологами Рудольфом АрнхаймомиЭрикомЭриксоном. Мэтью Арнольд (1822–1888) – английский поэт, литературный критик, теоретик искусства;наиболееизвестенкнигойэссе«Культураианархия»(1869),гдеразвиваетидею оморальноймиссииискусства,заменяющеговэтомотношениирелигию. МаршаллМаклюэн(1911–1980) – канадский теоретик современной культуры и средств массовойкоммуникации. МаксВебер(1864–1920)–немецкийэкономистисоциолог;главнымнаправлениемего работы было многостороннее исследование процессов рационализации, сформировавших современныеобществаЗапада. Пьер Булез (р. 1925) – крупнейший французский композитор, теоретик музыки, выдающийсядирижер. Уильям Сьюард Берроуз (1914–1997) – американский писатель-экспериментатор, виднейшаяфигурабитническогодвиженияивсегобит-поколения. The Supremes – американское женское певческое трио, в 1960-е гг. уступало в популярноститолькогруппе«Битлз».ИзучастницнаиболееизвестнаДайанаРосс(р.1944). БаддБеттикер(1916–2001)–американскийкинорежиссер;работалвразныхжанрах,но наибольшего успеха добился фильмах о корриде и вестернах. «Взлет и падение Легса Даймонда» (1960) – его фильм о гангстерах, позже, в конце 1980-х, лег в основу бродвейскогомюзикла,имевшегоуспех. Диона Уорик, также Дайон Уорвик (р. 1940) – американская поп-певица, двоюродная сестраУитниХьюстон.Средиеепредков–афроамериканцы,бразильцы,голландцы.Пелас шестилет,сталалауреатоммногочисленныхпремий,живетвРио-де-Жанейро. Джаспер Джонс (р. 1930) – американский художник; испытал воздействие работ М.Дюшана,былблизоккЭ.УорхолуиР.Раушенбергу. Послесловие:тридцатьлетспустя Эссебылонаписанов1995г.какпредисловиекпереизданиюв1996-мкниги«Против интерпретации», предпринятому в Испании издательством «Альфагуара». В том же году опубликовано на английском языке в журнале «Трипенни ревью», впоследствии вошло в сборник«Кудападаетударение»(2001). «Благодетель»(1963)–дебютныйроманС.Сонтаг. Синематека, точнее Французская синематека – собрание фильмов и кинодокументов, начало которому положили в 1936 г. в Париже режиссер Жорж Франжю, киновед Жан Митри и фанатический любитель кино Анри Ланглуа; последний стал и на протяжении жизни(онумерв1977г.)оставалсядиректоромэтогокрупнейшегоархива. УистенХьюОден(1907–1973)–английскийиамериканскийпоэт,драматург,эссеист. «Дорз» – американская рок-группа, создана в 1965 г.; объектом своего рода культа, особенно после безвременной смерти, стал ее лидер и вокалист, поэт Джим Моррисон (1943–1971). Б.Дубин Примечания 1 Отмечу, кажется, первую по времени: заглавное эссе книги, переведенное Виктором Голышевым и опубликованное в журнале «Иностранная литература» в 1992 г. с предисловием Алексея Зверева (в том же году в «Независимой газете» появилось в моем переводеэссе«ПодзнакомСатурна»изодноименногосборника). 2 См.:СонтагС.Зановорожденная.М.:АдМаргинемПресс,2013,с.146–147;впоследней записиуказываются«Заметкиобинтерпретации»,надкоторымиидетработа. 3 Тамже,с.23. 4 «Самоуничтожение, исчерпание собственного смысла, самого значения изложенных понятий,–вприроделюбойдуховнойпрограммы.(Почему“дух”иприходитсякаждыйраз изобретатьзаново.)»–SontagS.StylesofRadicalWill,N.Y.:Farrar,StrausandGiroux,1976,p. 33. 5 Характерна в этом плане ее заметка о Симоне Вейль в настоящей книге или эссе о ВальтереБеньямине«ПодзнакомСатурна»,вошедшееводноименнуюкнигу1969г.Момент поражения и «никудышности» как принципиальную характеристику интеллектуального слоя образованного еврейства, или, точнее, одного из его типов, выделяет в своей развернутойстатье1968г.оБеньяминеиХаннаАрендт,см.:АрендтХ.ВальтерБеньямин, 1892–1940//Онаже.Людивтемныевремена.М.:МШПИ,2002. 6 СонтагС.Офотографии.М.:АдМаргинемПресс,2013,с.16. 7 SontagS.WheretheStressFalls.L.:Vintage,2003,p.285–286. 8 Ипродолжает:«Соответственнотот,ктовпроизведенииискусстваищетпереживанийза судьбу Хуана и Марии или Тристана и Изольды и приспосабливает свое духовное восприятие именно к этому, не увидит художественного произведения как такового. Горе Тристана есть горе только Тристана и, стало быть, может волновать только в той мере, в какой мы принимаем его за реальность. Но все дело в том, что художественное творение являетсятаковымлишьвтойстепени,вкакойононереально…Однакобольшинстволюдей неможетприспособитьсвоезрениетак,чтобы,имеяпередглазамисад,увидетьстекло,то есть ту прозрачность, которая и составляет произведение искусства: вместо этого люди проходятмимо–илисквозь–незадерживаясь,предпочитаясовсейстрастьюухватитьсяза человеческую реальность, которая трепещет в произведении… На протяжении XIX века художники работали слишком нечисто. Они сводили к минимуму строго эстетические элементы и стремились почти целиком основывать свои произведения на изображении человеческогобытия».(Пер.С.Л.Воробьева.)–Прим.пер. 9 Пер.Г.А.Рачинского. 10 Пер.В.Г.Аппельротаподред.Ф.А.Петровского. 11 То же самое можно сказать и о другом итальянском писателе, Томмазо Ландольфи, авторебольшогоколичестварассказовироманов,родившимсясПавезеводингод(1908)и здравствующим и работающим до сих пор. На английском он пока представлен только одним томом, содержащим девять коротких рассказов и озаглавленным «Жена Гоголя и другие рассказы». Это совершенно другой и в своих лучших произведениях более сильный писатель, чем Павезе. Его черный юмор, строгий ум и весьма сюрреалистические взгляды сближают его с писателями вроде Борхеса и Исаака Динесена. Но нечто присущее и Ландольфи, и Павезе отличает произведения обоих от большинства написанного в сегодняшней Англии и Америке, и, по всей видимости, делает их неинтересными для читающих англо-американскую прозу. Это нейтральная, сдержанная манера письма. При этом в их повествовании отчетливо видна работа мысли. Но проза современной Америки редко прибегает к кропотливой, непоказной работе ума. Американские писатели сегодня предпочитают либо публиковать факты, либо интерпретировать самих себя. Если в их произведенияхислышенголосповествователя,тоон,скореевсего,оказываетсясовершенно лишенсмыслаилижетонегоискусственихвастлив.Такимобразом,американскаяпрозав большинстве своем в высшей степени риторична (то есть в ней для достижения цели используется слишком много средств), в противоположность классическому характеру европейской прозы, достигающей эффекта без риторики, благодаря сдержанной, нейтральной, прозрачной манере письма. И Павезе, и Ландольфи писали именно в этой нериторическойтрадиции. 12 TheBurningBrand(«Горящийфакел»):Diaries1935–1950byCesarePavese.Translatedby A.E.Murch(withJeanneMolli).NewYork,Walker&Cо. 13 Notebooks, 1935–1942, by Albert Camus. Translated from the French by Philip Thody. New York,Knopf,1963. 14 ManhoodbyMichelLeiris.TranslatedfromtheFrenchbyRichardHoward.NY,Grossman. 15 Пер.В.ЕлисеевойиМ.Щукина. 16 В 1965 году Леви-Стросс опубликовал Le Cru et le Cuit («Сырое и приготовленное») обширноеисследование«мифологий»приготовленияпищиупримитивныхплемен. 17 Леви-Стросс рассказывает в «Печальных тропиках», что, хотя он давно был знаком с работами французских антропологов и социологов, именно чтение «Первобытного общества» Лоуи в 1934 или 1935 году было причиной его перехода от философии к антропологии. «Так началось мое близкое знакомство с англо-американской антропологией… Я начинал как общепризнанный противник Дюркгейма и враг любой попыткииспользоватьсоциологиювметафизическихцелях». Тем не менее Леви-Стросс дал ясно понять, что считает себя подлинным наследником традиций Дюркгейма-Мосса, и недавно без всяких сомнений связал свою работу с философскими проблемами, поднятыми Марксом, Фрейдом и Сартром. На этом уровне методологического анализа он вполне сознает, чем обязан французским авторам – в частности,EssaisurQuelquesFormesPrimitivesdeClassification(1901–1902)Дюркгеймаи Мосса и Essai sur le Don последнего (1924). Первое эссе дало Леви-Строссу отправную точкутаксономиии«конкретнойнауки»опервобытныхлюдяхв«Неприрученноймысли». Из второго эссе, в котором Мосс выдвигает предположение, что отношения кровного родства,экономическогоиритуальногообменаиязыковыесвязи–это,всущности,явления одногопорядка,Леви-Стросспозаимствовалподход,которыйвполноймеревоплощенвLes StructuresElémentairesdelaParenté.ДюркгеймуиМоссу,каконнеразповторял,онобязан определеннымпроникновениемвсущностьтого,чтоlapenséediteprimitiveétaitunepensée quantifi ée (так называемое первобытное мышление поддается количественному измерению). 18 Датапубликации«Разрушенияразума»–1954год.–Прим.пер. 19 Studies in European Realism, translated by Edith Bone. New York, Grosset & Dunlap, 1964. Realism in Our Time, translated by John and Necke Mander. New York, Harper & Row, 1964. (ЭссеоТомасеМаннебылипереведеныиопубликованывАнглиивтомже1964-м.Работа «Историческийроман»,написаннаяв1936-м,такженедавнопереведена.) 20 Мировоззрение(нем.). 21 Снеобходимымипоправками(лат.). 22 Jean-PaulSartre.SaintGenet.TranslatedbyBernardFrechtman.NewYork,GeorgeBraziller. 23 The Age of Suspicion by Natalie Sarraute. Translated by Maria Lolag. New York, Braziller, 1963. 24 Здесь и далее цитируется по книге: Саррот Н. Тропизмы. Эра подозрения. М.: Полинформ-Талбури,2000. 25 Notes and Counter Notes: Writing on the Theatre by Eugène Ionesco. Translated by Donald Watson.NewYork,Grove. 26 TheDeputy by Rolf Hochhuth. Translated by Richard and Clara Winston. New York, Grove, 1964. 27 Metatheatre:ANewViewofDramaticForm,byLionelAbel.NewYork:Hill&Wang,1963. 28 Пер.Е.ГолышевойиБ.Изакова. 29 «КорольЛир»(V,3,пер.Б.Пастернака). 30 Насамомделе,каксказалвинтервью«Нувельлетерер»26мая1966годасамБрессон, копиябылатолькооднаисудьбаееемунеизвестна.–Прим.пер. 31 Здесьдажеестьопределенная«избыточность».В«Ангелахгреха»пятьглавныхгероев– молодая послушница Анн-Мари, другая послушница Мадлен, настоятельница, ее помощница – мать Сент-Жан и убийца Тереза, и довольно тщательно воспроизведенный быт: повседневная жизнь монастыря и т. д. В «Дамах Булонского леса» уже заметно упрощение, здесь меньше фона. Только четверо персонажей ясно обрисованы: Элен, ее бывший любовник Жан, Аньес и мать Аньес. Все прочие практически незаметны. Мы, например,никогданевидимлицаслуг. 32 Подзаголовокфильмаявственновыражаетеготему:«Духдышит,гдехочет». 33 Последнимчерно-белымфильмомБрессонастала«Мушетта»(1966).Всепоследующие («Кроткая», «Четыре ночи мечтателя», «Ланселот Озерный», «Вероятно, дьявол» и «Деньги»)былицветными.–Прим.пер. 34 МишельМонтень.Опыты,гл.Х.Пер.А.С.Бобовичаидр.М.:Голос,1992. 35 Глазабезлица(фр.). 36 Большинство артистов, исполняющих главные роли, замечательны и сами по себе и с точки зрения ясности своего присутствия на экране. Однако следует заметить, что, в отличиеотдвухдругихигровыхфильмовРене,в«Мюриэли»доминируетДельфинСейригв роли Элен. В этом фильме (но не в «Мариенбаде») Сейриг обнаруживает целый комплекс достаточно ненужных и устарелых приспособлений звезды в специфически киношном смысле слова. То есть она не просто играет (или совершенным образом наполняет) роль. Она становится независимым эстетическим объектом. Каждая деталь ее внешности – седеющие волосы, подпрыгивающая походка, шляпы с широкими полями и элегантно небрежная одежда, ее неуклюжесть в радости и несчастье – все это излишне и все это незабываемо. 37 Religion from Tolstoy to Camus. Selected and introduced by Walter Kaufmann. New York: Harper,1961. 38 Кауфман уверяет, что составил «разнородное собрание текстов, которые не приводят читателяккакому-либопредопределенномузаключению,нодаютверноепредставлениео том, насколько сложен наш сюжет» – однако именно эту задачу книга и не выполняет. Попростунечестнопредставлятькатолицизмпапскимиэнцикликамидадвумясполовиной страницами из Маритена (неосхоластические рассуждения о «случайной истине» и «необходимой истине» будут по большей части непонятны аудитории, на которую рассчитана антология). Отрывки из Габриэля Марселя, Симоны Вейль или из переписки между Полем Клоделем и Андре Жидом о предполагаемом обращении последнего в католичество, или из Ньюмана (о «грамматике согласия»), или из лорда Актона, или из «Дневника сельского священника» Бернаноса – все это было бы интереснее и познавательнее, чем то, что выбрал Кауфман. Протестантизм представлен с большей щедростью,новсеженеадекватно:двепроповедипастораНимёллера,слабаявыдержкаиз Пауля Тиллиха (какое-нибудь эссе из «Протестантской эры» здесь выглядело бы куда уместнее), самая неинтересная глава из эпохальной книги Альберта Швейцера об эсхатологии в Новом завете, переписка Барта с Бруннером и уже упомянутый бесцветный отрывок из Энслина. И вновь резонный вопрос: почему выбрано именно это? Почему не что-нибудьсущественноеизБартаилиБультмана?ИудаизмуКауфманапредставлентолько одним очевидным текстом – главой Мартина Бубера о хасидах. Почему не взять у Бубера что-нибудьболеесодержательное,напримерглавуиз«ЯиТы»или«Проблемычеловека»,– или,ещелучше,включитькакой-нибудьтекстФранцаРозенцвейгаилиГершомаШолема? ПочемухудожественнаялитературапредставленатолькоТолстым иДостоевским?Почему не взять Гессе (например, «Паломничество в страну Востока»), или притчи Кафки, или «Апокалипсис»Д.Г.Лоуренса?ОсобеннозагадоченакцентнаКамю,чьеимяпоявляетсяв заглавии и чье великолепное эссе о смертной казни завершает книгу. Камю не был религиозениникогданаэтонепретендовал.Одноизположенийегоэссе–то,чтосмертная казнь может быть обоснована только как религиозное наказание и, следовательно, совершеннонеприемлема,этическиотвратительнавнынешнихусловияхпострелигиозного светскогообщества. 39 Даймнестаканводы(итал.). 40 Мировосприятие эпохи является не только ее наиболее определяющей, но и наиболее изменчивой чертой. Оно может включать в себя идеи (интеллектуальная история) и поведение (социальная история) эпохи, даже не касаясь восприятия или вкусов, формировавших эти идеи, это поведение. Редко можно встретить такие исторические исследования – подобные работам Хёйзинги о позднем Средневековье или Февра о Франции шестнадцатого века, – которые действительно говорили бы нам что-то о мировосприятииизучаемогопериода. 41 Чрезмерность(фр.). 42 Сартрзамечаетнаэтов«СвятомЖене»:«Элегантностьестьвысшаястепеньдействия, делающаявидимойогромнейшиепластыбытия». 43 Ортегаписалтогда:«Еслиискусствоспасетчеловечество,толишьодним:освободивего отсерьезногоотношениякжизниивернувкнепредвосхитимомуребячеству».