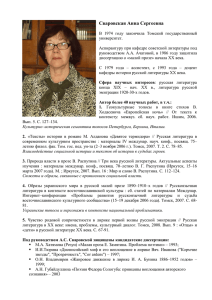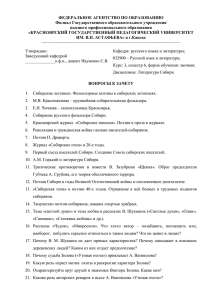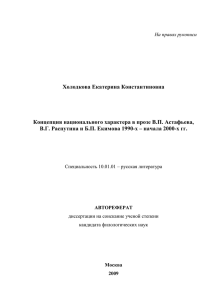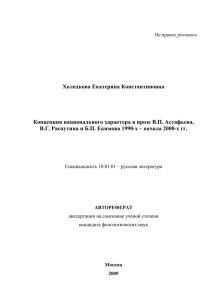293 Заключение «Деревенская проза» возникает в 1960
реклама
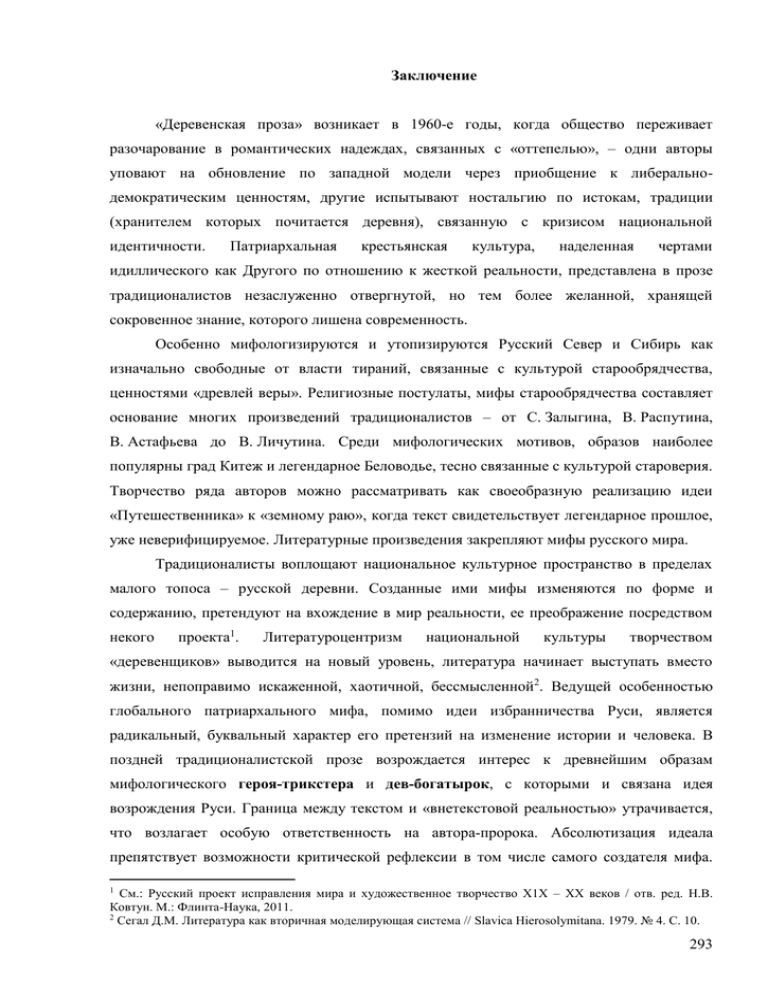
Заключение «Деревенская проза» возникает в 1960-е годы, когда общество переживает разочарование в романтических надеждах, связанных с «оттепелью», – одни авторы уповают на обновление по западной модели через приобщение к либеральнодемократическим ценностям, другие испытывают ностальгию по истокам, традиции (хранителем которых почитается деревня), связанную с кризисом национальной идентичности. Патриархальная крестьянская культура, наделенная чертами идиллического как Другого по отношению к жесткой реальности, представлена в прозе традиционалистов незаслуженно отвергнутой, но тем более желанной, хранящей сокровенное знание, которого лишена современность. Особенно мифологизируются и утопизируются Русский Север и Сибирь как изначально свободные от власти тираний, связанные с культурой старообрядчества, ценностями «древлей веры». Религиозные постулаты, мифы старообрядчества составляет основание многих произведений традиционалистов – от С. Залыгина, В. Распутина, В. Астафьева до В. Личутина. Среди мифологических мотивов, образов наиболее популярны град Китеж и легендарное Беловодье, тесно связанные с культурой староверия. Творчество ряда авторов можно рассматривать как своеобразную реализацию идеи «Путешественника» к «земному раю», когда текст свидетельствует легендарное прошлое, уже неверифицируемое. Литературные произведения закрепляют мифы русского мира. Традиционалисты воплощают национальное культурное пространство в пределах малого топоса – русской деревни. Созданные ими мифы изменяются по форме и содержанию, претендуют на вхождение в мир реальности, ее преображение посредством некого проекта1. Литературоцентризм национальной культуры творчеством «деревенщиков» выводится на новый уровень, литература начинает выступать вместо жизни, непоправимо искаженной, хаотичной, бессмысленной2. Ведущей особенностью глобального патриархального мифа, помимо идеи избранничества Руси, является радикальный, буквальный характер его претензий на изменение истории и человека. В поздней традиционалистской прозе возрождается интерес к древнейшим образам мифологического героя-трикстера и дев-богатырок, с которыми и связана идея возрождения Руси. Граница между текстом и «внетекстовой реальностью» утрачивается, что возлагает особую ответственность на автора-пророка. Абсолютизация идеала препятствует возможности критической рефлексии в том числе самого создателя мифа. См.: Русский проект исправления мира и художественное творчество Х1Х – ХХ веков / отв. ред. Н.В. Ковтун. М.: Флинта-Наука, 2011. 2 Сегал Д.М. Литература как вторичная моделирующая система // Slavica Hierosolymitana. 1979. № 4. С. 10. 1 293 Слово становится инструментом преображения настоящего, средством борьбы со злом, существующим в реальном мире. Литература наследует авторитет церкви, выступает средством познания бытия, произведения выстраиваются на принципах иконописи, существенную роль играет поэтика экфрасиса. Выход «деревенской прозы» в метафизику, озадачивший критику конца 1970-х годов, продемонстрировал исчезновение почвы под ними, когда нет уже пространства самореализации, но только «миражное» футурологическое пространство цивилизации. Крестьянство как хранящее древние заветы ассимилируется с городской публикой, образ хозяина травестируется и профанируется. Нарушается мифопоэтический принцип изображения целого через часть. Сама картина национального прошлого теряет однозначность, авторы прочитывают его в контексте различных эпох (славянское язычество, средневековье, раскол). Наиболее рельефно этот переход от идиллических образов крестьянского поля, избы, сада к мистическим куполам Китежа отразился в зрелых произведениях В. Личутина (романы «Скитальцы», 1986; «Раскол», 1990–1996) и прозе В. Распутина. Разрушение глобального патриархального мифа означено зрелым творчеством В. Шукшина, в произведениях мастера зафиксировано появление маргинального героя, образ крестьянского мира, идеализированного в ранней прозе (сборник «Сельские жители», 1964), историзируется, грань между текстом и «внетекстовой реальностью» восстанавливается в правах. Важнейшей идеей позднего Шукшина и становится идея единения Руси, открытие способов коммуникации, которые могли бы сблизить деревенского жителя, крестьянина, перебравшегося в город, и подлинного интеллектуала. Автор сталкивает героев на перекрестках судьбы, ставит перед выбором, но чаще всего они расходятся чужими, говорят на разных языках. Антиномия «своего» и «чужого» – определяющая в прозе традиционалистов, остается предельно напряженной, трагически неразрешимой. «Чужое», даже при видимом интересе к нему, не усваивается «своим», «свое» обороняется «чужого». Это обстоятельство показывает, насколько для «сохранения жизненного импульса» русского этноса важны именно традиционные ценности. Творчество В. Шукшина воплощает своеобразный переход от классической прозы «деревенщиков», отмеченной дидактическим пафосом, к игровой стратегии постмодернистов, превративших национальные мифологемы в предмет откровенной пародии, фарс: тексты В. Пелевина, В. Сорокина, В. Ерофеева, Л. Петрушевской, Т. Толстой. Шукшин же, напротив, не забывает о нравственной норме жизнеустроения, но специально ее никогда не акцентирует. Трезвый взгляд на неизбежность исторического прогресса не отменяет ценностей прошлого и настоящего, тех мифов, которые их питают. 294 «Диалогические» отношения между героями-идеями приводят к принципиальной «открытости» текстов мастера, но не к эффекту самодовлеющего, самоценного хаоса, как в эстетике постмодернизма. Знаковый рассказ А. Солженицына «Матренин двор» (1959), осознанный критикой, рядом авторов (прежде всего В. Распутиным) как стоящий у истоков современного традиционализма, на уровне поэтики угадывается во многих произведениях направления: от итогового романа «Дом» Ф. Абрамова (1973–1978), новеллы Б. Екимова «Холюшино подворье» (1979) до поздних текстов В. Распутина («Изба», 1999; «Дочь Ивана, мать Ивана», 2003) – так осуществляется процесс вторичной мифологизации. С особым тщанием известный сюжет обыгрывается в литературе постмодернизма, что стремится развести художественное творчество и идеологию, вернуть писателя к задачам эстетики, лишить пророческого статуса («Новые Робинзоны» Л. Петрушевской, 1991). Выход из пространства мифа в реальность, разочарование в проектах переустройства бытия заставляют авторов конца ХХ века особенно пристально рассматривать фигуры «властителей дум». К идеям, пророческой роли А. Солженицына относятся с вежливым вниманием или откровенно иронически: «Москва 2024» В. Войновича (1989), «Катастройка» А. Зиновьева (1990), монструозный образ Ивана Денисовича в романе «Голубое сало» В. Сорокина. И, придавая анафеме постмодернистские стратегии бытия, поздняя «деревенская проза» поднимает на свои знамена лозунги национал-патриотов, отходит от заповедей классического славянофильства. Призывы к изоляционизму Руси во спасение от соблазнов глобализации как дьяволизации, звучащие в последних текстах В. Белова, В. Распутина3, плохо сочетаются с проповедью внутреннего самосовершенствования, ограничения и непротивления А. Солженицына как носителя интеллектуального сознания, отличного подчеркнутой значимостью «я». Итак, в современной прозе традиционалистов, ставшей хранительницей национальной мифологии, само присутствие идеального, вторгающегося в тексты реалистической «оправдывается» поэтики, ставящего различными под путями. сомнение действенность Мифологизация деревенской мимезиса, старины мотивируется опорой на сон или видение (как в знаковом тексте А. Солженицына), на образы старых фотографий (рассказ «Сибиряк» В. Астафьева), воспоминаний о прошлом, детстве («Лад» В. Белова, ранние тексты В. Астафьева), наконец на чудо, дарованное страстотерпцу, интуитивное прозрение истины (поздние тексты В. Распутина, роман «Скитальцы» В. Личутина). 3 Славникова О. Деревенская проза ледникового периода // Новый мир. 1999. № 2. С. 203-204. 295 Замкнутость, отдельность мифологического пространства по отношению к «остальному миру» обеспечивается в том числе его удаленностью в пространстве (деревня Лебяжка в «Комиссии» С. Залыгина, 1975), островным положением (Матера В. Распутина, сокровенное Беловодье В. Личутина, Сладкий остров А. Яшина, Боганида В. Астафьева). Когда сакральное лишается естественной защиты, окрест избранной земли возводятся искусственные границы, переход через которые жестко карается, разрабатываются мифологемы «врага» и «жертвы», что и демонстрирует повесть Б. Екимова «Пиночет» отразившая (1999), глубинную укорененность мобилизационных ценностей в ментальности, культуре нации, преодоление которых пугает утратой собственного лица, языка. В поздней традиционалистской прозе прежние обитатели мифологических пределов оказываются вынуждены самоопределяться в истории, авторы оставляют за ними несколько перспектив: Одним из вариантов выживания героя становится игра, которая то усиливает, то скрадывает ощущение трагизма современности, в каждый отдельный момент мироборотень, совершив очередной перевертыш, меняет полюса, систему координат. Позднее творчество В. Шукшина демонстрирует несколько игровых стратегий: игру как ритуал, сумму правил, гармонизирующих жизнь человека, игру-фантазию, освобождающую от власти настоящего хоть на миг, и собственно бунт, богоборчество, игру со смертью, в которой герой-трикстер заведомо обречен. Здесь игра не освобождает от ужаса бытия, но оставляет иллюзию неокончательности приговора судьбы. Подлинная Русь, как град Китеж, обретается в инобытии. Пределы настоящего приращиваются за счет мира смерти, который мыслится в соответствии с древними языческими представлениями как существующий где-то рядом с настоящим, куда можно совершить путешествие-паломничество, увернувшись из-под колес истории. Эта надежда и движет «тихими персонажами» поздних рассказов В. Распутина, странниками В. Личутина, для которых истинная Русь соотносится с метафизическим пространством, тайной. Сокровенную землю пытаются отстоять силой, сопротивление превращается в Возмездие, для чего призываются активные, мужественные герои, причем на равных сражаются омоновцы, девы-богатырки и воплотившиеся святые Древней Руси, как это происходит в итоговой повести В. Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» (2003). Самостояние сильных духом, исполняющих Завет и потому принципиально отрицающих революционные меры, демонстрируют повести Б. Екимова. Однако наблюдается внутреннее противоречие между высотой цели и средствами ее достижения, 296 когда в ход идут колючая проволока, доносы, жесточайшая дисциплина. Опыт реализации рая на земле показал, что за внешней упорядоченностью бытия следует борьба за внутренний мир человека, который суть ребенок и всегда готов к перевоспитанию/перевоплощению. В самом образе, доказывает С. Аверинцев в работе о наследии М. Бахтина, заложена синонимия между идеями трупа и ребенка4. Ребенка – потому что ты tabyla rasa и всегда готов к актуализации, а трупа – ибо тебе хорошо известны последствия обратного процесса: любая переделка человека есть переделка детей в трупы, куклы, автоматы. Такими людьми просто управлять, их не следует принимать всерьез, но это не суть трагедия, ибо у них всегда все впереди, как у детей. Колхозный народ, оставленный на произвол судьбы («теперь и вести некому – спасайтесь сами»5), помнит язык и навыки, внедренные системой, ждет Отца-Благодетеля, Хозяин и должен принять всю ответственность «за тех, кого приручил». Этот выбор тяжек и не может гарантировать Исход, скорее отсрочку неизбежного. Ироническое остранение от истории как форма свободы от нее. Борьба со временем наивна и бесполезна (не случайно в тексте Л. Петрушевской повествование ведется от лица девочки, еще надеющейся ускользнуть власти рока), подчинение ему равносильно утрате личности, остается только страдание вне перспективы воздаяния, но с надеждой на милосердие таких же «отставших», аутсайдеров, до которых большой истории дела нет. Фактически демонстрируя остывание духовности и веры, беспомощность слова перед мировым злом, писатели-традиционалисты не отвергают их для себя, современная проза сохраняет миромоделирующее содержание, но теперь оно дополняется элементами игры, мистификации. Герой-трикстер, ставший одним из самых устойчивых героев конца 1970-х годов, не случайно появляется в некогда идиллическом пространстве деревни, где еще жива остаточная память о богатырском прошлом, значит, сохраняется сама возможность ответа на брошенный историей вызов (для чего и призваны девыбогатырки); с истечением надежды трикстер попадает в трагическое положение, не менее трагическое, чем сам культурный герой-избавитель. 4 5 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // Россия. Russia. № 6. 1988. С. 119–130. Екимов Б. На распутье // Новый мир. 1996. № 6. С. 175. 297