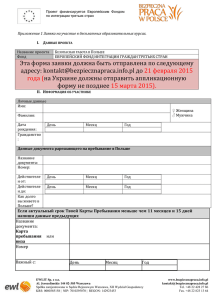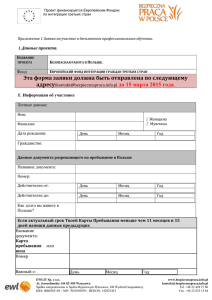pobierz
advertisement

Новые книги ИЗ ПОЛЬШИ 57. N0 ОЛЬГА ТОКАРЧУК ПАВЕЛ ХЮЛЛЕ МАГДАЛЕНА ТУЛЛИ ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ ИГНАЦИЙ КАРПОВИЧ ПАТРИЦИЯ ПУСТКОВЯК ЛУКАШ ОРБИТОВСКИЙ БРИГИДА ХЕЛЬБИГ АГНЕШКА ТАБОРСКАЯ МАРИУШ СЕНЕВИЧ АНДЖЕЙ СТАСЮК ИОАННА БАТОР КШИШТОФ ВАРГА ФИЛИП СПРИНГЕ Р ЗЕМОВИТ ЩЕРЕК ВОЙЦЕХ ЯГЕЛЬСКИЙ ПАВЕЛ СМОЛЕНЬСКИЙ ВИТОЛЬД ШАБЛОВСКИЙ КАТАЖИНА БОНДА МАРЧИН ВРОНЬСКИЙ НОВЫЕ КНИГИ ИЗ ПОЛЬШИ ОСЕНЬ 2014 ©Польский Институт Книги, Краков 2014 Редактор: Изабелла Калюта, Агнешка Старонь Переводы: Ирина Адельгейм, Игорь Белов, Жанна Слоневская, Никитa Кузнецов, Антон Марчинский, Ксения Старосельская, Полина Козеренко Более подробную информацию о польской литературе вы найдете на сайте www.bookinistitute.pl Графическое оформление, подготовка к печати Studio Otwarte, www.otwarte.com.pl ОТ РЕДАКТОРА Представляем вашему вниманию очередной выпуск каталога «Новые книги из Польши», в котором мы ежегодно публикуем самые заметные польские новинки издательского рынка. И этот год не исключение: как всегда, мы подготовили для вас интересные романы, захватывающие истории, интимные признания и яркие репортажи со всех уголков света. Всего их двадцать, и мы рекомендуем прочитать их все! Каталог начинает новая, долгожданная книга Ольги Токарчук – автора, которого ценят за воображение и отточенное писательское мастерство и который при этом необыкновенно популярен в Польше и прекрасно известен за границей (ее предыдущие книги переведены на тридцать три языка). Новый толстый роман писательницы, как сообщает подзаголовок, – «великое путешествие через семь границ, пять языков и три больших религии, не считая маленьких». «Книги Якова» повествуют о необыкновенной и полной неожиданных разворотов судьбы биографии Якова Франка, еврейского мистика и еретика, считавшегося последним Мессией. Но не только. Роман Ольги Токарчук – это также крайне удачная попытка совладать с историей – в нем нашлось место и для евреев, и для женщин, и для метафизической тоски, словом, всего того (и всех тех), что обычно остается на полях традиционных исторических работ. Многокультурность, с которой мы сталкиваемся сегодня, как показывает писатель, имеет в Польше свою очень богатую традицию. Словом, книга впечатляет не только своим объемом (900 страниц)! Следующая книга сразу после выхода стала в Польше бестселлером. «Пой о садах» Павла Хюлле – многосюжетный и густо насыщенный смыслами роман, черпающий из культурных традиций первой половины XX столетия, в котором не последнее место занимает... неизвестная опера Рихарда Вагнера. Любители модернистского канона найдут здесь для себя всё, что так любят: дискуссии о Великом Искусстве, попытку реконструкции потерянного мира, неочевидное повествование, в хитросплетения которого читателя вводит автор-повествователь. Для многих этот роман – огромное литературное переживание. Как существовать в мире, который оказался западней? Таков основной вопрос новой книги Магдалены Тулли. «Шум» – трогательная история о жизни в тени холокоста и одновременно попытка обрести право на собственную жизнь, собственный голос, собственную историю. Это интимное признание, вплетенное в трагическую историю XX века, дает такое множество необычайно сильных метафорических образов, что создается впечатление, будто это готовый сценарий потрясающего до глубины души фильма, достойного премии «Оскар». Время покажет, так ли это – пока же у нас есть уникальный шанс приобщиться к тончайшей прозе выдающегося писателя, одаренного необыкновенной восприимчивостью. Новая книга Анджея Стасюка под названием «Восток» формально соответствует предыдущим произведениям автора, к которым мы уже успели привыкнуть: на первый взгляд, это очередные путевые заметки. И все же это не совсем так. Стасюк берет нас с собой на восток – мы вновь следуем за ним в его любимые провинциальные уголки, на этот раз в России, Китае, Монголии, но также погружаемся во времена детства писателя и молодости его родителей, во времена его личного «начала», «истока». Когда недавно писателя спросили, почему он отправился именно в такое путешествие, плодом которого стала настоящая книга, Стасюк в ответ рассмеялся: «Ей-богу, не поеду же я в Швейцарию!». И не поедет, поскольку его привлекает распад, тлен, бренность материи, хаос, который может быть как концом старого, так и началом нового мироустройства. На этом захватывающие истории не заканчиваются. Презабавная вещица известного драматурга Януша Гловацкого, название которой «Пришедши, или как я писал сценарий о Лехе Валенсе для Анджея Вайды» лучше всего передает перипетии писателя, которому знаменитый режиссер заказал сценарий фильма, посвященного вождю польских независимых профсоюзов и лауреату Нобелевской премии мира. Сперва создается впечатление, что Гловацкий лишь пересказывает историю своей работы над киносценарием и череду недоразумений с режиссером. Однако одновременно ему удается интересно и доступно изложить историю событий, которые привели к упадку коммунизма в Польше, и, пользуясь случаем, целый период в истории Европы. Представляем вам также замечательную книгу Войцеха Ягельского, посвященную Нельсону Манделе; потрясающие репортажи Павла Смоленьского о жителях сектора Газа; репортажи талантливого молодого репортера Витольда Шабловского, посвященные Балканам, Грузии и Кубе и затрагивающие проблемы, рождающиеся на волне политических преобразований; язвительные гонзо-репортажи из Украины, за которые их автор Земовит Щерек получил Паспорт «Политики» – премию за лучший польский литературный дебют. Кроме того, предлагаем познакомиться с крайне любопытными сериями детективов, которые, подобно репортажам, постепенно становятся отличительным знаком польской литературы. Словом, вам будет, из чего выбирать. Читайте и издавайте новые книги из Польши – это действительно того стоит! Изабелла Калюта СВЕЖИЕ ПЕРЕВОДЫ: GOTTLAND MELANCHOLIA MARIUSZ SZCZYGIEŁ MAREK BIEŃCZYK Translated by Antonia Lloyd-Jones New York: Melville House Translated by Maila Lema Barcelona: Acantilado SOLARIS GOOD NIGHT, DŻERZI STANISŁAW LEM JANUSZ GŁOWACKI Translated by Gang Zhao Guangdong: Flower City Publishing House Translated by Neşe Taluy Yüce Istanbul: Yapi Kredi Yayinlari CWANIARY KAPUŚCIŃSKI NON-FICTION SYLWIA CHUTNIK ARTUR DOMOSŁAWSKI Translated by Michala Benešová Prague: Argo Translated by Antje Ritter-Jasińska and Benjamin Voelkel Berlin: Rotbuch Verlag ZIARNO PRAWDY OPĘTANI ZYGMUNT MIŁOSZEWSKI WITOLD GOMBROWICZ Translated by Anat Zajdman Tel Aviv: Penn Publishing Translated by Lin Hongliang Shanghai: Shanghai 99 Culture Consulting SELECTED POEMS SELECTED POEMS EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI STANISŁAW BARAŃCZAK Translated by Marianna Kijanowska Kiev: KROK Publishing House Translated by Antonio Benítez Burraco and Anna Sobieska Gijón: Ediciones Trea TRAKTAT POETYCKI BIAŁA GORĄCZKA CZESŁAW MIŁOSZ JACEK HUGO-BADER Translated by Jacques Donguy and Michel Masłowski Paris: Éditions Champion Translated by Marzena Borejczuk Rovereto: Keller editore MORFINA SZAFA SZCZEPAN TWARDOCH OLGA TOKARCZUK Translated by Olaf Kühl Berlin: Rowohlt Translated by Maria Puri Skakuj New Delhi: Rajkamal Prakashan PENSJONAT BUKARESZT. KURZ I KREW PIOTR PAZIŃSKI MAŁGORZATA REJMER Translated by Benjamin Voelkel Berlin: edition.fotoTAPETA Translated by Luiza Săvescu Bukarest: Polirom DZIENNIK 1954 DOM DZIENNY, DOM NOCNY LEOPOLD TYRMAND OLGA TOKARCZUK Translated by Anita Shelton and A.J. Wrobel Evanston: Northwestern University Press Translated by Hanne Lone Tønnesen Copenhagen: Tiderne Skifter ZOSIA Z ULICY KOCIEJ D.O.M.E.K. AGNIESZKA TYSZKA ALEKSANDRA MIZIELIŃSKA DANIEL MIZIELIŃSKI Translated by Irena Aleksaite Vilnius: Presvika PAN MALUŚKIEWICZ I WIELORYB Translated by Sofia Kobrinskaya Moscow: Samokat GUCIO I CEZAR JULIAN TUWIM KRYSTYNA BOGLAR BOHDAN BUTENKO Translated by Antonia Lloyd-Jones Raumati South: Book Island Translated by Lydia Waleryszak Geneva: Editions La Joie de lire SA ОЛЬГА ТОКАРЧУК КНИГИ ЯКОВА © Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute Ольга Токарчук (р. 1962), признана критиками одним из величайших современных писателей. Пользуется огромным успехом у читателей. Лауреат многочисленных польских и зарубежных премий. Ее роман «Дом дневной, дом ночной» вошел в короткий список Международной дублинской литературной премии “Impac”. Принадлежит к числу польских писателей, чьи произведения чаще всего переводят на другие языки. «Книги Якова» – ее пятнадцатый роман. Яков Франк, герой нового, масштабного романа Ольги Токарчук, известен мало, чтобы не сказать – полностью позабыт. А ведь личность это необычайно яркая и загадочная, к тому же судьба Франка связана с различными частями Европы и не только: просто трудно поверить, что за эту фигуру не ухватились писатели и кинорежиссеры, и помнит о нем лишь горстка специалистов. Франк жил в XVIII веке, когда колесо истории начало ускорять ход: приближалась Французская революция, уже ощущались течения Просвещения. Мистическая религиозность этого еврейского еретика, считавшегося последним Мессией, хотя и выглядит архаичной, способствовала преодолению водоразделов и сближению евреев с приверженцами других вероисповеданий. В середине века несколько тысяч его последователей под покровительством польского короля и шляхты перешли в католичество. Это было не первое обращение – ранее Франк принял ислам. Мистик и политик, человек харизматичный и распутный, авантюрист и религиозный лидер… Другими словами – личность весьма спорная и непростая для понимания. В эпическом романе Токарчук, слегка стилизованном под барочные книги, мы найдем множество живописных персонажей, однако Яков неизменно представлен глазами других людей, словно бы не подпуская к себе читателя. Возможно, именно в силу своей неоднозначности он и не стал баловнем истории. А может, Франк просто оказался неудобен для всех? Для евреев – отщепенец, предвосхитивший грозившую утратой идентичности ассимиляцию, весьма неканонический деятель мирового еврейства. Для католиков – напоминание об антисемитизме. Для многочисленных ассимилированных потомков франкистов – обнажение их корней и сложных путей, приведших к ассимиляции. Франк родился на территории сегодняшней Украины, в местечке на Подолье, в семье последователей другого еврейского еретика и Мессии, Шабтая Цви, воспитывался же среди ашкеназийских евреев на территории теперешней Румынии. Позже, став торговцем, посещал Турцию, а возвращаясь на восточные окраины Польши, пропагандировал свое учение и искал единомышленников. Он стремился показать, что ни одна из существовавших прежде религий не является самодостаточной – это лишь ступени на пути к истинному познанию. Крещение не означало для Якова приятия традиционного католицизма, рассматривалось им как этап долгого пути, бунт против религиозной и социальной зашоренности. Преследуемый ортодоксальными раввинами, Яков бежит из Польши, работает в Смирне и в Салониках, пытается организовать коммуну, в которой царит промискуитет. Мечтает же Франк о создании небольшого еврейского государства, «выкроенного» из территории Польши или Австро-Венгрии. Между франкистами (как их стали позже называть) и ортодоксальными евреями ведутся бурные публичные дискуссии. Роль третейских судей играют польские епископы, поддерживающие Франка. За этой поддержкой однако стоят отнюдь не благие намерения: франкистов используют как орудие в конфликтах с еврейской общиной, которой приписываются ритуальные убийства. Вскоре после крещения Франка обвиняют в ереси и на тринадцать лет заточают в тюрьму, в монастырь на Ясной Горе – санктуарий, где находится Ченстоховский образ Божьей Матери. Всматриваясь в него, Яков открывает в иконе Шехину – воплощение бога в женском обличии. Освобожденный русской армией, Франк уезжает в чешскую Моравию, в Брно. Ему удается привлечь внимание австрийского двора, сам же он поселяется в замке, с правом полного суверенитета. Туда со всей Европы тянутся евреи и любопытствующие. Умирает Яков в Оффенбахе, неподалеку от Франкфурта-на-Майне, в своем замке, куда якобы телегами свозили золото его последователи. Токарчук увлекает нас в путешествие по местами, временам и религиям – путешествие, из которого не хочется возвращаться и которое надолго останется в памяти. Писательница возвращает Франка Польше, евреям, Европе. Читатель, вероятно, подумает: не может быть, наверное, это все-таки вымысел. Однако это наша история, рассказанная под другим углом зрения: в ней находится место для евреев, женщин, метафизической тоски и необычных устремлений. А также множества великолепных историй, созданных потрясающей фантазией автора. Кинга Дунин OLGA TOKARCZUK KSIĘGI JAKUBOWE WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2014 165×240, 912 PAGES ISBN: 978-83-08-04939-6 TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM НАД КНИГИ ЯКОВА входом – вручную, довольно неумело сделанная вывеска: «Шор Склад Товаров». Дальше еврейские буквы. У двери металлическая плакетка, рядом какие-то знаки, и ксендз вспоминает, что Атаназий Кирхер в своей книге говорит, будто евреи, когда жена разрешается от бремени и приходится опасаться демонов, пишут на стенах дома слова: «Адам Хава Хуц Лилит», что означает: «Адам и Ева! Прочь отсюда Лилит!». Наверное, это оно самое. Наверное, здесь недавно родился ребенок. Ксендз переступает высокий порог и погружается в теплый пряный запах. Глаза его не сразу привыкают к темноте, потому что свет проникает сюда только через маленькое оконце, к тому же заставленное цветочными горшками. За прилавком стоит подросток с едва пробивающимися усами и пухлыми губами, которые при появлении ксендза вздрагивают, а затем пытаются произнести какое-то слово. Он изумлен. – Как тебя зовут, мальчик? – спрашивает ксендз смело, чтобы показать, как уверенно он чувствует себя в этом темном магазине с низким потолком, и разговорить подростка, но тот не отвечает. Тогда он повторяет вопрос более официально: – Quod tibi nomen? – однако латынь, призванная служить взаимопониманию, звучит чересчур торжественно, словно ксендз явился сюда для совершения экзорцизмов, подобно Иисусу в Евангелии от Луки, обратившему подобный вопрос к бесноватому. Но парень только таращит глаза и твердит: «бх, бх», а потом вдруг исчезает за полками, задев косу из чеснока, что висит на гвоздике. Ксендз поступил неразумно; не стоило рассчитывать, будто тут понимают латынь. Он критически осматривает себя – из-под пальто видны черные пуговицы сутаны, обтянутые волосяной тканью. Наверное, это и напугало мальчика, – думает ксендз, – сутана. Он тихонько улыбается и вспоминает Иеремию, который – тоже ошеломленный – пробормотал: «Aaa, Domine Deus ecce nescio loqui!» («О, Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод»). С этого момента ксендз мысленно называет мальчика Иеремией. Когда тот внезапно исчезает, он не знает, как быть. Оглядывается, застегивая пальто. Прийти сюда его уговорил ксендз Пикульский, но, похоже, это была не самая удачная идея. Клиентов нет, за что ксендз в душе благодарит Господа. Необычная картина предстала бы их глазам: католический ксендз, рогатинский декан в еврейской лавке, в ожидании, пока его обслужат – точно какаянибудь домохозяйка. Ксендз Пикульский советовал обратиться во Львов, к ребе Дубсу, у которого бывал сам и много чего разузнал. Ксендз туда и отправился, но старику Дубсу, похоже, наскучили католические ксендзы с их расспросами о книгах. Он был неприятно удивлен просьбой, и того, что в первую очередь интересовало ксендза Бенедикта, у него не оказалось – или же Дубс сделал вид, что не оказалось. Цокая языком, вежливо покачал головой. А когда ксендз спросил, кто мог бы ему помочь, Дубс замахал руками и, озираясь, словно за спиной у него кто-то стоял, дал понять, что не знает, а если бы даже и знал – не сказал бы. Позже ксендз Пикульский объяснил декану, что речь идет о еврейской ереси, и хотя сами они хвалятся, что ереси у них нет, данный случай, похоже – исключение: возмущение их откровенно и ничем не прикрыто. В конце концов бернардинец Пикульский посоветовал ему обратиться к Шору. Большой дом с магазином на рыночной площади. Но при этом посмотрел на ксендза как-то косо, с иронией, а может, тому показалось. Может, надо было доставать эти еврейские книги через Пикульского, хотя декану он не очень нравится? Зато не пришлось бы теперь смущаться и потеть. Но упрямства ксендзу не занимать, так что он пошел сам. Была еще одна деталь, тоже дурацкая – игра слов (кто поверит, что такие мелочи правят миром?): ксендз изучал один фрагмент Кирхера, где упоминался огромный вол Шоробор. Возможно, именно созвучие слов привело его сюда – Шор и Шоробор. Неисповедимы пути твои, Господи. Но где же эти знаменитые книги, где эта фигура, внушающая опасливое уважение? Магазин напоминает обычную лавку, а ведь хозяин – якобы потомок знаменитого раввина, почитаемого мудреца Залмана Нафтали Шора. А тут – чеснок, травы, горшки с приправами, банки и баночки, а в них всевозможные пряности – дробленые, молотые или в первозданном виде, как вот эти палочки ванили или гвóздики гвоздики, шарики мускатного ореха. На полках, на сене, разложены также рулоны ткани – видимо, шелк и атлас, очень яркие, привлекающие взгляд, и ксендз задумывается, не нужно ли ему что-нибудь, но в следующее мгновение замечает неумелую надпись на внушительной темнозеленой банке: «Herba the». Вот что он попросит, когда кто-нибудь наконец появится – немного этой травы, поднимающей дух, что для ксендза означает возможность трудиться, не чувствуя усталости. К тому же они благоприятно действуют на пищеварение. Еще он, пожалуй, купит чуть-чуть гвоздики, чтобы приправить ею вечерний глинтвейн. Последние ночи были такими холодными, что замерзшие ноги не давали сосредоточиться на работе. Он оглядывается в поисках стула, а дальше все происходит одновременно. Из-за полок появляется крепкий бородатый мужчина в длинном шерстяном одеянии, из-под которого видны остроносые турецкие туфли. На плечи наброшено тонкое темно-синее пальто. Он щурится, словно вышел из колодца. Из-за его спины с любопытством выглядывает давешний Иеремия и еще какие-то две физиономии, очень похожие на Иеремию, пытливые и румяные. А напротив, на пороге двери, выходящей на площадь, возникает запыхавшийся худощавый паренек или молодой мужчина со светлой козлиной бородкой. Он прислоняется к косяку и тяжело дышит – видимо, бежал изо всех сил. Парень без малейшего смущения сверлит декана глазами и тут же лукаво улыбается, показывая здоровые, редко стоящие зубы. В улыбке ксендзу чудится сарказм. Ему больше по душе фигура в пальто, к которой он и обращается подчеркнуто любезно: – Прошу великодушно простить мою бесцеремонность… Мужчина напряженно смотрит на ксендза, но уже в следующее мгновение выражение его лица начинает медленно меняться. На нем появляется подобие улыбки. Ксендз вдруг догадывается, что тот его не понимает, и начинает снова, на латыни, уверенно, радостно – свои люди. Еврей медленно переводит взгляд на парня в дверях, того, что запыхался – юноша смело заходит, одергивая куртку из темного сукна. – Я переведу, – объявляет он неожиданно низким голосом с мягким русинским акцентом и, указывая пальцем на декана, взволнованно сообщает, что это настоящий – самый что ни на есть настоящий – ксендз. Ксендзу не пришло в голову, что понадобится переводчик, как-то он об этом не подумал, он смущен и не знает, как выйти из положения: дело, задуманное как деликатное, вдруг становится публичным – того и гляди соберется целая толпа зевак. Он бы с удовольствием вышел отсюда в холодную мглу, отдающую лошадиным навозом. Декан чувствует себя в западне – в этом помещении с низким потолком, густым от аромата пряностей воздухом, а тут еще начинают заглядывать с улицы любопытные. – У меня дело к уважаемому Элии Шору, если позволите, – говорит он. – Конфиденциальное. Евреи удивлены. Они обмениваются несколькими фразами. Иеремия исчезает, его приходится ждать несколько минут в томительном молчании. Видимо, разрешение для ксендза получено, и теперь его проводят за полки. Это сопровождается шепотом, легким топотом детских ног, сдавленным хихиканьем – словно за тонкими стенами прячется множество людей, которые сквозь щели в деревянных стенах с любопытством разглядывают рогатинского декана, блуждающего по закоулкам еврейского дома. Выясняется, что лавочка на площади – лишь передняя часть обширной структуры, напоминающей пчелиный улей: с комнатами, коридорчиками и лестницами. Оказывается, дом гораздо больше, он окружает внутренний дворик, который ксендз видит мельком через маленькое окошко в комнате, где они на мгновение останавливаются. – Я Грицко, – сообщает парень на ходу. Ксендз понимает, что пожелай он вернуться, не сумел бы найти выход из этого пчелиного жилища. Его бросает в пот при этой мысли, но тут со скрипом открывается одна из дверей и на пороге возникает худой мужчина – в расцвете сил, со светлым, гладким, непроницаемым лицом, седой бородой – одеяние ниже колен, на ногах шерстяные носки и черные туфли. – Это и есть ребе Элия Шор, – шепчет Грицко взволнованно. Перевод: Ирина Адельгейм ПАВЕЛ ХЮЛЛЕ ПОЙ О САДАХ © Andrzej Nowakowski Павел Хюлле (р. 1957), прозаик, драматург и университетский преподаватель. Лауреат многочисленных престижных премий. Его книги, в особенности дебютный роман «Вайзер Давидек», были переведены на многочисленные языки. «Пой о садах» – пятый роман писателя. «Пой о садах» – роман с несколькими сюжетными линиями и множеством смыслов. Говоря в общих чертах, в нем переплетены три истории. На первом плане судьба четы Хоффманов (он – несостоявшийся композитор, она – посредственная певица). Мы наблюдаем за ними главным образом в 30-е годы прошлого века; супруги, в то время граждане Вольного города Гданьска, живут там на улице Полянки (тогда Pelonkerweg). Вторая история – семейная; центральная фигура – отец рассказчика, человек умный и энергичный; в 1945 году он прибывает в Гданьск, чтобы поступить в Политехнический институт и начать новую жизнь, и поселяется в том же доме на улице Полянки. Третья, вставная, история строится вокруг найденной Эрнестом Теодором Хоффманом рукописи – датирующихся второй половиной XVIII века записок французского вольнодумца, жившего в городе, где почти двести лет спустя появятся Хоффманы. На самом деле найдена не одна, а две рукописи: в самом начале романа Эрнест Теодор получает от таинственного букиниста неполную запись якобы неизвестной оперы Рихарда Вагнера, литературная основа которой – средневековая легенда о гамельнском дудочнике (наиболее известная в изложении братьев Гримм). И тут завязывается очередная литературно-музыкальная игра: рассказ о знаменитом крысолове оборачивается метафорой мира, которому предстоит очень скоро сгореть, поскольку на сцене истории появился Гитлер. Сюжет еще больше усложняется: Хоффман не только с воодушевлением лихорадочно трудится над восполнением партитуры Вагнера, но и создает цикл песен, инспирированных стихами Рильке; некоторые эпизоды романа представляют собой развитие либо переработку поэтических образов, заимствованных у автора «Сонетов к Орфею». Название «Пой о садах» также взято у Рильке. Чрезвычайно существенно постоянное присутствие на страницах книги автора-повествователя. Этот персонаж комментирует как разворачивающиеся согласно сюжету события, так и свою работу над текстом. Имя его не называется, однако многое указывает на то, что роман автобиографичен. Рассказчик следит, чтобы многоголосие не распалось на автономные элементы, а главное – уведомляет о собственных целях. Во-первых, он, уже взрослый мужчина, хочет реконструировать свое беззаботное счастливое детство, а при случае продемонстрировать любовь к отцу и привязанность к его кашубским друзьям. Тут особая роль отводится пану Бешку, который, оперируя архаичными верованиями кашубов, ввел мальчика в чудесный мир народных традиций. Во-вторых, повествователь стремится воздать должное Грете Хоффман, жене Эрнеста Теодора, – немке, которой удалось (после 1945 года) остаться в Гданьске и которая раскрыла перед мальчиком богатство немецкой культуры, в первую очередь музыкальной. Наконец, в-третьих, порт-пароль Павла Хюлле использует своих героев для рассмотрения проблем нравственного толка. Книга Хюлле вышла в тот момент, когда – довольно неожиданно – проявилась потребность в шедевре отечественной прозы. Тяготеющий к эстетизму, насыщенный дискуссиями о Великом Искусстве, погруженный в литературную и музыкальную атмосферу первой половины ХХ века, роман гданьского писателя призван удовлетворить эту потребность. Дариуш Новацкий PAWEŁ HUELLE ŚPIEWAJ OGRODY ZNAK, KRAKÓW 2014 140×205, 300 PAGES ISBN: 978-83-240-2195-6 TRANSLATION RIGHTS: ZNAK …История ПОЙ О САДАХ как раз вступала на мою любимую территорию вымысла, который, прежде чем стать повествованием, строился на реальных событиях; события эти, впрочем, были таковы, что вообразить их никто бы не сумел. Отец только что бросил на Мотлаве байдарку, отшвырнул за спину весло, а вместе с ним и всю свою прежнюю жизнь, и, с небольшим рюкзаком, отправился искать новую; свернув в первую попавшуюся выгоревшую улицу, он шагал среди еще дымящихся развалин домов и церквей, перепрыгивая через незахороненные трупы людей и лошадей, огибая остатки боевой техники, там и сям перегораживающие проход или перекресток; иногда его останавливали советские патрули, но ни один не мог объяснить, где находится мифический ПУР 1, в который ему следовало обратиться, чтобы получить какой-никакой паек и ордер на жилье с указанием адреса. Только в Политехническом, куда он добрался после часового форсированного марша и где подтвердили, что он может записаться на первый курс кораблестроительного факультета, однако лишь через пару недель, когда начнется набор, – только там, в его будущем вузе, ему подсказали адрес этого загадочного ПУРа, куда он и пошел, опять пешком, возвращаясь в сожженный центр по Большой аллее, где на развороченных снарядами рельсах стояли полусгоревшие трамваи с выбитыми окнами и без фар, напоминая процессию безобразных увечных слепцов. <…> Я знал, что сейчас в любимом мною рассказе о Начале наступит переломный момент – за пятнадцать минут до закрытия ПУРа, где в узком коридоре теснилась толпа отчаявшихся людей, мой отец поглядел на пана Бешка, а пан Бешк поглядел на моего отца, и их сразу потянуло друг к другу. Бешк знал, как попасть к главному начальнику без очереди, но не мог написать заявление по-польски: на кашубском никто бы этого заявления в руки не взял, а немецкий – на немецком он когда-то нацарапал матери целых три открытки с фронта – уже не был официальным языком, немецкий в Гданьске сам, по собственному желанию, на годы исключил себя из употребления; в общем, отец быстро, на коленке, послюнив чернильный карандаш, написал то, что требовалось пану Бешку: просьбу вернуть две лошади, которые днем раньше, вместе с подводой, у него реквизировал советский военный патруль для нужд Красной Армии; 1 Г осударственное репатриационное управление (Państwowy Urząd Repatriacyjny); существовало до 1951 г. и так они предстали перед лицом главного начальника ПУРа – с заявлением о возврате сельскохозяйственной запряжки и устной просьбой предоставить моему отцу место для спанья. Ничего они не добились. – Свободных квартир нет. Все уже занято. Прибывают постоянно. Из Вильно. Из Лиды. Из сожженной Варшавы. Из Львова. Из Тарнополя. Придется вам подождать, – обратился к отцу чиновник. – Вот вышвырнем через полгодика немцев, наверняка что-нибудь освободится. Нам весь Вжещ и Сопот надо выселить. Но пока нет поездов. Швабы повзрывали мосты и рельсы. Их бы всех в концлагеря. Пусть поживут месячишко-другой в Штуттгофе2. В дыму из крематория. В смраде бараков. Разве что вы рискнете, – чиновник на минуту снял очки в роговой оправе и стал протирать стекла, – поселиться у немецкой семьи. Тут есть один плюс. Когда они уже уедут, вы сможете похлопотать об увеличении метража, например, занять две комнаты. Отца такое решение не устраивало. Его записали в очередники. А Бешку чиновник посоветовал плюнуть и забыть – то, что забирает Красная Армия, пропадает с концами. Как камень в воду. Увидев их унылые физиономии, чиновник добавил: – Можете обратиться в советскую комендатуру. Настоящая власть там. Они любят иногда исполнять просьбы бедных людей. Если вас с ходу не арестуют. А вот и вторая картина моей любимой истории о Начале: пан Бешк и мой отец перед зданием советской комендатуры – раздумывают, входить или не входить. С двумя заявлениями: от пана Бешка, с резолюцией польского чиновника, и вторым, с просьбой выдать моему отцу ордер на жилплощадь, – это заявление чиновник милостиво составил сам. Короче, они вошли. Через боковой вход. После того как их тщательно обыскали. Подождав в кладовой, где с них не спускал глаз охранник со слегка раскосыми глазами. А потом: зеркальный бальный зал особняка. Единственного в центре, который не сгорел. Расставленные подковой столы. Комендант, генерал-лейтенант Семен Микульский, во главе. По левую и правую руку от него – офицеры. Полковники, майоры, капитаны, лейтенанты. И ординарцы, стоящие за стульями. Стол ломился от еды и напитков. Из соседних, уже сожженных, но с глубокими, недавно еще полными запасов вина погребами гостиниц: «Vanselow», «Deutsches Haus», «Hansa», «Metropol», «Continental». Комендант был чрезвычайно любезен. Не успели пан Бешек с моим отцом рта раскрыть, как он усадил их рядом с собой и велел выпить вместе со всеми за победу 3 и за Сталина. Выпили. И тут только пан Бешк и отец заметили парикмахера в белой куртке. Немецкого пленного. Он, парикмахер этот, стоял позади коменданта, держа в руке хрустальный флакон с цветочной водой, и, когда тот залпом опорожнял бокал, с помощью подсоединенного к флакону шланга с резиновой грушей пшикал одеколоном коменданту в раскрытый рот. Тремя быстрыми пфф. И, уважительно, отступал на шаг за комендантский стул, под дулами 2 Н ацистский концлагерь, созданный в 1939 г. на территории оккупированной Третьим рейхом Польши в 37 км от Данцига (Гданьска). 3 4 Русские слова в оригинале даны курсивом. Орунь – район Гданьска. двух пэпэша ординарцев. Задачу свою немец выполнял с величайшим достоинством и виртуозностью, будто все годы, что трудился парикмахером в Оруни4, готовился исключительно к этой миссии. Итак, пан Бешк и мой отец ели-пили в обществе советских офицеров; давно уже миновала полночь, было выпито за все выигранные сражения от Сталинграда до Курска, когда, наконец, разосланные по всем четырем сторонам света ординарцы вернулись с хорошими новостями и положили перед комендантом города – уже только на подпись – две официальные бумаги: в одной говорилось, что, после того как пан Бешк, крестьянин из деревни Ребехово, в течение ближайших трех дней обратится с настоящим документом в транспортный отдел, ему будут выданы две здоровые упряжные лошади, а по мере возможности еще и подвода, которую патруль, перестаравшись, ошибочно задержал. Снабжение польского народа, разоренного войной, является первостепенной задачей – собственноручно дописал комендант и размашисто расписался, а погодя подписал и ордер на одну комнату по улице Pelonkerweg для моего отца, ценного сотрудника – так значилось в документе – судоверфи. Комендант сам приложил печати, все выпили на посошок за дружбу, а также за пролетариев всех стран, немец-парикмахер в очередной раз освежил разинутый рот коменданта, и пан Бешк с моим отцом уже выходили из зеркального бального зала, взявшись под руки и поддерживая друг друга на каждом рискованном шагу, ибо на полу полно было битого стекла, как вдруг один из лейтенантов – который проспал, когда подписывались бумаги и ставились печати, а теперь, проснувшись, увидел двоих штатских, удаляющихся от стола, – вырвал у ординарца пэпэша и принялся в них палить, слава богу, не попадая, ибо другой, чуть более трезвый лейтенант, стукнул по стволу снизу вверх, так что пули только сбивали с потолка лепнину, срезали под корень хрустальные люстры, раскалывали верхние части зеркал, калечили рамы картин и рвали в клочья холсты, шарахали по окнам, и все это плюс вырвавшееся из офицерских глоток громогласное у-у-у-у-р-р-р-ра-а-а-а-а заставило пана Бешка и моего отца пригнуться к паркету; к счастью, они уже были в дверях и еще услышали напоследок мощный рык коменданта: «Дурак, не стреляй!!! » – а через минуту оказались на ведущей к вокзалу улице между сожженными костелами Святой Елизаветы и Святого Иосифа. Перевод: Ксения Старосельская МАГДАЛЕНА ТУЛЛИ ШУМ © Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute Магдалена Тулли (р. 1955), прозаик и переводчик. Автор получивших многочисленные премии романов, каждый из которых входил в финал премии «Нике». Ее последний роман «Итальянские шпильки» удостоился престижной литературной премии «Гдыня» и премии «Грифия». Ее книги переведены на множество языков. Как существовать в мире, который оборачивается западней? Как рассказать о том, к чему на протяжении долгих лет мы сами себе запрещали приближаться? «Шум» Магдалены Тулли – очень личная история, вплетенная в Историю столетия, на которой роковой след оставили военные «времена презрения». Повесть о том, как уцелеть в катастрофе – как разминировать минные поля памяти, выйти из укрытия, стать хозяином собственной судьбы. Героиня – маленькая девочка, дочка женщины, эмоции которой остались за проволокой Освенцима. Немногочисленные близкие опустошены войной, а в окружающем мире, в огрубевшей коммунистической Польше доброта, эмпатия и понимание – товар дефицитный. Замкнутая и неуверенная в себе девочка оказывается легкой добычей для сверстников. Повзрослев, став подростком, а затем матерью двоих сыновей, она по-прежнему остается заложницей той девочки. Через много лет письмо из Америки – от нелюбимого кузена – «запускает» поток воспоминаний и одновременно сюжет книги. Сначала может показаться, что это – лишь продолжение великолепного, награжденного рядом премий сборника рассказов «Итальянские шпильки» (2011). Ничего подобного: Магдалена Тулли благополучно покидает воплощенный в «Шпильках» мир своих призраков. Предоставленная самой себе, героиня находит друга – вымышленного Лиса, грозу курятников, подобного ей вечного аутсайдера – объект ненависти в любом социуме. Ничего удивительного: во многих народных антропологиях лис играет роль трикстера, существа неоднозначного, одновременно презираемого и почитаемого, козла отпущения и проводника в иные миры. Спустя годы, пройдя «школу Лиса», героине удается наконец освободиться, найти в себе силы понять мать, невольной жертвой которой она оказалась, простить не только своим обидчикам, но также и тем, на ком лежит прямая ответственность за военные бедствия и кто теперь населяет пространство европейской памяти (или уже скорее постпамяти). Ведь все они – жертвы и их палачи – образовали в двадцатом веке огромную, по словам Тулли, «семью». Роман Магдалены Тулли говорит о послевоенной Польше и Европе больше, чем иные труды историков или социологов. В этом повествовании живые разговаривают с мертвыми, а подземный трибунал под председательством Лиса вершит Великий суд. Проза Тулли говорит о необходимости прощения, о том, как жить, чтобы стыд – стигмат жертв – парадоксальным образом не обратился в чувство вины. О том, как выбраться из мелового круга, в котором невиновные, задетые рикошетом, пытаются адаптироваться к мучительному опыту. Лаконичный, ироничный стиль Тулли приправлен в этом романе фантасмагорией. Но фантасмагория «работает» на метафору – метафору с большой буквы, по масштабу и убедительности не уступающую реализму. «Шум» – психотерапевтический сеанс, попытка исцелить травму при помощи литературы. Литература может послужить спасательным тросом в мире с его многочисленными безднами. Новый роман Магдалены Тулли – лучшее тому доказательство. Марек Залеский MAGDALENA TULLI SZUM ZNAK, KRAKÓW 2014 124×195, 208 PAGES ISBN: 978-83-240-2625-8 TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM Однажды, ШУМ шагая по лесной тропинке, мы с лисом увидали на распутье человека со сломанным носом, в неопрятной военной форме. Ветер срывал еще редкие желтые и красные листья. В этом лесу всегда стояло начало осени, чудесные теплые дни – такие, какие заканчивались сразу после моих первых провалов в очередном учебном году. Над вечной осенью всегда висела зима. Мундир, некогда черный, хорошо скроенный, за годы лишений истрепался и выцвел. Оборванец схватил меня за рукав. – Нельзя разрешать помыкать собой всем подряд, – воскликнул он. – Тебя вынудили быть покорной, ты сама позволила. В этом нет никакой доблести. – Мы не стремимся к доблести, – ответил за меня лис. – Доблесть не существует. – Aber doch! Доблесть – это когда не раздумываешь, если надо стукнуть кулаком по столу. Доблесть – это иметь силу и толково ею распорядиться. – Оставь нас в покое, – ответил лис. – Иди, куда шел. – Мне некуда идти, – сказал тот человек. – Я долго ждал вас здесь, вы – моя семья. Мы ускорили шаг. – Лис тебя ничему не научит! Он способен только таиться в кустах да подкрадываться исподтишка. Нужна жесткость, а не мягкость. – Он догонял нас, я чувствовала его дыхание на затылке, вместе с ветром. – Ведь однажды ты уже сделала нечто действительно ужасное. И что? Ты почувствовала облегчение, а значит – сделаешь это снова. Или я ошибаюсь? Я подумала, что он говорит о тех ножках от стула, которыми я кидалась в школе, чудом не разбив никому голову. Если ему об этом известно, может, и вправду родственник. Мне не раз хотелось сделать что-нибудь ужасное, что уравновесило бы груз унижения, уравновесило бы общий вес всех унижений. Чтобы забыть о том, какая это тяжесть, на другую чашу весов пришлось бы бросить что-то очень основательное. Но мне не хватало решимости. Больше я никогда ничего не швыряла. – Да, – ответила я. – Ты ошибаешься. В то мгновение, о котором он говорил, облегчения я не почувствовала. И потом всегда отдавала предпочтение чему-нибудь менее ужасному – гнилой компромисс между тем, на что меня толкало лихорадочное желание, и тем, на что я была способна. Мы пришли к выводу, что он опасен. Спящего, крепко связали веревкой – выше пояса. Руки тесно прижаты к туловищу, ладони вывернуты назад. Поэтому теперь нам приходилось кормить его с ложечки. Ноги оставили свободными из чистого милосердия. Мы знали, что с этими узлами на запястьях он все равно не сможет сделать ничего страшного, такого, что все свидетели запомнили бы до конца своих дней. Он даже защитить себя не сумеет. Поэтому в случае чего пускай спасается бегством, как мы. Это не было жестокостью. Будь у нас возможность, мы бы поступили так со всей формацией. III Что же касается Вермахта, одетого в форму цвета сероватой зелени полей, а на фотографиях того времени – просто серую, – Вермахт бросил Гитлера и перешел на мою сторону. Сперва я была смущена – я не желала иметь таких союзников. Но потом привыкла и теперь не обращаю на это внимания. Все знали, что войну он проиграл, но его недобитки еще долгие годы кричали из-за угла: „Хенде хох!”. По-немецки они знали только это, как и я. Вермахт сражался теперь только во дворе, но без энтузиазма. Отстреливался из палки, битый всеми кому не лень; наверное, его заставляли играть в эти игры те, кто постарше да посильнее, кто хотел быть победителем. Основные силы, разгромленные, успели отступить в семейные фотоальбомы, хранящиеся не здесь, не у нас. Время от времени он устраивает смотр войск, листая страницы – когда я оказываюсь там, где эти альбомы лежат на этажерках. Когда-то это место было для меня пустотой, очерченной контуром чужой государственной границы. О том, что там происходит, нам, вроде, говорили по радио, но новости плавали в густом соусе, приготовленном согласно подозрительному рецепту и намеренно приправленном так, чтобы взбудоражить нас и напугать. Чтобы мы, ужаснувшись, с легкостью проглотили любое насилие. В каждой такой новости зияла пустота – та же, которой дышало место на карте. В Милане, в бабушкином доме я встретила человека, приехавшего оттуда. Стало быть, это место существовало на самом деле и в нем жили люди, подобные нам – я была потрясена. Пришелец вовсе не выглядел отталкивающе. Около тридцати, но уже лысоватый, одетый в гражданскую одежду, он ласково смотрел сквозь очки и говорил по-итальянски с забавным акцентом. Он занимался реставрацией картин. Оружием не интересовался, даже холодным, историческим. И политикой тоже. Что же там находится? – гадала я, глядя на карту Европы, которую вешали рядом с доской перед уроком географии. Фотоальбомы требовали интерьеров, а интерьеры по природе своей не могли обойтись без фасадов. Люди переходили через дорогу, вспархивали голуби. Там было все, что только можно себе вообразить. Деревья, собаки, старики с палочками, фонари и мосты. Альбомы не были навязчивы, они и сегодня таковы – редко покидают свои места на этажерках. В альбомах расквартированы солдаты. Фуражка на голове или в руке, сзади – оклеенная еще довоенными обоями стена какого-нибудь фотоателье, стоят, иногда сидят. Однако они безоружны и смотрят мне прямо в глаза, в знак того, что намерения их чисты. Моему отцу ты бы понравилась, – говорит мне кто-то. Я разглядываю отца, облаченного в форму – понятно какую. Он любил тракторы, но стал танкистом. О тракторах он знал все, при помощи разводного ключа сумел бы разобрать машину на части, а затем собрать снова. Он не воевал против нашей страны, потому что лежал тогда в больнице. Заболел, слишком долго простояв навытяжку в жестокий мороз – наказанный за неповиновение. После воспаления легких в сердце что-то разладилось. Но он был молод, поэтому спустя два года его снова одели в форму и послали на восток. – Дома были гектары и машины. Пока он был хозяином своей земли, никто не заставил бы его чистить чужие ботинки, никакой капитан или даже генерал. За свою гордость он дорого заплатил, – рассказывает мне хорошо знакомый человек. С годами положение ухудшалось – не только потому, что этот солдат после войны потерял свои гектары и машины. Его сердце билось неровно, порой на мгновение останавливалось, и, наконец, остановилось вовсе, когда однажды, спустя много лет, он лежал под своим собственным автомобилем с разводным ключом в руке. Я уже говорила, что там у всех были собственные автомобили? – Не верь немцу, если ему за восемьдесят. Все они твердят, что были только санитарами и поварами. Ни один ни в кого не выстрелил, – говорит мне другой хозяин фотоальбомов, тоже знакомый. Перевод: Ирина Адельгейм ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ ПРИШЕДШИ, ИЛИ КАК Я ПИСАЛ СЦЕНАРИЙ О ЛЕХЕ ВАЛЕНСЕ ДЛЯ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ © Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute Януш Гловацкий (р. 1938), известный и ценимый по всему миру прозаик, драматург и сценарист. Международную славу ему принесли театральные пьесы («Антигона в Нью-Йорке», «Четвертая сестра»). Лауреат многочисленных престижных премий. Его книги переведены на множество языков. Первая фраза авторского «Введения» к «Пришедши» звучит так: «Мне хотелось объяснить, что книгу эту я пишу главным образом из скаредности, поскольку десятка два уже написанных сцен и несколько замыслов в фильм не вошли». Речь, естественно, идет о художественном фильме Анджея Вайды «Валенса. Человек из надежды», в центре которого – колоритный герой событий, приведших к падению коммунизма в Польше, электрик, ставший главой профсоюза «Солидарность», лауреатом Нобелевской премии мира и первым независимым президентом III Речи Посполитой. Выдающийся польский режиссер не случайно заказал сценарий Янушу Гловацкому, иронисту, умеющему мастерски сочинять трагифарсы, и к тому же свидетелю событий на Гданьской судоверфи. Предполагалось, что сочетание гениальности Вайды-кинематографиста с умной язвительностью писателя не только приведет к созданию нетривиальной картины, но и позволит избежать агиографической пафосности. Гловацкий, принимая предложение Вайды, был уверен, что режиссер, которым он всегда восхищался, задумал художественный фильм, и лишь спустя какое-то время убедился, что получается фильм скорее документальный, «просветительский», адресованный в первую очередь иностранцам и молодежи. Так что «Пришедши» – рассказ о том, как автор постепенно утрачивал контроль над тем, что выходило из-под его пера, и вообще: как получилось, что «Валенса» – разом и его, и не совсем его детище (разумеется, в литературном смысле). Необычная, парадоксальная ситуация лейтмотивом проходит через весь текст, определяет его структуру. И, возможно, именно это представляет наибольший интерес для читателя: ему показывают, как можно одновременно подтверждать и отрицать свое авторство, как следует понимать легендарную формулу «я – за и даже против». По сути, книга эта – история недоразумения, возникшего, похоже, из-за разницы взглядов на титульного героя. Для Гловацкого Лех Валенса – фигура «монаршего» масштаба, достойная шекспировских трагедий; писатель рассматривает его в рамках литературных категорий. И соответственно – с первых же страниц – трактует ключевую проблему: был ли Валенса в 70-е годы агентом Госбезопасности под псевдонимом Болек? По мнению Гловацкого, для его повествования – вообще для любого повествования! – было бы лучше, если б у героя имелся какой-либо изъян или он боролся с внутренними противоречиями. Ну и совершенно необходимо наличие какой-нибудь тайны. В первоначальном варианте сценария тайна связывалась с почти трехчасовым опозданием героя на августовскую забастовку, которую ему предстояло возглавить, а общим обрамлением сюжета должна была быть дорога – с момента выхода Валенсы из дома до прибытия на верфь. Между тем Вайда придерживался иного мнения. Гловацкий так определяет его взгляд: «…это должно быть историческое свидетельство и урок гражданственности…», «необходимо, чтобы молодежь хоть что-то из этого поняла…». Доводы художественной природы сдают позиции под натиском политико-агитационной стилистики и, скажем так, воспитательных целей. В процессе трехлетней работы над сценарием писателя подстерегают разные неприятности – в частности, обвинения в «предательстве». Постоянно кто-нибудь допытывается, посмеет ли он включить «линию Болека», одновременно высказывая предположение, что на это сценаристу наверняка не хватит духу. От подобных неприятностей Гловацкий по своему обыкновению защищается с помощью ядовитой иронии и провокационного цинизма. Он пишет: «Я, правда, не моралист, но у меня есть кое-какие твердые принципы, и никто никогда, даже угрожая самым близким мне людям, не заставит меня задаром фальсифицировать историю». И, пользуясь случаем, рассказывает – весьма занимательно – о целом периоде в истории Польши, приводя десятки забавных анекдотов из жизни людей искусства и светской жизни в ПНР. Дариуш Новацкий JANUSZ GŁOWACKI PRZYSZŁEM ŚWIAT KSIĄŻKI, WARSZAWA 2013 130×240, 240 PAGES ISBN: 978-83-7943-323-0 TRANSLATION RIGHTS: ŚWIAT KSIĄŻKI Дорога, или Замысел № 1 ПРИШЕДШИ, ИЛИ КАК Я ПИСАЛ СЦЕНАРИЙ О ЛЕХЕ ВАЛЕНСЕ ДЛЯ АНДЖЕЯ ВАЙДЫ Известно, что Валенса опоздал на забастовку в защиту Анны Валентынович, которую должен был возглавить. Притом опоздал часа на три, если не больше. Богдан Борусевич, который все готовил вместе с Иоанной и Анджеем Гвязда, Кшиштофом Вышковским и многими другими (список героев Августа беспрерывно растет), сказал, что, если бы эта забастовка закончилась разгромом, Леху пришлось бы отчитаться за опоздание, но после такой победы… А сам Валенса на тему опоздания говорит загадками, мол, что-то там ему дома нужно было сделать, мол, младшая дочурка, только-только родившаяся, еще не зарегистрированная… Была, конечно, и версия, близкая сердцу трагически погибшей Анны Валентынович, героической активистки Свободных профсоюзов, некогда соратницы Валенсы, а затем ровно наоборот: что Валенса, как оно и положено агенту, полетел за инструкциями в воеводский комитет партии и в УБ (Управление госбезопасности), и потом его, опоздавшего, милиционеры подвезли на моторной лодке. А Дорога… с дорогой все понятно: держит в напряжении, тут тебе и метафоричность, и метафизика. В чем ни литература, ни кинематограф не сомневаются. Возьмите Керуака или битников, «О мышах и людях» Стейнбека или «Пугало», «Исчезающую точку». Да и мы все по какой-то дороге бежим, ползем, едем, несемся аж до самого конца. Правда, Максим Горький написал, что рожденный ползать – летать не может. Но здесь вкралась небольшая ошибочка: гусеница в конце концов превращается в бабочку; нечто подобное и произошло на судоверфи. Конечно, немало поляков считает, что так ли, сяк ли, но мы испокон веку летаем, притом высоко. Гомбрович когда-то сочинил пародию на детскую считалку: «Раз, два, три, ну-ка посмотри: еврей в луже копошится, а поляк летит жар-птицей, глядя с высоты… Водить будешь ты!» – ладно, жар-птицы жар-птицами, но мыто, все остальные, еле бредем, да еще тащим на плечах детство (вспомним «Умерший класс» Кантора) либо недавнее прошлое, ну и без страхов перед будущим не обходится. Короче, я подумал: попробую-ка я написать такую вот Дорогу Валенсы с ретроспекциями. Что тем более интересно, поскольку об этом трехчасовом опоздании ничего или почти ничего не известно – значит, стоит рискнуть и, набравшись наглости, что-нибудь придумать, какую-нибудь правдоподобную небылицу, которая может оказаться любопытнее и правдивее, чем так называемая официальная правда. Был такой английский фильм «Одиночество бегуна на длинную дистанцию», в нем герой бежит, бежит и то и дело ему что-нибудь вспоминается; под конец нам уже понятно, зачем он бежит и почему не добежит. Иначе говоря, я решил, что, пожалуй, этой пары часов опоздания запросто хватит на целый фильм, который будет продолжаться от силы два часа. На таком пути все уместится: и страх, и сомнения, и напряжение (удастся ли дойти – наверняка УБ помешает), и что будет, если дойдет, а чтó, если не дойдет. Лех Валенса когда-то сказал: «Я пришедши» – и кто-то его поправил: мол, не говорят «пришедши», говорят «пришел», а он якобы ответил: «Неважно, пришедши я или пришел, важно, что дошедши… то есть дошел». Честертон замечательно описал, как в Англии пассажиры, едучи в поезде до станции «Виктория», размышляют о разных чудесах, но ведь истинное чудо, виктория, случается, если поезд и впрямь доезжает до этой станции. Ну и потом Лех Валенса, за которым следят убеки, подбегает к ограде верфи, подпрыгивает и зависает в воздухе… навсегда. Стоп-кадр. Одно время я подумывал, не начать ли фильм с кастинга на роль Валенсы. Все кандидаты должны были бы в ватниках перескакивать через ограду Судоверфи. Причем один прыгал бы «флопом», доказывая, что сейчас только так прыгают. Правда, Анджею я об этом говорить не стал. А сцен на верфи всякими хитрыми способами пытался избегать. Анджею идея насчет Дороги вначале понравилась, и он отлично придумал, что этот снимок (стоп-кадр) сделает случайный турист, у которого убеки тут же отнимут и уничтожат пленку. А потом склейка: следующий кадр – Конгресс, то есть «We, the People». Потрясающе придуманное Казимежом Дзевановским начало выступления Леха Валенсы в Вашингтоне. Ведь в Соединенных Штатах эти слова из «Декларации независимости» – святыня, их знает каждый ребенок. Да и кто бы еще имел право сказать конгрессменам «Мы, народ», как не этот народный вождь, король из низов, католический Моисей, который провел поляков через море коммунизма к свободе? Ну, не один, конечно, не в одиночку. Но великая победа так же, как и великое поражение, должна иметь одно лицо. Отчасти для простоты. В Конгрессе, понятное дело, овация, все встают. Подобной якобы не удостаивались даже такие иностранцы, как Черчилль и Шарль де Голль. В общем, получилось бы недурно. А после этого выступления, думал я, пускай трое убеков, которых мы уже знаем: они по ходу действия занимались Валенсой, – так вот, пускай эти трое смотрят трансляцию по телевизору и ностальгически, хоть и с угрозой приговаривают: – Глядите, как важничает. – Ускользнул все-таки. – Спокойно. Мы его еще достанем. В особенности последняя фраза могла бы, наверно, некоторых зрителей навести на кое-какие размышления. А если, к примеру… Четырнадцатое августа 1980 года, пять утра, пока еще не жарко. Серовато, но солнце уже разгоняет дымку. Лех В. стоит у открытого окна на втором этаже, смотрит на чудовищно унылый пейзаж. Три сросшиеся боками серые пятиэтажки, помойка, стойка для выбивания ковров, видавшая виды «варшава», «трабант» и ярко-зеленая «сирена». А Лех В. курит и стряхивает пепел в цветочный горшок, курит и стряхивает… А не попробовать ли, подумал я, еще до того как эта Дорога начнется, как-нибудь обозначить, что фильм снимается в 2012 году? Мы и знаем больше, чем удастся вместить в полуторачасовой, ну, максимум, двухчасовой рассказ. Пусть будет что-то наподобие предчувствия, очень коротко о том, что было и что только еще произойдет. Вроде бы такой пролог, после которого мы вернемся к Леху В., этому, который в окне. Короче говоря, я попробовал. Придумал пару вариантов, первый получился длинноват. Пролог № 1 Август 1980-го, заполненная народом улица, женщины, мужчины, лица жесткие, огрубевшие, немного напоминают брейгелевские; среди них Лех В., тридцатилетний, за которым, замешавшись в толпу, следят агенты; они от него в двух шагах, но только наблюдают и обмениваются короткими фразами – у каждого под лацканом пиджака крохотный микрофон. Кадры эти не совсем реалистические. Они должны быть странноватыми, смахивать на сонные видения. Пускай, например, как у Андрея Тарковского, светит черное солнце, чтонибудь в этом роде. Или как первые сцены «Меланхолии» у Ларса фон Триера. А потом внезапно – кровать, на которой спят вповалку шестеро детей; к кровати подходит кряжистый мужчина, будит шестилетнего мальчонку, Лешека, говорит: «Сегодня у тебя именины, получай подарок, будешь пасти коров» – и дает ему прутик; прутик превращается в бильярдный кий, мы видим неестественно большой бильярдный стол, начало игры, поэтому шары слеплены в огромную твердую глыбу, прямоугольную или треугольную, которая кажется нерушимой – вроде как Организация Варшавского договора; напротив белый бильярдный шар: мы смотрим на шар с такой точки, что он кажется махоньким; возможно, слышна обрывочная русско-немецкочешская речь; Лех В., взрослый, с бильярдным кием в руке, наклоняется над столом, бьет, белый шар летит как пушечное ядро, треугольник рассыпается по всему столу, и вот уже восторженная толпа работников судоверфи несет Леха В. на руках, он характерным жестом потрясает кулаками, затем Лех В., рядом с которым стоит Данута, приносит президентскую присягу – это продолжается всего несколько секунд, слов не слышно, разве что только: «Клянусь польскому народу»; и тотчас в кадре уже другая, ночная, толпа, виселица с куклой, изображающей Леха Валенсу, транспаранты и выкрики: «Болек – в Москву!», кукла горит. И возвращаемся к первой сцене – уличной. Лех В. проталкивается сквозь толпу; он все заметнее нервничает, припускает бегом, агенты за ним, теперь мы видим, что это бег у ограды судоверфи. Лех В. прыгает и зависает в воздухе. Стоп-кадр. Потом титры: Фильм Анджея Вайды «Валенса» , – и возврат к августовскому окну. Потому что я сумел убедить Анджея, что не только «Мы, польский народ» далеко впереди, но и «Человек из надежды» еще не появился. Перевод: Ксения Старосельская ИГНАЦИЙ КАРПОВИЧ СОНЬКА © Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute Игнаций Карпович (р. 1976), прозаик и фельетонист, один из наиболее интересных современных писателей молодого поколения. Автор семи книг. Трижды номинировался на литературную премию «Нике». Лауреат «Паспорта “Политики”». Это чрезвычайно искусно выстроенная история с двойным дном. Начинается она как сказка, причем не только потому, что открывается словами «давным-давно», а сразу после этого появляются говорящие животные (пес и кот). Главная причина заключается в том, что происходит чудесная встреча сказочных героев: старушки, у которой нет ничего, кроме коровы, и прекрасного королевича – владельца шикарного «Мерседеса». По иронии судьбы великолепное авто ломается в чистом поле «на краю света», то есть на польско-белорусском пограничье, возле деревни Случанка, где – стоит это отметить – Игнаций Карпович провел детство. Старушка приглашает королевича в свою жалкую лачугу, угощает парным молоком и рассказывает ему историю своей жизни. Зовут ее Соня, а ее слушатель Игорь – модный, развращенный успехом театральный режиссер из Варшавы. Игорь моментально соображает, что судьба Соньки – прекрасный материал для трогательного спектакля о большой любви и еще большем страдании в реалиях немецкой оккупации. И тут читатель начинает теряться; он не понимает, с чем имеет дело: с волнующим рассказом о правде жизни или с многократно отредактированным, закрученным для большего эффекта театральным текстом, китчевым по своей сути «продуктом», произведенным Игорем, который знает, как покорить сердца варшавской публики. Жизнь у Соньки тяжелая: она растет без матери, отец бьет ее и насилует, братья измываются над ней, она пашет как ломовая лошадь. Пот, кровь и слезы – вплоть до июня 1941 года, когда через ее деревню марширует на восток гитлеровская армия. Ей достаточно одного взгляда, чтобы тут же влюбиться в Иоахима, красивого офицера СС. Тот отвечает взаимностью, и две недели подряд влюбленные проводят вместе все ночи. Любовь окрыляет Соньку и вырывает ее из будничной жизни в самом буквальном смысле: все это время героиня не ест и не спит, находясь как бы во внеземной сфере. За это прегрешение ей придется заплатить высокую цену, но пока исполнение приговора отсрочено: беременная Сонька выходит замуж за соседского парня и рожает сына – плод связи с Иоахимом. Однако приблизительно спустя год она теряет родных: жестокого отца, бесчувственных братьев, преданного мужа, ребенка и, наконец, любовника-эсэсовца. После этого она живет одна, осуждаемая деревенским обществом, которое считает ее предательницей, шлюхой и ведьмой. Единственные ее друзья – домашние животные. Замечательная идея Карповича заключается в том, чтобы непрестанно сталкивать героев с чужеродностью и невыразимостью опыта. Сонька говорит по-белорусски, а Игорь переводит ее рассказ не просто на польский, но на язык передового театра (для варшавских снобов). В своих разговорах с Иоахимом заглавная героиня абсолютно искренна, поскольку она не знает немецкого, а он – белорусского. Стало быть, им не нужно врать друг другу. Карпович мастерски «обыгрывает» эту ситуацию: слушая рассказ эсэсовца об уничтожении местных евреев, Сонька фантазирует на тему их будущего счастья, идиллии с любимым, он же, прижавшись к ее груди и чувствуя, как она гладит его по волосам, может излить мучающие его кошмары. Он говорит ей о зверствах, в которых участвует, при этом оставаясь и услышанным, и не услышанным одновременно. Феноменальный замысел! Наконец, еще одна нешаблонная идея – включить в повествование квази-автобиографическую фигуру. Выясняется, что Игоря зовут Игнаций, что родом он из тех же мест, что Сонька, но, поглощенный мыслью о мировой карьере, отрекся от своих подлясских корней и православия, убив в себе крестьянскую идентичность. Однако, по обыкновению Карповича, все это взято в кавычки, смешано с иронией и самоиронией, замешано на страхе перед непосредственностью, сентиментальностью или прямолинейностью. Поэтому мы доверяем «Соньке» и в то же время относимся к ней с подозрением – этого требует от нас Игнаций Карпович. Дариуш Новацкий IGNACY KARPOWICZ SOŃKA WYDAWNICTWO LITERACKIE, KRAKÓW 2014 120×207, 208 PAGES ISBN: 978-83-08-05353-9 TRANSLATION RIGHTS: WYDAWNICTWO LITERACKIE В ДЕРЕВНЕ СОНЬКА людей найти легко, хотят они того или нет, ну, разве что пропадут – тогда как камень в воду, никто ничего не видел, не слышал, не чуял: плюх, и всё. Деревня – мирок маленький, в пределах видимости и слышимости, все живут так близко друг к другу, что ни одна мелочь не ускользнет от чужого внимания, а потом – наказание, редко когда справедливое. Я выскользнула из хаты, как всегда. Отец и братья спали тяжелым плоским сном, будто после мака. За калиткой об мои ноги потерся Василь, мяукнул высоко и жалобно. Я наклонилась, чтобы его погладить. Тогда мне показалось, что я услышала какой-то звук – что-то вроде треска веточек, сдерживаемого дыхания или капельки пота, набухающей между грудями. Но это ничего, я пошла своей дорогой, к мосту, и сразу заметила Иоахима: в моих глазах, которые дневной свет все чаще резал и слепил, отразился четкий контур, темный силуэт. Две стальные молнии поблескивали на его мундире. Мне подумалось, что эти две молнии, одна возле другой, полыхнувшие на миг ослепительным блеском, – это мы. Я поцеловала его и взяла за руку. Впервые он был весь напряжен, жесткий и отсутствующий. Резкий, будто состоящий из одних углов, без кружков и кривых. Мы спустились к берегу, и он начал рассказывать какую-то историю. Сначала я думала, что это вот какая история… Война скоро кончится. Фронта не будет, и я здесь больше не понадоблюсь. Я отвезу тебя к своей матери, у нее прекрасная вилла неподалеку от немецкого городка Гарадок. Отец умер два года назад, он был учителем. Мать обрадуется. Она наверняка тебя полюбит. Моя мать предсказывает будущее и прошлое, она двухсторонняя. Потом мы поженимся. Иногда ты будешь готовить polnische еду. Она всем понравится. У нас будет пятеро детей: Waschil, Griken, Jan, Phrosch и Schiessen. Мы будем ездить на курорты и на море (море по-немецки называется Juden). У нас будет кот по имени Raus. Кот будет греться на солнышке и ловить Schweine (это понемецки мыши). Сосед, пожилой элегантный господин в полосатом костюме, Herr Abramowitsch, завещает нам свое имущество. А другой сосед, тоже из Polen, пан Бухвальд, выдаст свою дочь за нашего первородного сына. Я и в самом деле сначала подумала, что это такая история. Паника, которая во мне всколыхнулась, когда я увидела Иоахима, так помутила мой разум, что я забыла всё, что знала. Ведь люди болтали об этом. Паника билась во мне как сухая фасоль об стенки банки. Однако с каждым предложением я осознавала, что слишком много понимаю в этом полном непонимании; имена наших нерожденных детей звучали подозрительно знакомо, лишь искажаясь на этом хриплом наречии. Тогда я услышала другую историю, проступающую изпод первой; я слышала эту другую историю сотни раз – уже не от Иоахима, а от тех, кто выжил, или видел, или отмахивался от кошмара как от пламени, размахивая руками и лишь усиливая жар. А, может, вовсе не о них была эта история, а о моих братьях и муже? А, может, этого и вовсе не было, а только будет? Они собрали больше ста человек недалеко от деревянной синагоги в Городке – той, что возле церкви. Жаркий день. Евреи стояли, сбившись в кучу. Им было страшно. Там были мелкие купцы, корчмари, сапожники. Были их семьи. Те, у кого еще что-то осталось: может, и немного, но все же, все же что-то еще осталось. Остались бухгалтерские записи в тетрадях, кошмары о Яхве, потому что их Бог еще хуже нашего, остались заботы о бар-мицве и барышнях на выданье. Они беспомощно разводили руками, засовывали руки в карманы, сжимали руки в кулаки. Это были старики, пахнувшие пылью и керосином из ламп; были и молодые, пахнувшие солнцем и свежим потом. За цепью солдат толпились жители Городка. Некоторые сочувствовали, некоторые не понимали, некоторые рассчитывали на отмену долга. Некоторых забавляло унижение более зажиточных соседей, некоторых ужасало. Сначала солдаты вытащили из плотной человеческой массы молодого парня. – Sehr gut, – сказал Иоахим, точно так же, как он когда-то обратился ко мне. Солдат вынул из кобуры маузер, приставил ствол к виску и нажал на спуск. И больше ничего – только фонтан капелек крови и раздробленной кости. Соня качала головой, как будто не понимая многого из того, что описывала, но чего не видела своими глазами. В конце концов, может, она все это выдумала? Может быть, из столкновения рассказа с историей правда всегда выходит потрепанной? Игорь лежал напрягшись. Он плохо переносил даже единичное страдание – например, собственное, пусть даже оно ушло недалеко от ангины. А массовые страдания, запланированные сверху и претворенные в жизнь снизу, парализовали его. Он не мог слушать и сочувствовал механически, повинуясь безусловному рефлексу солидарности. В ярком озарении, которое перешло к нему от Йозика-Мышиного Пастуха, он понял, что должен запоминать даже больше, чем рассказывает Соня, должен запрячь память в театральную или литературную лямку, чтобы спасти себя, чтобы наконец рассказать какую-то правду, за что-то побороться. Хотя, пожалуй, это он предчувствовал с самого начала, еще с порога. Парень упал. Батюшка всегда повторял, что Бох упавших поднимает, а не упавших низвергает. Бох не поднял парня, не засунул в него обратно капельки крови и обломки кости. Может быть, еврейский Яхве не столь милостив и могуч? В конце концов, у нас в Городке Он был как бы на чужбине – далеко от песков и пустынь, скиталец. А может, мы этого не заслужили? Ведь для парня это было уже неважно, это в других зарождалось несчастье, это другие нуждались в чуде и ободрении. Видно, мы не заслужили Лазаря. Хотя Лазарь, если здраво рассудить, был не нашим, а евреем был, как все первые хрыстияны. Говорят, все молчали. Немцы по одному вытаскивали людей, приставляли к виску пистолет и нажимали на спуск. И каждое такое падение вырывало из круга наблюдавших за казнью соседей несколько человек. Эти люди шли по домам, но не по своим. Видя смерть лавочника, они направлялись в опустевшую лавку. Видя смерть сапожника, шли в бесхозную мастерскую. В конце концов остался только старый пан Бухвальд да батюшка и католический ксендз. Тогда немецкие солдаты вдруг удалились, оставив почти сотню трупов, троих живых и тучи мух. Мухи сразу чуют трупы и говно. Немцы просто ушли, словно это событие не имело особого значения, словно кончилось их рабочее время, и пришла пора отдохнуть. Почти сотня мертвых, трое живых и мухи. Возможно, такой была история Иоахима. Я уже не думала, что Juden – это по-немецки море, что Raus – это кот, а Schweine – мыши. Больше всех я сочувствовала Иоахиму. Я любила его, и он по-прежнему был жив, но, несмотря на это, я сочувствовала ему, потому что не могла иначе. Мой бедный светлый Иоахим, его прекрасное тело, внезапно очерченное скорчившимися контурами человеческих останков. Иоахим перестал говорить. Я до сих пор не знаю, чтó он пытался рассказать мне в ту ночь: о будущем и об убийстве в городке, а, может, о будущем после убийства или о будущем без будущего – не знаю. Он крепко сжимал мою руку. Мне было больно, но эта боль была ничтожной по сравнению с его болью. Он начал плакать. Он говорил и плакал, без всякой связи. Потом положил голову ко мне на грудь и затих. Я дышала будто с мешком камней на груди. Мы сидели недолго. Он даже не поцеловал меня на прощание, только прикоснулся к плечу, а затем к груди; мой сосок отвердел. Я смотрела, как он уходит: он уже давно растворился в темноте, и, несмотря на это, я продолжала стоять неподвижно, размышляя, не ночное ли видение мой Иоахим, или это все-таки мужчина из плоти и крови. Перевод: Никита Кузнецов ПАТРИЦИЯ ПУСТКОВЯК НОЧНЫЕ ЗВЕРИ © Tomasz Stawiszyński Патриция Пустковяк (р. 1981), по образованию социолог, по профессии журналистка. Публиковалась в таких журналах, как «Химера», «Лампа», «Политика» и «Впрост». «Ночные звери», ее дебют, вошли в финал премии «Нике» 2014. Писательский дебют Патриции Пустковяк привлек к себе внимание оригинальностью стиля – отшлифованного, смелого, зрелого. Критика назвала «Ночных зверей» женской версией романа «У подножия вулкана», отметив, что по чувству юмора книга Малькольма Лаури значительно уступает тексту Пустковяк. Да, речь идет об алкоголичке. О пьянстве, курении и наркотиках. О худших опасностях, что подстерегают молодую женщину, блуждающую в одиночестве по мрачной, фантасмагорической Варшаве. «Единственный спутник и одновременно свидетель ее падения – этот город, Варшава. Его большое тело, пронзенное рядами колонн, особняков, блочных домов, освещенное мириадами мерцающих неоновых огней». Самое завораживающее и поразительное в романе Пустковяк – фраза как таковая – густая, поэтичная, проникнутая черным юмором и пронзительным трагизмом. В пьяных городских пейзажах писательница неожиданно обнаруживает элементы поэзии, которой дышит текст вплоть до самой гротескной сцены падения героини. Тамара Мортус – так назвала ее писательница – алкоголичка анти-сентиментальная. Она не ищет для своей деградации оправданий, не мечтает о любви, не ждет спасения. Она просто увлекает читателя за собой. Героине очень помогает драматургическое чутье автора. Пустковяк начинает свое повествование с трупа и однозначно указывает виновника преступления. «Говорят, на воре и шапка горит. Но что касается Тамары – уже несколько часов свежеиспеченной убийцы – дело обстоит совершенно иначе. Ничто не горит ни на ней, ни в ней – Тамара напоминает маяк после аварии». Правда ли это? – задумывается читатель – а может, просто белая горячка? Остается выяснить, уготовил ли нам автор, поскупившийся на приятный зачин, столь же роковой финал. «Ночные звери» – вопреки возможной интерпретации – не являются повествованием исключительно ироническим или нигилистическим. Да, Пустковяк пародирует стилистику поколения тридцатилетних авторов, склонных живописать похмелье, блевотину и провалы в памяти так, словно это их собственные, оригинальные произведения искусства. Сама писательница находит для этих состояний емкую форму, противопоставляя ее бессмысленному словоблудию тех, кто в наркотиках пытается обрести иллюзию бессмертия. Молодая, красивая, образованная, безработная, потерявшая человеческий облик Тамара, чья кредитная карта «из другой жизни» (времен работы в фирме) каким-то чудом осталась не заблокированной, – не просто жертва зависимости, несчастная наркоманка, существо больное и опустившееся. Тамара – воплощение страха тех, кто пока еще имеет возможность зарабатывать и тратить. Кроме того, она – вдохновенная пророчица, возвещающая собственному поколению единственную прискорбную истину: и вы, подобно мне, потеряете работу, и вы утратите смысл ее поисков, и вы лишитесь иллюзий, будто потребительство есть путь к счастью. Но, – продолжает эта кассандра и искусительница, – вероятно, можно существовать и без этого. Пускай даже жизнью посмертной, ведь не исключено, что человека всегда можно воскресить при помощи кокаина и вина. Или все же нельзя? Эти сомнения – отсылающие одновременно к жанру детектива и религиозного трактата – ось, вокруг которой вращается повествование. Казимера Щука PATRYCJA PUSTKOWIAK NOCNE ZWIERZĘTA GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL/W.A.B. WARSZAWA 2013 135×195, 223 PAGES ISBN: 978-83-7747-956-8 TRANSLATION RIGHTS: GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL В день, когда НОЧНЫЕ ЗВЕРИ Тамара ее убила, ничто не предвещало катастрофы. Во всяком случае, на первый взгляд, а так – наверняка какая-нибудь машина с визгом шин вылетела из вылизанного (или, наоборот, запущенного) двора и на полном ходу врезалась в другую, встречную, подбросив высоко в воздух свое людское содержимое, которое, вопреки закону всемирного тяготения, принялось описывать там круги, потрясенное нехваткой необходимых для выживания элементов. При особо неблагоприятном стечении обстоятельств это мог оказаться и поезд. Вроде, тронулся – может, даже вовремя, торжественно – и всё быстрее помчался вперед, передвигая за окнами хорошо знакомый, неотступно лесной пейзаж, но в ключевой момент сошел с рельсов и, рассыпая снопы искр, доказал, что сегодняшний гудок стал сигналом к отправлению в ином, нежели обыкновенно, смысле. Может, были и другие следы, менее явные, начертанные на запотевшем зеркале. Может, приглядись Тамара внимательнее, она бы заметила черного кота, перебегающего улицу, которую вскоре предстояло пересечь и ей – как всегда, пьяной. I Говорят, на воре и шапка горит. Но что касается Тамары – уже несколько часов свежеиспеченной убийцы, – дело обстоит совершенно иначе. Ничто не горит ни на ней, ни в ней – Тамара напоминает маяк после аварии. Сидит на краю собственной кровати, словно манекен из музея восковых фигур – неподвижная, отупевшая и бесчувственная. Руки, которые всего час назад держали орудие преступления, теперь бессильно повисли вдоль тела и не способны даже потянуться за сигаретой. Впрочем, тянуться, похоже, не за чем – сигареты в доме закончились. Есть только окурки, выгоревшие, подобно ей. Жара нет – один пепел. И правда, если оглядеться в этой комнате, которая в бледном зареве вползающего в окошко рассвета открывает свои мрачные очертания, не найдешь ничего пригодного для использования. Все уже использовано, съедено и переработано – как и она сама. То, что сидит тут, на кровати – эта упаковка от бывшего человека – и вполовину не столь привлекательно, как выжранное до последней крошки содержимое. Итак, наша убийца сидит на кровати, застланной синим покрывалом, и наблюдает этот рассвет, подползающий по полу прямо к ее грязным, вчерашним ступням. Ступни Христа через час после Крестного пути. Рассвет с трудом, подобно пресмыкающемуся, протискивается через неплотные занавески, подбирается все ближе, подкрадывается, точно призрак. Из темноты возникают первые силуэты – комод, тумбочка, телевизор. Ясно, что они же – и последние: что касается интерьера, здесь царит абсолютный минимализм, а вот дьявол, сей любимый всеми эпизодический персонаж, как всегда, кроется в деталях. Это они, распространившиеся по комнате, словно средневековая чума, служат интерьером – так называемой квинтэссенцией. Именно они позволяют воссоздать образ жизни нашей Тамары с точностью, почти не уступающей той, с которой ученые на основании костей реконструируют интенсивность эротической деятельности и рацион динозавров. Что у нас тут? Грязная одежда. Дохлые мухи и комары. Две пустые винные бутылки, одна водочная. Несколько пачек из-под сигарет. Пепельница, полная окурков. Мундштук для курения гашиша и марихуаны. Две упаковки от обезболивающих. Остатки психоактивных веществ на липком от грязи полу. Комната Тамары напоминает апартаменты «звезд» – тех, что находят в отелях мертвыми. Вещей здесь множество, но многое и отсутствует. К примеру, угрызения совести. Сделай Тамара соответствующий тест, результат был бы отрицательный. Нет также внешних признаков нервозности – ни малейшей гримасы на лице. Другое дело, что после непрерывных гулянок – двухдневного марафона, в котором Тамара приняла участие, – ее лицо могло бы с успехом украсить плакат мощной антинаркотической кампании. Основная цветовая гамма – серый и фиолетовый, зрачки расширены, волосы всклокочены и декорированы в стиле кладбищенского пейзажа: сухие листья, грязь, пыль, паутина, кровь, остаточные количества всего, что только можно обнаружить в мире, особенно в его ночных сферах. Макияж – из разряда вчерашних воспоминаний, а синяки, царапины и тени на теле расскажут о Тамаре больше, чем папиллярные линии. Что касается красоты этой девушки, то будь сегодня Хэллоуин, Тамара могла бы переодеться собой и выиграть конкурс на лучший маскарадный костюм. Однако ее тело – не только потери и убытки: даже в этой зоне зеро есть на чем остановить взгляд. Это элементы другого тела. Частичка убитой девушки прячется под Тамариным ногтем в виде клочка эпидермиса, а на одежде отыскалось бы несколько принадлежавших покойной волосков. В самой же Тамаре находится чьято сперма. В это мгновение она как раз выливается из нее, по бедрам струйкой стекает жалкое воспоминание о незваном госте. Похоже, Тамара, вернее ее тело, снова оказалась рельсами для знаменитого трамвая, именуемого мужским желанием. Объект же ее собственного желания – твердые наркотики: токсикологическое исследование наверняка обнаружило бы в организме наличие кокаина, мефедрона, кетамина и алкоголя, а может, и еще чего-нибудь. Студентам-химикам пришлось бы попотеть. И все же возбуждения Тамара не чувствует – напротив, скорее странную собранность. Правда, она не может заснуть, но это следствие в большей степени сконцентрированности, какой достигают вволю намедитировавшиеся монахи, а не принятых средств. У Тамары такое ощущение, будто в ее теле причалил гигантский трансатлантический корабль. Вспененные воды успокоились. Одна лишь ледяная сосредоточенность, одна пустота. Она подозревает, что труп еще не обнаружен. Еще рано. Вот так смерть одновременно и стала фактом, и не стала: убитая сейчас – вроде кота Шредингера. Хоть и умерла, но по-прежнему жива для людей, не осознавших ее смерть. Пока кто-нибудь не найдет труп, не сообщит в полицию, пока весть не распространится подобно семенам одуванчика – будет длиться это переходное состояние между жизнью и смертью. Может, через пару часов кто-нибудь войдет в комнату, ставшую местом преступления, забеспокоится при виде лежащей неподвижно тридцатилетней женщины, снимет с ее лица подушку и зажмет рукой рот. Свой собственный. Мертвый человек всегда вызывает в живом панику. II В жизни смерть неизбежна и одноразова – как говорится, или ты умер, или жив. Трупы фигурируют тут исключительно в виде посмертных портретов или манекенов на следственных экспериментах, живы – только живые, чему подтверждение – их постоянная жизнедеятельность: от поглощения и испражнения до любви, домостроительства, сберегательных вкладов. Роману же подобные ограничения неведомы. Можно позволить себе более свободную трактовку таких фактов, как смерть и ее последствия. Итак, пятница, двумя днями ранее. Темнеет, серая мгла поднимается над Варшавой, этим удрученным городом – военнопленным, личность которого вследствие различных невзгод оказалась расчленена, а затем наскоро слеплена заново из того, что подвернулось под руку. Этот город взрывает над головами своих жителей петарды жестокости, тянет к ним руки, отрастающие со скоростью побегов фасоли. Где-то в этом городе бродит девушка, которая через два дня превратится в труп, а та, которой предстоит ее убить – Тамара Мортус – лежит на полу в своей квартире и чувствует себя остовом маленького самолета, сбитого неведомо кем. Тамара накручивает на дрожащие пальцы длинные пряди волос, закуривает сигарету, ждет, пока дым поднимется вверх, почти к самому потолку, и ей кажется, что она – лежащий на костре труп. Тамара все еще жива – вопреки своей фамилии и всем ее стараниям эту фамилию оправдать. Она давно уже сотрудничает со смертью, ведет с ней переговоры по поводу предстоящего в ближайшем будущем слияния. Тендерной картой служит алкоголь, а также иного рода стимуляторы; в обмен за них Тамара готова отказаться от своей доли в пользу смерти, а та всё медлит, всё насмехается над ее усилиями. Вот и сегодня, с самого полудня, Тамара торгуется с ней. До шести часов, которые только что пробили, она успела выпить три большие бутылки лимонной настойки и бутылку вина, приправив все это гашишем. Перед глазами у Тамары картина, напоминающая импрессионистское полотно – стая мельтешащих разноцветных пятнышек. Говорят, алкоголики не пьют с кем попало. Поэтому Тамара думает, что пока она пьет в одиночестве, алкоголизм ей не грозит. Перевод: Ирина Адельгейм ЛУКАШ ОРБИТОВСКИЙ СЧАСТЛИВАЯ ЗЕМЛЯ © Bartłomiej Kwasek Лукаш Орбитовский (р. 1977), писатель и публицист, признанный одним из лучших авторов хорроров в Польше. Кроме неисчислимого количества рассказов, имеет на своем счету 12 книг, за которые был номинирован на польские литературные премии (Премия им. Януша Зайдла, Премия им. Ежи Жулавского). Пишет фельетоны для «Газеты Выборчей», а также журнала «Новая фантастика». Написав «Счастливую землю», Лукаш Орбитовский, признанный автор так называемой «жанровой» литературы (в данном случае имеются в виду фантастика и хоррор), сделал шаг в сторону серьезной прозы, решительно порвав со своим предыдущим творчеством. Его новая книга (как нельзя более справедливо номинированная на премию «Паспорт “Политики”» 2014 года) это своеобразный «роман о поколении» (автор родился в 1977 году, так что речь идет о поколении нынешних тридцатипятилетних), в котором дотошный и реалистичный нравственно-психологический анализ соседствует с довольно нетривиальным фантастическим сюжетом. Строго говоря, перед нами история компании друзей из провинциального городка Рыкусмыку в Нижней Силезии. Находясь на пороге взросления, герои попадают в необычную и драматическую переделку, которая тенью ложится на дальнейшую жизнь каждого из них и в конце концов вынуждает давно разъехавшихся героев вернуться в отправную точку, чтобы помериться силами с Неведомым; природу последнего автор раскрывает далеко не сразу, постоянно держа читателя в напряжении. Незаурядность Орбитовского в том и заключается (не говоря уж о техническом мастерстве), что его текст не поддается однозначной трактовке. И дело не только в том, что автор сторонится слишком упрощенного противопоставления добра и зла, а вместо черного и белого выбирает полутона. Как знать, может быть, весь фокус в том, что оба дополняющие друг друга уровня повествования можно воспринимать совершенно автономно: один был бы очередным романом о представителях очередного «потерянного поколения», второй – сотворением (а точнее, реконструкцией) некоего мифа, приводящего в движение «сверхъестественный» компонент книги и связанные с ним перипетии; при этом оба текста оказались бы весьма убедительны. И если Орбитовский их все-таки объединяет, то, возможно, именно для того, чтобы отыскать инструмент для универсализации и дополнительного усложнения обычного повествования о сломанной жизни, о мечтах, исполнение которых иногда обходится слишком дорого, и риске, который стоит за каждым выбором, совершаемым человеком. А может быть, просто для того, чтобы высказаться. Когда один из героев, уже ближе к концу книги, говорит: «Хорошие были времена, и нам было хорошо. Сейчас времена плохие, и нам плохо. Чего тут еще придумывать?», ясно, что это не случайная реплика. И что Орбитовский, мифологизируя свое повествование, преодолевая реализм, видит в этом способ защиты от немоты, молчания и пустоты, которая всасывает не только литературных героев, но и, выражаясь несколько патетично, всех нас и каждого в отдельности. Страшно даже подумать, до чего хороша будет его следующая книга. Марчин Сендецкий ŁUKASZ ORBITOWSKI SZCZĘŚLIWA ZIEMIA WYDAWNICTWO SQN, KRAKÓW 2013 150×215, 384 PAGES ISBN: 978-83-7924-086-9 TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM МОЮ М АТ Ь СЧАСТЛИВАЯ ЗЕМЛЯ звали Ярость. Мы жили вместе, когда я начал слышать. Я долго упрашивал, чтобы она отвела меня к врачу. Но она взяла и сама засунула палец в мою ушную раковину. Сказала, что всё в порядке и чтобы я не распускал нюни. Дескать, маленький мужчина – уже мужчина. А потом вдруг больно выкрутила мне ухо. – Доктор ткнет тебе туда иглой, – услышал я. – Вот тогда заболит по-настоящему. 2 Говорят, что удачу можно ухватить за хвост только в большом городе, но мне довольно долго и в голову не приходило, что можно жить где-то еще, кроме Рыкусмыку. Мама-то как раз хотела уехать. В Легнице долгие ряды мощных каменных зданий приводили меня в ужас. Приезжая туда, я всякий раз пытался разглядеть живущих за этими стенами великанов. Вроцлав, где мы бывали редко, состоял из зоопарка, сиротливого лунапарка, мороженого на Рыночной площади и кинотеатра со старыми диснеевскими мультиками. Выйдя из кино, я садился в автобус и страшно радовался, что возвращаюсь домой. По этой же причине я не ездил на каникулы. Рыкусмыку давал мне всё, что мне было нужно. Кроме тишины. На Замковой площади, за остановкой, находился базар с ежедневно меняющимся товаром: в понедельник там продавали цветы, во-вторник – всякую живность, в среду – одежду, в четверг – автомобили, и так до воскресенья, когда на прилавках оказывалось разное барахло: цветные немецкие зажигалки, русские электронные игры с мультяшным волком или подводной лодкой, дешевые рубашки для рабочих и футболки с Сандрой. Больше всего на свете я мечтал о маленьком калькуляторе, круглом, бело-красном, похожим на футбольный мяч. Мама даже однажды дала мне на него деньги, которые я немедленно проиграл в автоматах, а калькулятор нарисовал себе сам, в тетради по математике. Рыночная площадь была в то время в плачевном состоянии, а хуже всего выглядело здание городского совета, построенное после войны. Казалось, оно разваливается от скорби по поводу незавидной судьбы окрестных домов, побитых и потасканных, словно пьянчуги, с утра до ночи просиживающие в центральной забегаловке. Высоко над лысеющими домами торчала Стшегомская башня, возле которой стоял наш дом. Рядом проходила Старомейская с парикмахерской и магазином игрушек, а кончалась улица неработающим кинотеатром и домом культуры, где работала мама. Если идти всe время прямо, можно было очутиться в полях, уже за городской чертой, и увидеть перед собой зеленую шапку леса, скрывающую затопленную каменоломню. Справа была покрытая гравием дорога с тополями по обе стороны, которая вела к машиностроительному заводу, а свернув в обратную сторону, я оказывался в парке, где был пруд, полный уток с головками цвета бензиновых разводов. Была там и небольшая детская площадка. Качели из бревен и покрышек, соединенных цепями. Чуть поодаль бежал ручей, а перед ним, на небольшом возвышении, стоял скелет бетонного бункера, всем своим видом приглашавший поиграть в войнушку. На другой стороне речки росли новые микрорайоны. Их обитатели казались чужаками, эдакими варварами, что вживляют в свои татуированные лица кости убитых врагов. Говорят, что когда-то там изнасиловали женщину, приезжую. Она появилась у нас неизвестно зачем, сняла комнату в частном секторе и целыми днями крутилась около замка. Кто-то напал на нее прямо за рекой. Она заявила в полицию, но потом сразу же забрала заявление, сказав, что всe произошло с ее согласия. Потом она уехала. Я был еще совсем маленький, когда случайно услышал эту историю, а взрослые отказались вдаваться в детали, которых я не понял. В другом конце городка был еще один парк, побольше и поухоженней. Там находился Собор Мира, гордость всего Рыкусмыку, построенный после Тридцатилетней войны без единого гвоздя, символ согласия между католиками и протестантами. Достаточно было зайти в близлежащий дом и спросить пастора, тот открывал двери костела и включал записанный на пленку голос, рассказывающий об истории этого места, о Боге и Рыкусмыку. Местом для игр нам служил разрушенный дом, в котором до войны было кафе. За проезжей частью и забором уже было только железнодорожное полотно и кооператив инвалидов «Инпродус». Я представлял себе, как там делают людей без рук и ног, а потом отправляют их поездами туда, где в них есть производственная необходимость. А еще у нас был замок. Замок был главным сооружением в городе, он стоял между Рынком и Замковой площадью, на изъеденном коррозией холме, замок цвета песка, он ассоциировался с Пястом, который здесь, без сомнения, когда-то жил. Замок построил чешский князь Радослав, здесь бывали короли, а также королева Марысенька. В девятнадцатом веке замок стал тюрьмой, сто лет спустя – концлагерем, о чем еще помнили некоторые из нас. Возможно, именно в связи с этими воспоминаниями все входы в замок были замурованы, а окна на первых этажах забиты досками. Но я все равно изредка видел огоньки на башне. Ночью из недр замка доносились крики, смех, а также звуки иного рода, смысл которых, по причине моего возраста, был мне тогда непонятен. 3 Мать была очень красивой. Однажды я подолгу рассматривал себя голого в зеркале. У меня был впалый живот с мелким пупком и маленькие глазки, разделенные длинным носом. Я отправился к маме и спросил, почему она не сказала мне, что на самом деле она не моя мать. У красивых женщин не может быть безобразного потомства, хотел я добавить, но схлопотал по физиономии. 4 Наша первая игра была связана с замком. Трудно сказать, сколько нам было лет – может быть, восемь, может, даже меньше. Взрослые говорили, что там опасно и можно сорваться; от них я услышал историю о лабиринте без выхода и мальчике, который попал туда давным-давно и бродит по лабиринту до сих пор, хоть уже и вырос. Мы, правда, знали о замке куда больше, чем взрослые. Кажется, это Тромбек однажды обнаружил вход в замок – толстая ветвь растущего возле стены дерева вела прямо в одно из замковых окон. Вся наша пятерка лазила туда минимум раз в месяц, а летом и того чаще. Я соскальзывал с ветки прямо в холод, на щебень и стекло. Ведущий вниз коридор проглатывал любой свет без остатка. Мы опирались о каменный подоконник. Каждый шутил, пытаясь подбодрить себя и остальных. Любая наша попытка выглядела одинаково и заканчивалась всегда тем же самым. Кто дальше всех пройдет по темноте? Кто дойдет до конца замкового коридора? Синица утверждал, что там, внизу, есть подземное озеро, но не мог объяснить, откуда он это знал. Я обхватывал зажигалку тряпкой или рукавицей, чтобы не обжечь ладонь, и шел, почти прижимаясь к стене. Я то и дело оборачивался, глядя на уменьшающийся светлый прямоугольник и четыре застывшие в напряжении тени. Я считал, и они считали: одно число – один шаг. Я осторожно ставил ногу, разгребая мусор носком ботинка. Становилось всe темнее и холоднеe. Я думал о мальчике, живущем в подземелье, об озере, кишащем чудовищами, о бандитских схронах. Окно всe уменьшалось, я шел всe медленнее, а потом вдруг поворачивался и со всех ног бежал обратно, вопя при этом что есть мочи. Мне не было стыдно – так поступал каждый. Если мне удавалось сделать больше шагов, чем кому-либо до меня, DJ Облом выцарапывал рекорд на стене. А если не удавалось – то, понятное дело, не выцарапывал. Потом мы шли на опустевший в этот час базар и рассаживались на длинных лавках. Мы болтали о том, что сделаем в следующий раз, и как это будет круто, когда мы наконец проберемся в самый низ, напоминали друг другу разные истории, связанные с замком. Что-то там, безусловно, есть, что-то ждет нас. Замок был нашей первой игрой. И, как выяснилось, последней. Перевод: Игорь Белов БРИГИДА ХЕЛЬБИГ СЕКРЕТИК © Beata Lipowicz Бригида Хельбиг (р. 1963), писатель и литературовед. Преподает в университете. Автор сборников стихов, рассказов, романов, а также трудов по литературоведению. «Секретик», ее последний роман, вошел в финал премии «Нике» 2014. «Секретик» – это роман, сотканный из генеалогии, из семейной истории. В нем постоянно слышится довольно выразительная ностальгическая нотка, но при этом автора никогда не оставляет чувство внутренней дисциплины. Повествование отличают и глубокая теплота, и ощущение твердой руки, которой Хельбиг составляет мозаичное полотно своего рассказа, удачно складывающееся в простой и целостный текст. У этой истории благородное, почти библейское начало. Отец «появился на свет в мифической Галиции, там, куда в 1783 году на нескольких подводах приехали его предки с Рейна в поисках хлеба. Немецкие колонисты. (…) Их было двенадцать человек, эдаких апостолов неведомого Бога». Это и есть самое важное в книге – нетипичное происхождение описываемой семьи. Герои – деды и родители автора, ибо нет сомнения, что в «Секретике» представлена генеалогия самой Бригиды Хельбиг – являются польскими немцами. Или немецкими поляками, поскольку «папочка», центральная фигура повествования, «уже не знает, немец он или поляк». Вальдек, а некогда Вилли (либо «на самом деле Вилли») относится к тому типу родителей, которые в сложных ситуациях лишь пожимают плечами. Запутанные судьбы скрыты за повседневной жизненной рутиной, которая унифицирует и маскирует своей обыденностью жизнь семьи в социалистическом лагере в «крохотной квартире для гномов на третьем этаже блочного дома». И только настойчивый голос рассказчицы помогает разглядеть за этой бытовой ситуацией проблему, домогается подробностей, деликатно, но при этом последовательно воссоздает целостную картину. И делает это вопреки взглядам отца: «Да не было это никакой маской. Уже тогда я чувствовал себя поляком. Я не думал о своем происхождении – я ведь родился в Польше. Так что не болтай ерунды». И всe-таки подобная двойственность, принадлежащая к одному из наиболее табуированных фрагментов польской истории, оставляет свою печать на семейных жизненных перипетиях – как подсознательных, внутренних, эмоциональных, так и внешних, реальных. Карьера отца в армии социалистической Польши внезапно рушится, поскольку начальству становится известно о семейных корнях Вальдека. Утаивание своего «подозрительного происхождения» в Польше всегда ассоциировалось с еврейством. Неизвестно еще, что хуже для поколения автора, второго послевоенного поколения – быть потомком палачей или жертв? Немецкое происхождение, на первый взгляд, незаметное, уже полностью слившееся с пейзажем «возвращенных земель», заретушированное послевоенной стабилизацией, гражданством и языком, лишь во втором поколении перестает быть тяжким грузом, становится фактом литературы, возвращая его носителям право на существование. В голосе рассказчицы есть что-то подлинное и успокаивающее, некая хозяйская сноровка, унаследованная от немецких бабушек, воля и умение контролировать ситуацию у себя во дворе. В этой интонации слышна нежная забота, ибо ни одна из мелочей, составляющих семейную историю, не пропадает впустую, не теряется, и в то же время отчетливо присутствует трезвый расчет: текст компактен и скроен по размеру. Вторая главная тема «Секретика» – это история Баси, жены Вилли-Владека. Прямо как в букваре, как на детском рисунке: «мама и папа». Именно так и называется одна из глав книги. В этой семье по женской линии передается артистический талант, культивируемый сугубо для домашнего пользования. Бася играет на мандолине. Она с удовольствием запирается на чердаке дома с дочерьми и внучкой, играя только для них. Вместе с названием книги, означающим старую детскую дворовую игру, эта сцена домашнего, семейного творчества служит, в какой-то степени, прообразом всего текста. Его основной месседж – забота и то явное облегчение, которое испытываешь, рассказывая что-то наперекор отцовскому «не болтай ерунды». Казимера Щука BRYGIDA HELBIG NIEBKO GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL/W.A.B. WARSZAWA 2013 123×195, 320 PAGES ISBN: 978-83-7747-959-9 TRANSLATION RIGHTS: GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Айн, цвай, драй СЕКРЕТИК «Папочка, а откуда у тебя такая странная фамилия?» – спрашивала иногда Мажена, приставала с расспросами Эвуня. Господи, откуда! Вальдек лишь пожимал плечами. Обычная фамилия, далекие предки были австрийцами, но когда это было, откуда мне знать? Оставьте меня в покое и садитесь за уроки! И, кстати, чья сегодня очередь выносить мусор? Ясное дело, ничья. И уж точно не Эвы. Но Мажена не отступала: «Папочка, а откуда ты умеешь по-немецки?» Господи, откуда? Учил в школе. «Знаешь, что, – топала ножкой Мажена, – я вот в жизни не буду учиться швабскому. Ненавижу этот язык». А когда Вилли как-то неосторожно намекнул на возможную эмиграцию в ФРГ, тринадцатилетняя девчонка взвыла, аж задрожали тонкие стены в маленькой кухне их советской двухкомнатной квартиры: «Только без меня! Без меня, на фиг! Валите туда сами! Ни за что не поеду! Ненавижу эту тарабарщину! Я остаюсь, тут моя родина! К фашистам – НИКОГДА!» * Ага. Вальдек, а на самом деле Вилли, который, собственно, должен был стать фермером или плотником, как его отцы и деды, который должен был жениться на Хильде или Сюзанне по фамилии Бишхофф, Бюрстлер или Кох, а сына назвать Генрих или Людвиг, застрял в социалистической Польше, женился на Басе, а дочек назвал Маженой и Эвой. Карьеру он делал стремительно. Еще чуть-чуть, и стал бы майором, а там, глядишь, и генералом. И всe сложилось бы отлично, если бы его прошлое однажды не поставило крест на всех этих планах, если бы то, что так старательно вычеркивалось из памяти, не стало бы в один прекрасный день явным и не вынудило бы его с болью в сердце сдать форму капитана Народной армии Польши, красивый мундир с четырьмя звездочками на погонах. Мундир этот бережно хранился в недрах встроенного в нишу прихожей, покрытого белой масляной краской шкафа, куда время от времени, скрипя дверцами, тайком заглядывала младшая дочка Вальдека. * Вальдеку было немного обидно, когда дочка кричала, что, мол, к фашистам – никогда. Ибо Вальдек в свое время был кем-то вроде немца. Если, конечно, исходить из того, что существует само понятие «немец». А сейчас я уж и не знаю, немец он или поляк. В принципе, можно было бы принять его за поляка, если бы не то обстоятельство, что во время футбольных матчей Польша-Германия душой он, помимо воли, всe-таки болел за немцев и поэтому неспокойно вертелся перед телевизором в своем любимом кресле, изможденном долгими ночными сеансами. В жизни он был и тем, и другим. Он менял кожу, сначала – чтобы пережить обиды и унижения, а потом – чтобы чего-то добиться, стать человеком, обеспечить семью. «Я вовсе не менял кожу, – пожимает он плечами. – Каким я был, таким и остался». Он был ребенком, когда его настигла война, когда над интернатом С. закружили немецкие самолеты и стало светло, словно в судный день. Ему не было еще и девяти. Вальдек внимательно наблюдал за взрослыми и за всем, что творилось вокруг. Реакция у него была что надо. Маженка хранила звездочки с погон папы в спичечном коробке. И постоянно их пересчитывала, проверяла, все ли на месте. Одна, две, три, четыре… Считать по-немецки она не умела. Самое большее – до трех, научилась во дворе: «Айн, цвай, драй – сваливай давай». Ну, и знала еще это: «Гутен морген, тапком в морду». Интернат С. С. в районе Бандрува! Когда в один прекрасный летний день тридцатых годов прошлого века сюда заехал некто Отто Мак из Львова, член Немецкого национального совета, он с восторгом воскликнул: «Это прекраснейшее место на свете – лес, солнце, вода, настоящий курорт!». Здесь, в маленькой бещадской деревеньке, от которой сегодня уже ничего не осталось, и появился на свет «папочка». Следы С. сейчас находятся на нейтральной полосе, на границе между Польшей и Украиной. Трава там выросла до пояса. Не трава – травища. Вилли родился в стране хоббитов, живописно раскинувшейся на берегах стремительного потока. Воды Стебника быстрехонько мчались к реке Стрвяж, а вместе с ней дальше, аж до Днестра, на восток. Странная это была деревня, и места вокруг были необычные, и так далеки они от того балкона, на котором сейчас Мажена, отгоняя пугающие мысли о том, что тратит время на ерунду, на пустые развлечения вместо зарабатывания денег, стучит по измученной клавиатуре и смотрит, как густеют и пылают огнем на экране столбики цифр, баланс жизни. Рядом с девственным лесом, в тихой долине с видом на основательно заросшие склоны бурливые Нанувка и Крулювка с задором и радостным плеском впадали в Стебник. Так представляет себе это Мажена. Такой вот священный образ стоит у нее перед глазами. Так пишут об этом немцы в своих мемуарах. Аккуратная идиллия, говорят они, немного стесняясь таких выражений. Сколько же там плескалось форели и прочих странных рыб, ползали раки, случалось, попадался и пескарь. Цветная шахматная доска полей, засеянных злаками. Рядом украинский рукав Стебника, а оттуда доносятся рвущие сердце песни работающих в поле украинцев. И украинок в широких цветных платьях, под которыми может спрятаться целый мир. Боже мой, вот это были времена. (…) Маленькая принцесса Мажена размораживает холодильник. Скалывает лед. Лед с грохотом падает в миску. И потихоньку тает. Что ей больше всего запомнилось после возвращения из Л., от бабушки, которая недавно умерла и в доме которой она провела первые годы жизни? Рассказывают, что однажды мама Бася поймала ее с поличным на кухне. Мажене было тогда два с половиной года, она почти целиком влезла в кухонный шкаф и, не без угрызений совести, принялась хлебать жирную белую сметану прямо из бутылки. Когда мама внезапно открыла двери, Мажена перешла в наступление и грозно, хоть и немного неуверенно, вскричала: «Отвечай, кто съел сметану?». А сметана широким ручьем стекала у нее по подбородку. Мама расхохоталась. Детский садик. Она помнит, как ей не хотелось туда идти, как уперлась уже на самом пороге ножками – и ни с места. Ведь это была очередная перемена в ее жизни. А она по сей день ненавидит любые перемены, сопротивляется им изо всех сил, даже если они сулят ей свободу. Но в конце концов всe-таки пошла. Сопротивление бесполезно. И потихоньку привыкла. Помнит, что тогда страшно популярными были такие красные сетчатые авоськи, в которых продавались овощи, и каждый ребенок в детском саду мечтал о такой сетке – тонкой, эластичной. Почему? А кто его знает. Двор. Мажена часами играла с другими детьми во дворе. Они лазили вокруг блочных зданий, собирали стекляшки у киосков и мусорных баков, где было полным-полно осколков от разбитых пьяницами бутылок, а еще собирали цветные конфетные фантики и осенние листья. Из всего этого делались так называемые «секретики». Откуда взялась эта игра, неизвестно. Дети выкапывали ямки, клали туда золотую и серебряную фольгу от конфетных оберток, фантики с замысловатыми узорами, цветы и траву, а затем закрывали всё это стеклышком и присыпали землей. Нужно было точно помнить топографию местности, знать, где хранится сокровище. Тайна обычно доверялась нескольким самым близким друзьям. Периодически нужно было проверять свои «секретики» – если их не оказывалось на месте, значит, кто-то их выдал. Выдал и выкопал наше сокровище. А ведь сокровища надо стеречь. И не забывать о них. Часто по вечерам соседи, пьяные мужчины – простые люди, пролетарии – ссорились, и тогда в дело шли булыжники. Приходилось вызывать милицию. Только у них, у родителей Мажены, был телефон. Мажена до сих пор помнит это мрачное ожидание чего-то жуткого. Бледный ужас. Соседи в деревне, семья с десятью детьми, с кучей грязного белья на полу. Кажется, одна из старших дочерей по утрам, в одной ночной рубашке, без трусиков, таскала у них молоко с крыльца, а Вальдек, папа Мажены, однажды поймал ее за руку. Иногда к девицам приходили парни и бренчали на гитаре под балконом. Бывало, сами девушки околачивались у ворот воинской части. Бася и Вальдек первыми купили себе черно-белый телевизор. Соседские дети приходили к ним смотреть вечернюю передачу для малышей. Один ребенок однажды, сильно впечатлившись, обмочил им ковер. Дети говорили Мажене: «Какая же ты богатая!» И она чувствовала себя Маленькой принцессой. Перевод: Игорь Белов АГНЕШКА ТАБОРСКАЯ НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ ФИБИ ХИКС © Grażyna Makara Агнешка Таборская (р. 1961), писатель, историк искусств и переводчик французских сюрреалистов. Издала такие книги, как «Сонное житие Леоноры де ла Круз», «Заговорщики воображения. Сюрреализм». Ее сказки для детей вышли в Польше, Германии, Японии и Корее. Читает курс по истории искусств в Rhode Island School of Design. Написанная легкой рукой замечательного знатока сюрреализма повесть о Фиби Хикс посвящена в равной мере как героине девятнадцатого века, вдохновенной звезде спиритических сеансов, так и месту, в котором всe происходит. «Волшебному городу Провиденс» – так звучит посвящение. Портовый город Новой Англии, этой наиболее европейской части Соединенных Штатов, знаменит на всю страну клeнами, которые осенью «меняют цвет на тридцать с лишним оттенков от розового до пурпурного». Провиденс – второй, наряду с Варшавой, город, в котором живет наша автор. Там, в Род-Айлендской Школе дизайна Агнешка Таборская преподает историю искусства и литературы. История о Фиби, хоть и придуманная, но апокрифичная в сюрреалистическом смысле этого слова, насыщенная как духами, так и магическим genius loci Провиденса. Да и сама Фиби в каком-то смысле является его литературным воплощением. Степенность, безумие и красота столетиями соседствуют здесь в ничем не нарушаемой гармонии. В искуссно скомпонованных литературных миниатюрах, представляющих собой главы книги, Агнешка Таборская умело наполняет рациональностью и иллюзией, юмором и эрудицией. Прикидывающееся поначалу литературной забавой, повествование на самом деле является трудом по классическому спиритизму, точным в деталях и дающим волю фантазии тех, кто жаждет постичь феномен фотографии, кино, а также тайны культа психоактивных субстанций и измененных состояний сознания. «Кем была Фиби Хикс?» До того, как в результате провиденциального во всех смыслах этого слова отравления морепродуктами она провела в 1847 году первый спиритический сеанс, она «благодаря благородному рождению в богатом доме по улице Бенефит» была просто знатной дамой. Но кусочек несвежего моллюска открыл перед ней фантастические возможности! После продолжавшейся всю ночь рвоты и пребывания на грани жизни и смерти Фиби обрела видение, которое на долгие годы вперед наметило ее ментальный коридор… ведший прямо на тот свет. Это придало ей исключительный статус, где-то между артисткой, жрицей неведомого культа и весьма подозрительной особой. При этом ей везло: никто никогда не смог уличить ее в мошенничестве, а может, она ничего предосудительного и не совершала. Явно симпатичная автору, барышня иногда предстает как любительница поесть галлюценогенных грибков и покурить марихуану. Среди женщин-медиумов, известных своими эротическими скандалами, разными шарлатанскими штучками и тяжелой работой по вызыванию духов в присутствии многочисленной аудитории, она отличалась исключительной основательностью. Агнешка Таборская представляет ее, исполненную таинственной фантазии и артистической изобретательности, как прототип женщины-психоаналитика и артистки перформанса. А также – как своеобразную исследовательницу культуры, пытающуюся найти символические фигуры массового сознания. Женщина-медиум вызывала неосознаваемые людьми желания и придавала им форму, становилась защитницей и проводницей этой «ночной» стороны души достопочтенных граждан, которая никаким иным образом не смогла бы перед ними открыться. Удивительный курбет американского рационализма – массовый психоз на почве вызывания духов, охвативший континент в середине XIX века – обстоятельно и изящно отображен в эпизодах жизни загадочной мадемуазель Хикс. Коллажи американской художницы Селены Кимбалл, иллюстрирующие книгу, открывают в давнишнем спиритизме, этой смешной и странной коллективной галлюцинации, глубину и тот контекст, который со временем поможет открыть в человеческой душе фрейдистский психоанализ и искусство сюрреализма. Казимера Щука AGNIESZKA TABORSKA NIEDOKOŃCZONE ŻYCIE PHOEBE HICKS FUNDACJA TERYTORIA KSIĄŻKI, GDAŃSK 2013 165×235, 132 PAGES ISBN: 978-83-7453-133-7 TRANSLATION RIGHTS: AGNIESZKA TABORSKA CONTACT: NBFP@BOOKINSTITUTE.PL Материализация из голубой плазмы НЕЗАКОНЧЕННАЯ ЖИЗНЬ ФИБИ ХИКС Дух Гарри Гудини открыл третий этап святости Фиби. Он присоединился к участникам сеанса, материализуясь из клубившегося над столом голубого облачка, в котором кое-кому хотелось видеть эктоплазму. Дух оставался с гостями на протяжении шестнадцати долгих вечеров, то возникая из плазмы, то выходя из-за терявшейся во мраке портьеры, то выныривая из-под лежащей на столе плюшевой скатерти. На последний сеанс с его участием он явился заранее и уже ждал публику, заняв место справа от Фиби, точно полноправный обитатель мира сего. Ясно, что многие могли бы подумать, что рядом с дамой-медиумом сидит переодетый в иллюзиониста ее ассистент, воодушевленный легковерностью собравшихся. Но как тогда объяснить материализацию из голубого облачка? Чем объяснить появление духа человека, который родится лишь четверть века спустя? И как в интересы медиума вписывается в общем-то компрометирующий ее в глазах настоящих спиритистов поединок с Гарри Гудини на фокусах? Фиби против Гудини Ничто не предвещало поединка Фиби с Гарри Гудини, но во время шестнадцатого сеанса дух иллюзиониста сам внезапно его начал, а спустя неполные два часа так же внезапно покинул гостей, немало удивленных таким поворотом событий. Сплетни об этом поединке потом долго кружили в Новой Англии, на разные лады перевирая произошедшее. Неправда, что дух позванивал цепями, что медиум пребывала в раздражении в то время как дух сохранял ледяное спокойствие. Единственное походящее на правду сообщение относилось к пикировке между сторонами: каждый раз как только Фиби материализовала какую-нибудь вещь или какогонибудь человека, Гудини делал так, что они исчезали. Список предметов, вызванных Фиби из небытия, не был велик. Средь них дырявый нелуженый чайник, букет засохших желтых цветов и старинный турецкий ковер, который при более внимательном рассмотрении оказался жалкой подделкой. Среди вызванных на некоторое время с того света особ оказались Иван Грозный, Екатерина Великая и Пушкин, как бы подтверждая слухи о слабости американских медиумов к русской культуре. Так или иначе, Гарри Гудини не позволил ни единому из свидетельств гения Фиби оставаться среди живых дольше минуты. Даже пребывая в своем призрачном образе этот величайший из разоблачителей лжемедиумов не преминул воспользоваться случаем умалить заслуги Фиби. Психоанализ Лишь немногие догадывались, что Фиби была чем-то большим, чем просто каналом нашей связи с загробным миром. Со временем, хорошо узнав человеческую природу, она целиком вошла в роль психоаналитика. И еще до того, как перед началом сеанса наступала тишина, она терпеливо выслушивала гостей, изредка прерывая их вопросом или замечанием. Может, она, как лжемедиумы, просто пользовалась ситуацией, чтобы получить полезную информацию? Но дело, видимо, было в чем-то гораздо большем. Как позже Фрейда, так и ее сейчас в рассказах людей привлекали упущенные возможности, неиспользованные обстоятельства, альтернативные варианты жизни, которые имеют над нашим воображением неограниченную власть. И это тоже отличало ее от всех прочих медиумов. Изголовье кушетки В этой своей новой жизни Фиби больше всего ценила то, что мысли, которые раньше разбегались в разные стороны, вдруг начинали вертеться вокруг одного вопроса: будет ли очередной сеанс таким же успешным, как и предыдущий? Ясно поставленная цель давала ей внутреннее успокоение. Желая поделиться с другими простым открытием, где искать смысл жизни, она даже подумывала, не сменить ли ей профессию, и уже представляла себе, как сидит в удобном кресле в изголовье кушетки, на которой возлежит пациент. Она внимательно слушает его, после чего советует (всегда одно и то же) посвятить себя какой-нибудь миссии с единственным условием – до конца отдаться этому делу. Она, казалось, была уже совсем близка сменить род деятельности, как ее от этого решения увели назойливые материализации какого-то мальчика, который с упорством достойным лучшего применения всe повторял по-немецки, что такая карьера написана ему на роду. Паренек появлялся в самые неподходящие моменты, и прекратил свои появления только тогда, когда она пообещала ему, что он забудет о своих навязчивых идеях. Его визиты так утомили Фиби, что она не стала разбираться, почему ребенок оставляет в Вене земную оболочку, чтобы в качестве светящегося призрака беспокоить ее в городе по другую сторону Атлантики. Усталость домов А теперь несколько слов о городе, без которого не было бы ни Фиби, ни сеансов, без которого духи были бы обречены на вечное пребывание в загробном мире. Провиденс – столица Род-Айленда, самого маленького из штатов, важный город в Новой Англии, этом европейском уголке Америки. Идешь по городу, и такое впечатление, что все улицы здесь второстепенные: движение на них такое вялое, что даже не может быть свидетельством жизни города. Они точно давно не выставлявшиеся декорации театральных запасников, декорации, на фоне которых в любую минуту готовы разыграться сцены давно сошедших с подмостков спектаклей. Изредка на них появляется случайный прохожий, подавленный провинциальной скукой. Этот вид трудной для определения атмосферы наверняка действовал на душу Фиби Хикс. Город формировал ее, но и она оказала определенное влияние на город. В проводимых ею сеансах люди небезосновательно увидели источник тех изменений, каким вдруг стали подвергаться дома. А надо сказать, что дома в Провиденсе пошли трещинами. Под напором обитавших там духов, испарений, исходивших от некогда живой материи, под тяжестью повисших в воздухе незаконченных разговоров стены напряглись и выгнулись. Оборванные фразы, вопросы без ответов с течением времени становятся всё более тяжелыми, разбухая точно намоченная в воде черствая булка. А стены особенно пострадавших от одержимости домов приобретают чуть ли не овальную форму. Жители соседних городов смеются над Провиденсом и долго заполночь разглагольствуют о превосходстве прямой линии над кривой. Примитивная натура обывателей Джонстона, Уорвика или Потакета приводит к тому, что они не забивают себе голову исследованиями причин разбухания стен. Их мнение, само собой, не имеет на жизнь духов никакого влияния. Более того, некоторые уставшие от пребывания в мире ином привидения, похоже, находят особое удовольствие от деформации стен. Достаточно пройтись по улице Бенефит ранним вечером, когда клонящееся к закату солнце бросает на вздутые фасады зданий тени газовых фонарей, подчеркивая гротескность формы этих фасадов, чтобы понять масштаб постигших город изменений. Мало выпуклости стен, у домов Провиденса есть еще и морщины. Здесь не принято говорить о связи между частотой проводимых сеансов и темпом старения домов. Это секрет полишинеля, что даже самый короткий сеанс может изменить до неузнаваемости совсем еще новый фасад. Так же как бессонная ночь прибавляет лицу несколько лет. По трещинам и осыпанию краски специалисты узнают, как часто жители предаются дурной привычке общения с духами. Впрочем, не надо быть большим специалистом, чтобы это заметить. Достаточно родиться в Провиденсе или пожить там немного, чтобы научиться видеть усталость домов. Джентльмены и неистовая Фиби Некоторые из привидений, похоже, не меньше удивлены своим появлением в этом мире, чем наблюдающие их простые смертные. Иногда они беспрерывно повторяют одни и те же движения или слова, будто через знакомые жесты и звуки сами себе хотят доказать, что существуют. Их маниакальное поведение приводит к тому, что живые сваливают на них чьи-то проступки: разбитое окно, потухший огонь, смену вещами мест в доме, скачущую мебель и домашнюю утварь, появление в доме лишних предметов, стук оконной рамы и внезапное самооткрывание запертой на ключ двери. Духи пытаются бунтовать против несправедливых обвинений, однако немногие из смертных замечают этот бунт. Внешний вид и материя призраков – источник недоразумений. Желая видеть в них эфемерные создания из застывшего облака, участники сеансов не могли надивиться: сколько раз ни уходила рука в духов, точно в тесто, каждый раз она останавливалась на вполне материальной коже. Вот откуда брались сплетни о медиумах, переодетых в призраков. Некоторые из гостей нашли в этой «неясной» ситуации предлог для оправдания своего излишне игривого поведения. Лапая прибывших с того света женщин, джентльмены Новой Англии несколько раз нарывались на вспышки гнева Фиби. Перевод: Юрий Чайников МАРИУШ СЕНЕВИЧ ЧЕМОДАНЫ ИПОХОНДРИКА © Elżbieta Lempp Мариуш Сеневич (р. 1972), писатель. По мотивам его произведений было поставлено несколько театральных спектаклей. Его книги переведены на немецкий, литовский, русский и хорватский языки. «Чемоданы ипохондрика» – его седьмой роман. Эмиль Следзенник – тот самый ипохондрик, про которого новый роман Мариуша Сеневича – утверждает, что сбор чемодана учит минимализму. Может это и так, но чемодан он собирать не умеет. Рассказ о нескольких днях, проведенных им в провинциальной польской больнице, он заполнил до предела, упихав в него детские воспоминания, признание в любви к «женщине всей своей жизни», филиппики против местечкового патриотизма, дифирамбы в честь обезболивающих средств, писательско-графоманское (ибо герой, это альтер эго автора, тоже писатель) самокопательство и иронические размышления на тему жизни-смерти-и-всякого-такого. «Чемоданы ипохондрика» – воистину барочный роман. Каждая фраза выстреливает метафорой, каждый абзац закрывается остроумным пассажем, каждая история максимально рельефна и максимально орнаментирована. Это какое-то гомбровичевское, гротесковое барокко. Иронические конструкции и куртуазные анекдоты служат одной цели: «Убить Польшу – это было бы что-то! Уже сам замысел показался мне грандиозным из-за его претенциозности». Эмиль не заморачивается политкорректностью, ему наплевать на польские святыни, он каждый день мечтает свалить из страны и размышляет, можно ли всей пролитой за Польшу кровью наполнить озеро Снярдва, а то и целое Балтийское море. Следзенник ненавидит Польшу за то, что она его душит. Но он не сдается без боя. Он защищает свое эго, помещая его в самые разные обстоятельства. Прежде всего это болезнь – мелькнувшая в заглавии ипохондрия, в которой он сам открыто признается, говоря, что болел всегда и всем, чем только можно было заболеть: «Дискалькулия вплоть до двадцатого года жизни и дисмемория уже с двадцать первого». И, как положено ипохондрику, болеет он исключительно в своем воображении. Но от этого болезнь для него только страшнее и тяжелее. Потому что герой весь, целиком, до конца и еще чуточку дальше, живет только в своей фантазии, в ее сюрреалистическом искривлении, в сонно-мечтательном удивлении и вранье, в которое он верит сам. Он живет в произнесенных и написанных словах, в них он осуществляется, разрастается, любит. Этот роман полон странных, но в то же время в высшей степени изящных признаний и апостроф: «мой птифурчик морфиновый, мой наполеончик героиновый, благодаря которому я существую во многих мирах одновременно!» Следзянник – зависимый субъект. Зависимый от всего. От обезболивающих средств, от судьбы, от женщины своей жизни, от придумывания историй, от процесса говорения. Книга Сеневича читается на одном дыхании, потому что нет такого места, в котором ее можно хоть на минуту отложить. Прервать чтение – значит прервать Эмиля на полуслове-полувздохе, то есть задушить его. Впрочем, Эмиль живет в теле: он постоянно склоняется над своим телом и изучает его. Он упивается камнями в желчном пузыре, входит во вкус кетонала, из предоперационного бритья паха создает метафору смешной человеческой судьбы, а весь свой несомненный, хоть и причудливо-прекрасный, лиризм называет гормональным. Было барокко, был Гомбрович, есть еще «болезнь как метафора» и писатель, который черпает вдохновение как раз из болезни. В мелькнувшие в заглавии чемоданы Сеневич сложил литературную традицию, живые стили и языки, воспоминания и вымыслы, чувства и наблюдения. Возникает мысль, что писательство само по себе является ипохондрией, утверждением, что есть во мне что-то очень важное, чего нет ни у кого другого и чего никто другой никогда раньше не говорил, но что обязательно должно быть высказано. Стоит покопаться в «Чемоданах ипохондрика». Из них можно достать кучу интеллигентного юмора и едких замечаний, за которыми скрывается остроумный писатель. Ига Нощик MARIUSZ SIENIEWICZ WALIZKI HIPOCHONDRYKA ZNAK, KRAKÓW 2014 140×205, 272 PAGES ISBN: 978-83-240-3210-5 TRANSLATION RIGHTS: ZNAK ОТКРЫВАЮ ЧЕМОДАНЫ ИПОХОНДРИКА глаза. Опять потолок, стена, пальцы ног, торчащие изпод одеяла. И разочарование, да, разочарование, что я всe еще здесь, а не там. Одно утешение – звучание твоего имени. Пока еще терпимо. Немного воспоминаний, немного легкой дремы. Это мои невидимые чемоданы, которые я притащил с собой вместе с видимым, в котором пижама, полотенце, «Смерть прекрасных косуль». Открываю чемоданы наугад, без цели, без нужды. Осторожно заглядываю, не вполне уверенный в их содержимом. Да, больница – это тоже своеобразное путешествие: чем дольше лежишь, тем больше удаляешься от внешнего мира, тем чаще выходишь за пределы собственного тела, то и дело пересекая границы памяти. И тогда понимаешь: надо чтобы багажа было как можно больше; даже кажущееся несущественным воспоминание может пригодиться, потому что неизвестно, сколько продлится путешествие и куда приведет. Хотелось бы верить, что кетонал поможет мне пережить первую ночь без тебя. Ты ведь знаешь, как я боюсь боли, а еще больше я боюсь, что тебя нет… Многое отдал бы за то, чтобы всe вернуть назад и снова засыпать рядом с тобой. Клянусь: я не изменил бы тебе даже в мыслях, до минимума свел бы джентльменский набор депрессий и нарцистических фрустраций. Впрочем, для тебя это одно и то же. Не стал бы пропадать вечерами в бермудском треугольнике дивана, холодильника и телевизора. Не прикрывал бы лицо газетой. Наконец оценил бы в полной мере очарование наших неспешных разговоров. Мало? Тогда слушай внимательно! Если стоишь, лучше сядь. Ради тебя я отказался бы даже от самой пустяковой болезни, ни словом не заикнулся бы о пронизывающей меня боли. Никогда больше не разглагольствовал бы о депрессии и саморазрушении, никогда больше ты не услышала бы от меня: «вон, посмотри, что у меня выскочило на шее», «пощупай, ты тоже чувствуешь, что тут опухоль?» Я бы так научился гладить твои юбочки и платья, что каждая складочка полетела бы стрелой. Я подыскал бы пару одиноко валяющемуся гольфу, да что там гольфы – само программное устройство стиральной машины раскрыло бы передо мною все свои тайны. Для тебя одной я стал бы Робертом Кубицей на трассах, ведущих ко всем Бедронкам и Лидлям1. Для тебя бы 1 Б едронка, Лидль – сети магазинов в Польше. я мыл посуду: опустив руки в раковину, я вылавливал бы тарелки-ложки-вилки-кружки точно резвящихся серебристо-белых рыбок, и каждый из приборов стал бы твоей золотой рыбкой. Для тебя я стал бы поклонником панелей и полов, отвешивающим им поклоны с тряпкой в руках. Для тебя выгуливал бы по квартире пылесос точно дрессированного муравьеда. Я был бы твоим домработником! Твоим украинцем! Твоим страстным южанином – испанцем или итальянцем, а в дни получек и авансов – российским олигархом с внешностью шведа! До конца жизни я ласкал бы твои стопы и, как Марко Поло открывал новые земли, так я открывал бы эрогенные уголки твоего тела. Твои и только твои желания были бы для меня компасом!... Каждый вечер я готовил бы тебе теплую ванну с маслами и ароматами. Каждое утро я в зубах приносил бы тебе шлепанцы, а в руках – бокал мохито!... Это не пафос, моя прекрасная жрица. Это любовь! Самая настоящая, самая искренняя. Руки перестают дрожать, кровь успокоилась. Достаю минералку. Делаю глоток, вожу языком по нёбу. Болит гораздо меньше, почти совсем не болит, хотя лицо продолжает стягивать маска страдания, будто другое, более мягкое его выражение уже невозможно. Мне даже не хочется курить, а я ведь уже целую неделю без курева. Верь мне, я отдыхаю. Отдыхаю от маниакального размышления о себе в прискорбном «здесь» и проклятом «сейчас». Кетонал помог. Это не только джинн, но и моя Ариадна: из клубка нервов, каковым я до сих пор был, она выколдовывает длинную и крепкую нить умиротворенности. Она выводит меня из лабиринтов моего собственного «я». Нет ничего прекраснее, чем хотя бы на мгновение освободиться от собственного «я»! Как будто я выхожу из себя, становлюсь рядом, внезапно сконфуженный соседством этого потрепанного жизнью сорокалетнего мужчины с искаженным гримасой боли лицом, с обжигающей претензией в глазах, что судьба так круто обошлась с ним. Порой меня одолевают подозрения, что мое страдание сродни аутоэротизму. Эдакое страдание, которое возомнило себя возбуждающе-самодостаточным. К счастью, ситуация начинает исправляться. Теперь я могу свободно подумать о других людях, ведь есть же еще и другие люди. Я наконец в состоянии почувствовать мир освобожденными чувствами, я – больничный Уитмен! Я – Лесьмян! Как прекрасно пахнет накрахмаленная постель! Как приятно прикасаться к трубочке капельницы, вертеть в руке эту пуповину, по которой в меня поступает эйфория! Должен признаться, что меня очаровала медсестра нашего отделения – Кристина, со знаменитой и вселяющей надежду фамилией – Цейнова. Нет, никаких матримониальных мыслей, никакого порхания бабочек в животе, клянусь! Мысли исключительно платонические, а если и бабочки, то только метафизические. Сама подумай: разве не всё на свете начинается и кончается медсестрами? При них мы рождаемся, при них умираем. А если скажут, то при них мы разденемся догола, как послушные дети, выдавая наши самые сокровенные тайны. Это наши родные матери с зарплатой тысяча семьсот в месяц чистыми. Это наши святые по части уколов, таблеток, капельниц. Помнит ли кто о них, кроме ходящих под себя пациентов? Хоть один памятник, достойный самых больших героев, воздвигли в их честь? По мне, так лучше всех этих Понятовских, Костю- шек и Пилсудских после чуда над Вислой поставили бы памятник санитарке на дежурстве! Вместо повстанцев таких да подпольщиков сяких предпочту лицезреть на постаментах памятников национального величия гордо выступающую грудь больничной медсестры! Медсестры заслуживают большего, чем кофе, шоколадка или цветок. Нюхай хоть его, если не суждено даже понюхать белый конверт. Белые конверты идут прямиком в карман врача. Мой панегирик в честь младшего медицинского персонала не заглушат больничные хейтеры, обвиняющие санитарок в пэнээровских замашках или что они якобы бросают пациентов как мешки с картошкой. Побойтесь Бога, надо же и меру знать! И место! Ведь где они работают? Среди стонов, слeз и причитаний, а не в дипломатическом представительстве в Брюсселе. Впрочем, в доказательство, что им следует многое прощать, я задам тебе риторический вопрос: кто имеет непосредственный доступ к волшебному шкафчику, запираемому на ключик?... А в волшебном, в секретном шкафчике бесстыдно разлеглись кетонал с налорфином! Вот они, коробочки, бутылочки, ампулки. Рядом с одноразовыми иголками, пентазоцин, доларган, трамал, морфин, и все они громоздятся, образуя многоэтажный дом, а то и небоскреб, Манхэттен экстази! Есть и другие антидепрессанты, барбитураты с загадочными – то ли это латынь, то ли сам Толкиен их придумал – названиями. Ты только представь: каждая ампулка – это раствор рая, Багамы, которые в тебя вводят по миллилитру! Каждая маленькая таблеточка – Атлантида в океане страданий, Земля Обетованная в прозрачных рюмочках… Великая Книга Забвения! Ничего, только проглотить, только поработать кулачком, чтобы напрячь вену, и попросить еще! Волшебный шкафчик, секретный шкафчик я увидал сегодня через приоткрытую дверь процедурного кабинета. И чуть не расплакался от счастья. В отделении есть всe, чтобы выступить на войну с болью. Нужно только хорошо вести себя с медсестрами. Не дерзить, не жаловаться, не нажимать кнопку вызова по пустякам, а ночью так уж лучше вообще не нажимать, даже если ты умираешь в муках. Если кто будит санитарку в ночную смену – пиши пропало, такому вообще лучше было бы не родиться. Утром он конечно получит лекарства, но только какой-нибудь аспирин или ибупром. Не могла бы ты мне привести пару шоколадок Линдта? Те что побольше, с орехами. И кофе, лучше всего Якобс растворимый. Возраст «моей» медсестры я оцениваю лет на пятьдесят, не больше. Худая, волосы светлые, длинные, убранные в пучок. В детстве я подумал бы, что после смерти она превратится в светлый тополь или белую сирень. Свое дело знает, что я понял сразу после первого мастерски сделанного укола. У меня больше времени уйдет, чтобы бутылку пива открыть. С больными она не рассусоливает, видать, придерживается старых принципов, что человек живуч и что умирание – естественный процесс, а не ЧП. Довольно замкнутая особа андрогинного типа красоты, типа старшей сестры Кейт Бланшетт. И красивая, и некрасивая, и яркая, и блеклая – как с картин Вермейера. Перевод: Юрий Чайников АНДЖЕЙ СТАСЮК ВОСТОК © Piotr Janowski AG Анджей Стасюк (р. 1960), прозаик, публицист, совладелец издательства “Czarne”. Обладатель многочисленных польских и зарубежных литературных премий, в т.ч. самой престижной польской премии «Нике» за книгу «По пути в Бабадаг». Его книги переведены практически на все европейские языки, а также на корейский. Предположить, что Стасюк напишет книгу о России, можно было по двум причинам. Во-первых, в парадоксальных воспоминаниях «Дойчланд» Стасюк рассказал о своем путешествии в Германию. Во-вторых, в России он побывал. Книги о Германии и России связаны, поскольку для Стасюка эти государства очерчивают судьбу Центральной и Восточной Европы. Германия и Россия – словно две пластины тисков, которые сжимают оказавшееся посередке пространство. Сила давления менялась, но в любом случае возможности Польши и государств, лежавших к югу от нее, определяла близость двух колоссов. На протяжении двух столетий Польша опасалась мощных соседей, а после Второй мировой войны испытывала, с одной стороны, страх по отношению к Востоку, с другой – болезненное восхищение по отношению к Западу. Стасюк не мог не поехать в Россию. А раз уж он туда поехал, то не мог не описать. Потому что путешествия его «заводят». Стасюк ездит и пишет импульсивно – мы же читаем его запоем. Специфическая форма, которую он выработал – путевое эссе. Оно рождается в связи с путешествием – или даже во время него. Однако это не классический дневник путешествия или репортаж. Скорее – некий гибрид. «Восток» начинается со сцены из современной жизни: вместе с приятелем автор грузит мебель и везет из провинциального магазинчика в столетнюю хату лемков, последнюю, сохранившуюся на юго-восточной окраине Польши. По ассоциации повествователь вспоминает другие провинциальные лавочки; затем переходит к описанию изгнания лемков польской армией в 1947 году; наконец размышляет о России как эпицентре мощной волны выселений. Уже из этого ясно, что книга не посвящена целиком России. В сущности, вынесенный в заглавие «Восток» имеет два измерения: историческое и социальное. Вопервых, это процесс, начало которому положила Октябрьская революция. Во-вторых – классовая зависимость. Говоря о Революции, автор не стремится доказать, что коммунизм или тоталитаризм являются ее следствием. Стасюк – историософ, нащупывающий скрытую модель истории. Он приходит к выводу, что сущностью коммунистической революции было стремление ликвидировать материю как таковую. Речь шла не о праве собственности, а об основах права в целом, то есть собственности как таковой. Революция была призвана уничтожить материальное как категорию коллективного бытия. Революция одержала бы победу, если бы революционеры никогда и нигде не остановились. Однако последовавшая вскоре эпоха великих строек – электростанций, железных дорог, городов – стала началом конца. Коммунизм, принесенный на штыках в Польшу и другие страны, коммунизм, выселяющий этнические меньшинства и способствующий миграции населения из деревни в город… этот коммунизм – дитя компромисса и предвестник великого поражения. Посулив свободу от материи, он погряз в преходящести. Последствия этого крушения Стасюк наблюдает в России – глядя на разрушающиеся заводы, ветшающие железнодорожные станции, умирающие города. Он также отмечает их – и проникновенно комментирует – размышляя о провинциальной Польше, которая после Второй мировой войны оказалась втянута в изначально обреченное на поражение, строительство нового строя. Роль России сыграна. В прежние времена она побеждала своих врагов – Наполеона, Гитлера – бескрайними просторами. Теперь она проигрывает сама себе, не в силах совладать с этой бесконечностью. Сегодня у истории другой дирижер, – утверждает Стасюк. Это Китай, который вместо того, чтобы сопротивляться материи, дает человечеству возможность ее потреблять. Китай побеждает, поскольку нашел оптимальный ответ на вызов материальности. Согласно Стасюку, именно такова эволюция цивилизации: Западная Европа стремилась придать материи идеальные формы, Россия попыталась ее ликвидировать, Китай же – превращает в одноразовый товар. А поскольку речь идет о процессе глобальном, победитель получает всё. Пшемыслав Чаплиньский ANDRZEJ STASIUK WSCHÓD CZARNE, WOŁOWIEC 2014 133×215, 302 PAGES ISBN: 978-83-7536-559-7 TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM В две тысячи шестом ВОСТОК я впервые поехал в Россию, поскольку хотел увидеть страну, в тени которой провел детство и юность. Еще я хотел увидеть духовную родину моего ПГР. Вышел в иркутском аэропорту после тринадцати часов пути. Полет из Москвы должен был занять пять часов, но по неведомым причинам на рассвете мы вместо Иркутска приземлились в Братске и всех высадили из самолета. Серый дождь заливал серый бетон. Подъехал автобус: застекленная кабина с сиденьями на базе «ЗИЛа». Вдалеке – темно-зеленый лес. Цемент, серая жесть и армейская зелень мокрых деревьев в утреннем свете. С первых мгновений там, в Братске, я почувствовал, что получил то, на что рассчитывал, даже не подозревая, что оно существует. Взлетная полоса сверкала, как мертвая рыба. Потом, выйдя из стеклянного здания терминала, я увидел, что вокруг ничего нет. То есть было какое-то широкое шоссе, какие-то здания, площадь с парковкой, но все это не вполне существовало. Люди приезжали на автобусах, выходили из машин, прибывали откуда-то из глуби, из нутра этого незримого прочего. Город стоял на берегу большого водохранилища. Ангару перегородили плотиной, затопив тайгу. Это я теперь вижу на карте – тогда-то сидел безвылазно на аэродроме. На бумаге – зеленый прямоугольник, примерно посередине – залив. Словно голубая клякса. Выше на карте уже, собственно, ничего и нет, кроме зелени. Черные крошки означают «отдельные строения». Сто километров – и дом, пятьдесят – и еще один, и так на протяжении двух тысяч километров до самого побережья Ледовитого океана. Но там, в аэропорту, я не имел об этом ни малейшего понятия. Я рассматривал русских и прохаживался взад-вперед. Меня они, должно быть, распознавали с первого взгляда. Так же, как и я без труда выхватывал взглядом в толпе нескольких западных туристов из нашего самолета. Они нервно прохаживались по вестибюлю и пытались узнать, почему мы сели здесь, а не в Иркутске. Русские уселись на скамейки и просто ждали. Я гулял, не в силах отвести взгляд от Братска, от бетона, от русских. От грязного стекла, каких-то деревянных шкафов, зеленых фанерных дверей и терразитового пола. Я преодолел шесть тысяч километров и тридцать с лишним лет. Аэропорт в Братске напоминал вокзал «Варшава-Стадион», откуда ходили автобусы в Венгров, Соколов и Семятичи. И пассажиры были похожи. Но одновременно я чувствовал, что прогуливаюсь по краешку заселенной земли – дальше уже одна география. В тесном киоске наливали в пластиковые стаканчики кипяток и бросали туда пакетики с чаем. Держать в руке невозможно, поставить некуда. За тремя столиками в темном углу дремали люди. Середина декабря, наконец пошел снег. Зимой все затихает. Минувшее приобретает отчетливость. Запах угольного дыма и звук жестяной лопаты в утренней тишине сорок лет назад на Праге. В те времена тоже становилось тихо, когда выпадал снег. И этот металлический звук. Или глухой шорох фанерной лопаты. Не было еще разноцветного пластикового инвентаря. Зеленых, красных, синих и желтых лопат с алюминиевой окантовкой. Только бурая от влаги фанера и почерневший металл. Монохромная материя. Геометрия белых плоскостей крыш и вертикальные столбы серого дыма в неподвижном воздухе. Я уходил в школу в половине восьмого и понятия не имел, что на свете имеется коммунизм. Идти надо было по тропинке через заросли акации. Потом подняться на насыпь и перейти железнодорожные пути. Я даже не знал про социализм – что он есть. Дома о таких вещах не говорили – то, в чем мы все участвовали, было просто жизнью, ничем больше. Моя мать увидела русских в сорок четвертом. Моряков. Они швартовали свои канонерки в заводях Буга. Река часто меняла русло. Зеленая вода стояла в мертвых рукавах, потом уходила, оставляя после себя болота. Канонерки, катера и понтоны причаливали, наверное, в главном течении, неподалеку от усадьбы. На моряках были полосатые тельняшки. Как на тех, с «Авроры», «Потемкина», из Кронштадта. Но революционной искры они с собой не принесли. Дед с ними торговал. Таскал им водку или самогон, взамен получал армейские консервы и сахар. В лесу валялись немецкие трупы. Люди русских презирали. Может, правда, не этих моряков, а нищую пехоту, что варила кур неощипанными. Десятки раз я слышал одну и ту же байку: неощипанные куры, три пары часов на руке, автомат на веревке. Так запомнилась революция моей матери. Так она запомнилась всем. В городах и весях. В рассказах письменных и устных. Неощипанные куры, веревки и часы. Исток питаемого по отношению к этим курам и часам вожделения находился где-то в недрах Евразии, в бесконечности тундр и степей. Никакой не Маркс, исправляющий мир, а скорее выродившийся Чингисхан в погоне за птицей и хронометрами. В серых деревнях, в хатах под стрехой, песчаных почвах таился страх перед тем диким, неисчислимым и жадным, что явится, ограбит, сожжет – уничтожит и песок, и стрехи, и сараи, не слишком, впрочем, отличавшиеся от монгольских юрт. Но оно не могло явиться из городов с их оштукатуренными домами, магазинами, церквями – только с какихто окраин пространства, оттуда, где люди постепенно обрастают шерстью, а ночью воют на красную луну. Это могло зародиться лишь там, и сперва рысило по своим степям на четырех лапах, чтобы по мере приближения к нашим цивилизованным поселениям постепенно распрямиться и наконец встать на задние лапы, освободив руки – чтобы было чем хватать кур и куда надевать часы. По вечерам в деревнях народ подкручивал фитиль лампы и прислушивался к грохоту артиллерии на востоке. Земля дрожала так, словно приближались все кони Азии и все ее верблюды. Потом люди гасили свет и прикладывали ухо к полу. Кто поумнее – копал укрытия для кур и часов. Кое-кто подумывал, не уйти ли вместе с немцами. Но доносившиеся с востока звуки напоминали урчание Иоанова зверя, и каждый понимал, что немцу с его начищенными голенищами, которыми все так восторгались, не спрятаться от него даже на краю света. Но потом, уже появившись на свет, я никогда не слыхал, чтобы дома обсуждали коммунизм или русских. Воцарилось геополитическое молчание. Говорить было не о чем. И мать, и отец покинули свои деревни в рамках великого переселения проклятых народов. Они были выведены из дома неволи. Из края песка, голода и навоза. С территории унижения. С востока на запад. Мать на тридцать километров, отец на сто двадцать. Поскольку жизнь кипела в другом месте. Движение с востока на запад. Из плебейской деревни в господский город. Дабы забыть о рабском наследии и носить сапоги. На запад, в столицу, патриотическим порывом превращенную в скелет, который требовалось вновь одеть людской плотью. Повстанцы, Гитлер и коммунизм позволили им захватить метрополию. Однако до центра они не добрались. Застряли в предместьях, как и большинство плебейских конкистадоров. Но об этом не принято было говорить. Ни отнять, ни прибавить. Справедливость исторического грабежа. Утром я просыпаюсь и слышу стук птичьих клювов. Висящее на веранде сало промерзло насквозь. Синицы, голубянки и монашенки пытаются отщипнуть хоть крошку окаменевшего жира. Воздух остекленевший и неподвижный. Даже самые тихие звуки по деревянному дому разносятся мгновенно. Сизый утренний свет наполняет комнату. То же зарево, что и в детстве – в воскресенье или в каникулы, когда можно было подольше поваляться в постели, наедине с фантазиями обо всех будущих мирах. В кровати тепло и сонно, но достаточно вытянуть ладонь, чтобы ощутить светлый голубой холод. Несколько дней назад я увяз в снегу над ПГР. В этом месте дорога поднимается зигзагами и потом с километр идет полого, через перевал. Ветер сметает с голых лугов снег, и белые языки сугробов преграждают путь. Приходится сдавать назад, разгоняться и все дальше врезаться в сыпучие предательские поля – в надежде, что удастся наконец перебраться на другую сторону. Однако мне не удалось. Машина села на брюхо и беспомощно вращала колесами. У меня не было с собой ни лопаты, ни цепей, ничего. Минус двадцать и ветер. Со всех сторон неслась слепящая колкая мгла. Зима только начиналась. Перевод: Ирина Адельгейм ИОАННА БАТОР АКУЛА ИЗ ПАРКА ЁЁГИ © Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute Иоанна Батор (р. 1968), прозаик, публицист, университетский преподаватель. Лауреат литературной премии «Нике» за роман «Темно, почти ночь» (2012). Почитательница и знаток японской культуры, эффектом чего стала ее последняя, восьмая, книга «Акула из парка Ёёги». «Наивный путешественник, а наивный вовсе не обязательно означает "глупый", наивный может также значить "доверчивый", всегда ищет здесь то, что экзотично и оригинально, нечто поистине японское. Это понятная фантазия, ведь Другой – всегда источник фантазмов, пучина, из недр которой рождается любовь и ненависть. Позволяет нам укрепить собственные границы, осознать, кто мы есть и кем быть не хотим, но одновременно открывает неизведанное. После четырех лет, проведенных в Японии, у меня сложился собственный фантазм того, что японское и радикально Другое, и когда где-то в иных странах я внезапно ощущаю эту свою японскость – в обустройстве пространства, особенных украшениях, том, как кто-то одет, или запахе шисо, растущего на моем польском балконе, – я знаю, что двигаюсь в пределах собственной японской сказки, подпитываемой тем особым видом тоски, которая не требует возвращения, а лишь ежедневных упражнений в чувственной памяти». Иоанна Батор свою собственную японскую сказку начала писать уже несколько лет назад, когда издала «Японский веер». Затем появилось дополненное издание – «Японский веер. Возвращения». Сейчас же, в сборнике «Акула из парка Ёёги», автор собрала несколько десятков коротких текстов (часть из них была уже опубликована в прессе), являющих собой следующий этап японской истории Батор. Кто хочет читать о чайной церемонии, шелке японского кимоно или традиции театра кабуки, тому нечего искать у Батор. Этих культурных составляющих автор касается лишь слегка, сосредотачивая основное свое внимание на cool Japan – Японии современной, глобализированной и именно поэтому, как это ни парадоксально, наименее известной. Батор пишет о девушках-косплеерах – нимфетках, направляющих в сторону фотообъективов попки, одетые в девчачьи хлопковые трусики, и миловидные головки с прикрепленными кошачьими ушками. О мальчишках из субкультуры отаку – фанатах манги, которые почти не выходят из дома и практически живут в виртуальной компьютерной реальности. О японском отторжении настоящего секса и фотографировании покинутых домов. О годзилле как психоаналитическом фантазме, в котором возвращаются общие травмы. Об увлечении Мураками и культуре суши. Ее новая книга напоминает другую, которая, кроме японской темы, на первый взгляд имеет с ней не так уж много общего – «Империю знаков» Ролана Барта (Иоанна, кстати, страстная его поклонница). Оба этих текста пытаются, и им это удается, смотреть на Японию широко открытыми глазами, максимально избегая предрассудков и предубеждений. Однако оба также осознают, что их видение Японии отягощено личным – польским или французским, гендерным или гомосексуальным, антропологическим или (пост)структуралистским – опытом и категориями, от которых невозможно абстрагироваться. Поэтому оба этих текста и оба автора, вместо того, чтобы силиться отчаянно отречься от своего я и своей культуры, выставляют их на первый план и используют себе во благо. Батор замечает, что, начиная с ксилографий эпохи Эдо и заканчивая современными телевизорами с плоским экраном, искусство и культура в Японии – двухмерны, superflat. Батор-антрополог не только отлично умеет эту двухмерность видеть и о ней писать, но превращает ее в собственный способ познания японского мира. Она не на минуту не забывает о том, что (несмотря на несколько прожитых в Японии лет) до сих пор остается там кем-то извне; кем-то, кто не в состоянии постичь всю глубину этой страны и этой культуры. Единственное, что такой пришелец может сделать (и Батор делает это первоклассно), – это смотреть на доступную ему плоскую поверхность: внимательно и заботясь о познавательной добросовестности, скрупулезно размышляя над деталями двухмерного японского пейзажа. Ига Нощик JOANNA BATOR REKIN Z PARKU YOYOGI GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL/W.A.B. WARSZAWA 2014 140×200, 380 PAGES ISBN: 978-83-7747-975-9 TRANSLATION RIGHTS: GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Братья Лолита АКУЛА ИЗ ПАРКА ЁЁГИ Их можно увидеть, к примеру, в Сибуя. Это район, расположенный вдоль железнодорожной линии Яманотэ, окружающей центр Токио. У станции стоит знаменитая фигурка Хатико – верного пса, который даже после смерти своего хозяина продолжал его ждать. Здесь всегда многолюдно, поэтому пес выглядит как объект анималистического культа в окружении паломников, обращающих к нему молитвы при помощи самых современных моделей телефонов. Раньше я часто сюда приезжала. Садилась у Хатико и наблюдала за японцами. Выбирала себе кого-то и следила – хотела понять, что эти прекрасные люди могут делать в Сибуя и пыталась как-то совладать с парализующим богатством впечатлений. У меня до сих пор ностальгия по этому району. Я уже не слежу за токийцами из-за Хатико, а сажусь за столик в кафе «Старбакс» недалеко от музея Бункамура. Это одно из немногих кафе в этом районе со столиками на улице. Я смотрю на девушек и парней, на разодетых собак, на парад сумочек фирмы «Коуч» – каждая дама в этом сезоне обязана иметь такую – и тру глаза от изумления, хотя я же здесь уже была, пуд риса съела и много чего насмотрелась. И все же это происходит наяву: рядом с моим столиком проходит мужчина среднего возраста, переодетый в милашку Лолиту. У милашки Лолиты белые туфельки, как для первого причастия, и гольфы с оборочкой. Голые ляжки, гладкие и безволосые, розовое платьице-клеш с рукавами-буфами и кружевной нижней юбкой. Светло-русые волосы, завитые в локоны, бант, длинные ресницы, белый зонтик от солнца, слегка подрумяненные щечки, белый кружевной – ах! – ободок на голове. Движения Лолитымужчины элегантны, взгляд направлен куда-то поверх моей головы. Костюм – идеальный. И все-таки до сих пор я видела его только на девушках (по крайней мере, так мне казалось). Лолита – один из самых популярных образов у последователей косупурэ (от англ. costium play). В 90-х гг. прошлого века так одевались девушки-косплееры и позировали в квартале Харадзюку на знаменитом мосту Дзингу. Тщетно ищут их теперь иностранцы с фотоаппаратами – их нет. Эта мода прошла, как проходят другие. Однако косупурэ отлично чувствует себя в Европе – одна из лучших вечеринок этого типа приурочена к Лейпцигской книжной ярмарке. В Японии косупурэ остается тем, чем было до большого бума в девяностых: маргинальным хобби с многочисленными ответвлениями. Братья Лолита, Lolita Bro, или Brolita – одно из них. Чтобы еще больше все усложнить, часть Лолит-девушек и Лолит-мальчиков открещивается от культуры косупурэ, утверждая, что их переодевание – нечто совершенно иное. Разница, якобы, состоит в том, что фаны косупурэ равняются на героев аниме, тогда как костюм Лолиты, несмотря на то, что похож на тот, который носят героини японской анимешной поп-культуры, все же не является его копией. Девушки-косплееры встречаются группами и позируют в выученных позах, а Лолиты просто-напросто расхаживают по городу, наслаждаясь тем приятным чувством, которое дает демонстрация костюма в пленэре. Костюм Лолиты появился в Японии в середине девяностых, а оттуда был перенесен в США и Европу, где особенно сильна группа немецких Лолит. Давно известно – у Японии и Германии много общего и они черпают друг у друга вдохновение: японские школьники до сих пор носят форму, за образец которой послужил мундир прусской армии. Костюм Лолиты создавался под влиянием эстетики викторианства и рококо, остальное дорисовало японское воображение. Лолита в Японии не ассоциируется с книгой Набокова, но отсылает к идеям милой и театральной «девочковости». Постановочной, гипертрофированной, сознательно искусственной, как бонзай. Высококачественные материалы, оттенки белого, розового, кремовые хлопчатобумажные и шелковые кружева, непременно нижняя юбка – обязательные детали гардероба Лолиты. Что делают Лолиты? Костюмы и роли требуют зрителя, посему Лолиты идут в город. Так, как Брат Лолита из Сибуя. Они любят выпить чашку чая и съесть пирожное в одном из элегантных и стилизованных под европейское ретро-кафе. Любят свое отражение в витринах и глазах прохожих. В Токио есть специальные магазины для Лолит. Чтобы овладеть искусством быть Лолитой, необходимо запастись терпением и полностью посвятить себя делу. О неуклюжей, слишком вызывающей или дешевой Лолите презрительно говорят «ита». Не нужно быть красивым, никто не требует от вас идеальной внешности и стройных ножек. Важно войти в роль и уметь носить костюм. Среди Лолит, как мы уже знаем, встречаются мужчины. На их тему не написано этнографических исследований, они не такие милашки, чтобы собираться вместе и позировать для объективов фотокамер на мосту Дзингу. Многие наверняка миновали меня в токийской толпе и вполне могли сойти за девушек. Брат Лолита, которого я несколько раз видела в Сибуя, – мужчина рослый, внешне похожий на Такеши Китано. Это, скорее, исключение среди, как правило, молодых Лолит обоих полов. Братья Лолита, розовые и кружевные, гуляют по городу, выставляя себя на всеобщее обозрение. Без костюма ты – некрасивый мужик среднего возраста или молодой сотрудник почты, в костюме – милашка Лолита. Ты подобен актеру кабуки, который из престарелого мужчины, страдающего желудочными болями, превращается в мечущуюся в отчаянии куртизанку с пронзительным голосом. Япония – культура оболочки. Костюм и роль делают здесь из тебя человека. Поэтому каждый может быть Лолитой, если постарается. В японской культуре нет столь сильного, как у нас, убеждения, что в основе всего лежит биология. Женственность и мужественность понимаются, скорее, как комплекс ролей, которые необходимо выучить и которые следует соответствующим образом играть. Импровизация допускается только после достижения вершин мастерства. К каждой роли прилагается свой костюм и вся штука состоит в том, чтобы уметь носить его по правилам. Так же, как в театре кабуки, где все роли играют мужчины. Оннагата – мужчины, играющие роли женщин, пользуются особым почитанием. Ими восхищаются. Ценят приложенное усилие. Мужчина может сыграть роль влюбленной куртизанки, добропорядочной матери, верной (или неверной) жены лучше, чем женщина, именно потому, что ей не является. Или, например, такаразука – кабуки наоборот. Здесь, в свою очередь, все роли играют молодые девушки, а актрисы-отокояку, создательницы мужских образов, – настоящие звезды. Прекрасные андрогинные эльфы со стройными, гибкими телами. Отокояку и оннагата носят костюмы с таким же обаянием и достоинством, как Брат Лолита из Сибуя. Мастерство, доведенное до предела, усилия, вложенные в роль – лишь фасад, за которым, разумеется, может скрываться не одно любопытное извращение. Игры в переодевание никогда не были столь же невинны, как коллекционирование марок. Я размышляла о Братьях Лолита, когда осенью 2011 года ненадолго оказалась в предвыборной Польше. Ехала из аэропорта по таким разительно непохожим на токийские улицам. Глаза кололи грязь и беспорядок, нравилось множество зелени, открытые пространства и то, что таксист с места в карьер изложил мне свои политические взгляды. Брат Лолита – лишь малюсенькое извращеньице по сравнению с моими постоянными возвращениями в Польшу. К таким таксистам. Я видела его лицо в зеркале заднего вида. Как говаривала моя татарская тетя – рожу, хоть на мотоцикле объезжай. Сарматские усищи, зубы через один. Вдруг я представила этого пышущего глупостью и ненавистью мужика в костюме милашки Лолиты, и с тех пор не могу остановиться. Смотрю, например, на известного политика, который обычно появляется в популярном на брегах Вислы костюме не отягощенного вкусом мачо: плохо сидящий пиджак, никакой галстук, прибавьте к этому бред о всемирном заговоре, о том, что должны женщины, а чего нельзя геям. И вместо того, чтобы впасть в ярость, вижу его в костюме милашки Лолиты. С румянами на щеках, с миниатюрным стеганым клатчем на цепочке. Закрываю глаза и смотрю, как он идет по Краковскому Предместью. В клатче сидит котенок. И в этот один-единственный момент он даже кажется мне милым. Перевод: Полина Козеренко КШИШТОФ ВАРГА ЧАРДАШ С МАНГАЛИЦЕЙ © Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute Кшиштоф Варга (р. 1968), романист, эссеист и фельетонист «Газеты Выборчей». Автор таких романов, как «Текила» (2002) и «Терразитовое надгробие» (2008), вошедших в финал премии «Нике», а также эссе, посвященных культуре и истории Венгрии. Его книги переведены на итальянский, венгерский, болгарский, словацкий, сербский, украинский, хорватский, русский. Без особого преувеличения можно сказать, что Кшиштоф Варга имеет слабость к Венгрии. Его последний роман, озаглавленный «Чардаш с мангалицей», стал следующей (после «Гуляша из туруля») книгой в венгерской коллекции писателя. Коллекция – очень важное, а, может быть, даже ключевое слово, которое могло бы помочь разложить фабулу «Чардаша с мангалицей» на составляющие. Ибо рассказчик накапливает в памяти реалистические элементы, чтобы потом разложить их перед нами, словно демонстрируя настоящие сокровища из своего частного собрания. Кстати сказать, один сентиментальный отрывок из главы «Берталан Фаркаш летит в космос» касается коллекционирования в буквальном смысле слова. Там упоминается отец, который считал, что «у каждого мужчины должно быть какое-нибудь хобби», и который в связи с этим решил, что его сын, герой книги, станет филателистом. Рассказчик даже получает кляссер, в котором марки не упорядочены и не каталогизированы. Это становится своего рода наследием, с которым – как с ужасным проклятием и в то же время чудесным даром – нужно совладать. Книгу Варги тоже можно назвать таким кляссером. Из-за эссеистичности и пространности стиля, который только с виду дисциплинирован разделением на главы, мы практически сразу же погружаемся в несколько водоворотов, движимых поисками венгерской идентичности. Одна из самых значительных коллекций, которые обнаруживаются в ходе чтения «Чардаша с мангалицей», – это, несомненно, кухня. Видимо, неслучайно в числе величайших личных сокровищ Варга описывает обнаруженное в бывшей папиной комнате меню ресторана «Засковый». В нем есть отдельный пассаж о рыбацком супе, а в другом месте – подробное содержание меню местной пиццерии. Однако ничто не появляется здесь случайно, поскольку пиццерия предлагает набор из семи пицц, названных именами семи легендарных мадьярских вождей. Это уже достаточный повод для обращения к конкретным персонажам (и к составу конкретных блюд). Ведь кухня, как пишет Варга в другом месте, – «слишком серьезное дело, чтобы засорять ее невесть чьими именами. Поэтому, поглощая венгерскую пищу, я думаю о венгерской литературе, а читая венгерских гениев – о венгерской еде. Это идеальная синергия души и тела, желудка и мозга, меланхолии и экзальтации». Литература – венгерская, и не только – еще одна коллекция, открывающаяся при чтении этой книги. Варга воздает должное не только Данило Кишу, но и целой плеяде более или менее известных авторов. Прежде всего его интересует проза, но он не сторонится и поэзии, цитирует ее и приводит биографии своих любимцев. Кулинарному опыту и литературной трапезе в этой книге сопутствуют картины – не только провинция, кладбища или разваливающиеся вагоны любимой ветки будапештского метро, но и отсылки к фильмам. Постепенно Варга обнаруживает свою страсть, обращаясь то к Жюли Дельпи (в фильме о «кровавой» Елизавете Батори, племяннице короля Стефана), то, например, к Густаву из запомнившегося с детства мультика (а Густав, в свою очередь, ассоциируется у него с мистером Бином). Чтение «Чардаша с мангалицей» – это удовольствие не только интеллектуальное, показывающее Венгрию с различных сторон (в том числе и малоизвестных), но и экзистенциальное, слегка комическое. Во всяком случае, эта книга уделяет не слишком много места мартирологии или по-настоящему серьезным трагедиям. Марчин Вильк KRZYSZTOF VARGA CZARDASZ Z MANGALICĄ CZARNE, WOŁOWIEC 2014 125×195, 248 PAGES ISBN 978-83-7536-732-4 TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM RIGHTS SOLD TO: HUNGARY (EUROPA KIADO) Ну да ладно, ЧАРДАШ С МАНГАЛИЦЕЙ я ведь хотел увидеть деревни Тисакюрт и Надьрев, хоть и догадывался, что ничего заслуживающего внимания там нет. Однако внутренняя потребность посетить места, где после Первой мировой войны женщины отравили по меньшей мере несколько десятков, а то и больше сотни мужчин, войдя во всемирную историю великих убийц, была сильнее. Надьрев и Тисакюрт стали свидетелями, пожалуй, крупнейшего массового убийства, не связанного с войной или тоталитарным террором, – «гражданского» массового преступления, вдобавок совершенного женщинами. Не солдатами, полицейскими или выродками-бандитами, а крестьянками в широких юбках и косынках. Ну, может, отчасти эти убийства и были связаны с войной, потому что травить притисянские женщины начали, вроде бы, в 1914 году, то есть когда началась большая война, а закончили в 1929‑м, поскольку в конце концов их (говорят, благодаря анонимке, отправленной в местную газету) переловили, отдали под суд и признали виновными. Но ведь и раньше должны были казаться странными эти многочисленные смерти отцов, мужей и сыновей, хотя тайна, переходившая от одной женщины к другой, от соседки к соседке, от родственницы к родственнице, надежно хранилась. Странное дело: неужели мужчины не удивлялись, что теперь умирают как-то чаще, чем раньше? Хотя в реалиях военной и послевоенной нищеты, в мире болезней, боевых ран, а также частого употребления палинки и скверного вина рост смертности среди мужского населения Тисакюрта и Надьрева, возможно, не казался чем-то необычным. Впрочем, в глухой деревне, вдали от мира, к смерти, наверное, относились более естественно: Бог дал, Бог и взял, – думали мужики, не осознавая, что ко всему этому причастна скорее человеческая, чем Божья рука. Главным действующим лицом на этой сцене, старой Лукрецией Борджиа из Надьрева была Юлия Фазекаш, которой в момент ареста было уже за шестьдесят, – уродина (по крайней мере, такое впечатление производят сохранившиеся размытые фотографии), акушерка, занимавшаяся в придачу знахарством и нелегальными абортами. В Надьрев она приехала в 1911 году, уже более или менее разбираясь в медицине и, быть может, именно она разработала новаторский метод получения мышьяка из липучек от мух, а затем этот самодельный мышьяк убийцы добавляли в вино или пищу своих мужчин. Хотя считается, что первое отравление – заметим это – произошло еще до приезда Юлии Фазекаш, так или иначе можно сказать, что она попала на благоприятную для своей преступной деятельности почву. Однако она ведь занималась этим не одна – была целая толпа женщин, в подавляющем большинстве анонимных, но посвященных в заговор, которые вместе отравили никак не меньше пятидесяти мужиков, а легенда гласит, что, возможно, и все триста. Что касается числа отравительниц, то всe довольно сомнительно, во всей этой истории много непонятного. Во всяком случае, надо полагать, что за эти пятнадцать лет спокойно могло набраться около сотни трупов. В ходе процесса, состоявшегося в 1930 году, было решено эксгумировать на окрестных кладбищах сто шестьдесят два тела, относительно которых возникли подозрения, что их бывшие владельцы могли стать жертвами отравительниц. Рассматривая нечеткие снимки, сделанные на суде, я замечаю, что обвиняемые – немолодые деревенские женщины в косынках и широких юбках, с руками, сложенными на коленях, не какие-нибудь демонические femmes fatales, все как на подбор вдовы – по понятным причинам. Они отравили своих мужей, похоронили их, возможно, даже оплакали, но на их лицах застыло пугающее спокойствие. Впрочем, наверное, они не убивали из-за своей кровожадности, в известной степени ими двигали рациональные побуждения. Они избавлялись от людей, непригодных к работе, от бьющих и пьющих мужей, от инвалидов войны, которых нужно было кормить, а пользы от них никакой – работать в поле они уже не могли, поскольку были физически, да и психически исковерканы войной. Да, к этому можно прибавить и любовную интригу: пока венгерские мужики сидели в окопах, поблизости от Надьрева появились итальянские пленные, которые, говорят, чувствовали себя довольно свободно на этой скрытой от цивилизации земле. И хотя формально им полагалось находиться в лагере для военнопленных, они без особых проблем ходили по окрестностям. Аппенинские солдаты предавались плотским утехам с мадьярскими женщинами, а там и беременности пошли, от которых нужно было избавляться. Итальянцы оказались намного симпатичнее венгров и галантнее по отношению к женщинам, так что мужчины, возвращавшиеся в Надьрев с войны, попадали совсем в иную реальность, нежели та, из которой они уходили защищать монархию. Однако не только Надьрев и Тисакюрт были деревнями смерти – травили и в других притисянских поселениях и городках: в Окечке и Ёчёде, в Тисафёлдваре и Кунсентмартоне и даже в других комитатах, где травили уже не только злых мужей, но и детей, и стариков. Безумный марафон убийств распространялся как эпидемия – поразительный побочный эффект великой войны. В конце концов двадцать восемь женщин предстали перед судом. Процесс освещал в местной печати сам Зигмонд Морич. Восемь получили «вышку», полтора десятка – длительные тюремные сроки, а сама Фазекаш покончила с собой – разумеется, приняв яд. Из надьревских отравительниц трудно было сделать легенду поп-культуры, как это произошло с Елизаветой Батори. Собственно, даже сама история, несмотря на всю свою необычайную увлекательность, неизвестна широким массам. Правда, есть художественный фильм Дьёрдя Палфи «Икота», действие которого перенесено в наше время, но, к сожалению, это авангардный фильм без диалогов. В принципе, понятно, о чем он рассказывает, но рассказ ведется так, что выдержать этого решительно невозможно. Высокохудожественность заключается в том, что никто не произносит ни единого слова, зато постоянно слышна икота старика, хлюпанье и чавканье других людей и хрюканье свиней – это весь диалоговый лист. Есть еще роман американской писательницы Джессики Грегсон «The Angel Makers», который по-польски вышел под названием «Танец ведьм». Действие в самом деле происходит в венгерской деревне, однако называется она не Надьрев, а Фалучка, что можно перевести как «Деревушка». Город, расположенный неподалеку от Деревушки, называется Варош, то есть «Город». Итак, мы имеем город Город и деревню Деревушку, главную героиню зовут Шари, на первых страницах романа ей четырнадцать лет, и она читает «Джейн Эйр» и «Грозовой перевал». Главную ведьму у Грегсон зовут Юдит Фекете – значит, это неизбежно должна быть Юлия Фазекаш, камуфляж слишком очевиден. (…) В 2005 году голландка Астрид Буссинк сняла получасовой документальный фильм «The Angelmakers» – рассказ об убийствах в Надьреве, в котором получили возможность высказаться дожившие до седин свидетели тех страшных лет, особенно старые женщины – в то время еще девочки. Вероятно, в 2014 году большинство из них уже ушло в мир иной: во время съемок фильма им, скорее всего, было далеко за восемьдесят. Сморщенные, согбенные, закутанные в цветастые платки, они говорят тихо, задумчиво, но с непоколебимой уверенностью, что все произносимое ими – чистая правда. В их глазах читается измученность жизнью, но в то же время какое-то странное лукавство. Как рассказывает с усталой улыбкой одна из старушек, одна отравительница велела высечь на могиле своей жертвы надпись: «Я приду к моему любимому мужу почить навеки». Может быть, больше всего в этом фильме поражает спокойная убежденность, что во времена тех продолжавшихся годами убийств все прекрасно знали, что происходит, кто кого отравил. Вероятно, об этих практиках слышали даже мужчины, хотя ни один из них не допускал и мысли, что может стать следующей жертвой – такова уж глупая мужская гордость. Более того: никто тогда не относился, да и сейчас не относится к этим отравлениям как к убийствам – скорее уж как к проявлению бессилия, к отчаянной попытке бегства от рабства брака, в котором полно насилия и пьянства. Так же относились к этому и в других деревнях, в других комитатах – не только на берегах Тисы, но и, если верить рассказам, во всей уменьшившейся после Первой мировой стране, даже в западной Венгрии, в деревнях комитата Зала. Как говорит одна из женщин: ведь везде были липучки от мух. Перевод: Никита Кузнецов ФИЛИП СПРИНГЕР НАЧАЛО private Филип Спрингер (р. 1982), репортер и фотограф. Сотрудничает с крупнейшими польскими периодическими изданиями. Его репортерский дебют – книга «Медзянка. История исчезновения» – вошла в финал Премии им. Рышарда Капущинского за литературный репортаж 2011 и была номинирована на премию «Гдыня». Лауреат третьего конкурса стипендий для молодых журналистов им. Рышарда Капущинского. Кем были Зофья и Оскар Хансены? «Хансены были ответом на конец света», говорит в «Начале» Иоанна Мытковская, директор варшавского Музея современного искусства. Но что это означало и кем была эта пара, которая, совершив настоящую революцию в архитектуре, пропала, будто бы намеренно забытая? Филип Спрингер знает, что самые интересные истории можно обнаружить в тени, на полях, а белые пятна могут принести настоящие открытия. В «Начале» Спрингер прежде всего рисует портрет Дон Кихота Линейной Непрерывной Системы и Открытой Формы.. Несмотря на то, что Оскар Хансен подчеркивал, что все, что он делал, он делал вместе с женой, для Спрингера именно Оскар (как фигура значительно более открытая, выразительная) кажется более важным. Жизнеописание Хансена и его предков могло бы стать основой остросюжетного фильма. Внук миллионера, барчук, – шутит Зофья Хансен, когда ее спрашивают о левых взглядах мужа. Истоков захватывающего жизненного пути Оскара Хансена (войны, банкротства, бравада, чудесные спасения, космополитизм), способного браться за невозможное, стоит искать в биографии деда-авантюриста, добившегося гигантского финансового успеха, родителей-кочевников, ломавших общественные табу, брата Эрика и собственной жены, не только привившей и развившей в архитекторе социалистические идеи, но и не раз спасавшей его от бед, опуская с небес на землю. Проект децентрализованной «смены интерьера» в Польше невозможно было осуществить целиком, и все же некоторые элементы Линейной Непрерывной Системы сегодня реализуются, как отмечает Спрингер, по необходимости или хаотично. Проект ЛНС как раз был призван стать, говоря словами самого Хансена, отвечавшего в 1976 году в галерее «Захента» на упреки Марека Будзынского, началом будущих перемен. Именно таких людей изображает Спрингер – людей, которые понимают, что только замахнувшись на нечто большее, чем безопасные привычки, можно идти вперед, развиваться. Постановка недостижимых целей, – основная задача настоящих людей, серьезно относящихся к своей жизни и жизни других. В проектах (особенно нереализованных) Хансенов просматривается план формирования гражданского общества – сообщества единиц, действующих так, чтобы, развиваясь, не мешать соотечественникам. Хансены были убеждены, что не существует такого понятия, как «типичный дом», что каждый проект должен учитывать потребности конкретного человека, его профессию, интересы. В «Начале», обращающемся к проблеме непонимания и отторжения Хансенов в польском обществе при одновременном признании их работ на западе Европы, появляются мнения, что Хансен совершил ошибку, вернувшись в Польшу, что здесь его ждало поражение, а там – почести, слава и большие деньги. Иоанна Мытковская смехом разбивает всю эту патетику: антикоммерческий, антирыночный подход Хансена не позволил бы ему сотрудничать с инвестором, который платит и приказывает; для Хансена, убежденного страстного идеалиста, малейшие изменения в проекте были бы неприемлемы. Знаменитые срывы встреч и хлопанье дверьми едва ли предвещают успех... Ученица Хансена добавляет еще одно существенное замечание: только в центрально управляемом обществе планы по децентрализации имели шансы хоть частично претвориться в жизнь. В «Начале» мы видим личность, деятельность которой – не только источник современного мышления о искусстве. Филип Спрингер изобразил человека, подвластного страстям; лишенный инстинкта самосохранения, он будто не замечает ни политических, ни социальных перемен; постепенно исключаемый из светской и общественной жизни, он не теряет веры в истинность постулатов ЛНС. О чем эта книга? По словам Иоанны Мытковской, «Хансены исходили из того, что люди – хорошие, умные, хотят развиваться и заботиться друг о друге. Они строили на этом фундаменте. Особенно Оскар верил, что нет границ, что всё возможно, достаточно только об этом подумать». Именно, подумать. Этот интеллектуальный конструкт позволяет выжить в лихие времена, а после них творить – так, и то, что раньше казалось совершенно невообразимым. Книга также говорит нам о том, что экономика простой выгоды не действует так, как мы бы этого хотели. Нужно действовать не ради премий и почестей, но ради расширения пространства, ради того лучшего, что заложено в человеке. Нужно оберегать то, что едва тлеет, даже если придется обжечь пальцы и губы. Анна Мархевка FILIP SPRINGER ZACZYN. O ZOFII I OSKARZE HANSENACH KARAKTER, KRAKÓW 2013 150×205, 264 PAGES ISBN: 978-83-62376-24-7 TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM Бергамо НАЧАЛО «Мне трудно поверить, что творец новой архитектуры, один из создателей пуризма, пытается гуманизировать ее при помощи тканей – объектов на продажу. Весь этот так называемый ренессанс французской ткани считаю движением, возникшим для коммерции, ради наживы, в которое втягивают и используют великих мастеров. (…) Архитекторы CIAM обязаны этому противостоять и искать пути гуманизации современной архитектуры в соответствующих ей направлениях», – гремит с трибуны Оскар, слова же свои он адресует тому, кто несколькими месяцами ранее принимал его под своей крышей, угощал ужином и демонстрировал картины. Когда Оскар заканчивает говорить, зал взрывается аплодисментами. Слушавший до тех пор молча Корбюзье рукоплещет вместе со всеми. Хансена позвал сюда Пьер Жаннере. Точнее даже не позвал, а предложил, чтобы он непременно съездил в Бергамо на VII встречу CIAM и послушал, что нового там говорят о современной архитектуре. Оскар соглашается, хотя такая поездка ему совсем не по карману. В Италию прибывает без гроша за душой – спит в парке, моется в фонтане, ест только хлеб и виноград. Когда в перерыве между очередными дебатами Жаннере жалуется на свою гостиницу и спрашивает его, как он устроился, тот отвечает: «Мне удалось найти дешевое и удобное место». Однако с этим выступлением Хансен немного поспешил – ведь он вовсе не планировал произносить речей. Не выдержал, слушая Ле Корбюзье, рассуждающего о гобеленах и их пользе в архитектуре. Попросил слова, поднялся на кафедру, сказал то, что думал, а теперь спускается как в тумане и едва ли осознавая, что, собственно, произошло. Он, Оскар Хансен, человек из ниоткуда, в слегка мятом пиджаке, человек, который после окончания заседания пойдет ночевать на скамейке в ближайшем парке, этих аплодисментов совсем не слышит. Спустя несколько минут Жаклин Тирвитт предлагает ему принять участие в Летней школе CIAM в Лондоне. Оскар соглашается, хотя понятия не имеет, как получить согласие польских властей на поездку в Англию. Лондон Они спрашивают, знает ли он английский. Он говорит, что не знает. Спрашивают, сколько ему лет. Он отвечает, что двадцать семь. Спрашивают, когда он окончил архитектуру. Он говорит, что пока на третьем курсе. По их выражению лица видит, что ему не верят. Говорят, что он – коммунистический агитатор. Оскар не знает, что ответить. Они – это британские журналисты, которые пришли, чтобы ознакомиться с вердиктом жюри, оценивающего работы Летней школы CIAM в Лондоне. На дворе июль 1949 года. Оскару вся эта Англия уже успела осточертеть. Он опоздал почти на две недели – британское посольство в Париже медлило с визой. Пограничники, увидев его картонный портфельчик, сразу препроводили его на личный досмотр. Паспорт рассматривали через лупу. Допытывались, куда он едет и с какой целью, хотя в письме, которое Оскар получил из Лондона, все было сказано черным по белому. В конце концов, его пропустили. По прибытии в школу он получает проектное задание. Может выбрать – жилой квартал, административное здание, транспортный узел или театр. Выбирает квартал. Работает один, хотя остальные объединились в группы. Рисует девять белых зданий, расположенных вокруг «социального пространства», в котором размещает два детских сада и общественный парк. Школу и торговые павильоны выводит наружу, так же поступает с транспортом. Проект сдает досрочно. Последний свободный день посвящает осмотру лондонских достопримечательностей, главным образом, галерей и музеев. Когда слышит вердикт жюри, не может поверить своим ушам. Ему вручают диплом. От членов жюри узнает, что диплом присужден за двукратное увеличение плотности населения в квартале при сохранении его «высоких эксплуатационных качеств». Его проект производит большое впечатление на Эрнесто Натана Роджерса, который мгновенно предлагает ему место ассистента в лондонском Королевском институте британских архитекторов. Двери в большую архитектуру (и к большим деньгам) раскрываются перед Оскаром Хансеном настежь. Но он решает вернуться. Роджерс изумленно спрашивает: – Ты знаешь, что там? Оскар знает. Поэтому пытается объяснить англичанину как можно проще: – Там руины, там меня ждут, – говорит он, а Роджерс стучит себя по лбу: – То, что ты здесь предложил, там реализовать невозможно. Этого-то как раз Оскар еще не знает. Варшава ул. Спокойная (…) почему Оскар Хансен решил вернуться в Польшу? В своих воспоминаниях он объясняет это так: «Я чувствовал себя должником тех, кто меня отправил, и меня возмущало поведение большинства стипендиатов (как правило, "партийных"), которые, как потом говорили, "выбрали свободу". Тогда, после моих наблюдений за отношениями Жаннере с так называемыми заказчиками, по сравнению с проектными возможностями в Польше, даже для студентов, после моих лондонских наблюдений, остаться здесь не казалось мне свободой». – Оскар Хансен совершил фатальную ошибку, что вернулся в Польшу, – считает архитектор Болеслав Стельмах. – Я уверен, что он был бы одним из лучших архитекторов своего поколения. Это был абсолютно мировой уровень. Достаточно посмотреть, чего достигла команда Team 10. Они навсегда записали свои имена в истории мировой архитектуры. Он остался на обочине, лишь с несколькими реализованными проектами. (…) Так и хочется сказать, что он был выдающимся, что сделал бы карьеру, что перед ним были открыты все двери. Представить себе Хансена-знаменитость, селебрити в парижских, лондонских и римских салонах. С большой мастерской, рядами чертежных досок и армией ожидающих его распоряжений молодых талантов. Хансена с домом на юге Франции и яхтой в Средиземном море? Хансена, проектирующего торговые центры, резиденции банков и крупных корпораций? Или роскошные виллы для богачей? Иоанна Мытковская, директор варшавского Музея современного искусства: «Уже вижу, как он получает частный заказ и первое, что делает – начинает поучать инвестора. Представляю себе, как растолковывает ему все эти свои идеи, как тот ничего не понимает и хлопает дверью – ведь он платит и требует. Это была бы полная катастрофа». Но, может быть, его бы купили? Он же приехал с этим своим картонным портфельчиком, одной сменой белья и альбомом для эскизов. Наверняка еще помнил огромное состояние «Аппельсина», которого, по-сути, толком не застал. И наверняка тосковал по тем временам. Бедность мучительна. Еще в Париже он получал от семьи из Польши письма, умоляющие прислать самое необходимое. Денег хватало не на всё. Приходилось отказывать. А так получил бы первый заказ и огромный гонорар. Увидел бы, как можно жить, что об ужине вовсе не обязательно начинать заботиться с рассвета. Потом оно как-нибудь бы само пошло... (…) В жизни Оскара Хансена было несколько моментов, когда можно было подумать, что он сошел с ума. Большинство из них непосредственно связано с социализмом. Еще из Парижа он пишет Зофье: «В последнее время мне кажется, что я созреваю политически. Возможно, очень возможно, что по возвращении на родину я вступлю в партию. Поскольку ты моя лучшая половина, твой голос в этой материи очень важен и я хочу, чтобы ты написала, что об этом думаешь. Жаль, что мы не можем этого обсудить.» Зофья Хансен левые идеалы вынесла из дома, затем культивировала в Варшавском жилищном кооперативе. Над левыми замашками мужа могла лишь безжалостно смеяться: – Да какой из него социалист! Барчук, внук миллионера, сын земельного магната, который от революции бежал, куда глаза глядят, – смеется Зофья. – Он этим левым взглядам учился у меня, а в Париже – у Ле Корбюзье, Жаннере и Пикассо. С тем только, что они с легкостью могли быть коммунистами, бедными-то их не назовешь. Те времена, конец сороковых-начало пятидесятых – это восстание из руин, огромный жилищный голод, создание нового, социалистического человека. Ведь то, что существовало раньше, привело к войне. Тот мир закончился тишиной над освенцимскими крематориями. Эта тишина пронизывала насквозь. Поэтому необходимо искать новый путь. Этот путь – великая модернизация под знаком красного знамени. Красивые слова, большие шансы. Некоторые в них действительно верят. Перевод: Полина Козеренко ЗЕМОВИТ ЩЕРЕК ПРИДЕТ МОРДОР И НАС СЪЕСТ, ИЛИ ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН © Sebastian Frąckiewicz Земовит Щерек (р. 1978), историк и журналист. Публицист «Новой Восточной Европы». Пишет диссертацию по политологии. Живо интересуется востоком Европы, а также, по его словам, всякими геополитическими, историческими и культурными странностями. Земовит Щерек в течение нескольких лет много путешествовал по Украине, объездил ее вдоль и поперек – от Львова до Одессы, от Черновцов до Днепропетровска. Свои впечатления он собрал в книгу «Придет Мордор и нас съест, или Тайная история славян», и в результате появился весьма нестандартный текст. Это не репортаж, не путевые заметки, не какое-то там занимательное краеведение – скорее всего, это одна большая пародия на традиционное повествование о «диком востоке», «постсоветских джунглях», которые тем притягательнее, чем они опаснее. Всe здесь превращается в собственную карикатуру: и дорожная проза а-ля Керуак, и заметки Стасюка о «худшей из Европ» в духе «По дороге в Бабадаг», и любительские эссе о путешествиях на восток, сотни которых можно найти в блогах, а также на более серьезных, профессионально редактируемых сайтах, посвященных далеким странствиям. Последнее очень важно, поскольку в какой-то момент Щерек признается, что его украинские рассказы были написаны по заказу одного из краковских интернет-порталов. При этом ему выдвинули одно условие – тексты об Украине должны были быть выдержаны в стиле «гонзо». Автор рассказывает: «В этих текстах я эпатировал читателя украинским долбоебизмом и непотребством. Всe должно было быть предельно круто, грязно и жестко. В этом суть гонзо». Заметки эти представляют из себя явную мистификацию – украинская действительность сознательно искажается автором: то, что всего-навсего было не слишком привлекательно, под пером Щерека становится просто кошмаром, наподобие того самого Мордора из заглавия книги, тонет в океане алкоголя и не знающего пределов насилия, заселяется персонажами криминальных баллад и откровенного хоррора. Что это – ребяческий прикол безответственного автора? Не совсем. Щереку удалось высвободить подсознательную негативную энергию, скрытую в национальных стереотипах и, более того, в польской мифологии об «украинских дикарях» и грязном, нецивилизованном востоке. Карикатурный образ украинцев стал безжалостным автопортретом поляков, уверенных в своем культурном и историческом превосходстве, утешающих себя тем, что посткоммунистическая реальность на берегах Вислы куда лучше аналогичной реальности в бассейне Днепра. Щерек убедительно демонстрирует, что это покровительственное отношение – не более чем следствие неуверенности в себе; при помощи пресловутой украинской «второсортности» (которая всe-таки скорее иллюзорна, нежели реальна) мы пытаемся избавиться от собственных комплексов. С откровенным презрением взирает автор на массовые посещения своими соотечественниками бывших окраин Речи Посполитой (восточная Галиция, чаще всего Львов), на то, как они там корчат из себя «польских панов», выглядя при этом неприлично и жалко. В то же время Щерек отнюдь не примеривает на себя роль моралиста, встревоженного возрождением имперских и колониальных установок в польском массовом сознании; он очень редко выходит за пределы глумливой сатиры – не всегда, впрочем, интеллигентной, а иногда и просто вульгарной и неуместной. Жизнь сама написала довольно мрачный эпилог к книге Земовита Щерека. Так получилось, что некоторые явления, будучи прямым следствием украинской ментальности, столь забавно описанные краковским писателем, легли на благодатную почву политического конфликта. С самого начала казалось, что Щерек по большому счету выдумывает эту византийско-советскую угрозу, пытается уловить на просторах Восточной Европы мотив отрицания европейских ценностей и делает это для вящего литературного эффекта в полном соответствии с духом «гонзо». К сожалению, в какой-то степени эта мистификация оказалась пророческой. Дариуш Новацкий ZIEMOWIT SZCZEREK PRZYJDZIE MORDOR I NAS ZJE HA!ART, KRAKÓW 2013 140×200, 222 PAGES ISBN: 978-83-62574-94-0 TRANSLATION RIGHTS: HA!ART RIGHTS SOLD TO: UKRAINE (TEMPORA) ГОНЗО ПРИДЕТ МОРДОР И НАС СЪЕСТ, ИЛИ ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ СЛАВЯН Ну, и так вышло, что я начал профессионально гнать пургу. Пороть дезу. Выражаясь более профессионально, нагнетать национальные стереотипы. Причем самые мерзотные. За это платят. Ничто так не продается в Польше, как «schadenfreude»1. И я отлично это знаю. Достаточно мне было навалять несколько текстов об Украине в стиле гонзо – и пошли заказы. В этих текстах я эпатировал читателя украинским долбоебизмом и непотребством. Всe должно было быть предельно круто, грязно и жестко. В этом суть гонзо. Гонзо – это водяра, курево, наркота, бабы, мат-перемат. Так и я писал, поэтому всe шло просто замечательно. Лучший долгоиграющий заказ я получил от одного нового краковского интернет-портала. Каждую неделю я должен был поставлять им свежую порцию украинского мяса. Они ждали от меня хардкора – и они получали хардкор. Для начала мне пришлось придумать себе псевдоним. Я не хотел публиковать такое дерьмо под собственной фамилией. Так что я подписывал всe это как Павел Понтийский. Я решил, что это cool. Библейские псевдонимы всегда звучат нехило. Как Иисус из «Большого Лебовского» или Крис Понтиус из «Чудаков». Одним словом, мне неплохо платили. Да еще и спонсировали мои поездки на Украину. Пургу я гнал со страшной силой и придумывал такие отвязные истории, что сам охреневал. Я делал из Украины бордель на колесиках, ад в духе Кустурицы, в котором всe может случиться и именно поэтому случается. Дикий, дикий восток. А полякам это нравилось, они кликали и читали. И чем больше кликали, тем охотнее платили рекламодатели. Продажа негативных стереотипов относительно соседей приносило в Польше совершенно конкретное бабло. Не то чтобы я имел что-то против Украины. Вовсе нет. Всe это как-то само собой получилось. И, как обычно бывает, сначала у меня были самые лучшие намерения. Точнее, не было плохих. Да, да, я знаю, чем вымощена дорога в ад. Я колесил по Украине в поисках тем и сюжетов. А уж они-то были повсюду, надо было только не щелкать клювом. К примеру, однажды Мачек, мой шеф, заказал гонзо на волнующую, социально значимую тему. Неизвестно, 1 З лорадное удовлетворение от неудач других людей (нем.) почему я сразу подумал про алкоголизм. Я сделал лжерепортаж о бабке-травнице, колдунье, которая лечила зависимость от водки. Я услышал об этой ведьме, когда оттягивался во Львове. Уже и не помню, где тут кончается правда и начинается откровенный гон. Я умел неплохо прятать швы. В моем гонзо-репортаже было так: в результате урбанизации СССР моя травница еще лет тридцать тому назад переехала из деревни в город и жила уже не в избушке на курьих ножках, обвешанной гирляндами чеснока и пучками травы, как, собственно, и положено настоящей колдунье, а в обычной хрущобе на улице Липинского во Львове. Травы и чеснок висели у нее на балконе, а отвары она готовила в ванной. К бабке приходили женщины со своими мужьямиалкашами и падали ей в ноги: помогите, баба Леся, помогите, житья с ним нет, пьет как лошадь – а мужики обычно стояли сзади, пошатываясь и глядя по сторонам с дебильной улыбкой. Баба Леся окуривала клиентов, давала им выпить какой-то отвратной гадости, поджигала на свечке нитки и знай себе считала денежки. Ничего из этого, конечно, не помогало, но эффект плацебо всe-таки был, так что мало кто потом приходил с претензиями – ведь никому не приходит в голову идти в церковь и жаловаться, что не сработала молитва. По моей версии, лечение бабы Леси всe-таки помогало, по крайней мере, какое-то время. В ту гадость, которую она давала алкашне, старуха добавляла средство для очистки труб, которое так расхерачивало пациенту пищеварительный тракт, что он котлету по-киевски в рот взять не мог, не говоря уж об алкоголе. (…) Мачек, главный редактор, прочитал и сказал, что всe тип-топ, только знаешь – добавил он – а что, если наши бабы тоже начнут скармливать своим мужикамалконавтам отраву? И народ станет в массовом порядке склеивать ласты, а нас завалят исками, потому что, мол, это наше зашибительное ноу-хау? Так что я дописал потом в статье, что терапии бабы Леси надолго всe-таки не хватало. (…) Я засел в баре. Кроме меня, там была супружеская пара, лет по шестьдесят. Выглядели они как американский анклав на территории Украины. Рожи у них были до того америкосовские, что перепутать было невозможно. Эта характерная самоуверенность в сочетании с абсолютной потерянностью. (…) Я уселся за соседний столик. Женщина била по клавишам, словно желая разнести лэптоп. Чувак посматривал на меня с надеждой. На мой рюкзак, на мою одежду, которая типа намекала, что я иностранец. Он явно прикидывал, как бы со мной заговорить. И было видно, что разговор ему ох как нужен. В конце концов, он встал и подошел. И ляпнул: – А ничего тут телки на Украине, а? – И добавил тихонько, чтобы не слышала жена. – Еще не поездил у них по ушам хренов феминизм. Это было так глупо и жалко, и столько было в этих словах отчаяния, что мне стало его жаль. Я пригласил его присесть. Он и присел, и тут же начал свой бесконечный плач, который можно было бы назвать «Блюзом сотрудника Корпуса мира». И раз, и два, и три, и четыре: Его зовут Джек. Его жену – Рут. Они из Бостона. Еще совсем недавно они вели жизнь типичных представителей американского среднего класса, обещали себе, что на пенсии-то уж точно посмотрят мир. Жена – oooh, Peace Corps worker’s blues – мечтала помогать людям в других странах, особенно в тех, о которых у супругов были довольно смутные представления. Когда они наконец-то вышли на пенсию, причем одновременно, то приняли решение вступить в Корпус мира. Oooh, Peace Corps worker’s blues. Жена заинтересовалась своим происхождением, стала искать какие-то европейские корни – в Америке рано или поздно каждый начинает маяться подобной дурью. Все следы ее предков были какие-то скучные и вели в основном в Англию, Шотландию, Ирландию, Германию… Кроме одного – который вел на Украину. Oooh, Peace Corps worker’s blues. Они подписали контракт на два года. Знали только, что поедут куда-то на Украину. Такие уж правила в Корпусе мира – до конца неизвестно, куда тебя направят. Они мечтали об Одессе, он в анкете написал, что работал в фирме, которая занималась логистикой погрузки судов. Поэтому они с женой хотят поехать в какой-нибудь приморский город – вдруг пригодятся на работе в порту. Он мог бы быть консультантом или чем-то вроде этого. Уж он-то объяснит ребятам с востока, как в Америке делается эта гребаная логистика при погрузке судов. Так что они сидели на чемоданах и ждали решения по Одессе. Oooh, Peace Corps worker’s blues. Но коварная судьба в лице одного вредного чиновника забросила их в Измаил. – Вы же сами так хотели, – говорил чиновник. – Украина, море рядом. Вот, пожалуйста. Джек с грустью посмотрел мне в глаза, я же в это время поглядывал на его жену, разносящую лэптоп в щепки. – На два года? – спросил я. – На два года, – ответил он, и мы немного помолчали. Слышно было только русское диско и грохот клавиш. – А сколько вы уже оттрубили? – Две недели. Oooh, Peace Corps worker’s blues. – И как? – спросил я, прикуривая сигарету. – Работаете? Что с морем? Чувак взглянул на столик, увидел лужицу пролитого пива. Намочил в ней палец и стал рисовать на столе какие-то загогулины. – Ну скажи ему, Джек, – отозвалась вдруг его жена из-за лэптопа. – Давай, скажи. – Д-да, – промямлил Джек. – Пару дней назад… мы взяли целый класс начальной школы к морю. И вместе с детьми убирали пляж. Бутылки и всe такое… – Презервативы, – услышали мы от лэптопа. – Презервативы, – послушно подтвердил Джек. – Но это не значит, что нам тут не нравится, – засуетился он. – Город такой… симпатичный. Такой… спокойный. Нельзя сказать, что тут много чего происходит, но… в нашем возрасте… это даже плюс. Здесь… хм-хм… тепло. Приятно. Да и Одесса не так уж далеко, – рассказывал Джек, а его жена херачила по клавишам лэптопа, явно собираясь оставить от компа мокрое место. – Замечательно, – сказал я. – А вы не можете вернуться в Штаты раньше? Ну, знаете, всякое бывает, вдруг вам тут разонравится? – Не можем, – покачал головой Джек. – Контракт. Но слушай, нет, нет, тут и правда отлично. (…) Мне даже не пришлось придумывать никакого гонзо. Перевод: Игорь Белов ВОЙЦЕХ ЯГЕЛЬСКИЙ ТРУБАЧ ИЗ ТЕМБИСЫ. ДОРОГА К МАНДЕЛЕ © Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute Войцех Ягельский (р. 1960), журналист и репортер. Специализируется в африканской теме, а также в Центральной Азии и Кавказе. Многие годы связан с «Газетой Выборчей». Его книги переведены на английский, испанский, нидерландский и итальянский. «Пока я сидел в тюрьме, один вопрос не давал мне покоя: за время моего отсутствия сформировалось фальшивое представление обо мне, образ кого-то, кто мог казаться святым. А я никогда святым не был. Я не был святым, даже если таким считается кто-то, кто грешит, но старается преодолеть свои слабости» – эти слова Нельсона Манделы Войцех Ягельский сделал девизом своей книгирепортажа «Трубач из Тембисы». Святым, однако, не является ни один из ее героев. Каждому свойственна черта, невинная только на первый взгляд. Она называется «страстью» и сметает все на своем пути. А героев в книге трое: Мандела (один из лидеров движения против апартеида и первый чернокожий президент ЮАР), Фредди Мааке, называемый «Саддамом» (главный болельщик ЮАР и создатель вувузелы) и, наконец, сам Ягельский. Начнем с последнего из них. Один из наиболее известных и признанных польских репортеров впервые поехал в Южно-Африканскую Республику в 1993 году. Годом позже он стал свидетелем падения апартеида. И все же на протяжении многих лет он не знал, как найти ключ к рассказу о революции в этой стране. Первой попыткой стала книга «Выжигание травы», в которой он, однако, сосредоточился на истории одного городка. Изданный незадолго до смерти Манделы «Трубач из Тембисы» демонстрирует более целостный подход к данной теме. Подзаголовок книги звучит как «Дорога к Манделе». В ней рассказывается не только о дороге, которая привела ЮАР к падению апартеида, но также и о пути автора к своему герою. Ягельский рассказывает, как он загорелся желанием встретиться с Манделой в тот самый момент как услышал о необычайной ауре, которая его окружает. Годами эта цель то приближалась, то отдалялась, но все время оставалась недостижимой. Это и послужило причиной того, что автор написал книгу все же об определенном представлении о Манделе, а не о нем самом. Человек из плоти и крови неустанно от него ускользает, не сходит с постамента, хотя репортер и старается оставаться по отношению к нему критичным (пишет, например, о дружеских отношениях темнокожего президента с Муаммаром Каддафи). Возможно, именно поэтому Ягельский в качестве героя выбрал себе также «Саддама». С ним можно было беседовать, наблюдать за ним с близкого расстояния. Вот почему данная книга стала также новейшей историей ЮАР, рассказанной через призму футбола: от запрета на участие местных спортсменов в международных соревнованиях (что было наказанием со стороны Запада за политику апартеида) до недавнего чемпионата мира, которого с таким нетерпением ждал наш «Саддам». И все же, что именно связывает его с Манделой? Страстью одного из них является политика, страстью другого – футбол. Они так далеки друг от друга, а в то же время так близки. Прежде всего, однако, «Трубач из Тембисы», выглядит как повествование о величайшей страсти репортера, который неустанно стремится быть в эпицентре важнейших событий и достигать недостижимого, поскольку не может либо не знает, как утолить жажду впечатлений. Книга Ягельского вошла в финал Премии им. Рышарда Капущинского – наиболее престижной польской премии в области литературы факта. Малгожата И. Немчинская WOJCIECH JAGIELSKI TRĘBACZ Z TEMBISY ZNAK, KRAKÓW 2013 140×205, 304 PAGES ISBN: 978-83-240-2776-7 TRANSLATION RIGHTS: ZNAK В приемной ТРУБАЧ ИЗ ТЕМБИСЫ. ДОРОГА К МАНДЕЛЕ президентской канцелярии я рассеянно скользил взглядом по разложенным на столе газетам. Одна из них на первой полосе разместила короткую заметку под заголовком: Какой секрет таит гора ведьм? Я принялся читать. Люди из деревни пришли убить Альбертину Молото, решив, что она ведьма. Они были убеждены, что это изза ее колдовства молния убила троих пастухов, которые вечером гнали скот. Была уже ночь, когда они собрались перед ее домом и подложили огонь под соломенную крышу. Перекрыли двери и окна, чтобы она не могла выбраться из горящего дома. Пели и танцевали. Альбертина Молото рассказывала, что до сих пор слышит это пение. Тогда Бог послал помощь в виде полицейского патруля, который выбил двери и выволок Альбертину из пожара. Она лежала без сознания на глиняном полу, сжимая в руках Библию. Согласно полицейским рапортам, в том году, когда Мандела пришел к власти, в северном Трансваале убили почти сотню людей, обвиненных в колдовстве. Годом позже количество жертв охоты на ведьм выросло до двухсот, а в следующем на кострах сгорело уже почти полтысячи людей. Склоненный над газетой, я не заметил как Джесси, одна из ассистенток Манделы, беззвучно приоткрыла огромные двери, отделявшие приемную от канцелярии президента. Я заметил ее лишь тогда, когда она встала передо мной. (…) Я так давно и так настойчиво искал возможности поговорить с Манделой, что это почти стало моей навязчивой идеей. Встреча с ним представлялась мне единственной и самой важной целью. (…) Я хотел встретиться с Манделой потому, что только так мог понять, в чем заключается та несокрушимая сила, которая позволила ему преодолеть препятствия, победить слабости и остаться верным себе. Мне казалось, что для того, чтобы раскрыть эту тайну, будет достаточно короткой встречи, мгновения, нескольких слов беседы. На этот раз все должно было пойти как по маслу. На этот раз я должен был встретиться с Манделой. Это было обещано мне одним из его друзей и ближайших приспешников. Он назначил дату и время аудиенции. Я чувствовал, что Джесси стоит передо мной, но не оторвал взгляда от газеты. – К сожалению, у меня для вас плохие новости, – сказала она. – Господин Мандела очень занят. (…) Деревня ведьм называлась Хелен и располагалась на берегу Лимпопо. В ней жили исключительно люди, изгнанные из своих деревень за колдовство или же в последний момент спасенные полицией из горящих костров. (…) В деревню входило три дюжины новых, построенных из пустотелых блоков домов одинаковой формы и цвета. Расставленные ровными рядами вдоль рыжей ухабистой дороги, они напоминали военные казармы на пустыре, на Богом и людьми забытом краю света. Вокруг, куда ни кинешь взгляд, протянулась пустыня, бурая в густеющих сумерках, утыканная там и сям припорошенными пылью кактусами и островками безлистных карликовых деревьев. Я не успел до бури. Когда въехал в деревню, полевая дорога уже превращалась в болотистую лужу. Стоящие вдоль нее дома тонули в струях дождя, а гром, острый и сухой, как выстрел из винтовки, казалось, разрывал воздух. Я остановил машину посреди деревни, перед одной из халуп, которая ничем не отличалась от остальных. Все они выглядели брошенными. Я намеревался посетить Альбертину Молото, о которой прочел в газете в канцелярии Манделы. Но в деревне Хелен проживали только ведьмы, так что не имело особого значения в какую из дверей я постучу, попрошусь поговорить, а может, и переночевать, если буря все еще не утихнет. Халупа, перед которой я остановился, принадлежала Нгоепе Макгабо. При ярком свете молний ее изрытое морщинами доброе лицо, казалось, превращается в маску демона. Буря ее не пугала, хотя и напоминала о такой же ночи, когда соседи в ее бывшей деревне выволокли ее из дому и обвинили в том, что это она навлекла молнию, испепелившую одну из хижин. Размахивая факелами и мачетами, они толкали ее перед собой, ведя в направлении растущего на краю деревни мангового дерева, на котором хотели ее повесить. Лишь немногие призывали подарить ей жизнь и навсегда изгнать из деревушки. Они уже были за деревней, почти на месте, где должна была состояться казнь, когда небо разорвали очередные молнии, а земля задрожала от ударов грома. Охваченные страхом, они упали на землю. Нгоепе Макгабо первой подскочила на ноги и бросилась наутек, в темноту. Схоронилась в зарослях за деревней. Видела как ее ищут, освещая путь факелами. «Молои! Ведьма!», – слышала она издали их голоса. Однако, они не отдалялись от края деревни, боясь идти дальше в буш и ночь. – Тьфу! Подлые завистники и трусы! – плюнула она с презрением на глиняный пол. – Напали на меня из зависти! Моя слава и то, что у меня водились деньги, стали им как кость поперек горла! Она была не ведьмой, а сангомой, доброй колдуньей, гадалкой и знахаркой. Не причинила людям никакого вреда. Наоборот, старалась помогать им, исцеляя травами и обращаясь за советом к духам предков, с которыми могла разговаривать. Это они говорили ей как приготовлять лекарства и амулеты, избавляющие от всех недугов и печалей. Попивая из бутылки карамельное пиво, она вытянула из-за пазухи кожаный мешочек. Засунула в него руку и, перебирая пальцами, начала бормотать себе под нос. В мешочке она держала колдовские кости, на которых умела гадать. Иногда она сама бросала их на землю, чтобы узнать, кого что беспокоит и как справиться с болезнью. Когда же к ней приходили за советом по работе или с просьбой помочь покорить женщину, сангома велела клиенту самому бросать кости. Толковала то, что они говорили, после чего составляла «мути». Компоненты она покупала, в основном, в магазинах с травами в городке Сешего. Там можно было достать практически все: жир ящерицы, змеиную кожу в порошке, сушеных пауков и печень крокодила, когти льва, яйца павиана, самые разные травы, корни, кусочки коры. За некоторыми растениями ей, однако, приходилось идти аж до самой реки Лимпопо. Если бы она раскрыла рецепт «мути», то разгневала бы этим духов предков, открывших ей эту тайну, навлекла бы на себя их проклятие и месть. Клялась, однако, что, приготовляя «мути», ни разу не использовала фрагментов людских тел, как это делали некоторые колдуньи. Они похищали трупы из моргов и с кладбищ или же нанимали бандитов для ритуальных убийств. Она могла вылечить все болезни и справиться с любой проблемой. Исцеляла от мигрени и импотенции и сумела бы найти лекарство даже от неисцелимой заразы, которую в больших городах называли СПИДом. Но могла подсобить и в обычных житейских делах. За советом и лекарствами к ней приезжали даже высокопоставленные лица и богачи из Претории и Йоханнесбурга. Они нашли ее тут, в изгнании в деревушке Хелен. Как тот юноша из Йоханнесбурга, приехавший к ней, чтобы посоветоваться, как найти работу, которую он безуспешно искал на протяжении восьми лет. Она велела ему бросить кусочки колдовских костей из кожаного мешочка, после чего приготовила отвар из какого-то корня и велела втирать в кожу. Молодой человек исполнил поручение, а несколькими днями позже, когда зашел в очередную автомастерскую в Йоханнесбурге, ее владелец, белый бур, улыбнулся и спросил его, не ищет ли тот работу. – Мое «мути» поможет решить любую проблему, – сказала она. – Оно даст тебе все, чего пожелаешь. В доме на стене, между иконой Божьей Матери и портретом папы римского, висела вырезанная из газеты фотография Нельсона Манделы. – Все, чего пожелаешь, – повторила она и машинально перекрестилась при звуке очередных раскатов грома. – Если хочешь, могу дать тебе все, что угодно. Любую женщину, любую награду, любую мечту. Я спросил, сколько это стоит. Она ответила, что каждое лечение и каждое «мути» стоит по-разному и что она принимает оплату как наличными, так и натурой. Она также предупредила, что для того, чтобы подействовало, «мути» иногда надо менять. Поэтому лечение редко ограничивается одним сеансом. – Со мной еще не было такого, чтобы кто-то жаловался, – сказала она. – Но сколько я должен был бы за это заплатить? – Сейчас ты бы заплатил как все. Полтысячи рандов за визит. Но после того, как получишь то, о чем просишь, вернешься ко мне и сам скажешь, сколько по-твоему это стоило. Перевод: Антон Марчинский ПАВЕЛ СМОЛЕНЬСКИЙ ГЛАЗА, ЗАСЫПАННЫЕ ПЕСКОМ © Krzysztof Dubiel / The Polish Book Institute Павел Смоленьский (р. 1959), репортер, публицист, журналист «Газеты Выборчей». Знаток ближневосточной темы. Лауреат многочисленных премий в области репортажа. «Глаза, засыпанные песком» – его одиннадцатая книга. Дома, покрытые красной черепицей, восход солнца над серой стеной, поля с коричневой землей, печальная улыбка старой женщины, клубящаяся над свалкой пыль, поднятая проезжающими бульдозерами, обломки автомобиля, горящие оливки. Каждый элемент мира, показанный Павлом Смоленьским в книге «Глаза, засыпанные песком», обладает собственным цветом, запахом и вкусом. А может, в первую очередь: имеет свою температуру. Симметрия. Идеальная форма дебатов о конфликте на Ближнем Востоке. Но как же трудно ее достичь. В репортажах на эту тему, как правило, одна из сторон представляется как бы с бóльшим пониманием. Смоленьский в который раз возвращается на Святую землю. В книгах «Израиль уже не порхает» и «Араб стреляет, еврей радуется» в характерном для себя чувственном стиле он главным образом описывал судьбы Израиля. В «Глазах, засыпанных песком» пришел черед на изображение страданий палестинцев, живущих на территориях, контролируемых Израилем. В первую очередь палестинцев, так как известному репортеру не свойственно ограничиваться описанием только одной из сторон. «Я гордый еврей и очень устыженный израильтянин», – говорит один из героев этой последней книги. События с первых полос газет Смоленьский в очередной раз представляет с точки зрения жителей самого неспокойного клочка земли на планете людей. Автор предоставляет им слово, не всегда восполняя повествование дополнительной информацией, позволяющей расширить перспективу. У читателя должно сложиться впечатление, что он сам разговаривает со встреченными репортером людьми. Ему решать, захочет ли он углубиться в тему, проверить то, что услышал. Из отдельных рассказов соткана история поддаваемых пыткам заключенных, уничтожаемых цистерн с водой, ежедневной борьбы с оккупантом. Но и своего рода «наживания на конфликте», взять хотя бы расцвет контрабанды, ставший следствием экономической блокады сектора Газа. Самым запоминающимся героем книги Смоленьского является, несомненно, девятилетний Мустафа. Когда палестинцы кидали камнями в израильских солдат, его использовали в качестве живого щита. Но на страницах «Глаз, засыпанных песком» читатель знакомится также, например, с Ханной Бараг, то есть одной из «бабушек из Machsom Watch», которые принялись проверять то, как обходятся с гражданскими на контрольно-пропускных пунктах. Или с умершей от рака Арной Мер-Хамис – пропалестинской еврейкой, руководившей театральной группой, которая пропагандировала сближение между двумя общинами. И многими другими. «Глаза, засыпанные песком» пронизаны печалью, а причиной этой печали является убеждение, что в обозримом будущем, увы, ничего не изменится. Смоленьский пишет, например, о Дженине, городке в Палестинской автономии, расположенном на севере Западного берега [реки Иордан – прим. пер.], о том, что там он понял «Почему, приехав сюда через несколько лет я, скорее всего, снова окажусь в той же уличной сценографии: пожолклые, истерзанные дождем и солнцем фотографии молодых парней с шахидскими повязками на головах (скорее всего, зелеными, но плакаты настолько выцвели, что цвет нужно угадывать). Увижу невыразительные портреты молодого Ашрафа, Юсуфа, Али и многих других мучениковтеррористов. Что с того, что в детстве они были актерами Театра свободы, играли на сцене собак и королей, декламировали Оруэлла? Не за это их тут ценят». Упомянутые в названии «глаза, засыпанные песком», относятся к одному из героев книги. Автор пишет о нем, что – дабы привести точную цитату – его «глаза засыпаны песком обиды, разочарования, неприятия». Но на самом деле эти слова можно отнести также ко многим другим из тех, кто вовлечен в израильско-палестинский конфликт. И, возможно, именно поэтому метафорическая «уличная сценография» не только Дженина, но и многих других уголков Святой земли еще долго будет оставаться неизменной. Малгожата И. Немчинская PAWEŁ SMOLEŃSKI OCZY ZASYPANE PIASKIEM CZARNE, WOŁOWIEC 2014 133×215, 264 PAGES ISBN: 978-83-7536-700-3 TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM RIGHTS SOLD TO: SLOVAKIA (ABSYNT) КОГД А ГЛАЗА, ЗАСЫПАННЫЕ ПЕСКОМ Ханна Бараг познакомилась с генералом Моше Яалоном, который в то время был командующим штабом израильской армии, она давно уже была на пенсии. Генерал: известный своей твердой рукой экс-парашютист, коммандос и солдат спецназа Моссада (сегодня – известный израильский политик). Ханна Бараг, почтенная семидесятилетняя дама, седая как голубка. У нее двое совсем взрослых детей, пятеро внуков, и, наверняка, будет еще больше. Она была, кроме всего прочего, шефом секретариата генерала Моше Даяна. Опыт руководства людьми и разговоров с сильными мира сего – это то, что всегда может пригодиться. Легкий макияж, прическа, словно она только что вышла из салона красоты. В ушах – изящные сережки, очки в тонкой золотой оправе. [...] Тогда они отправились к генералу втроем: миниатюрные седые дамы, а самая миниатюрная из них – Ханна, скорее всего с деликатным макияжем и золотыми сережками. Как раз начиналась вторая палестинская интифада, восстание, известное своим террором и атаками террористов-смертников. – Моше вошел в кабинет, громко стуча каблуками о пол, – рассказывает она. – Высокий, крепкий, по моим меркам почти до неба, статный, суровый, настоящий воин. Манеры военного, низкий голос, я доставала ему, наверное, только до колен. Спрашивает без церемоний, но учтиво, думал, по-видимому, бедняга, что это какойто визит вежливости. А мы рассказываем о блокпостах, о том, что там вытворяет армия и пограничники. И что это просто недопустимо. Но также говорим о том, что чувствуют солдаты, как проходит их служба, как сделать ее более сносной, приводим цифры, даты, время, факты. Ведь эти солдаты лишь немногим старше наших внуков, если вообще старше. Если бы Моше вдруг сам победил в войне со всем арабским миром, то не был бы настолько удивлен. Его глаза стали большими как блюдца. Ожидал увидеть, – говорит Ханна, – трех старых баб, может несколько истеричных, а говорил с равными, знающими что почем. Дал им номера личных телефонов, разрешил звонить в любое время суток, а армия открыла специальную горячую линию. Как знак доброй воли, но также, – полагает Ханна, – из страха, что бабушки рассердятся. – Сейчас станем возле стены, вот тут, пожалуйста, – говорит Ханна. – Поближе друг к другу, у меня тихий голос. Не шумите, здесь и без того шумно. И никаких фотографий. Может это и не запрещено, но лучше не фотографировать, так как это нервирует солдат, не надо им мешать, эта работа и без того скучна, глупа и полна стресса, я бы так не смогла. Очень раннее утро, холодно, хоть день обещает быть жарким. Тысячи палестинцев идут на роботу в Израиле, проходя через блокпост по дороге из Вифлеема в Иерусалим. Ханна появилась тут, когда небо только начинало разъясняться. Она следит за тем, чтобы все было хорошо. – Поведение солдат, проверяющих палестинцев, это аттестат, который мы сами себе выдаем, – говорит она. – Мы, израильтяне, все мы. Не имеет значения, выступаем ли мы против оккупации или нет. К людям следует относиться по-человечески, независимо от обстоятельств. Кроме всего прочего, это хорошо для Израиля. Разговор мы ведем в том месте, из-за которого образовалась пробка на открытой некогда дороге номер 60 между Иерусалимом и Вифлеемом, ведущей на юг к далекой Беэр-Шеве, а на север – аж до Галилеи и Назарета: по этому пути ходили Авраам, Давид и Иисус. Это место называется Чекпоинт 300 либо Терминал 300. Уверен, что его никто не любит. Когда Ханна вернется домой, она напишет подробный рапорт: что, кто, в котором часу и по какой, как она думает, причине. В этот же день после обеда рапорт будет размещен на интернет-странице. Случается, что перед этим будет сделано несколько вежливых, но настойчивых звонков важнейшим израильским военным. [...] К нам подходит женщина-солдат, длинноволосая, молоденькая, скорее пухленькая девушка с винтовкой наперевес. Окидывает взглядом Ханну и с выражением скуки возвращается туда, откуда пришла. В ее взгляде нет дружелюбия, но нет и неприязни; я бы назвал это равнодушием и почтением. Ханна не замечает девушки, так как прислушивается к голосам, доходящим из-за одного из турникетов; люди в палестинской очереди ругаются друг с другом. Когда ссора утихает, она указывает пальцем на бейдж, висящий на широкой ленте у нее на шее, который сочетается с ее элегантной одеждой как корова с седлом. – Это мое единственное оружие, – улыбается она, произнося по буквам надпись „Machsom Watch”. – Ну и кто будет нарываться на бабушек? – добавляет. А мне кажется, что она даже кокетничает. На иврите блокпост – это „махсом”, по-арабски – „хаез”. Израильтяне и палестинцы знают это слово даже слишком хорошо. Если бы я фотографировал блокпосты, а потом сравнивал фотографии, то не увидел бы между ними ничего общего. Терминал 300 похож на огромный торговый павильон, накрытый крышей, с петляющими переходами и коридорами, турникетами и застекленными кабинками, в которых сидят солдаты, освещенные компьютерными мониторами. Темно-синие потертые бронежилеты работников частных охранных фирм. Стальные турникеты, открывающиеся под действием электрического импульса. Запертые двери в секретные комнаты. Осмотр карманов и пластиковых пакетов с едой, проверка пропусков, сканирование отпечатков пальцев. Запах спешащих, взволнованных, а подчас и испуганных, как это бывает на границе, людей, хотя тут нет никакой настоящей границы, нет ведь и палестинского государства. А за последним турникетом – Израиль: толпа мужчин на парапетах и выгоревших газонах, микроавтобусы, ожидающие рабочих, переносные лотки с кофе и чаем. Когда около семи часов толпа разъедется от Иерусалима по Ашкелон и Тель-Авив, она оставит после себя горы мусора, разбросанную бумагу, множество окурков и одноразовые пластиковые стаканчики. В то же время пропускной пункт Каландия на север от Иерусалима – это вечная пробка, бóльшая с палестинской стороны, поскольку въезд из Израиля в Автономию никто не контролирует. Пелена выхлопов и дорога с разбитым асфальтом. Переполненные парковки с арабской стороны. Лотки, продавцы орешков и солнечных очков. Какофония клаксонов, аж бьет по ушам. В свою очередь, Эрез, впускающий в сектор Газа, выглядит как покинутый космический корабль, если не брать во внимание полутора десятка палестинских детей, эскортируемых матерями, или больных в сопровождении опекунов. Вопросы невидимых пограничников звучат из стен либо с потолка; анонимные, жесткие команды. Когда я проходил через Эрез, какой-то невидимый Большой Брат приказал мне вынуть все из карманов. Я встал – по приказу – с поднятыми руками, и тогда Большой Брат сказал: «У тебя в кармане комок бумаги». Я вытащил помятую папиросную бумагу размером с ноготь на мизинце и положил ее на блестящий стальной стол. Большой Брат был доволен. Однако, наибольшее впечатление на меня производит маленький блокпост, соединяющий арабский Хеврон со входом в мечеть Ибрагима в контролируемой Израилем части Старого города. Неожиданно темную и узкую, накрытую аркообразным сводом старинную улочку перекрывают стальные двери. За ними находится обычная клетка, заканчивающаяся стальным турникетом. Турникет время от времени прокручивается, пропускает по несколько человек, а остальные толпятся в клетке под надзором солдат, укрытых за бетонными плитами. Никаких компьютеров и высоких технологий. Только глаза пограничников, просвечивающие всех проходящих. Никто не требует пропусков; тут они как раз не нужны. Глаза солдат видят все. Даже в битком набитой клетке. Возможно, именно клетки с палестинской стороны (небольшие как в Хевроне, просторные как на Терминале 300 и в Каландии, растянувшиеся на сотни метров как в Эрез) являются тем, что объединяет все блокпосты. Ну и этот страх, неуверенность, убеждение, что проходящий через блокпост – никто, что с ним можно сделать все, что угодно: унизить, растоптать, уничтожить, избить. Ханна Бараг приходит туда, где встречаются Иерусалим и Вифлеем, чтобы это «все» ограничить. Самых важных блокпостов, контролируемых ����� som Watch������������������������������������������� вим к этому блокады, расставленные на шоссе бетонные блоки, запасные шлагбаумы или защитные валы, перегораживающие подъезды к главным дорогам, если посчитаем временные переносные КПП, то в общей сложности на Оккупированных территориях их выйдет около тысячи. Бабушки из Machsom Watch почти о всех из них знают почти все. Перевод: Антон Марчинский ВИТОЛЬД ШАБЛОВСКИЙ ТАНЦУЮЩИЕ МЕДВЕДИ © Albert Zawada AG Витольд Шабловский (р. 1980), репортер «Газеты Выборчей», лауреат многочисленных премий, в т.ч. Премии Беаты Павляк, присуждаемой текстам, посвященным другим культурам, религиям и цивилизациям. Его дебютную книгу «Убийца из города абрикосов. Репортажи из Турции» американский журнал “World Literature Today” признал одной из важнейших книг, переведенных на английский язык в 2013 году. Вот мишка. Может, ему два года, а может, и все десять. Густой мех, двести килограмм весу, в носу – самой чувствительной части тела – металлическое кольцо, которое вбил ему хозяин, цыган. Благодаря этому медведь его слушается. Встает на задние лапы, изображает известных спортсменов, политиков и прочих звезд, дает себя погладить на счастье. Обычно он живет рядом с хозяйским домом и ежедневно съедает несколько буханок хлеба. Жует медленно – многие зубы выбиты. Витольд Шабловский в книге репортажей «Танцующие медведи» рассказывает о Болгарии вскоре после ее вступления в Евросоюз. Изменения на Черном море коснулись и танцующих медведей. Организация по защите прав животных отобрала их у цыган и поместила в специальном парке, где они учатся жить на свободе. Звучит прекрасно. Но так ли все на самом деле? Книга начинается с беседы с одним из прежних владельцев медведей. Расставание со зверем для него настоящая драма. По его словам, он относился к животному как к члену семьи, никогда не бил его, а наоборот, холил и лелеял. На свободу – что символично – медведи едут в клетках. Годами жившие среди людей, они сбиты с толку. Трогают лапами носы, в которых больше нет колец. Не могут сами позаботиться о пропитании, учатся впадать в спячку. Их кастрируют (ведь разве смогут они хоть чему-нибудь научить молодняк?). Вдобавок пространство их свободы ограничено забором под напряжением. «Свобода – это безумно сложная вещь. Ее нужно выдавать маленькими дозами», – говорит один из новых покровителей медведей. Кому-то еще не ясно, что речь не о медведях? Книга Шабловского напоминает репортаж польской журналистки Барбары Н. Лопеньской «Лапа в лапу» 1976 года, в котором дрессировка тигров стала метафорой для отношений власть-гражданин во времена реального социализма. Сегодня это классический пример эзопова языка журналиста. Перед Шабловским не стоит цель перехитрить цензуру. Он может зайти дальше. И идет. Вторая часть «Танцующих медведей» – это репортажи из разных стран, в каждой из которых так или иначе происходит трансформация политической системы. Автор известен своим скептическим отношением к благам капитализма (проявившимся в написанной совместно с Изабеллой Мейза книге «Наш маленький ПНР» о повседневной жизни в коммунистической Польше). Подобная позиция – пусть и не однозначная – заметна и в других его текстах. Благодаря меткому языку и внимательному взгляду наблюдателя рассказы Шабловского, будь то о Кубе, Украине или Балканах, по-настоящему увлекательны! Малгожата И. Немчинская WITOLD SZABŁOWSKI TAŃCZĄCE NIEDŹWIEDZIE AGORA SA, WARSZAWA 2014 135×210, 224 PAGES ISBN: 978-83-268-1335-1 TRANSLATION RIGHTS: POLISHRIGHTS.COM Жрицы Сталина ТАНЦУЮЩИЕ МЕДВЕДИ Он приходит ко мне по ночам. Взглянет, покурит трубку, подкрутит усы. Усмехнется и – сразу к двери. Тогда я в слезы и кричу, чтобы он остался. Но мужиков разве трогает женский плач? У грузина ведь как обычно: напьется водки, войдет, быстро кончит и заснет. Я пьяниц ненавижу. Но здесь, в Гори, других нет. Другие только в американских фильмах. Сталин другой. Культурный человек. Он знал, как позаботиться о женщине, как сделать комплимент, как хорошо пахнуть. Жил скромно, но одевался элегантно. И пил не много. А если и пил, то только заграничный алкоголь. А уж о том, что победил фашизм и Гитлера, я и не вспоминаю. Поэтому я себе много лет назад сказала: «Таня, какого черта ты будешь с алкашами якшаться? Какого черта, если можешь жить со Сталиным?» Анна Сресели: Он мне как семья Мы стоим перед домом, в котором появился на свет Иосиф Виссарионович Сталин. Его родители жили бедно. Мать стирала белье местным священникам. Отец был сапожником. Как видите, его дом перестроили в античном стиле, а соседние здания снесли. Да, весь квартал. Нет, я не вижу в этом ничего странного. Если бы здесь куры срали и дети мяч гоняли, вам бы больше нравилось? (...) Несколько лет назад у нас была война. Неподалеку граница с Осетией. Сто русских танков въехало в Гори. Мы бежали в Тбилиси, а я боялась не за свой дом и квартиру, а за музей. Но они ничего не тронули, ни травинки. По-прежнему боятся Сталина. Только фотографировались под памятником. Вот так Сталин с того света нас спас. Когда я училась в школе, одни девочки мечтали работать в магазине, другие хотели полететь в космос, а я хотела рассказывать людям о нашем великом земляке. Всю жизнь стремилась осуществить свою мечту. Поступила на исторический факультет. А после учебы побежала в музей устраиваться на работу. Но тогда уже развалился Советский Союз. Музей закрыли, и он едва выжил. Лишь недавно снова начали принимать людей на работу. Меня взяли одной из первых. К тому времени я уже преподавала историю в гимназии, поэтому в музее я на полставки. В институте меня еще учили, что Сталин был выдающимся государственным деятелем. Но изменилась система, изменилась программа, и сейчас мне приходится говорить, что он был тираном и преступником. Но я так не считаю. Переселения? Они были необходимы, чтобы люди жили в мире. Убийства? Не он за них отвечает, а Берия. Голод на Украине? Это была природная катастрофа. Катынь? Я знала, что вы об этом спросите. Все поляки спрашивают. Извините меня, Катынь это была война. На войне это нормально. И прежде чем вы начнете кричать, дайте мне закончить. Остыли? Сейчас я вам скажу, что я лично думаю. Я считаю Сталина великим человеком, но ни ученикам, ни туристам сказать этого я не могу. Могу сказать так: «Одни считают его диктатором, другие тираном, третьи гением. Как было на самом деле, ответьте себе сами». Татьяна Марджанишвили: Боже, забери меня к Сталину Когда я вижу, что они с нашим любимым Сталиным сотворили, у меня сердце разрывается! Как так можно? Как можно из такого хорошего человека делать чудовище, людоеда, какого-то монстра? Когда-то в наш музей автобусы приезжали один за другим. Люди огромные очереди выстаивали. Я смотрела на их лица и видела, что они светятся добром. А сегодня? Все друг другу глотки перегрызть готовы. Вот вам и капитализм. Больше я туда не хожу. Во-первых, жаль. Молодости, работы, друзей. А во-вторых, ноги у меня слабые. Даже по лестнице сама спуститься не могу. В марте мне 82 года стукнет, а человеку всю жизнь здоровым быть тяжело. Утром встаю, хлебушка отрежу, чаек заварю, сижу и говорю так: «Боже, зачем ты дал мне дожить до таких времен? Почему на нашего голубка Сталина все собак спускают?» Но потом я так думаю: «Вспомни, Таня, сколько Сталин пострадал за людей. За тебя он тоже не доедал, не досыпал. С фашизмом боролся, чтобы ты могла школу закончить». И тогда я беру в руки медаль с изображением Сталина, которую я получила, когда на пенсию вышла. Глажу его, голубка, по усам и мне чуть-чуть легче. В музее я работала с 1975 года. Смотрительницей – следила за порядком и безопасностью экспозиции. Если кто-то пытался прикоснуться к экспонатам, мы должны были ходить и кричать. Было нелегко. Старые женщины приезжали из деревень и на нашего Сталина набрасывались. Каждую фотографию на выставке целовали как икону в церкви. А этих фотографий больше тысячи! Если целый автобус с бабками приезжал и все хотели к фотографиям приложиться, что мне было делать? Если директор смотрел, я ходила и кричала. А если не смотрел, говорила: «Целуйте-целуйте, бабоньки, дай вам Бог здоровья! Только маску не трогайте! Ни в коем случае». Маска в музее как святыня, ведь это посмертная маска. Раньше я работала в Национальном музее в Тбилиси, но мой второй муж был из Гори, и мне удалось перевестись сюда. Было нелегко. Музей Сталина не такое место, куда можно прийти с улицы и спросить: «У вас тут работы нет?» Важно было мнение людей. Я была в разводе. Первый муж пил и меня бил – нечего о нем говорить. Я боялась, что из-за развода с работой будут проблемы. К счастью, мне дали очень хорошую рекомендацию из музея в Тбилиси. Самые элегантные люди со всего света приезжали посмотреть дом Сталина. Со всей России, из Азии, Америки. Журналисты, послы, артисты. А я стояла среди экспонатов, и меня распирало от гордости. Работа была для меня всем. Музей был мне как дом. Муж этого не понимал. Мне не о чем было с ним разговаривать. Пусть я в музее всего лишь следила за экспозицией, зато книги читала, с новыми людьми знакомилась. А он тоже пил. Пробовал меня бить, но я уже не далась. Позже он заболел, вышел на пенсию. Целыми днями сидел в квартире или у матери. Назло мне говорил гадости о Сталине. Как развалился СССР, он мне язык показал. Злорадствовал. А потом умер. Жаль, что он не дожил до сегодняшнего дня. Сейчас я бы ему язык показала. Зачем нам этот капитализм, эти американские соки, сыры, шоколад? Даже молока уже не купишь нормального, только в картонной упаковке, как в Америке. Я так думаю: «Боже, забери меня к моему Сталину. Забери меня отсюда, я больше не выдержу» [...] Татьяна Гургенидзе: Я была бы ему хорошей женой Я родилась при плохой системе. Потому что у меня мышление передовика производства. Если нужна какая-то общественная работа, то я иду и делаю. Я делала стенгазету для сотрудников. Вела занятия для мам-одиночек. Во время войны помогала распределять гуманитарную помощь. При коммунизме все меня уважали. Но теперь у нас капитализм, и все смотрят на меня как на идиотку. Поэтому я уже, правда, больше не могу. Прихожу в музей, чтобы успокоиться. И говорю: «Товарищ Сталин, я знаю, что вы бы это оценили». И это помогает. Сталин мне снится – я уже вам рассказывала: посмотрит, усы подкрутит и выходит, – обычно через несколько дней после такого успокоения. С моим отношением к мужчинам я тоже не в ту эпоху попала. Раньше как было в Советском союзе: не было того, что сейчас молодежь по телевизору смотрит. Всяких этих клипов и голых, простите, задниц. Если был поцелуй или кто-то кого-то легко погладил по плечу, уже было достаточно. Женщина должна была быть хорошей работницей, одеваться и вести себя скромно. И когда я смотрю на нынешних девчат, то тоже иду в музей. И говорю: «Товарищ Сталин, вам бы тоже не понравилось». И снова помогает. Пьяниц не люблю. И наркоманов. Наш президент меня из себя выводит, зачем он Россию дразнит? Ясно же, что даже с медведем можно договориться. Но Саакашвили уперся, что – с Россией под боком – сделает тут вторую Америку. Из-за него у нас была война, и наверняка еще будет. Во время войны музей закрыли, и я приходила в парк, под памятник, и говорила: «Товарищ Сталин, вы бы тут всех скрутили в бараний рог, и был бы порядок». А порой иду и говорю ему так: «Будь вы живы, может, мы бы были вместе. Вам бы со мной хорошо жилось. Готовить умею, веселая я, пою хорошо». И мечтаю, как чудесно быть женой Сталина. Но такие мысли потом из головы выбрасываю. Веду себя как идиотка. Сталин умер. Коммунизм рухнул. Было, прошло, до свидания. Если он мне в такие дни снится, то я держу себя с ним холодно и строго. Перевод: Мадина Алексеева КАТАЖИНА БОНДА ПОГЛОТИТЕЛЬ © Bartek Syta Катажина Бонда (р. 1977), прозаик, сценарист, документалист, специализирующийся в криминальной тематике. Ее дебютный роман «Дело Нины Франк» (2007) был номинирован на «Премию Большого Калибра». В последующие годы издала такие романы, как «Только мертвые не лгут» и «Флористка». Преподает в школе креативного письма в Варшаве. Катажина Бонда уже известна читателю как автор серии детективов о Губерте Майере – полицейском профайлере из Силезии, специалисте по составлению психологического портрета (профиля) преступника. Среди всех книг серии особенно можно выделить роман «Флористка». Писательница впервые ввела в польскую детективную прозу персонажа с такой профессией в вышедшем в 2007 году романе «Дело Нины Франк». В последней книге «Поглотитель», открывающей тетралогию, главный герой, а точнее, героиня, – женщинапрофайлер Саша Залуская (что также открытие для польских детективов). Уже одна эта героиня – а ее историю читатель узнаёт лишь в первом приближении – поражает воображение. Саше едва исполнилось тридцать шесть, но она уже обладает богатым жизненным опытом, хотя, надо сказать, не особенно приятным. Сначала работает следователем, но после того как проваливает операцию по аресту серийного убийцы и вдобавок все узнают о ее алкоголизме, вылетает из полиции. Однако «падшая» криминалистка берет себя в руки: рожает дочь, поступает на учебу в известный Институт следственной психологии в Хаддерсфилде – настоящую кузницу профайлеров. Спустя несколько лет, в 2013 году, возвращается вместе с дочкой, которую воспитывает одна, в Польшу и поселяется в Сопоте. К ней обращается местный бизнесмен, владелец престижного клуба, который утверждает, что кто-то – скорее всего, напарник, бывшая рок-звезда – покушается на его жизнь. Он нанимает Сашу, чтобы та вышла на след злоумышленника. Залуская не подозревает, что втягивается в самый апогей опасной игры. Вскоре рок-звезду находят мертвым, а его ассистентку раненой. Расследование приводит Сашу к загадочной смерти подростков, погибших при невыясненных обстоятельствах в начале 90-х. Все детективы Бонды отличаются множеством сюжетных линий, сложной, но одновременно логичной и четкой фабулой. Не выбивается в этом смысле и «Поглотитель». Большинство читателей сосредотачивает внимание на главной героине, что неудивительно, ибо это поистине поразительный персонаж, даже, не побоюсь этого слова, один из самых интересных, созданных за последнее время в детективной прозе. И все же я бы обратил внимание на две другие сюжетные линии, довольно ярко очерченные в романе. Помимо криминального сюжета с неотъемлемым мотивом преступления и наказания, это роман о польской мафии. Тема, казалось бы, лежит на поверхности, муссируется во всех возможных сми, всплывает при каждом очередном процессе над мафиози, но, несмотря на все это, до сих пор в криминальной прозе представлена довольно скупо. Бонда описывает зарождение мафиозных структур в Польше после политико-экономических перемен 1989 года. Поначалу это были группировки, наживавшие свои капиталы преимущественно на кражах машин или контрабанде алкоголя и сигарет, в высшей степени жестокие, без колебаний применявшие методы физического устранения противников. Однако польская мафия шла в ногу со временем. Мафиози подключились к торговле наркотиками, затем стали все больше маскировать свою преступную деятельность, прячась за фасадом законно действующих компаний, тем самым перейдя в сферу экономических преступлений. Из бандитов с оружием в руках они превратились в беспощадных бизнесменов, без зазрения совести использующих силу денег и информации, практически безнаказанных, держащих за горло политиков всех уровней, полицейских и чиновников. «Поглотитель» – лучший детективный роман Бонды и один из лучших вообще, написанных за последнее время в Польше. Этой книгой варшавская писательница доказывает, что польская криминальная проза может быть даже интереснее популярных во всем мире скандинавских детективов. Роберт Осташевский KATARZYNA BONDA POCHŁANIACZ MUZA SA, WARSZAWA 2014 135×213, 672 PAGES ISBN: 978-83-7758-688-4 TRANSLATION RIGHTS: KATARZYNA BONDA CONTACT: HANNA.PALAC@EKSTENSA.COM Саша ПОГЛОТИТЕЛЬ как раз добралась до клуба. Проблем с поиском у нее не возникло. (…) Саша зашла во двор. Подошла к стальной двери с глазом Шивы вместо глазка. Рядом с выключателем виднелась лишь наклейка с логотипом и названием клуба. Никакой вывески, неонов. Ничего, что указывало бы на популярное заведение. (…) – Вы не знаете, как туда попасть? – вежливо спросила Саша и указала на дверь клуба напротив. Женщина смерила ее подозрительным взглядом и фыркнула: – Я туда не хожу. Нужно звонить. – Звонить? – Там, с другой стороны, под кирпичом, есть кнопка. Саша поблагодарила. Не ходит, а знает, как войти. Улыбнулась себе под нос. – Но сейчас не сработает, света нет, – добавила соседка. – Лучше подождите. Они сейчас сами повылезают, пьянь такая. И действительно, под кирпичом обнаружилась кнопка звонка и она не работала. (…) Вдруг из-за двери показалась голова миловидной блондинки. Девушке на вид было не больше двадцати лет. – Вы из аварийки? Хватило секундного колебания Саши, и блондинка захлопнула дверь, однако замок повернуть не успела. Саша схватила ручку, некоторое время между девушками шла борьба. – Закрыто, – огрызнулась блондинка. – Я от Павла Блавицкого. Блондинка поддавалась. – Я – эксперт-профйалер, хочу поговорить с Луцией Ланге. Сморщенные брови, внезапный смех. – А ее нет. – А Иза Козак, Янек Вишневский? Дело срочное. Я бы предпочла зайти и выяснить. Девушка неохотно впустила ее. – Пробки полетели. – Снова смех. Саша терялась от столь компульсивного поведения девушки. – Сама вижу, – пробурчала она в ответ. Вытащила из сумочки карманный фонарик и осветила лестницу, ведущую в подвал дома. Клуб выглядел совсем безлюдным, но девушка точно была не одна. В гардеробе висело несколько курток. (…) – К вам гость, – протянула нараспев блондинка, исполнив при этом фигуру чир-данса. Отсутствие помпонов никак ее не смущало. (…) – Вы ко мне? – промурлыкал у нее за ухом низкий, с хрипотцой голос. Саша обернулась. Перед ней стоял невысокий мужчина лет сорока. Стало понятно, что фотография, которую ей дали, была старой – мужчина изменил имидж на более соответствующий возрасту. Живьем он показался ей гораздо симпатичнее. Темные глаза с озорным прищуром. Лицо с многодневной щетиной, взъерошенная мальчишеская прическа. Крашеный блондин. На нем была футболка, кожаная куртка, белые джинсы и кожаные кеды. Саша остолбенела от ужаса. Дежавю бывает только в кино, но этот мужчина напоминал ей очень близкого человека, которого вот уже как семь лет не было в живых. Казалось бы, все было совсем другим: место, клуб, одежда и лицо мужчины. Но остальное, атмосфера, были точь-в точь такие же. Свечи, его фигура в мягком свете и тьма подвала. Сашу будто парализовало, но одновременно она чувствовала, что краснеет как школьница. Мужчина протянул руку. На запястье виднелась фенька, а на пальце перстень с синим камнем. – Игла, – представился он. Губы скривились в гримасу. Даже это движение она отлично знала. – Саша Залуская. У вас, случайно, нет брата-близнеца? – Мне ничего об этом неизвестно. Тут к ним подошла блондинка, которая открывала дверь, и обняла музыканта, показав, кто здесь хозяин. Он мгновенно встал по стойке смирно, вошел в свою роль. – Так это вы – рок-звезда? – голос Залуской вновь звучал уверенно. Она заметила, что Игла тщеславен, как все артисты. Дешевый комплимент доставил ему удовольствие. – А вы, видимо, та самая девушка с севера? – Саша указала на блондинку и улыбнулась. Шутка не удалась. Молодая девушка еще больше надула губы и стала похожа на утку. Игла тоже помрачнел. – Жаль, что отключили свет. Я думала, музыку послушаю. – Чтобы слушать музыку, электричество вовсе не обязательно, – ответил мужчина и затянул: «Девушка с севера, холодная очень, мертвая улыбка, блестящие очи». Голос у него был мелодичный, профессионально поставленный. Саша слушала его с удовольствием, хотя еще приятнее было на него смотреть. – Я не из полиции, – начала объяснять Залуская. – Но мне необходимо поговорить со всеми сотрудниками и прежде всего с вами. Как вы знаете, кто-то готовит покушение на пана Блавицкого, и мое задание – выяснить мотив и составить психологический портрет преступника. Пан Блавицкий считает, что это кто-то из своих. Игла засмеялся. – Он считает, что это я ему угрожаю. – Отстранил девушку. Поцеловал ее по-отечески в лоб. – Клара, оставь нас, пожалуйста. Девушка ушла явно неохотно, несколько раз оборачивалась. Игла послал ей воздушный поцелуй. – Предупреди, чтобы никого не пускали. Мы ненадолго, – успел распорядиться музыкант, пока девушка не скрылась за дверью с табличкой «Персонал». Было видно, что Клара влюблена в него по уши. Он в нее значительно меньше. – Выпьете чего-нибудь? – Игла указал место на кресле, сам сел на диване рядом. Саша отрицательно покрути- ла головой. – А я, если позволите, выпью, – заявил он и крикнул: – Иза, принеси мой джин! Вскоре из темноты показалась фигура плотной эффектной брюнетки с таким глубоким декольте, что видно было дорожку между грудями. (…) – Игла прочитал ее мысли. Указал на девушку и произнес: – Иза Козак. Начальник всех начальников. Знает об этом месте все. Она здесь почти с самого начала. – Ну, почти все, – скромно поправила его Иза. Дамы пожали друг другу руки. Иза собралась было уходить, но Игла задержал ее. – Садись. – указал место рядом с собой и произнес: – У меня от нее нет тайн. (…) – Ну, тогда за дело. – Игла похлопал себя по коленям. – Что вам нужно и о чем вообще речь? Саша кратко изложила суть дела. Рассказала о заказе и о том, как представляет себе сотрудничество, умолчав о ночном звонке и финансовой стороне. – Мне придется поговорить со всеми. Наедине, – подчеркнула Саша. Мы можем встречаться в любых местах. Я готова подъехать к вам домой. Чем оперативнее и быстрее мы все это устроим, тем лучше. – Но что вы все-таки ищете? – бдительно вставила Иза. – Я ничего не понимаю. Девушка говорила по существу, настроена была решительно. Саша сразу поняла, что именно Иза тут всем заправляет. Без нее выпили бы весь алкоголь, а деньги пустили на ветер. Иза Козак явно была стреляным воробьем. Залуская пожала плечами, что необыкновенно развеселило Иглу. Он поднял бутылку и в очередной раз спросил, не выпьет ли она с ним хоть чуть-чуть. – Я тоже не очень понимаю, – призналась Саша, не сводя глаз с бутылки. – Обычно я занимаюсь созданием профилей, т. е. портретов преступников. Помогаю полиции, судам, иногда частным лицам или фирмам. Если кратко: я могу определить, каковы приметы человека, совершившего преступление, сколько ему лет, какого он пола и даже где он живет и работает. Я также определяю мотив и то, где следует этого человека искать, если он скрывается. Профиль нужен затем, чтобы ограничить круг подозреваемых. Я не могу утверждать, что это вы, Игла, или вы, Иза, хотите убить Павла Блавицкого. Единственное, что я могу сделать, – это составить список примет. Человек, который заказывает экспертизу, должен сам сделать выводы, кто под это описание подходит. Полиция определяет подозреваемого. Признаюсь, что такой заказ, как этот, я взяла впервые. Собравшиеся выглядели ошеломленными. – И все это вы в состоянии узнать на основании разговоров? – Игла явно не верил. – Жертва значительно облегчает мне работу, – ответила Саша. – Обиды и место преступления – неиссякаемый источник поведенческих данных. Иза взяла салфетку и начала нервно ее теребить. – Но ведь трупа-то пока нет. – Игла засмеялся. Схватил стакан с выпивкой и растянулся на диване. – Может, подождем? Зачем так мучить себя заранее? Саша не ответила. Ей хотелось поскорее закончить разговор. Выйти, пока не попросила налить ей полный стакан. Сейчас стакан – слишком много, а потом и ведра будет мало. Перевод: Полина Козеренко МАРЧИН ВРОНЬСКИЙ ПОГРОМ В СЛЕДУЮЩИЙ ВТОРНИК © Tomasz Stawecki Марчин Вроньский (р. 1972), автор популярной и награждаемой серии ретро-детективов о старом Люблине. За «Погром в следующий вторник», пятый том цикла, получил «Премию Большого Калибра». «Погром в следующий вторник» Марчина Вроньского – уже пятый детективный роман о приключениях комиссара Зиги Мачеевского, бывшего боксера и невероятно эффективного полицейского. Вне всякого сомнения, книга эта – лучшая из изданных в серии (всего в ней запланировано десять томов). Ничего удивительного, что она пользуется популярностью у читателей и признанием у знатоков детективной прозы. Достаточно сказать, что в 2014 году Вроньский получил за этот роман все возможные премии, присуждаемые авторам детективов. От предыдущих частей цикла «Погром в следующий вторник» отличается тем, что все действие романа происходит после Второй мировой войны. Вроньский, уже зарекомендовавший себя как умелый и талантливый портретист межвоенной эпохи, столь же хорошо справился с послевоенными реалиями. Более того, описание Люблина в сентябре 1945 года – определенно самая сильная сторона этого детектива. Власти, беспощадно преследующие настоящих и выдуманных врагов, уцелевшие партизаны – потерянные и отчаявшиеся люди с оружием в руках, безжалостные банды головорезов, шмальцовники, пытающиеся скрыться в городской толпе, жертвы войны и простые люди, которые хотят свыкнуться с новой реальностью, чьи правила по-прежнему туманны и неустойчивы. В предыдущей части цикла, книге «Крылатый гроб», Мачеевский попадает в тюрьму НКВД по обвинению в сотрудничестве с немцами, что отчасти правда, ибо во время оккупации Зигу принуждают работать в уголовной полиции крипо. Теперь его преследователь, мрачный майор Грабаж из Управления безопасности, выпускает бывшего комиссара на свободу. Разумеется, у него в этом свой интерес, поэтому он ставит жесткие условия. Все указывает на то, что в Люблине произойдет еврейский погром, а майору это некстати. Кроме того, в окрестностях орудуют двое неуловимых жестоких убийц. Только Мачеевский, человек, не связанный ни с какими новыми структурами, может узнать правду и предотвратить кровопролитие. А заодно спасти старого приятеля и вернуть себе жену… которая уже давно списала его со счетов. В хаосе послевоенного Люблина Мачеевский, на которого шишки сыплются со всех сторон, поднимается после каждого удара словно ванька-встанька. И по-прежнему пытается придерживаться своих принципов. По мере возможностей. Весьма скромных. Роман Вроньского – это, прежде всего, замечательно выстроенный детектив с четко выверенной интригой, которая держит читателя в напряжении до последней страницы, и с очень интересным, можно сказать, полнокровным главным героем (наряду с созданным Мареком Краевским Эберхардом Моком, Мачеевский – один из самых интересных персонажей современной польской детективной прозы). Но это не просто детектив. Вроньский доказывает, что жанровая проза тоже может повествовать о важных и серьезных проблемах, касаться болезненных мест нашей истории, показывать ее без упрощений и к тому же с неочевидной точки зрения. Лишь очень немногие авторы детективов «ретро» сочетают развлекательное чтение с серьезными размышлениями. Люблинскому писателю это удается. И отчасти именно поэтому он – автор замечательных детективов. Роберт Осташевский MARCIN WROŃSKI POGROM W PRZYSZŁY WTOREK GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL/W.A.B. WARSZAWA 2013 125×195, 320 PAGES ISBN: 978-83-7747-740-3 TRANSLATION RIGHTS: GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL Среда, 12 сентября 1945 года ПОГРОМ В СЛЕДУЮЩИЙ ВТОРНИК – Пани Васертрегер? – Зига толкнул изрешеченную пулями полуоткрытую дверь, так как стучать ему уже надоело. Стоя у всех на виду, он лишь вызывал любопытство соседей, выглядывавших в галерею, которая вела к квартирам на втором этаже флигеля. – Пани Васертрегер? В коротком темном коридорчике он споткнулся о корзину, высыпав на пол кучку сушеного гороха. – Лейб? Это ты? – услышал он, к своему удовольствию, по-польски. – Нет, Мачеевский. (…) Женщина, которая, если верить описанию кассира, могла быть женой убитого, покачивалась в плетеном кресле-качалке, вперив глаза в стакан из-под чая. Судя по засохшим чаинкам – вчерашнего. – Почему вы, а не Лейб… то есть Леон? – она подняла голову. Кассир говорил, что она очень молода, но бывший комиссар поначалу этого не заметил. Было что-то старческое в ее движениях, в сгорбленной фигуре, в этом покачивании в кресле. Лишь сейчас он увидел гладкое лицо без единой морщинки, но с глубоко запавшими глазами. Не красавица, но есть, за что ухватиться. По крайней мере в смысле женщин Зига и блаженной памяти Васертрегер нашли бы общий язык. Он окинул взглядом стены, хотя смотреть было особенно не на что. На единственной картине, свадебном портрете с фотографии, были изображены пожилой мужчина с выдающимся семитским носом и двадцатилетняя на вид девушка, которой парикмахерша создала на голове нечто удивительно неподходящее к ее круглому лицу и телячьим, но добрым глазам. Та же самая девушка, теперь похудевшая и повзрослевшая, смотрела на Зигу. – Леон Васертрегер? – откашлялся он – Ваш муж? – Мой муж, – она покивала головой, взяла стакан с чаинками, поднесла его к губам и выпила немного несуществующего чая. – У вас есть весточка от моего мужа? – Да, но я должен убедиться – вы понимаете? – Понимаю. Чаю? – она подала ему стакан. Он взял его и осторожно, чтобы не посыпались уже плесневеющие чаинки, сделал вид, что пьет. – Я должен убедиться, – повторил он. – Если вы расскажете мне о том вечере, когда в последний раз видели мужа, я пойму, что имею дело с той, кого ищу. И передам вам весточку от пана Леона. – Леон – мой муж, – повторила она. – Он там лежал, – и указала пальцем на дверь. – Это странно, знаете? Они кричали: «Открывай, Васертрегер!» – а он не открыл, а потом все равно лежал, как будто открыл. Те, кто открывает, они потом лежат в крови. Он не открыл, но у него тоже шла кровь, только меньше. Поэтому я и не закрываю дверь, вы понимаете? – Она хитро усмехнулась. – Если я не закрою, то они не будут стрелять. – Сколько их было? – Как всегда, вся команда. Его потом забрали, вроде как в больницу, но я-то знаю, куда его отвезли, раз пришли вы, товарищ Мачеевский, – теперь ее улыбка была настолько наивно и отвратительно заговорщической, что Зига еле сдержался, чтобы не повернуться и не выйти. – Что еще они говорили? – Кричали: «Гэбэшная свинья!» и «Сдохни, жидюга!» Паф, паф, паф! Но я его знаю, он только притворялся, что истекает кровью, он очень хорошо умеет притворяться, даже врача обвел вокруг пальца! – Вдова убитого засмеялась. – В вас тоже стреляли? – Разумеется, стреляли, – бывший комиссар с серьезным видом кивнул. – А пан Леон был в УОБ? – А вы разве не знаете? – спросила она подозрительно. – Знаю, но должен проверить, – вывернулся Мачеевский. – Притворялся. Он все время притворялся. Вот теперь притворяется, что умер. Но весточка у вас есть? Дайте мне ее сейчас же! – крикнула пани Васертрегер, протягивая руку. – Я всe сказала: что притворялся, что кровь шла, когда стреляли, потому что он не открыл, «ты жидюга, свинья», я сидела здесь, он вам всe это рассказал, я знаю. Письмо! – ладонь женщины искривилась словно когти птицы на фуражках милиционеров. – Я еще не убедился, – спокойно ответил Зига. – Как вас зовут? – Простите, простите, пожалуйста! Чаю? – она снова взяла стакан. – Ах, простите, вы ведь уже выпили. Как ваша фамилия? Ах да, Мачеевский! Перла, то есть Текла, то есть Перлмуттер, то есть Васертрегер, то есть разве он вам не сказал? – она глянула на него подозрительно. – Всe сказал, у нас всe говорят, – Мачеевский стиснул зубы. Майор госбезопасности Грабаж был бы очень доволен, что его цитируют, – А весточка такая: «Дорогая Перла, я здоров и думаю о тебе. Скоро мы с тобой встретимся, а пока будь здорова. Любящий тебя Лейб». – А письмо? – на глаза женщины навернулись слезы. – Вы ведь прекрасно знаете, как это опасно. Пан Леон не хотел бы, чтобы вы подвергались риску. – Не хотел бы, не хотел бы! – поспешно закивала вдова, – Вы знаете, его ведь даже похоронили. Ну и смешно же было! Ну, подумайте, какие похороны, если он только притворялся? Он говорил, обещал, что с ним все будет в порядке! – До свидания. Мачеевский хотел выйти так, чтобы на этот раз обойти корзину с горохом, но опять наткнулся на нее, ибо вынужден был подскочить к двери. Когда за воротник грязной рубашки он втащил в комнату из коридора лишь немного более низкого, зато намного более ошарашенного мужчину, корзина опрокинулась, и горох рассыпался по крашеному деревянному полу. Пани Васертрегер не обратила на это внимания, Зига – тем более. – Фамилия! – прошипел он незнакомцу в ухо, чувствуя при этом запах никотина и недавно сожранного крупяного супа. – А вы, собственно, кто такой? – мужчина попытался вырваться, но бывший комиссар схватил его одной рукой под подбородок, а другой за горло. – Здесь вопросы задаем мы, – рявкнул он. – Дажицкий Станислав. Сосед, – прохрипел тот. – Это я сообщил властям, как только они перестали стрелять. Я свой! – Ну, так чего же вы боитесь? – Мачеевский вытолкал его за дверь и прижал к стене. – Бояться нечего, это не оккупация. Говорите, Дажицкий! – Мало ли, может, вы в госбезопасности еще подумаете, что раз я писал в жилищный отдел… – Вы писали в жилищный отдел? – накинулся на него Зига, не желая лишиться преимущества. Правда, в кармане у него был дамский вальтер, но, увы, никакого удостоверения. – Стало быть, вы у нас писатель, Дажицкий? – А чего эти жиды жируют в комнате, где две семьи могли бы поместиться, а мы ютимся как крысы?! А теперь она одна в этих хоромах, а мы… – А вы ютитесь как крысы, – закончил за него Мачеевский. – И будете ютиться, пока жилищный отдел не решит иначе. – Покажите удостоверение, – вполне резонно потребовал сосед пани Васертрегер. И получил за это по морде – сначала с форхенда, затем с бэкхенда. – Не перегибай, блядь, палку, Дажицкий. Мы в госбезопасности прекрасно знаем, что многие выблядки за хорошую квартиру готовы и жену в публичный дом отправить, и наврать, и убить. Не выебывайся, а говори! Прозвучало это достаточно решительно, чтобы огорошить субъекта, но Зига понимал, что сам перегибает палку. Ведь «полицай не курва, один ночью не ходит», – говаривали до войны в Косминеке. Гэбэшники продолжали эту традицию даже днем. Одинокий гэбэшник – такую картину можно было представить себе в клозете, но никак не в чужой квартире. С другой стороны… Вот то-то и оно, поскольку могла быть и другая сторона, Дажицкий Станислав признался, что когда стреляли в Васертрегера, он был дома, но боялся даже пернуть, не то что выглянуть. А в доказательство сотрудничества с органами обещал навести справки в доме. Может, ему кто-нибудь что-нибудь и выболтает по-соседски… «Вот если бы, вы, гражданин начальник, заглянули сюда снова через несколько дней…» – А если я тебя в управление заберу? – грозно рявкнул Мачеевский, хотя это был его последний козырь, причем крапленый. – Там всe и вспомнишь. Там тебе помогут вспомнить. Дажицкий что-то обмозговывал, отщипывая кусочки обоев возле косяка открытой двери в свою квартиру. Оттуда доносились отголоски ссоры двух женщин – возможно, из-за подгоревшего лука, вонь от которого как раз распространялась по галерее, ведущей с темной лестничной клетки в каморки жильцов. Зига заглянул внутрь. Женщины уже ссорились во весь голос, невидимые за стоявшей на кухне ширмой. В комнате, в кровати за занавеской из повешенного на веревку одеяла, кто-то храпел. – Но ведь при Васертрегере уже было следствие… – Ну и что с того? Надо – возобновим, – рискнул бывший комиссар. – Это решают люди поумнее тебя. – Попробую, раз уж начальство так решило. Завтра, самое позднее – послезавтра. – Самое позднее! – Зига повернулся и спустился по лестнице, а запах подгоревшего лука сначала лез к нему в нос, а затем начал лезть во все дыры. Перевод: Никита Кузнецов ПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КНИГИ Мы существуем уже более 10 лет – если быть точными, то 11. У нас есть 2 филиала: краковский и варшавский, 12 редакций (в т. ч. интернет-редакция) и в общей сложности 122 сотрудника. Благодаря нашим дотациям было издано более 1 700 переводов польской литературы на 45 языков. Мы организовали 3 Всемирных конгресса переводчиков польской литературы: в первом приняло участие 174 переводчика из 50 стран, во втором 215 переводчиков из 56 стран, в третьем 237 переводчиков из 47 стран. На наши семинары, посвященные польской литературе, приехало 105 зарубежных издателей. Мы организовали 5 сезонов фестиваля «4 Поры книги», который проходит в Польше 4 раза в году. Мы издали 57 каталогов «Новые книги из Польши» на 7 языках. В каталогах представлено более 740 польских книг. Мы ведем 13 интернет-порталов. На нашем основном сайте – портале instytutksiazki.pl – вы найдете 177 биографий современных польских писателей, а также 1 105 рецензий на польские книги и бесчисленное множество коротких издательских аннотаций. В 2013 году наш сайт посетило более 200 000 пользователей сети. Мы организовали Год Чеслава Милоша, Год Бруно Шульца и Год Януша Корчака, а также 3 Международных фестиваля Милоша. В организованной нами стипендиальной программе «Коллегия переводчиков» приняли участие 75 стипендиатов из 33 стран. Премию «Трансатлантик» мы присудили уже 10 раз, премию “Found in Translation” – 7 раз. Под нашим патронатом в настоящее время действует 1 248 Дискуссионных клубов книги, объединяющих 12 114 читателей из всей Польши. В течение последних 7 лет они организовали и приняли участие в более 4 000 авторских встреч. Мы также управляем программой Biblioteka+, в рамках которой повысили квалификацию 2 200 библиотекарей, отремонтировали или оборудовали 465 библиотек во всех воеводствах Польши. Мы разработали интегрированную библиотечную систему MAK+, которой пользуется более 1 500 библиотек. Благодаря дотациям в рамках инициированной нами программы «Крашевский. Компьютеры для библиотек» было установлено 988 компьютеров в 214 библиотеках. В рамках правительственной программы Biblioteka+. Инфраструктура библиотек на строительство и расширение публичных библиотек до конца 2015 года мы предназначим 150 миллионов злотых. ИЗБРАННЫЕ ПРОГРАММЫ ИНСТИТУТА КНИГИ КОЛЛЕГИЯ ПЕРЕВОДЧИКОВ ПЕРЕВОДЧЕСКАЯ ПРОГРАММА © POLAND Проект, направленный на поддержку переводчиков польской художественной литературы и эссеистики, а также документальной литературы и текстов из области гуманитарных (в широком понимании) наук. Стажировки организуются в периоды: 1 марта – 31 мая (весенняя) и 15 сентября – 15 декабря (осенняя). Каждый раз Институт предоставляет две стажировки по три месяца и две по месяцу. Программа адресована только переводчикам, постоянно живущим за пределами Польши и опубликовавшим хотя бы один перевод (отдельным изданием или в периодике). Стажеру обеспечиваются: жилье, компенсация стоимости билетов, гонорар, помощь в организации встреч с издателями и писателями, связанными с текущей работой переводчика. По просьбе организаторов переводчик обязуется провести цикл мастер-классов или прочитать лекцию для студентов Ягеллонского университета. Действует с 1999 года, по образцу аналогичных зарубежных программ. переводческая программа © poland направлена на увеличение количества переводов польской литературы за границей. Благодаря этому проекту появились переводы польских книг на сорок два языка. Программа охватывает художественную литературу и эссеистику, тексты из области гуманитарных – в широком понимании – наук (прежде всего книги, посвященные истории, культуре и литературе Польши), литературу для детей и юношества, документальную литературу. С момента создания программой руководит коллектив Института Книги в Кракове. ПРЕМИЯ «ТРАНСАТЛАНТИК» SAMPLE TRANSLATION © POLAND «Трансатлантик» – премия Института Книги для выдающихся послов польской литературы за рубежом. Ее цель – пропаганда польской литературы на мировом рынке и интеграция переводчиков польской литературы и ее пропагандистов (литературных критиков, литературоведов, деятелей культуры). Престижность премии и связанные с ней мероприятия призваны привлечь переводчиков к польской литературе, издателей – к ее публикации, а кроме того – заинтересовать зарубежного читателя в целом. Название премии отсылает к названию романа Витольда Гомбровича, чьи произведения получили мировую известность. Премия присуждается ежегодно, составляет 10.000 евро, вручаются также памятный диплом и статуэтка. Финансирует пробные переводы польских книг. Она адресована переводчикам польской литературы. В рамках программы Институт Книги оплачивает до двадцати страниц пробного перевода, который переводчик затем представляет зарубежному издателю. Заявление на дотацию подает сам переводчик, аргументируя свой выбор, прилагая план действий, библиографию своих работ и данные о стоимости перевода. Полная информация о переводческой программе © poland и sample translation © poland, список ранее предоставленных дотаций, а также бланк заявления – на интернет-страницах Института Книги – www.bookinstitute.pl Программа может покрывать: •до 100 % стоимости перевода произведения с польского языка на иностранный; •до 100 % стоимости приобретения авторских прав. АДРЕСА ИЗДАТЕЛЕЙ AGENCJA LITERACKA EKSTENSA KARAKTER ŚWIAT KSIĄŻKI T:+48 531 183 765 hanna.palac@ekstensa.com www.ekstensa.pl ul. Kochanowskiego 19/1 31-127 Kraków debowska@karakter.pl www.karakter.pl ul. Hankiewicza 2 02-103 Warszawa T/F: +48 22 460 06 11 stryjczyk@swiatksiazki.pl www.swiatksiazki.pl AGORA S.A. KORPORACJA HA!ART WYDAWNICTWO LITERACKIE ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa T:+48 22 555 60 00, +48 22 555 60 01 F: +48 22 555 48 50, +48 22 555 47 80 malgorzata.skowronska@agora.pl www.wydawnictwoagora.pl Pl. Szczepański 3a 31-011 Kraków T/F: +48 12 422 81 98 korporacja@ha.art.pl www.ha.art.pl ul. Długa 1 31-147 Kraków T:+48 12 619 27 40 F: +48 12 422 54 23 j.dabrowska@wydawnictwoliterackie.pl www.wydawnictwoliterackie.pl CZARNE MUZA S.A. ZNAK Wołowiec 11 38-307 Sękowa T:+48 18 351 00 70, +48 502 318 711 F: + 48 18 351 58 93 redakcja@czarne.com.pl www.czarne.com.pl ul. Marszałkowska 8 00-590 Warszawa T:+48 22 621 17 75 muza@muza.com.pl www.muza.com.pl ul. Kościuszki 37 30-105 Kraków T:+48 12 619 95 01 F: +48 12 619 95 02 nowicka@znak.com.pl www.znak.com.pl FUNDACJA TERYTORIA KSIĄŻKI POLISHRIGHTS.COM ul. Pniewskiego 4/1 80-246 Gdańsk T/F: +48 58 341 44 13, +48 58 520 80 63 fundacja@terytoria.com.pl www.terytoria.com.pl GRUPA WYDAWNICZA FOKSAL/W.A.B. ul. Foksal 17 00-372 Warszawa T:+48 22 826 08 82, +48 22 828 98 08 F: +48 22 380 18 01 blanka.woskowiak@gwfoksal.pl www.gwfoksal.pl ul. Kochanowskiego 19/1 31-127 Kraków debowska@polishrights.com www.polishrights.com SINE QUA NON ul. Tyniecka 35 30-323 Kraków T:+48 12 261-17-49 biuro@wsqn.pl www.wsqn.pl ПОЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КНИГИ Ul. Szczepańska 1 PL 31-011 Kraków Tel: +48 12 433 70 40 Fax: +48 12 429 38 29 office@bookinstitute.pl Филиал в Варшаве Pałac Kultury i Nauki Pl. Defilad 1, IX piętro, pok. 911 PL 00-901 Warszawa Tel: +48 22 656 63 86, Fax: +48 22 656 63 89 warszawa@instytutksiazki.pl Warszawa 134, P.O. Box 39 www.bookinstitute.pl