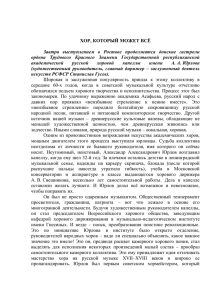Э.В. Шаронина (Саратов, СГК) Поэзия «серебряного века» в
advertisement
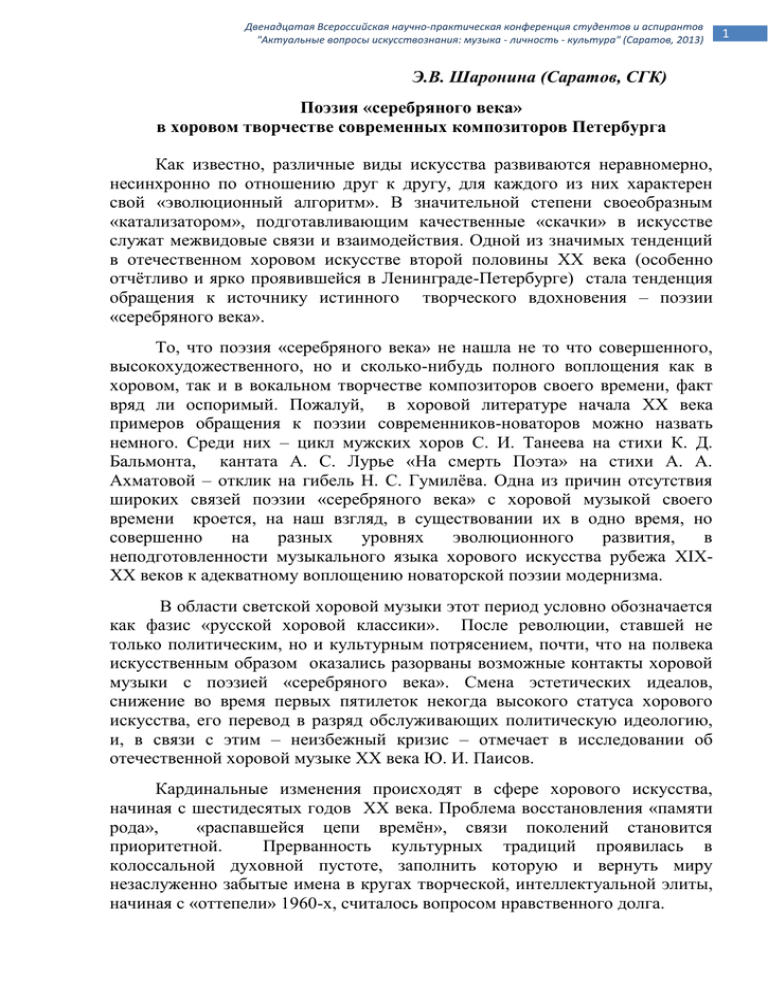
Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) Э.В. Шаронина (Саратов, СГК) Поэзия «серебряного века» в хоровом творчестве современных композиторов Петербурга Как известно, различные виды искусства развиваются неравномерно, несинхронно по отношению друг к другу, для каждого из них характерен свой «эволюционный алгоритм». В значительной степени своеобразным «катализатором», подготавливающим качественные «скачки» в искусстве служат межвидовые связи и взаимодействия. Одной из значимых тенденций в отечественном хоровом искусстве второй половины XX века (особенно отчётливо и ярко проявившейся в Ленинграде-Петербурге) стала тенденция обращения к источнику истинного творческого вдохновения – поэзии «серебряного века». То, что поэзия «серебряного века» не нашла не то что совершенного, высокохудожественного, но и сколько-нибудь полного воплощения как в хоровом, так и в вокальном творчестве композиторов своего времени, факт вряд ли оспоримый. Пожалуй, в хоровой литературе начала XX века примеров обращения к поэзии современников-новаторов можно назвать немного. Среди них – цикл мужских хоров С. И. Танеева на стихи К. Д. Бальмонта, кантата А. С. Лурье «На смерть Поэта» на стихи А. А. Ахматовой – отклик на гибель Н. С. Гумилёва. Одна из причин отсутствия широких связей поэзии «серебряного века» с хоровой музыкой своего времени кроется, на наш взгляд, в существовании их в одно время, но совершенно на разных уровнях эволюционного развития, в неподготовленности музыкального языка хорового искусства рубежа XIXXX веков к адекватному воплощению новаторской поэзии модернизма. В области светской хоровой музыки этот период условно обозначается как фазис «русской хоровой классики». После революции, ставшей не только политическим, но и культурным потрясением, почти, что на полвека искусственным образом оказались разорваны возможные контакты хоровой музыки с поэзией «серебряного века». Смена эстетических идеалов, снижение во время первых пятилеток некогда высокого статуса хорового искусства, его перевод в разряд обслуживающих политическую идеологию, и, в связи с этим – неизбежный кризис – отмечает в исследовании об отечественной хоровой музыке XX века Ю. И. Паисов. Кардинальные изменения происходят в сфере хорового искусства, начиная с шестидесятых годов XX века. Проблема восстановления «памяти рода», «распавшейся цепи времён», связи поколений становится приоритетной. Прерванность культурных традиций проявилась в колоссальной духовной пустоте, заполнить которую и вернуть миру незаслуженно забытые имена в кругах творческой, интеллектуальной элиты, начиная с «оттепели» 1960-х, считалось вопросом нравственного долга. 1 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) Одна из тенденций, берущая своё начало в это время (и даже ранее – с середины пятидесятых), имеющая место и ныне – обращение композиторов к творчеству поэтов «серебряного века». Родоначальниками этой тенденции в области хоровой музыки можно считать Г. В. Свиридова и В. Н. Салманова. Точкой отсчёта становится создание «Поэмы памяти Сергея Есенина» Свиридовым в 1956-ом и, годом позже, оратории-поэмы Салманова «Двенадцать» на стихи А. А. Блока. Осмысление русской истории, Октябрьской революции в пост-сталинское время получает несколько иное измерение. В фокусе пристального внимания – судьба России, трагедия дореволюционного поколения интеллигенции, творившего культуру «серебряного века». А. А. Блок, Н. С. Гумилёв, С. С. Есенин, В. В. Маяковский, О. Э. Мандельштам, М. И. Цветаева – этот ряд имён можно продолжить – при всей несхожести в творчестве художественных методов и эстетико-философских взглядов близки сопричастностью трагическим страницам русской истории и завершение своего земного пути преждевременной гибелью. «Поэма памяти Сергея Есенина» даёт начало хоровой «волне» выражения идеи мемориальности, утвердившейся в музыкальном искусстве во второй половине XX века. В этом контексте представляется знаковым сочинение Б. И. Тищенко «Реквием» на стихи А. А. Ахматовой. По мнению, высказанному композиторов в одном изинтервью, это – «поэма об ужасах жизни в нашей стране в то время» (4). С личного разрешения автора стихов Б. Тищенко приступил к созданию «Реквиема» по всем пострадавшим в сталинскую эпоху. С Анной Ахматовой в 1962 году Бориса Тищенко познакомил Иосиф Бродский. Встречу с Ахматовой сам композитор относил к особо значимым фактам своей биографии. В её присутствии Тищенко за роялем исполнил симфонию «Марина», посвящённую Марине Цветаевой. Прослушав, Анна Ахматова, указав на свои крупные чёрные бусы, произнесла: «Эти чётки подарила мне Марина». Это зафиксированное в памяти композитора событие являет собой пример живой связи поколений и позволяет ясно представить атмосферу Ленинграда 1960-х. В атмосфере Ленинграда 1960-х происходило и творческое становление композитора Юрия Фалика, не только пополнившего «сокровищницу» отечественного хорового искусства блестящими образцами музыкальных сочинений, но и оказавшего влияние на качественное развитие хорового исполнительства. Первый образец претворения в хоровом творчестве Ю. А. Фалика поэтического источника «серебряного века» имеется в цикле «Осенние песни» – «Поспевает брусника» на стихи К. Д. Бальмонта, в оригинале у поэта имеющего название «Осень». Цикл посвящён памяти погибшего во время Второй мировой войны отца композитора. Поэтический образ из стихотворения Бальмонта улетающих за синее море птиц, тревожащих душу своим криком, композитором переосмыслен. В контексте цикла он ассоциативно коннотирует и с известным образом журавлей, ставших символом не пришедших с полей сражений солдат и с 2 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) образом душ погибших, увиденных в кружащих над лесом ласточках поэтом Анатолием Жигулиным, стихотворением которого завершаются «Осенние песни» Фалика. Общая тональность хорового цикла – погружение в состояние философского размышления, проникновенной осенней меланхолии, которую периодически разрушают яркие драматические всплески. Стихотворение Бальмонта в «Осенних песнях» Фалика окружено поэтическими именами Д. Кедрина, И. Никитина, А. Жигулина. Объединяющим началом выступает встроенность рефлексии в единую эмоциональную ауру. Непосредственное погружение в творчестве Ю. А. Фалика в атмосферу эстетики «серебряного века» связано с хоровой миниатюрой «Незнакомка» (1974 г.) по одноимённому стихотворению А. А. Блока. Фалик использует в «Незнакомке» в качестве литературной основы не весь текст стихотворения, вынося за скобки всё, что связано с характеристикой захолустного дачного посёлка «Озёрки» в окрестностях Петербурга. Как пишет одна из авторитетных исследователей поэзии Блока, Аврил Пайман, написав «Незнакомку» поэт «поставил знак вопроса над культом Прекрасной Дамы: на месте сна о Софии оказалось нечто иное – «Незнакомка», плод фантазии, демон в образе женщины, «мёртвая кукла с лицом, смутно напоминающим то, которое сквозило среди небесных роз». (А. Пайман, 6, с. 271) В своем музыкальном решении Ю. Фалик, даже отказавшись от топосных контекстов, сохраняет то, что называется «genii loci» – дух места. Соединив низовое и возвышенное (это отмечено ещё Б. Кацем, см. 7, с. 19) – танго с его атрибутивными свойствами ритма, гармонии, рядом интонационных оборотов – с чужеродной средой хорового звучания a capella, композитор воплотил двойственность образа Незнакомки, его антиномичность. Семантика хорала – молитва, танго – есть олицетворение пошлости, отец которой – сам дьявол. В европейской традиции идея торжества зла через торжество пошлости коренится в свято-отеческом наследии (в частности, встречается у Паисия Святогорца). (Одновременно напрашивается параллель с характеристикой Мефистофеля, данной через эстрадное танго в опере А. Г. Шнитке.) Таким образом, музыкальное решение поразительно точно совмещается с двойственно-полярным образом Незнакомки Блока, одной из сторон которой является Вечная Женственность, отождествляемая с Софией, божественной премудростью, другая являет же собой нечто демоническое, искушающее. Представляется, что в таком понимании «Незнакомка» Фалика, обладая рядом соответствующих признаков, вписывается в контекст художественно-эстетической парадигмы «петербургского текста», продолжая мифологическую линию фантастического города как мистической реальности. В таком ракурсе мысль Бориса Каца о том, что композитор воплотил не столько образ Незнакомки, сколько блоковское видение мира, может быть конкретизирована следующим образом: Юрий Фалик с потрясающей деликатностью и мастерством передал особое – 3 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) «петербургское» – мировидение Блока, заключающееся в трагическом ощущении человека, зажатого меж двумя полюсами бытия, человека, остро чувствующего дух времени и, вместе с тем, «заглядывающего в лицо вечности» (И. Евлампиев). Можно, конечно, и иначе «прочитать» произведение Юрия Фалика, услышав в танго лишь призвук ностальгии по ушедшей эпохе «серебряного века», а в Незнакомке увидеть призрак мечты, тоску по идеалу. Но есть ещё один факт, позволяющий включить «Незнакомку» Фалика в «петербургский текст». Позже эта хоровая миниатюра станет составной частью мини-цикла (точнее, диптиха), наряду с сочинением «Город спит» (1981), также по стихотворению Блока. В музыке зыбкая неопределённость состояния этого сна, многозначительная недосказанность, то ли многоточие, то ли «повисший в воздухе» знак вопроса проявляется через приглушённую динамику, «длинноты» выдержанных звуков, не ясно выраженную семантику мелодической фигуры, характеризующей стихотворную строку «город спит, окутан мглой». Так, А. А. Блок в хоровом творчестве Ю. А. Фалика оказался представлен именно как один из творцов «петербургского мифа» в «серебряном веке», в отличие от хоровых опусов других композиторов, например Г. В. Свиридова, где имя поэта неразрывно слито с темой России. В высшей степени знаменательно само название другого произведения Ю.Фалика – «Троицын день». Как отмечал М. В. Забылин, многовековая русская традиция в Троицын день поминать усопших, украшать их могилы ветками деревьев и цветами, была особенно укоренена в Петербурге (9). Сложно судить, насколько хорошо это было известно композитору. Тем не менее, можно вполне уверенно утверждать, что в хоровом концерте Ю. Фалика претворена идея «венка» Марине Цветаевой, музыкального приношения памяти великой поэтессы. Идея троичности, почерпнутая из названия, послужила для композитора возможностью выявить через стихи Цветаевой три грани личности поэтессы, представив её в трёх «ипостасях» (от греческого – «сущность»), в коих ей дано было проявить себя в этом мире – как Человека, как Поэта и как Женщины с трагической судьбой. Концептуально определяющим, объединяющим центром произведения явилась сама личность Марины Цветаевой – автора поэтического источника. На состоявшейся в Тамбове в ноябре 2006-го года творческой встрече с Юрием Фаликом автор этих строк задала композитору вопрос о том, можно ли сказать, что хоровой концерт «Троицын день» – о Марине Цветаевой? – на что композитор ответил утвердительно. В качестве литературной основы концерта – её стихи 1916-1918-х годов, в которых столь остро выражен национальный характер, столь ярко проявлено глубокое чувство Родины, России, что Ю. Фалик подчёркивает соответствующими средствами: в музыкальном языке и элементы псалмодии, хорального quasi церковного пения, интонации плача, причета, имитация народных струнно-щипковых инструментов. Всё это, помноженное на «петербургскую» скрупулёзную отточенность деталей формы, её ясность порождает виртуозный концертный – фаликовский – стиль. 4 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) Возможно, что в ряде случаев, обращение к тем или иным авторам – Марине Цветаевой, Борису Пастернаку, Осипу Мандельштаму, Анне Ахматовой – связано с идеей символического покаяния, искупления долга перед поколением интеллигенции «серебряного века», с идеей историософского осмысления пути, пройденного Россией и её народом в XX веке. Закат советской эпохи, наряду с предчувствием нового, небывалого, поиск истинных духовных опор – есть те факторы, что заставляют наших современников обращаться к опыту предшественников. Воплощается это в хоровой музыке, чаще всего, в концертах на моно-поэтической, моностилевой основе. Благодаря выстроенной особым образом драматургии, за счёт подбора стихов в фокусе внимания оказывается личность поэта, само время, остро поднимающее экзистенциальные вопросы. Среди таких сочинений – хоровые концерты Ю. Фалика «Троицын день» (1987) на стихи М. Цветаевой и «О природа!» (1988) на стихи Б. Пастернака, «Я рождён в 94ом, я рождён в 92-ом…» (1990) Д. Смирнова на стихи О. Мандельштама, «Петербургская Литания» С. Баневича на стихи А. Ахматовой. Подобного рода сочинения становятся своеобразным памятником, музыкальным мемориалом. Помимо Юрия Фалика среди создателей хоровой петербургской «блокианы» – автор кантаты «Голос из хора», выдающийся музыкальный деятель Сергей Слонимский, а также – представитель среднего поколения композиторов Петербурга – Дмитрий Смирнов. Несомненной вершиной раннего периода творчества композитора можно считать хоровой концерт «Приявший мир»(1984). По словам Дмитрия Смирнова, он «хотел вглядеться в раннего Блока» (8, с. 236), этим объясняется тот факт, что все стихи, звучащие в этом музыкальном сочинении, относятся к первому десятилетию XX века (точнее, к 1899-1910-м годам). Необычность этого произведения проявляется как в составе исполнителей – для чтеца и смешанного хора, так и в самой структуре: 19 номеров даны в чередовании хоровых частей и стихов. Факт введения в партитуру партии чтеца, само выстраивание драматургии по принципу смены музыкальных номеров поэтическими, с одной стороны, говорит о включении в процесс театрализации хорового искусства, столь ярко проявившийся в последние десятилетия двадцатого века, с другой – выявляет прямую связь с «музыкально-поэтическими построениями» А. А. Блока, с самой идеей синтеза искусств властвовавшей умами творцов «серебряного века». Стихи в хоровом концерте тематически выстроены композитором в следующем порядке: от ожидания появления Прекрасной Дамы, от образа поэта-кудесника, к поэту – пророчествующему об утрате солнца, поэту – смерть призывающему, слышащему «трубы смерти близкой». В стихах заключительного хора лирический герой Блока говорит о себе как об ушедшем из земного мира. Д. Смирнов в данном хоровом концерте «классичен» как ни в одном другом сочинении. Ощутимо влияние одного из основных создателей музыкальной «блокианы» – Г. Свиридова. От него – 5 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) применение двухорности с целью создания реверсивного эффекта, эффекта наслоения звуков: нечто похожее возникает в условиях храмовой акустики. У Смирнова – это как мягкий, ненавязчивый национальный штрих. Эмоциональные модусы концерта: от мечтательной элегичности, созерцательности хрупкой, эфемерной красоты – к накалу трагизма в финале. Надо отметить, что особый «культ мастерства» – это то, что, бесспорно, роднит композиторов Петербурга (Ленинграда) с творцами «серебряного века». Хоровые сочинения Ю. Фалика, Д. Смирнова отличаются чрезвычайной затейливостью, требующей поистине, виртуозного владения исполнительскими навыками, техникой. «Хор – это вокальный оркестр!» – говорит Дмитрий Смирнов (8, 228). Совершенно иначе, нежели Ю.Фаликом, услышана и озвучена Дмитрием Смирновым поэзия Марины Цветаевой. Его хоровой концерт «Бессонница» (1986) включает в себя три стихотворения из аналогично названного цикла – «Бессонница», «Вот опять окно…», «В огромном городе моём – ночь…» 1916-го года, «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…» 1916) и «Чтобы помнил не часочек, не годок»(1918). В данном сочинении одновременно сосуществуют несколько главенствующих мотивов: мотивы одиночества, странничества, мотив «памяти» и мотив «города», причём, вопреки писавшей в данных стихах о Москве Цветаевой, – Петербурга. Композитор как бы «присваивает» стихотворение «В огромном городе моём – ночь…», в котором город не назван по имени. У Смирнова это и не Москва, да, пожалуй, и не Ленинград. «Баркарольный» размер – 6\8 , но «мрак» минорной краски, пустые квинты, волнообразные динамические и интонационные «наплывы», выразительное glissando напоминают о холодных водах, открытых ветру пространствах «северной столицы». Атмосферу таинственности, призрачности создаёт вкрапление в фактуру слоёв, основывающихся на применении приёмов регламентированной алеаторики, элементов пуантилистического письма. Мотивы бесприютности скитаний по ночному городу, трудно отделимых друг от друга сна и яви («…и тень вот эта, а меня – нет», «друзья, поймите, что я вам снюсь»), присутствующие в стихах, помноженные на упомянутые музыкальные приёмы позволяет, как кажется, включить сочинение Д. В. Смирнова в число продолжающих традиции «петербургского текста». Близким по духу оказывается хоровой концерт «Кипарисовый ларец» на стихи И. Ф. Анненского, созданный Дмитрием Смирновым в1990-м году. Обращение к творчеству этого поэта в хоровой литературе – не частый случай. Примечательным кажется тот факт, что время создания хорового концерта «Кипарисовый ларец» 1датируется 1990 годом. Закат эпохи, рубеж времен – по всей видимости, отсюда проистекает интерес композитора 1 Идея создания принадлежит Б. Абальяну – руководителю Петербургского камерного хора «Lege artis», этим исполнителям и посвящено сочинение. 6 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) рубежа XXI века к творчеству поэта, жившего 100 лет назад в одном с ним городе. Таким образом, их объединяют Время – через переживание рубежности периодов и Пространство – Пространство города Петербурга. Название «Кипарисовый ларец», связанное с одноименной книгой2 И. Ф. Анненского, имеет несколько семантических полюсов. Известно, что в ларце из кипариса поэт хранил свои стихи; правомочность считать их «слепком» с внутреннего мира поэта вряд ли оспорима. Возникающая корреляция (отмеченная у ряда исследователей его творчества) с античным мифом о юноше Кипарисе, душа которого была заключена в дерево, представляется возможной. Именуя хоровой концерт таким образом, Д. В. Смирнов делает акцент на лирической сущности поэтического дара И. Ф. Анненского и трагедийности положения человека в этом мире, которое в своем философском высказывании поэт определил так: «Нас окружают, и, вероятно, составляют два мира: мир вещей и мир идей. Эти миры бесконечно далеки один от другого, и в творении один только человек является их высоко юмористическим – в философском смысле – и логически непримиримым соединением» (11, 217). Вспоминая о христианской традиции, в которой кипарис – древо скорби и аккумулируя смыслы, напрашивается вывод о доминанте лирики И. Анненского, связанной с терзаниями, тоской измученной души, муками неуспокоенной совести, идеей жертвенности, ибо вечная тема человеческого бытия – страдание. Подзаголовок концерта – «Пять трилистников» – соответствует пяти частям и соотносится с аналогичными стихами поэта «Трилистники» (за исключением второго номера – «Струя резеды…» – у И. Анненского из «Складней»). Композитор отказывается от принципа объединения по три стихотворения в одном «трилистнике» нивелируя тем самым возможность числовой гармонии. Тем не менее, трилистник, как смыслопорождающий символ, невероятно многозначен и объединяет в себе бинарную оппозицию: трилистник как символ возрождения новой жизни, весны, надежды и – как знак креста – символ страдания, смерти, скорби, и в тоже время – любви. Первая часть концерта – «Traumerei» – мечтанье, «Трилистник лунный» рождается из духа романтического томления, связанного с апелляцией к эфемерному образу возлюбленной. Сюжет разворачивается в виртуальном пространстве, в воображении лирического героя, где все три дефиниции времени – прошлое, настоящее, будущее сливается воедино. Композитор абсолютизирует тему призрачности, ирреальности через звуковое «марево» сонористических эффектов регламентированной алеаторики, «зависание» голосов на недопетых слогах, «грозди» секундовых созвучий, игру тембров как игру светотени, при передаче звуков мелодии от 2 М. Волошин отмечал аналогию названия с «Сандаловым ларцом» Шарля Кро, французского поэта, одного из любимейших поэтов И. Анненского. 7 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) голоса к голосу по «диагонали». Сама начальная мелодия, её графическое изображение, даёт представление о риторической фигуре Креста. Расщеплённая тоника в заключении – как знак раздвоенности. Тема превращения томления-мечты в тоску-кошмар последовательно разворачивается (по принципу «от света к мраку») на протяжении всего хорового концерта. Выстраивая драматургию таким образом, композитор акцентирует внимание на трагическом мироощущении поэта, пограничном состоянии души, раздвоенности, как специфической черте петербургской ментальности, многократно запечатлённой и в литературе, и в музыке, заключающейся, по слову критика Д. Благого, у Анненского « в желании уничтожиться и в боязни умереть». Вторая часть – сфера чувственной, человеческой любви – носит весьма символическое название – «Струя резеды в душном вагоне…». Любовь понимается как спасение, глоток свежего воздуха. Композитор опирается на традиционные музыкальные архетипы, раскрывая тему земной, счастливой любви через «несущий» мелодию тембр партии теноров, как символ лирического героя, мелодику, близкую песенно-романсовым интонациям, но помещённую в контекст индивидуально-стилистического решения (имеют место отмеченные ранее «повисания» слогов, наслоения звуков) и лишённую тем самым признаков обыденности. Упоённость красотой, иллюзию безмятежности излучает лёгкое вальсообразное кружение. Композитор фиксирует внимание на высвеченном в стихах состоянии предельной интенсивности времени: «О, молчи! Не зови! Как минуты – часы…» и последующим за ним метаморфозом хронотопа: оставляет стихотворную фразу недосказанной, как бы прикрывая завесой тайны; в момент перехода ускоряется пульс, исчезает, как бы «ломается» синкопами вальсообразное кружение (эпизод «Ты очнёшься…»), гипнотически-завораживающе, семикратно повторяется слово «семь» («стрелка будет показывать семь»). Третья часть – «Призраки» («Трилистник весенний») окрашена поэтикой орфического мифа. Мотив catabasis разрабатывается, в первую очередь, через нисходящие интонации. Повисание на фермате олицетворяет таинственность момента и связано с недосказанностью поэтического текста; холодом веет от пустых квинтовых созвучий («за ней сойду»), квинтовые арки в контексте содержания вербального текста воспринимаются как вход в инобытие, где герой испытывает себя, свою совесть («О бледный призрак, скажи скорее мои вины…»). IV часть – «Старая усадьба» (Трилистник из старой тетради). У Анненского в стихотворении речь идёт о поместье «Подвойское», о котором поэт говорил, что уже в самом названии слышится что-то жуткое. Встреча с прошлым оказывается созерцанием ликов Смерти, явленных в разных символах: тине пруда, волчьей ягоде, руинах дома, «жилищепепелище». Герой стихов Анненского, выражаясь словами самого поэта – «слабый сын больного поколения» - типичный представитель той части интеллигенции дореволюционной России, почти утратившей связь с «почвой», корнями, а потому уже мало способной испытывать чувство любви 8 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) к «родному пепелищу» и, возможно, поэтому, в русской катастрофе XX века оказавшейся в положении «унесённых ветром» революции. Непосредственно о работе с поэтическим текстом Д.В. Смирнов неоднократно высказывался в интервью: «Мелодия сразу слышится в стихе, когда читаешь...» (8, 228). Подчеркивая роль «предзаданности» мелодии, композитор чутко вслушивается в поэтическую интонацию, пытаясь уловить «нерв» стихотворения. В данном случае, короткие фразы, «оборванные» многочисленными знаками препинания, определяют логику музыкальной композиции: музыкальная мысль строится двутактами, мелодия инструментального типа прерывается паузированием, каждый двутакт завершается «щемящими» секундовыми созвучиями, повергая слушателя в состояние рефлексии, заставляя услышать до конца не высказанную в стихах боль. Элементы пуантилистического письма создают эффект «сбившегося дыхания», нагнетая тем самым состояние тревожной взволнованности, этому же способствует мрачный колорит мужских голосов и тембр партии альтов. Композитор усугубляет это настроение ремаркой tenebroso – от tenebre «темнота, потёмки, мрак». Единожды появляется иллюзия выхода из сферы inferno связанная с появлением в тексте символов сакральной вертикали (эпизод «Столько вышек, столько лестниц»). Но, ни смены хронотопа, ни метаморфоза образа так и не происходит: двутакт замыкается теми, же секундовыми созвучиями, упираясь в безысходное «двери нет». Заключительная часть хорового концерта – «Тоска маятника» (Трилистник из старой тетради) через сопряжение тем текста вербального и элементов текста музыкального с другими частями концерта объединяет в себе множество смыслов, драматургически скрепляя части целого в единую композицию. Композитор, замыкая концерт «Тоской маятника», строит семантическую арку с первой частью, в результате чего томление-мечта оказывается тоской-бессонницей и рождает некое подобие замкнутого круга. Мечта-томление по идеалу подспудно может быть жаждой обретения цельности, тягой к Абсолюту, в итоге разбивающаяся о бесплодность духовных усилий, превращающаяся в тоску недостижимого. Маятник, часы, с «намалёванным на белом циферблате пышным розаном» ставит вопрос о скоротечности человеческого бытия, стрелки часов преобразуемые в вертикальную и горизонтальную оси дают Крест, символ же Креста и Розы читаем как знак духовной и материальной реальностей, знак любви и страдания, в этом смысле – это концепт основных, главенствующих мотивов в лирической системе И. Анненского. Д.В. Смирнов воплотил это в остродраматической форме, музыкальными средствами передав происходящее внутри человека, так сильно контрастирующее внешним реальным событиям (в «Тоске маятника» – речь о бессоннице в ветреную, дождливую ночь на постоялом дворе). Композитор, максимально обострив мотив жуткого, по сути, превратил бессонницу в ночное наваждение, кошмар, закрепляя тем самым наметившуюся в третьей и четвёртой частях связь с inferno жизни. 9 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) Впечатляет своей неопределённостью и как бы незавершённостью заключительный восьмитактовый эпизод, в котором приём интонирования звуков на приблизительно определённой высоте с многократным повтором слова «нет» создаёт эффект «магического заклинания» «духов наваждения». Подытоживая, стоит перечислить еще ряд хоровых сочинений, формально, по хронологическому принципу, не связанных непосредственно с поэзией «серебряного века», но имеющих отношение к нему: «О природа!» (1988) на стихи Б. Пастернака, «Я рождён в 94-ом, я рождён в 92-ом…» (1990) Д. Смирнова на стихи О. Мандельштама, «Петербургская Литания» С. Баневича на стихи А. Ахматовой. Тенденция же обращения петербургских композиторов к наследию мастеров слова «серебряного века» имеет место и ныне. Подтверждение тому – концерт Ю. Фалика «Элегии» (2001), на стихи А. Ахматовой и Н. Гумилёва, сочинения С. Екимова на их тексты, тексты М. Цветаевой, «Набоковские песни» (2012) Д. Смирнова. В заключение приведем высказывание нашего современника, петербургского философа М. С. Уварова: «…Я полагаю, что существует органическая связь между классической русской философией, поэзией Серебряного века - своеобразной «поэзией пророчества» - и собственно поэтикой Петербурга. Пространство великого города по-особому организует «связь времен» русской культуры и позволяет существовать в нем уникальному и до конца еще не осмысленному синтезу»(12, с. 79). Литература 1. Березовая Л. Г. Серебряный век в России: от мифологии к научности. (К вопросу о содержании понятия). //Новый исторический вестник, журнал РГГУ, http://www.nivestnik.ru/2001_3/1.shtml 2. Гаспаров М. Л. Поэтика Серебряного века. // Русская поэзия «серебряного века» 1890-1917: Антология. М.: Наука,1998, с.5-44. 3. Демченко А. И. Серебряный век русской художественной культуры. /Саратов, СГК, 2011 4. «Частный корреспондент», 15 августа 2010. 5. Апинян Т. А. «Бывшие» и «новые» россияне: складка истории. // Культурный феномен Петербурга: история, метафизика, ментальность. http://www.lihachev.ru/chten/5595/5940/5948 6. Пайман А. История русского символизма. / М., «Республика» 2002. 7. Кац Б. А. «Стань музыкою, слово!» – Л.: Советский композитор, 1983. 8. Гладкова О. И. XXI век. Начало. Музыка: Силуэты Петербургских композиторов. – СПб, 2007. 9. Забылин М. В. Русский народ, его обычаи, обряды, предания и суеверия. – М.: Эксмо, 2002. 10 Двенадцатая Всероссийская научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Актуальные вопросы искусствознания: музыка - личность - культура" (Саратов, 2013) 10. Раабен Л. Н. . О духовном ренессансе в русской музыке 1960 – 1980-х годов. – СПб: «Бланка», «Бояныч», 1998. 11. Анненский И. Ф. «Книги отражений». – М., «Наука», 1979. 12. Уваров М. С. Петербургское время русской ментальности // Уваров М. С. Поэтика Петербурга. / СПбГУ, 2011. 11