Части 1–2 - Саратовский государственный университет
реклама
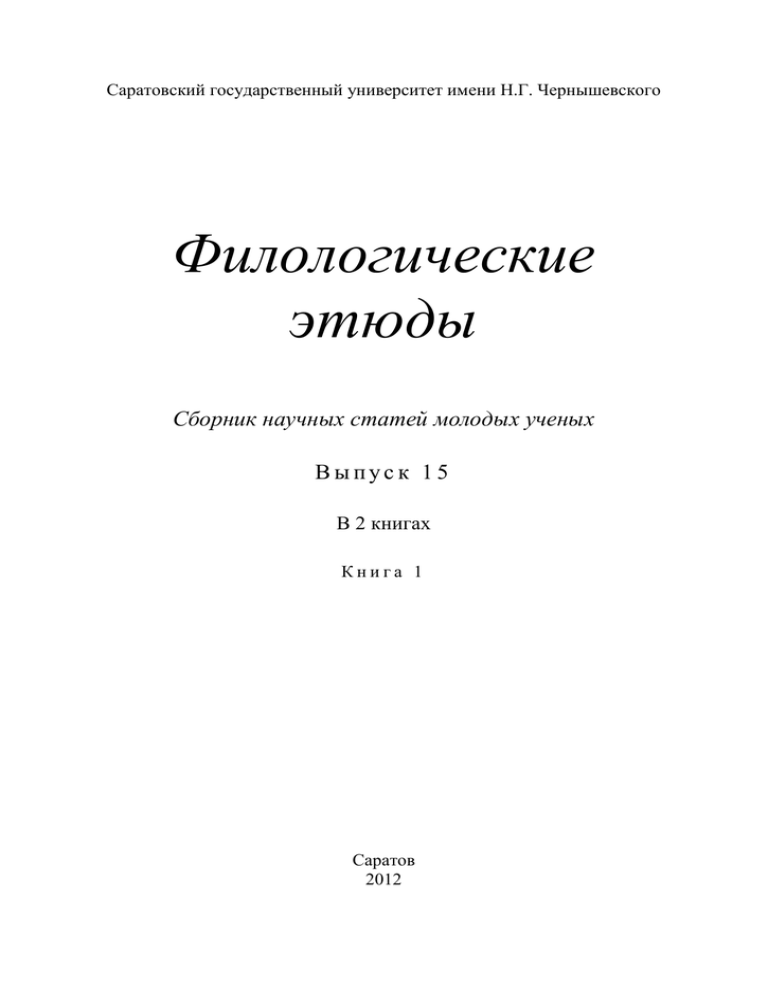
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского Филологические этюды Сборник научных статей молодых ученых Выпуск 15 В 2 книгах Книга 1 Саратов 2012 УДК 8(082) ББК (81+83)я43 Ф54 Ф54 Филологические этюды: сб. науч. ст. молодых ученых. – Саратов, 2012. Вып. 15: в 2 кн. Кн. 1. – 332 с. Сборник статей молодых ученых составлен по материалам Всероссийской научной конференции «Филология и журналистика в начале XXI века», состоявшейся в апреле 2011 года. Сборник состоит из трех частей: литературоведческой, журналистской и лингвистической. Для специалистов-филологов, преподавателей и студентов-гуманитариев. Редакционная коллегия: Г.М. Алтынбаева (отв. редактор), Д.В. Калуженина, А.В. Раева Рецензенты: Доктор филологических наук, профессор Л.В. Балашова Кафедра зарубежной литературы и журналистики УДК 8(082) ББК (81+83)я43 Работа издана в авторской редакции ISSN 1997-3098 © Саратовский государственный университет, 2012 А.В. Зюзин старший преподаватель СГУ Планы спецкурсов «Герцен и литературно-общественное движение 30-40-х годов» и «Натуральная школа» Татьяны Ивановны Усакиной Писать о хорошем человеке всегда трудно, вдвойне труднее, если ты с ним не был знаком лично. Однако время уходит, и тех, кто его знал и работал с ним вместе, становится меньше. А человек жив, если о нем жива память. Именно поэтому в науке существует своеобразная дань памяти, когда молодой или маститый исследователь обращается к той или иной теме обязательно предпосылает своим разработкам, своему исследованию раздел представляющий историю вопроса. Кто, когда и что писал по теме избранной тобой для дальнейших изысканий. Такая история вопроса это не только желание обозначить свою территорию исследований, но и еще, что немало важно, возможность сказать спасибо тем, кто впервые обратился к интересующей тебя проблеме и «проторил дорожку» для дальнейших исследований. Особенно важно сохранить и ввести в научный оборот все имеющиеся разработки ученого, если волею судьбы они остались не завершенными или как черновые наброски ждали своего исследовательского часа. Поэтому в истории науки, и литературоведение здесь не исключение, появляются работы, посвященные программам и рукописным материалам ученых, чьи интересные работы и изыскания в силу ряда причин не увидели свет, не нашли своего развернутого печатного представления. В традиции литературоведческих публикаций научно-методического и учебно-методического характера представлять и делиться с коллегами своими «ноу-хау» – разработками специальных курсов, семинаров и ect. [Просеминары, 1968, 1977; Семинары, 1969, 1976; Спецкурсы, 1974; Учебные курсы, 2003] С одной стороны – это проспекты будущих монографических работ, с другой – это раскрытие исследовательского метода ученого, его творческой лаборатории. И, самое главное – это единственная возможность разобраться с точки зрения истории литературоведения (науки) к какой школе, течению или направлению в науке принадлежал исследователь, или использовал исследовательские приемы (инструментарий) в данной работе. Среди многочисленных компонентов и инструментариев саратовской филологической школы есть и такой как – научная память. Это своеобразная система внедрения в палитру многоголосия исследовательских суждений по тому или иному вопросу филологического знания работ своих саратовских (университетских) коллег по цеху, и это не 4 Филологические этюды праздное – «всякий кулик хвалит свое болото». Здесь другое – выверенная или, даже, выстраданная научная позиция, исследовательский подход, иногда оценка и с критической точки зрения, но всегда логически выверенная и строго аргументированная, с опорой на текст исследования, околотекстовый материал и продуманная научная концепция, диктуемая жизнью рассматриваемого произведения. Именно по этой причине в своих лекционных курсах или на практических занятиях наши учителя, преподаватели филологического факультета, а теперь института филологии и журналистики, представляют работы своих коллег, характеризуя их вклад в нашу филологическую научную действительность. Так, будучи студентами, на лекциях по истории русской литературы второй половины XIX в. (40 – 60-е годы) от прекрасного преподавателя и талантливого исследователя Галины Николаевны Антоновой [Самосюк 2010] мы узнали о саратовском литературоведе, коллеге Г.Н. Антоновой по кафедре, Татьяне Ивановне Усакиной [Демченко 2010]. Нам предложено было познакомиться с работой Т. Усакиной «Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX в.» (Саратов, 1965) к последующему обсуждению на практических занятиях. Позднее, к экзаменам рекомендована книга той же исследовательницы – «История, философия, литература (середина XIX в.)» (Саратов, 1968). Работы, рекомендуемые к изучению, были научно четко отрекомендованы по их исследовательскому значению и фактическому материалу. О самой исследовательнице было сказано интересно, не трафаретно, с душевной теплотой. Затем, в другом филологическом курсе («История литературоведения»), читая сборник «Методология и методика изучения русской литературы и фольклора: ученые-педагоги Саратовской филологической школы» (Саратов, 1984) мы продолжили знакомство с молодым и интересным исследователем Т.И. Усакиной. Так в филологическое сознание студентов вводится научная память о представителях саратовского филологического сообщества, частью которого становится каждый выпускник нашей Alma-Mater. Юбилейный для Т.И. Усакиной 2011 г. не стал исключением. В рамках международной конференции «Н. Г. Чернышевский и его эпоха» одно из заседаний, планируется посвятить Татьяне Ивановне Усакиной. Ведь в круг научных интересов Т. И. Усакиной входили литературнокритическая мысль, публицистика и эстетика 40 – 60-х годов XIX в., творчество В. Майкова, А. Герцена, М. Салтыкова-Щедрина, Н. Чернышевского и других писателей и критиков натуральной школы. Одним из последних исследовательских проектов Татьяны Ивановны Усакиной была работа над подготовкой издания трудов В. Майкова и книги о А.И. Герцене. Об этих ставших неосуществленными проектах пишет во вступительной статье к сборнику ее статей, вышедшему уже после ее смерти, Евграф Иванович Покусаев: «У Т.И. Усакиной зрели новые Выпуск 15 5 замыслы. В ближайшие два-три года она предполагала сосредоточиться на исполнении крупного монографического труда – "Герцен и русская литература"» [Усакина 1968: 8]. Об этом очень интересно сама исследовательница сообщает в письмах к Ю.В. Манну: «Юрий Владимирович, недавно меня осенила мысль. Вообще-то она у меня не так уж недавно появилась, лет 10 назад. Когда я еще училась в университете – об издании В. Майкова. <…> в какой-нибудь пятилетний план неплохо бы включить издание Майкова. Мы бы его могли сделать вдвоем. Диссертация у меня Майкова касается очень <…> следовательно, заниматься им я буду, попутно можно собрать материал для издания» [Манн 2011: 160]. Внимание к творчеству А.И. Герцена привлекло Т.И. Усакину в связи с работой в исследовательской группе под руководством одного из ее учителей Юлиана Григорьевича Оксмана [Герасимова 2010]. Затем как талантливого молодого исследователя Оксман привлек Усакину к работе по подготовке (комментированию) собрания сочинений Герцена в 30-ти томах (1954-1964). В начале 1960-х гг. Татьяна Ивановна по кафедре ведет спецсеминарские и просеминарские занятия, главным героем которых становится А.И. Герцен. К сожалению неизвестно, как в архивный фонд ЗНБ СГУ попали программы этих спецкурсов, возможно, они были переданы самой Т.И. Усакиной как примерный тематический материал для популярных тогда бесед с учеными в стенах библиотеки вуза, или их оставил, как память о дочери, отец Т.И. Усакиной, сотрудник ЗНБ СГУ Иван Усакин. В любом случае эти материалы становятся интересным свидетельством становления молодого исследователя в разработке темы и подготовки проспекта последующего монографического труда. Приведем тексты спецкурсов по авторизованным машинописным и рукописным материалам из архива ЗНБ СГУ. План спецкурса «Герцен и литературно-общественное движение 40-х годов» 1. Вводная лекция. Задачи, содержание и методология спецкурса. Обзор основной литературы. 2. Герцен в 30-е годы. К проблеме романтизма. Общий пафос и своеобразие стиля. 3. Повесть Герцена «Записки одного молодого человека» и общественно-литературная и философская борьба на рубеже 30-40-х годов. Герцен и правое Гегельянство. Герцен и социализм. Рождение жанра. 4. Герцен-философ и литературно-общественное движение первой половины 40-х годов. «Каприз и раздумье». 5. «Кто виноват?» и «Доктор Крупов». Жанр философской повести в русской литературе. Философское и общественно-политическое содержание. Литература и публицистика. Литературная борьба вокруг этих 2-х повестей. 6 Филологические этюды 6. «Сорока-воровка» и «Долг прежде всего». Проблема крепостного права как проблема политическая. 7. Место Герцена в литературно-общественной борьбе второй половины 40-х годов. Герцен и натуральная школа. Герцен и Петрашевцы. 8. Современная трактовка социально-философского смысла прозы Герцена 40-х годов. Развитие этих 8 разделов спецкурса приходит с привлечением Т.И. Усакиной декабристкой темы, которая многие годы также была предметом исследовательского интереса Ю. Г. Османа. Особенно второй пункт плана нового варианта спецкурса перекликается с программой спецкурса «Декабристы и Пушкин» Ю. Г. Оксмана 1950-х гг. [Зюзин 2011]. Пятый пункт плана спецкурса Усакиной перекликается с изысканиями, проводимыми Оксманом в период его работы над «Летописью жизни и творчества В. Г. Белинского» [Оксман 1958], участником которых была и Татьяна Ивановна. Спецкурс расширяется хронологически (1830-е гг. и раннее творчество Достоевского и Толстого) и в проблематику его активно включаются проблемные философские и эстетические вопросы литературно-критического процесса XIX столетия. План спецкурса «Герцен и литературно-общественное движение 3040-х годов» 1. Своеобразие и задачи герценовского спецкурса. Мотивировка основной проблематики. Постановка вопроса. Методология. Обзор источников и критической литературы. 2. Начало жизненного и творческого пути. Чаадаев. Декабризм. Русская литература (Пушкин). Университет. Ссылка. 3. Раннее творчество. Герцен и романтизм. Литературнотеоретические принципы романтизма. Русский и европейский романтизм 30-х годов. Природа герценовского романтического творчества и своеобразие его. 4. «Записки одного молодого человека» как переход от романтического к реалистическому воззрению. «Записки одного молодого человека» в свете идейных споров на рубеже 30-40-х годов. Проблема жанра. 5. Герцен и литературно-общественное движение первой половины 40-х годов. Белинский. Славянофильство и западничество. 6. Формирование первой русской идеологии, новой школы романтического искусства. «Дилетантизм в науке» и «Письма об изучении природы». Герцен в его отношениях к гегелевской философии и утопическому социализму. «Одействорение философии». Борьба за реалистическое воззрение и новую методологию. Критика романтизма. Значение этой борьбы и критики для формирования литературноэстетических принципов натуральной школы. 7. «Капризы и раздумье». Герцен и Фейербах. Обличение Выпуск 15 7 «формальной морали». Новый объект художественного изображения. «Капризы и раздумье» как один из факторов, способствующих выработке новых нравственных идеалов. Значение этих статей для будущего развития русской литературы (Толстой, Достоевский). 8. Социально-философская проза. Проблема жанра. «Кто виноват?». Философский смысл. Бельтов и Крупов – концепция будущего и настоящего. Скептицизм и гуманность. Круциферская. Судьба народа. Интеллектуальная художественность: образы-идеи; роль сюжета; своеобразие композиции; особая функция пейзажа. Формы иронии, специфика юмора. 9. «Доктор Крупов» и вторая часть «Кто виноват?» в единстве их социально-философского замысла. Комическое у Герцена и Белинского. Гоголь и Герцен. Герцен и молодой Салтыков. 10. «Сорока-воровка». Проблема женской эмансипации. «Долг прежде всего». Герцен-критик «формальной морали». Герцен и «разумный эгоизм». 11. Беллетристика Герцена и натуральная школа. Место Герцена среди писателей натуральной школы. Значение герценовских повестей для пропаганды и дальнейшего развития принципов натуральной школы. Герцен и писатели-петрашевцы. Ключевым в осмыслении беллетристики Герцена становится соотнесение его творчества и развития натуральной школы. Спецкурс Т.И. Усакиной «Натуральная школа» становится реальным продолжением исследовательских исканий в осмыслении творчества Белинского и его значения в литературном процессе заявленным в «Летописи» Ю.Г. Оксманом. План спецкурса «Натуральная школа» 1. Задачи и программа спецкурса. Методология. Обзор литературы. Натуральная школа и критический реализм XIX в. 2. Истоки «натуральной школы». «Герой нашего времени» и стихотворения Лермонтова в оценке Белинского. Проблема субъективности. Рефлексия как своеобразие и задача эпохи. Статьи Белинского о Лермонтове как переходное звено от эпохи «примирения» к борьбе за действенное искусство. 3. Новый взгляд Белинского на критику и метод её. 4. Белинский о Гоголе. Полемика со славянофилами. Концепция комического. Борьба за Гоголя – одна из важнейших литературнообщественных и теоретических предпосылок создания «натуральной школы». 5. Пушкин и «натуральная школа». Статьи Белинского о Пушкине. Проблема идеала. Батюшков – Жуковский – Пушкин (о соотношении реалистического искусства с классицизмом и романтизмом). Народность или национальность? Характер в реалистической эстетике и критике (Белинский о Татьяне и Онегине). Соотношение пушкинских и 8 Филологические этюды гоголевских традиций в 40-е годы. 6. Гоголь – основоположник «натуральной школы». Пафос. Содержание. Поэтика. Различие между Гоголем и «отрицательным» направлением. Роль Белинского в создании гоголевской школы. 7. Белинский-теоретик и организатор натуральной школы. Роль «Отечественных записок» и «Современника» в консолидации передовых литературно-общественных сил 40-х годов. 8. Демократизация литературы. Историческое обоснование натуральной школы. Учение о «гении» и «таланте». Взгляд на задачи и идейно-художественное содержание беллетристики. Полемика Белинского с В. Майковым. Конкретный историзм в понимании действительности как объекта художественного изображения. 9. Физиологический очерк (Даль, Бутков, Тургенев). Многообразие жанров. Роман и повесть. Место поэзии. 10. Герцен и Гончаров – писатели натуральной школы. Мировоззрение и творчество. 11. Достоевский и натуральная школа. Комическое и трагическое. Значение традиций натуральной школы для творческого самоопределения Салтыкова-Щедрина, Островского и Льва Толстого. Смеем надеяться, что представленные материалы спецкурсов Татьяны Ивановны Усакиной дополняют ее исследовательскую палитру и помогают не только проследить этап творческого осмысления изучаемой темы, но и представляют возможный план-проспект монографической работы, над которым она работала в последний год своей жизни. Литература Герасимова Л.Е. Оксман Юлиан Григорьевич // Литературоведы Саратовского университета, 1917 – 2009: материалы к биографическому словарю / сост.: В.В. Прозоров, А.А. Гапоненков; под ред. В.В. Прозоров. Саратов, 2010. Демченко А.А. Усакина Татьяна Ивановна // Литературоведы Саратовского университета, 1917 – 2009: материалы к биографическому словарю / сост.: В.В. Прозоров, А.А. Гапоненков; под ред. В.В. Прозоров. Саратов, 2010. Зюзин А.В. Программа спецкурса Ю.Г. Оксмана «Декабристы и Пушкин» // Филологические этюды: сб. науч. ст. молодых ученых: в 3 ч., ч. 1-2. Саратов, 2011. Вып. 14. Манн Ю.В. Татьяна Усакина: аура саратовского центра // Манн Ю.В. «Память-счастье, как и память-боль…»: воспоминания, документы, письма. М., 2011. Методология и методика изучения русской литературы и фольклора: ученые-педагоги Саратовской филологической школы / под ред. Е.П. Никитиной. Саратов, 1984. Оксман Ю.Г. Летопись жизни и творчества В.Г. Белинского. М., 1958. Просеминарии кафедры русской литературы / под ред. Т.В. Ошаровой. 2-е изд. испр. и доп. Саратов, 1977. Просеминары кафедры русской литературы / под ред. Т. В. Ошаровой. Саратов, 1968. Самосюк Г.Ф. Антонова Галина Николаевна // Литературоведы Саратовского университета, 1917 – 2009: материалы к биографическому словарю / сост.: В.В. Прозоров, А.А. Гапоненков; под ред. В.В. Прозоров. Саратов, 2010. С. 22-24: фот., библиогр. в конце ст. Выпуск 15 9 Семинары кафедры русской литературы / под ред. Е.П. Никитиной. Саратов, 1969. Семинары кафедры русской литературы / под ред. Е.П. Никитиной. 2-е изд. доп. Саратов, 1976. Спецкурсы кафедры русской литературы / под ред. Е.П. Никитиной. Саратов, 1974. Усакина Т.И. История, философия, литература: (середина XIX в.): [сб. ст.] / вступ. ст. Е.И. Покусаева; подгот. изд.: Г. Н. Антонова, Г. В. Макаровская. Саратов, 1968. Усакина Т.И. Петрашевцы и литературно-общественное движение сороковых годов XIX в. Саратов, 1965. Учебные курсы кафедры истории русской литературы и фольклора: пособ. для студентов филол. фак. / отв. ред. Н.В. Новикова. Саратов, 2003. ЧАСТЬ I Раздел 1 Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы С.С. Александров (Саратов) Чудо в древнерусских воинских повестях («Сказание о Мамаевом побоище») Научный руководитель – доцент Л.Г. Горбунова Как известно, чудо является обязательным сюжетно-композиционным элементом жития, в силу его жанровой природы (биографии святого), а применительно к воинской повести этот вопрос представляется более сложным. На первый взгляд может показаться, что тема чудесного в воинской повести не заслуживает специального внимания. Однако такое предположение было бы ошибочным в силу нескольких причин, а именно: мировоззрение средневекового человека в целом основано на религиозных заветах, а теологическое сознание не только не ставит под сомнение действительность всего того, что называется чудом, но и признаёт необходимость этого элемента как первопричину бытия. При таком подходе представляется бесспорным, что само чудо не воспринималось как нечто сверхъестественное, а понималось как сотворённое силою Божьей. Вот что по этому поводу пишет Д.С. Лихачёв: «Вымысел – чудеса, видения, сбывающиеся пророчества – писатель выдаёт за реальные факты, и сам в огромном большинстве случаев верит в их реальность» [Лихачёв 1970: 108]. Наши рассуждения подкрепляет определение, сформулированное в Библейской энциклопедии: «чудо, чудеса суть дела, которые не могут быть сделаны ни силою, ни искусством человеческим, но только всемогущею силою Божею» [Энциклопедия Библейская 2004: 737]. В энциклопедической статье чудо рассматривается как философская категория, которую по разным причинам отрицают материализм, пантеизм, деизм, и только теизм отводит проявлениям чудесного главную роль в устройстве бытия. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 11 Близкое по смыслу определение можно найти в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: «чудо – всякое явление, кое мы не умеем объяснить по известным нам законам природы» [Даль 1882: 612]. Краткое, но ёмкое определение чуда дано в «Материалах для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского: «чудо – сверхъестественное явление» [Срезневский 1903: 1547]. Второе значение этого слова: «чудо – удивление» [Там же: 1548]. Приведём ещё одну трактовку понятия «чудо», заимствованную из «Толкового словаря русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой: «чудо, чудеса в религиозных представлениях явления, вызванные вмешательством божественной силы, а также нечто небывалое» [Толковый словарь русского языка 1999: 889]. Определения, взятые из лингвистических словарей, отвечают нашим задачам, так как они затрагивают обе сферы человеческого сознания: религиозную и мирскую. Интерес к проявлениям чудесного закономерно встречается в работах фольклористической направленности. В этой связи отметим работу С.Ю. Неклюдова «Чудо в былине» [Неклюдов 1969: 145]. В ней учёный рассматривает чудо как часть понятия фантастика и дает следующее определение: «чудо – явление из ряда вон выходящее, заслуживающее удивления». Сходной позиции по этому вопросу придерживается В.П. Автономова [Автономова 1981: 6]. Вторая причина для обращения к элементам чудесного – это подвижность жанровых границ в древнерусской литературе. В результате отдельных случаев влияния княжеского жития на воинскую повесть появились гибридные образования: «повесть о житии», «воинское житие» (термин В.Ф. Переверзева). Однако подобные явления заслуживают отдельного исследования. Воинская повесть достигла своего расцвета, как известно, в период монголо-татарского нашествия. В это время упрочился и без того весомый авторитет церкви из-за того, что религия осталась единственной точкой опоры для людей, попавших в беду. Все горести представлялись следствием «гнева Божьего», наказанием за грехи. Для аналитического рассмотрения мы выбрали «Сказание о Мамаевом побоище», как самое развёрнутое повествование о сражении из повестей Куликовского цикла, центрального среди воинских повестей XIII – XV вв. Обратимся к нему. Полное название произведения звучит так: «Начало повести, како дарова Бог победу Государю Великому Князю Дмитрею Ивановичу за Доном над поганым Мамаем и моленнием Пречистыа Богородица и русьскых Чюдотворцев Православное Христианство – Русскую землю Бог возвыси, а безбожных агарян посрами» [Памятники литературы Древней Руси 1981: 132. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Это наиболее объёмный и обстоятельный рассказ о победе русских войск на Куликовом поле. Вопрос о соотношении его редакций очень сложен, и имеет 12 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 обширную литературу. Мы обозначим лишь время создания этого памятника – первая четверть XV в., по мнению большинства исследователей. Мы перед собой задачи – дать обзор всей научной литературы, посвящённой «Сказанию», так как её объём очень велик, а ограничимся лишь теми исследованиями, авторы которых проявляют интерес к теме небесной силы. Особую значимость в этой связи имеет книга В.Ф. Переверзева «Литература Древней Руси» и работа Ю.К. Бегунова «Об исторической основе Сказания о Мамаевом побоище». В.Ф. Переверзев считает «Сказание» «воинской повестью нового типа» [Переверзев 1971: 168]. Новизна, по мнению учёного, заключается в ослабевании звучания героических мотивов и в усилении мотивов «церковно-мистериальных». Единственное, в чём можно усмотреть проявление героического начала, по мысли учёного – это «мотив стройности и громадности, сталкивающихся между собою воинских сил» [Там же: 175]. Изображая битву как священнодействие, автор «Сказания», по словам исследователя, насыщает текст «рассказами о загадочных, имеющих пророческий смысл явлениях, в которых бог иносказательным языком вещает умеющим понимать этот язык предопределённое его волей будущее» [Там же: 176]. Учёный упоминает об одном таком явлении, наиболее интересном с его точки зрения (слушание голоса земли воеводой Волынцем). Обратимся к художественно-смысловой значимости подобных явлений, которые содержит этот памятник древнерусской словесности. Рассмотрим проявления чудесного, оговорившись, что мы не ставим вопроса об их генезисе, а остановимся лишь на их функциональной значимости в произведении. Первый эпизод – пророчество старца Сергия, игумена Троице-Сергеева монастыря. Князь попросил у него благословления. Тот ответил: «Не уже бо ти, господине,еще венецъ сиа победы носити, нъ по минувших летех, а иным убо многым ныне венци плетутся <…> Имаше, господине, победити супостаты своя елико довлеть твоему государству» [146]. Сергий не только предсказывает судьбу князя, но и предугадывает исход предстоящего сражения. Ещё один эпизод – слушание голоса земли Воеводой Волынцем. Сам герой говорит так: «Слышех землю плакачущуся надвое: едина бо сь страна, аки некаа жена, напрасно плачущися о чадехъ своихь елльньскым гласом, другаа же страна, аки некаа девица, единою возопи велми плачевным гласом, аки в свирель некую жалостно слышати велми <…> надеюся милости Божиа. Молитвою Святых <…> Бориса и Глеба <…> чаю победы <…> татаръ. А твоего христолюбиваго въиньства много падеть, нъ обаче твой врърхъ, твоа слава будет» [168]. Слушание земли подтверждает пророчество старца Сергия. Обратим внимание и на видение сторожа Кацибея накануне сражения: «На высоце месте стоя, видети облакъ от востока велик зело изрядно, приа, аки некаикиа плъки к западу идущь <…> придоша два уноши, имуща на себе светлыи багряница, лица их сияюща, аки солнце, в обоих руках у них острые Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 13 мечи» [168]. Ю.К. Бегунов в статье «Об исторической основе Сказания о Мамаевом побоище» соотносит этот эпизод с видением ижорского старейшины Пелгуя из «Повести о житии Александра Невского». Основания для подобного сопоставления весьма веские, так как автор «Сказания» вслед за автором «Повести о житии» подчеркивает, что победа на Куликовом поле была одержана именно благодаря небесным заступникам святым Борису и Глебу, которые служили русским воинам идеологической защитой от иноземных захватчиков [Бегунов 1963: 477-524]. Следует отметить события, произошедшие в ночь перед боем и позднее. В канун боя небесное заступничество проявляется не в отдельных эпизодах, а целой цепи событий. Ночь перед битвой – ночь Святоносного праздника Рождества Святой Богородицы». За помощью к Богородице князь обращается не однажды, поэтому есть основания считать действенность молитвы одним из проявлений чуда. Действенность молитвенного обращения усиливается посланием-благославлением игумена Сергия, переданным князю гонцом. Вместе с посланием гонец передал Дмитрию Ивановичу «хлебец Пречистой Богородицы». Теперь перейдём к осмыслению самого напряжённого момента повествования – самому сражению. В тот момент, когда татары стали побеждать русских, на помощь одолеваемым пришли воины засадного полка: «Единомыслении же друзи выседоша из дубравы зелёны, аки соколи искушеныа, урвалися от златых колодицъ, ударилися на великиа стада жировины, на ту великую силу татарскую <…> и начали <…> татар сечь немилостивно» [178]. Это переломный момент боя. В ход сражения вмешиваются святые Борис и Глеб: «Сынове же русскые, силою святого духа и помощию святых мученикъ Бориса и Глеба, гоняще, сечаху их аки лес клоняху, аки трава от косы подстилается у русскых сыновъ под конские копыта» [178]. Далее следует развязка: Мамай призывает на помощь своих богов, но не дожидается помощи свыше и обращается в бегство. Таким образом, можно заключить, что чудо проявляется на уровне кульминации. Ещё один эпизод, заслуживающий внимания, – спасение князя Дмитрия Ивановича. Владимир Андреевич не нашёл на поле боя своего двоюродного брата и стал спрашивать у дружинников, не видел ли кто-нибудь Великого князя. Один из дружинников ответил, что видел его израненного, но не смог помочь ему, так как сам бился с тремя врагами. Тогда Владимир Андреевич сказал: «… кто виде или кто слыша пастыря нашего и началника? <…> Кому сиа честь будеть, кто по беде сей явися?» [180]. Начались поиски. Великого князя нашли недалеко от поля брани в стороне дубравы целым и невредимым. В этом фрагменте мы сталкиваемся с чудом-удивлением, так как никто не ожидал, что с князем ничего не случится во время и после кровопролитного сражения. Заметим, что финальный аккорд сообщает сюжету произведения дополнительную напряжённость. 14 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Таким образом, нами была осуществлена попытка выявления значимости чуда для жанра воинской повести на примере «Сказания о Мамаевом побоище». Чудесные элементы имеют в этом памятнике не только художественно эстетическое, но и мировоззренческое значение. Отметим, что пророчество старца Сергия в «Сказании» выполняет сюжетообразующую функцию, так как развитие сюжета являет собой его реализацию. Литература Автономова В.П. Художественное своеобразие фантастики в русском героическом эпосе. Саратов, 1981. Бегунов Ю.К. Об исторической основе «Сказания о Мамаевом побоище // Слово о полку Игореве и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1963. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1882. Лихачёв Д.С. Человек в литературе Древней Руси. М., 1970 Неклюдов С.Ю. Чудо в былине // Труды по знаковым системам. Вып. 236. Т. IV. Тарту, 1969. Переверзев В.Ф. «Сказание о Мамаевом побоище» – воинская повесть нового типа // Переверзев В.Ф. Литература Древней Руси. М., 1971. Сказание о Мамаевом побоище // Памятники литературы Древней Руси XIV – сер. XV вв. М., 1981. Срезневский И.И. Материалы для словаря русского языка. Спб., 1903, Т. III. Толковый словарь русского языка. М.; 1999. Энциклопедия Библейская. М., 2004. К.Д. Костромова (Саратов) Образ женщины в романе М.А. Загар «Перепутанные дочери» Научный руководитель – доцент О.В. Козонкова Эта статья посвящена творчеству немецкоязычной писательницы XVIII столетия – Марии Анны Загар. Об этой писательнице известно очень немного: она родилась в 1727 г. в Праге, была представительницей третьего сословия, в 1805 г. скончалась в Вене. Нам известны только два ее романа: «Die verwechselten Töchter, eine wahrhafte Geschichte in Briefen, entworfen von einem Frauenzimmer» («Перепутанные дочери, правдивая история в письмах, созданная женщиной») (1771) и «Karolinens Tagebuch ohne ausserordentliche Handlungen oder gerade so viel als gar keine» («Дневник Каролины, в котором не описано ничего особенного или почти совсем ничего») (1774). Оба романа лишь недавно были заново открыты немецкими литературоведами в пражских архивах. На русский язык они не переводились. Перевод приведенных ниже цитат был выполнен автором статьи. Мария Анна Загар была одной из первых женщин-писательниц XVIII в. Разумеется, женщины писали и публиковались и в более ранние эпохи, например, француженки Кристина де Пизан и мадам Мадлен де Лафайет. В Германии в XVIII в. прославились своим творчеством София фон ла Рош и Луиза Готшед. Тем не менее, литература в Западной Европе оставалась долгое Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 15 время исключительно мужским занятием, а женщины, занимающиеся писательством, порицались их собратьями по перу. Поэтому изучение творчества М.А. Загар особенно интересно в предложенном аспекте: какой женский образ создает женщина-писательница и как этот образ соотносится с представлениями о женщине в романах второй половины XVIII в. В данной статье я рассмотрю образ женщины в романе «Перепутанные дочери» и сравню его с женскими образами в таких ключевых для XVIII века произведениях как «Юлия, или Новая Элоиза» Жан-Жака Руссо, «Векфильдский священник» Оливера Голдсмита, «Поль и Виргиния» Бернардена де Сент-Пьера, «Страдания юного Вертера» Иоганна Вольфганга фон Гете, «Памела, или вознагражденная добродетель» Сэмюэля Ричардсона. «Перепутанные дочери» – это роман в письмах. Речь в романе идет о двух подругах. У этих женщин есть дочери, родившиеся в один день и почти одновременно, в связи с чем матери дали обеим дочерям имя Клара. Когда Клары были еще совсем маленькими, одна из матерей, оставив дочь на попечение подруги, поступает гувернанткой в богатый дом (она должна была заботиться о маленьком сыне графини). Проходит несколько лет, девочки выросли, и мать решает забрать свою дочь к себе. Но ее подруга, сообразив, что жизнь в графском доме гораздо лучше той, которую ведет сейчас она вместе с девочками, отправляет подруге свою дочь, решив, что та по истечении стольких лет не поймет, что ей прислали чужого ребенка. Всю эту историю о подмене и о том, как обман был раскрыт и все вернулось на свои места, рассказывает в своих письмах одна из дочерей – та, которая должна была быть отправлена в графский дом, но осталась с ненастоящей матерью. Полное имя ее – Клара Залис. В XVIII в. существовал некий стереотип женщины, созданный мужчинами-писателями в романах того времени. Главной «функцией» женщины XVIII столетия считалось рождение и воспитание детей. Здесь мы можем вспомнить образ Юлии в романе Ж.-Ж. Руссо «Юлия, или Новая Элоиза», то, с какой теплотой писатель показывает нам Юлию именно в роли матери и хранительницы домашнего очага. В другие сферы жизни женщины не имели права вмешиваться, поскольку они, по мнению мужчин, не обладали для этого достаточными способностями. М.А. Загар показывает нам, что в чем-то мужчины были правы и женщины в большинстве своем – именно те существа, какими их мужчины и представляли. Автора писем в романе она стилизует под тот образ женщины, что был создан в романах XVIII в. мужчинами и высмеивает не только сам этот образ, но и женщин как таковых. Первое письмо Клара начинает следующими словами: «Вы называете меня приятной собеседницей. Это льстит мне, поскольку я намереваюсь развлечь Вас своей болтовней; Вы зачастую прерывали мои рассказы остроумнейшими вопросами и точными замечаниями. Это была благосклонная возможность нашего обоюдного общения. Теперь же я должна наложить оковы на быстрый мой язык и лишь перу предоставить все 16 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 преимущества! По правде... слишком много отречения от моего пола в первом случае и слишком много доверия ему в последнем!» [Sagar 1771: 1. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Она горько сетует на то, что теперь придется ей наложить оковы на свой язык и лишь перу предоставить преимущество быть рассказчиком. Хотя, как она замечает, это ведь настоящее отречение от своего пола – дать перу такие преимущества! Разумеется, это ирония. И этой тонкой ироничной репликой Клара словно подписывает всем героиням следующий приговор: они – болтушки, причем те самые болтушки, какими их считали мужчины. В другом письме (речь в нем идет о светском рауте) Клара приводит очень яркий пример, в полной мере подтверждающий это утверждение: «...я подошла к четырем женщинам... но что за жалкую тему избрали они для беседы? Неловкость прислуги, новый головной убор... Каждая расхваливала то парикмахера, то попугая, то комнатную собачку; в конце концов, они так сильно увлеклись разговором, что все четверо говорили одновременно, и ни одна из них уже не могла ни слышать, ни понимать другую» [121]. Женщины, обсуждающие собачек и попугаев, разумеется, далеки от того идеала прекрасного пола, соответствовать которому призывали Олимпия де Гуж, Мэри Уолстоункрафт и другие известные писательницы XVIII столетия, и ирония Клары носит здесь обличительный характер. Иронизируя над женщинами в романах, героиня показывает их недалекость. Для сравнения можно вспомнить «беспрестанные рассуждения о браке» [Голдсмит 1972: 7], которые ведутся в доме пастора Примроза в романе О.Голдсмита «Векфильдский священник» или некоторые высказывания Лотты – возлюбленной героя Гете – юного Вертера. Разумеется, автор романа не останавливается на этом, раскрывая перед читателями и другие малопривлекательные стороны прекрасного пола. Например, в письмах Клары рассказывается, что женщины весьма искусно умеют притворяться. Здесь следует упомянуть сцену свидания одной из героинь романа, а именно фрау фон Г. – ненастоящей матери рассказчицы, с ее родным братом. Брат сообщает своей «госпоже сестрице» поистине замечательную новость: ее дочь получила большое наследство! Госпожа фон Г. сразу же понимает, что, совершив еще много лет назад «обмен» детьми с целью обеспечить своей дочери лучшую жизнь, она собственными руками «лишила ее огромного счастья» [90]. Конечно, для нее это «радостное» известие «прозвучало настоящим ударом грома» [90]. Но разве может она выдать свою тайну, уронить свое достоинство, потерять лицо? Разумеется, нет. И госпожа фон Г. оправдывает свое замешательство, вызванное словами брата, следующим образом: «...удивление, радость и другие чувства захватили меня настолько, что я не могу даже думать, не говоря уже о том, чтобы произнести хоть бы слово» [91]. Нет никаких сомнений, брат остался в полной уверенности, что ему рады и что весть, принесенная им, действительно, словно бальзам на душу «госпоже Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 17 сестрице». На эту же удочку женского притворства попадают мужья героинь названных мной сентименталистских романов: ни один из них не знает, какие страсти на самом деле бушуют в душах их супруг. Филип Честерфилд, известный английский государственный деятель, дипломат и писатель XVIII в. сказал, что «каждая женщина, если она не отменный урод, считает себя недурной» [Резько 2009: 480]. И М.А. Загар, рисуя перед читателями образ современной ей женщины, подтверждает это высказывание со свойственной ей иронией. В одном из писем Клара даже отказывается описать внешность своего дяди–генерала «из боязни, что его сочтут более привлекательным, чем меня» [102]. В другом письме Клара, «примеряя» на себя образ женщины, соответствующий распространенным представлениям, пишет: «Не объявив войну правде, я не могу ничего сказать о моей красоте» [32]. Впрочем, если женщина говорит о красоте своей подруги, то об объективности речь не идет тем более, что Клара и демонстрирует читателям. Расхваливая красоту своей подруги, она как бы невзначай добавляет: «...как тяжело приходится нам, женщинам, если одна из нас вынуждена расхваливать красоту другой...» [31], тем самым обесценивая все похвалы, которыми удостоила ее. Таким образом, в романе раскрывается еще один маленький секрет женской натуры: женщины завистливы. Ко всему вышеперечисленному прибавляется еще такая черта женской натуры как отсутствие терпения, в чем Клара – опять же, как бы невзначай – признается: «Терпение едва ли является признаком моего пола» [162]. В первом письме Клары читаем следующие строки: «…тысячи испытаний выпали мне в жизни; сколько раз отвергали мою дружбу и неблагодарно забывали обо мне те, кому открыла я свое сердце» [4]. При этом нельзя не вспомнить роман Руссо «Новая Элоиза»: в письмах героев такие восклицания как «Ах, неужто ты рождена для одних лишь мук, бедное чувствительное создание?» [Руссо 1961: 277] или «После стольких жестоких испытаний я теперь начинаю опасаться заблуждений не меньше, чем страстей» [Руссо 1961: 420] отнюдь не являются редкостью. Героиня романа XVIII в. непременно должна была выдержать «тысячу испытаний», даже несмотря на то, что она ведет тихую размеренную жизнь в доме своих родителей. М.А. Загар, заставляя свою героиню писать о «тысяче испытаний», что ей пришлось пережить, показывает наигранность и неестественность подобных высказываний. Спутниками страданий романных героинь были, как правило, слезы. Герои-мужчины в этом плане не отставали от представительниц прекрасного пола. Здесь можно вспомнить Сен-Пре из романа Руссо «Новая Элоиза», который «пал на колена, плакал, осыпал поцелуями полог кровати, воздевал руки, обращал взоры к небесам» [Руссо 1961: 279], Поля из романа де Сен-Пьера «Поль и Виргиния», у которого «слезы ручьем потекли из глаз» [Сен-Пьер 1962: 81], или созданного Гёте Вертера, целовавшего «с блаженными слезами» [Гете 1954: 26] руку Шарлотты. Даже отец Юлии, 18 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «человек неслыханно суровый, вдруг смягчился и пал к ногам [дочери. – К.К.], заливаясь слезами!» [Руссо 1961: 292]. Клара в романе М.А. Загар, как и положено героине сентименталистского романа, не жалеет слез для выражения любых эмоций, будь то радость или печаль. Она плачет вместе со своей подругой в момент расставания, плачет во время примирения с госпожой фон Г. Заставляя свою героиню постоянно проливать слезы, автор романа смеется над существовавшей в XVIII в. традицией, показывать обладающих чувствительной душой героев именно таким образом, делая их переживания фактически неестественными. Стоит заметить, что любовь Клары и ее избранника Тимона носит иной характер. В момент объяснения между ними никто из героев не воздевает в театральных жестах руки и не заливается слезами, а в их отношениях, по словам Клары, не было ничего «романного или наигранного»: «Мы любили друг друга разумно и совсем не аффектированно» [131]. Героини романов XVIII века были не только чувствительными, добродетельными, милосердными, высоконравственными, то есть идеальными. Клара старается соответствовать этому идеалу на протяжении всего действия романа, и в этом ей очень помогает госпожа фон Г., поскольку добродетель и милосердие Клары по большей части связаны именно с ней. Если вспомнить всю историю, рассказанную Кларой, а также то, как она была вынуждена жить после совершенной фрау фон Г. подмены, то слова Клары «...я страстно желала освободить госпожу фон Г. от всех болезненных воспоминаний настолько быстро, насколько возможно» [134], произнесенные ей уже после того, как она узнала всю правду о своей родительнице, кажутся весьма неуместными. Однако как идеальная героиня романа Клара обладала способностью к всепрощению. Хотя в одном из писем за обращением к романному адресату мы слышим и обращение к современным читателям: «Вы дарите госпоже фон Г. свою любовь, я знаю это, но будете ли Вы также любить ее, если обнаружите в моем рассказе маленькую деталь, бросающую тень на ее образ?» [26]. Это вопрос к читателю XVIII в., сможет ли он, зачитываясь романами, героини которых – само совершенство, принять и понять новую героиню, в характере которой есть недостатки. Таким образом, М.А. Загар предлагает оригинальную трактовку типичной героини сентименталистского романа XVIII в. Она развенчивает представление о женщине как о чрезмерно чувствительном, не обладающем особыми умственными способностями существе, главная задача которого – воспитание детей. Образ рассказчицы Клары – ироничной и умной – опровергает это распространенное представление. Кроме того, автор считает, что женщины в большинстве своем не виноваты в своих недостатках. В одном из писем подробно описывается один день из жизни рассказчицы: подъем около шести часов утра, утренний туалет, завтрак, занятия правописанием, обед, урок танцев, ужин, а потом – до самого отхода ко сну – весьма занимательное занятие, которое Клара определяет как «что-то вроде Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 19 зевания на диванчике» [105]. Воспитанные таким образом женщины не могут обсуждать ничего, помимо новых причесок. Таким образом, Мария Анна Загар – создательница образа Клары – единомышленница тех писательниц XVIII в., которые активно выступали за необходимость женского образования и изменение роли женщины в обществе. Литература Sagar M.A. Die verwechselten Töchter, eine wahrhafte Geschichte in Briefen, entworfen von einem Frauenzimmer. Prag, 1771. Гёте И.В. Страдания юного Вертера. М., 1954. Голдсмит О. Векфильдский священник. М., 1972. Резько И.В. Великие мысли великих людей. М., 2009. Руссо Ж. Ж. Юлия, или Новая Элоиза. М., 1961. Сен-Пьер Б. Поль и Виргиния. М., 1962. Н.И. Аюпова (Саратов) Этическая модель времени в частной жизни («Арап Петра Великого» – «Пиковая дама») Научный руководитель – профессор Е.П. Никитина В «Пиковой даме» черты исторического времени и отдельных судеб представлены Пушкиным в характерах Германна и Лизаветы Ивановны. Графиня Анна Федотовна является третьей важнейшей фигурой большого социально-философского значения. Она воплощает собою общепринятые в свете нормы поведения XVIII в. и завершает эскизно наброшенную в повести Пушкина его картину. Германн давно признан читателем «Пиковой дамы» знаковой фигурой нарождающегося в России буржуазного века. Образ Анны Федотовны сквозной в сюжетно-композиционной структуре повести. Можно сказать об изменении её портретной характеристики в новых обстоятельствах времени, то есть в первых десятилетиях XIX в., когда происходит события в пушкинском произведении. Если характеристика нового века углубляется в повести сюжетной ретроспекцией в XVIII в., то в «Арапе Петра Великого» вводится XVIII в. Франции. В романе на примере судьбы графини D. исторически достоверно показана Франция XVIII в. «Ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени; алчность к деньгам соединилась с жаждой наслаждений и рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей» [Пушкин 1948: VIII, 1, 3. Далее цитируется это издание, том, книга и страница указываются в квадратных скобках]. Франция эпохи регентства 20 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 дана в резком противопоставлении дальнейшему повествованию о России Петра. Эта героиня живёт в согласии с придворными нравами и взглядами. Графиня D. дана в экспозиции романа, где она включается только в одну сюжетную линию, связанную с судьбой Ибрагима. Графиня D., в отличие от Анны Федотовны, статичный образ. Она представлена в авторском повествовании. Героиня парижского эпизода – лицо вымышленное. Она, как и московская Венера, «славилась своей красотою» [VIII, 1, 4], хозяйка модного салона, который посещают знаменитости. «Дом её был самый модный. У ней соединялось лучшее парижское общество» [VIII, 1, 4]. В «Арапе Петра Великого» мы не встретим конкретной, зримой детали в изображении парижского дома графини, как это будет сделано в описании будуара Анны Федотовны в «Пиковой даме». Характер графини полностью укладывается в типологически-бытовую схему: «Семнадцати лет, при выходе её из монастыря, выдали её за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился» [VIII, 1, 4]. Граф равнодушен к неверности супруги, которая должна соблюдать лишь внешние приличия, не быть замеченной «в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключенье» [VIII, 1, 4]. Характеристика Франции эпохи Регентства в начале «Арапа Петра Великого» представляет картину, служащую фоном взаимоотношений Ибрагима и графини D.. История их любви показана как необходимая, характеристическая черта того времени, что оказывается важным штрихом в описании салонной парижской жизни. Графиня D. дурачит своего мужа. Об отношениях Ибрагима и графини D. говорил весь Париж, только граф D. «один во всём Париже ничего не знал и ничего не подозревал» [VIII, 1, 6]. Любовная связь осложняется новым обстоятельством – беременностью графини, которая ещё более сближает героев. Подмена ребенка становится выходом из катастрофического положения. «Всё вошло в обыкновенный порядок …» [VIII, 1, 7]. Графиня D. испытывала больше интерес к экзотике, чем серьёзные чувства. Для неё царский арап был очередным увлечением. «Ибрагим предвидел уже минуту её охлаждения» [VIII, 1, 7]. После отъезда Ибрагима у графини появился новый любовник. Об этом мы узнаём из разговора Ибрагима с Корсаковым: «Ну, что графиня D.?» – «Графиня? Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом; потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника; знаешь кого? Длинного маркиза R…» [VIII, 1, 15]. Любовная драма Ибрагима в «Арапе Петра Великого» подготавливает концептуально и сюжетно противопоставление социального, нравственного бытия Франции и России начала XVIII в. XVIII в. и свойственные ему черты позволяют понять и героиню «Пиковой дамы» Пушкина. Впервые графиня Анна Федотовна появляется молодой властной красавицей в дымке забавного анекдота Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 21 шестидесятилетней давности. Внук Анны Федотовны, светский и ветреный Томский, рассказывает карточным приятелям во время игры у конногвардейца Нарумова историю, приключившуюся с его бабушкой в Париже. Оказавшись во французских высокопоставленных кругах, она проиграла крупную сумму герцогу Орлеанскому. Тогда можно было проиграть на слово, но, конечно, затем заплатить. Г.Ф. Парчевский в книге «Карты и картёжники» разъясняет, что «неуплата карточного долга пятнала дворянина так же, как отказ от дуэли» [Парчевский 1998: 19]. Сначала приказывая, а потом, уговаривая мужа заплатить долг, графиня доказывала, что «долг долгу рознь и что есть разница между принцем и каретником» [VIII, 1, 228]. Этот долг мог испортить репутацию московской Венеры. «Покойный дедушка, сколько я помню, был род бабушкина дворецкого» [VIII, 1, 228], – говорил Томский. Но муж, прекрасно зная, что неуплата долга этически недопустима, был непоколебим. Упорствуя и отказываясь платить, он объяснял, «что в полгода они издержали полмиллиона, что под Парижем нет у них ни подмосковной, ни саратовской деревни» [VIII, 1, 228]. Графиня рискует обратиться за помощью к Сен-Жермену, не смотря на сомнительность его репутации. Анна Федотовна, полностью отыгравшись благодаря секрету трёх карт знаменитого авантюриста, никому из своих четырех сыновей, отчаянных игроков, не открыла тайну Сен-Жермена. Исключением был некий Чаплицкий. Г.А. Гуковский видит в этом «намёк на её роман с Чаплицким» [Гуковский 1957: 351]. В образе графини современники нашли сходство с Н.П. Голицыной и Н.К Загряжской. Сам Пушкин не отрицал наличие реального прототипа. Графиня Анна Федотовна – представительница XVIII в., оказывается среди чуждого ей нового поколения: «Она участвовала во всех суетностях большого света, таскалась на балы, где сидела в углу, разрумяненная и одетая по старинной моде, как уродливое и необходимое украшение бальной залы» [VIII, 1, 233]. Графиня несёт в себе черты беззаботной аристократичности века, в то же время строго следуя понятиям чести и долга. Люди этого века, как сказано в послании «К вельможе» Пушкина, не торопятся «с расходом свесть приход» [Пушкин 1948: III, 219]. Любовь и страсть к развлечениям составляют весь смысл их жизни. В Париже графиня пользовалась популярностью. Она «была там в большой моде. Народ бегал за нею» [VIII, 1, 228]. Недаром Анну Федотовну прозвали московской Венерой. В стиле любовных изъяснений той эпохи внук графини говорит о власти Анны Федотовны над мужскими сердцами. «Ришелье за нею волочился, и бабушка уверяет, что он чуть было не застрелился от её жестокости» [VIII, 1, 228]. Рассказ Томского служит завязкой в сюжетном движении повести и предпосылкой неожиданного поведения Германна, его авантюрных поступков из-за страстного желания стать обладателем секрета трёх карт. Эта идея, захватившая героя, заставляет его жестоко вовлечь в рискованные действия бедную воспитанницу графини, в свою очередь, помышляющую 22 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 об избавителе от домашнего тиранства графини. В обширнейшей исследовательской литературе, посвящённой «Пиковой даме», образу Германна уделяется преобладающее внимание. Вместе с тем эпохальные масштабы его характера могут быть восприняты в большом концептуальном сопоставлении с представителями предшествующего XVIII в. Для творчества Пушкина конца 1820-х – начала 1830-х гг. такие параллели характерны. Проблема исторического и частного становится для поэта всеопределяющей. Жизнь отдельного человека так или иначе зависит от времени, в котором он живёт. В известном «Разговоре книгопродавца с поэтом» железный век подчиняет себе Поэта. Когда книгопродавцы превращают «в пук наличных ассигнаций» [Пушкин 1947: II, 1, 324] трепетные поэтические строки, Поэт защищает своё вдохновенье («не продаётся вдохновенье» [Там же: 330]). В «Скупом рыцаре» власть денег проводит трагическую черту между жизнями отца и сына. Последняя строчка («Ужасный век, ужасные сердца!» [Пушкин 1948: VII, 120]) предельно лаконична в установлении страшной зависимости человека от века. Пушкин остался верен защите прав свободного человека от века в своём бессмертном «Памятнике»: «…в мой жестокий век восславил я Свободу бИ милость к падшим призывал [Пушкин 1948: III, 1, 424]. Не продолжая примеров, напомним лишь о судьбе Марии в «Полтаве» [Cм.: Хвостова 2010]. Широкая картина эпохи, многообразие характеров и философское осмысление человеческой судьбы в историческом контексте отражают в «Пиковой даме» противоречивость века – элементы исчезающего, нарождающегося, устойчивого. Люди с абсолютно разными характерами живут в одном веке. В «Пиковой даме» представление о буржуазном веке даётся не только в образе бесчувственного Германна, но и бедной воспитанницы. Она не погибает, как это представлено в знаменитой опере П.И. Чайковского. В финале пушкинской повести – краткие сведения о её благополучной жизни: «Лизавета Ивановна вышла замуж за очень любезного молодого человека; он где-то служит и имеет порядочное состояние: он сын бывшего управителя у старой графини» [VIII, 1, 252]. И более того, у неё «воспитывается бедная родственница» [Там же]. В начале XIX в.18 счастливо и привычно для своего сословия живут Томский и Полина. Таким образом, парижские и петербургские персонажи второго ряда, лаконично очерченные поэтом и имеющие предшественников в контексте пушкинской прозы конца 1820-х – начала 1830-х гг., так или иначе соотнесены с судьбой главных героев повествования в «Арапе Петра Великого» и «Пиковой даме». Литература Гуковский Г.А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. Парчевский Г.Ф. Карты и картежники. СПб., 1998. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 16 т. (Т. 17, доп.). М.; Л., 1937-1949. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 23 Хвостова О.А. Образ Марии в трёх песнях поэмы Пушкина «Полтава» // Никитина Е.П., Хвостова О.А., Литневская Ю.М. Русская литература XIX в. Пушкин. Лермонтов. Кольцов. Саратов, 2010. А.А. Петрушина (Саратов) Нативизм в новеллистике В. Ирвинга Научный руководитель – доцент Е.В. Староверова Нативизм или «nature writing» – явление уникальное, сугубо американское. В широком смысле нативизм – это совокупность различных типов литературы о природе, ее обитателях [Early American Nature Writers 2008: ix]. Его корни уходят в «литературу путешествий и исследований» и колониальную прозу конца XVI – начала XVII вв., которые строились вокруг природных особенностей континента (пейзаж, флора, фауна) и восприятия их человеком. К числу предвестников нативизма ученые (Д. Паттерсон, Л. Уоллс, Г. Уайт и др.) относят Мишеля Драйтона, Томаса Гарриота, Джона Смита, Томаса Мортона и т.д. Намеченная вышеперечисленными авторами проблематика успешно прижилась и получила дальнейшее развитие в литературе США, чему способствовали последующее освоение необъятных просторов Америки, вкупе с оформлением во всем мире эмпирического аспекта биологии. Уже к концу XVIII столетия появляются «Письма американского фермера» С.Д. Кревекера (1782), «Заметки о штате Виржиния» Т. Джефферсона (1784), «Путешествия» У. Бертрама (1791) с их пасторальной репрезентацией Америки, которые, по мнению большинства литературоведов, и легли в основу нативизма. Тем не менее, официальной датой его рождения считают XIX в. – время становления подлинно национальной литературы и национального самосознания США. Статья посвящена отдельному аспекту нативистского направления, а именно – романтическому нативизму, и одному из ярчайших его представителей В. Ирвингу. Наша задача – показать идейно-эстетические и хронологические особенности романтического направления нативизма, и художественное своеобразие нативистских образцов малой прозы Ирвинга. В действительности, разделение нативизма на классический и романтический является весьма условным. Причина – в отсутствии у зарубежных американистов понятия «романтический нативизм» как такового. Его заменяют абстрактное «романтическая литература о природе» [Early American Nature Writers 2008: 5] или безграничное «пасторализм» [Buell 1995: 32], включающие в себя огромный перечень произведений американских писателей вплоть до «Романа о Блатдейле» Готорна (1852), где фигурируют описания различных видов капусты на грядках коммуны. 24 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 В отечественное литературоведение термин «романтический нативизм» вводит выдающийся американист Ю.В. Ковалев, и определяет его как «культурное и литературное движение в рамках романтизма, смысл и пафос которого заключается в художественно-философском освоении Америки, ее природы, истории, общественных и политических институтов, ее нравов» [Ковалев 1982: 42]. Таким образом, ключевой особенностью романтического нативизма можно считать его антропоцентризм, в противоположность биоцентризму нативизма классического. Исторические рамки нового течения Ковалев обозначает персоналиями – от Вашингтона Ирвинга (1783-1859) до Джека Лондона (1876-1916). Для культуры США XIX в. нативизм «был неизбежен и необходим» [Ковалев 1982: 42]. Возникновение такой необходимости Ковалев объясняет тем, что для развития подлинно национальной литературы требовалась «некая общая концепция Америки как единого комплекса естественно-географических, этнологических, социально-исторических, политических и нравственно-психологических моментов, образующих само понятие «Америка» [Там же]. Без вышеперечисленных компонентов невозможно было создать самобытную литературу, поэтому в XIX в. многие бросились заново «открывать» Америку, черпая вдохновение из пейзажа родной страны. Царившие тогда умонастроения в полной мере передает Ван Вин Брукс: «им нужны рассказы и поэмы без королей, слуг и нищих, и чтобы вместо жаворонка был американский воробей, а вместо соловья – зеленый дрозд» [Брукс 1987: 56]. «Творения природы навсегда сохранят власть над человеческим разумом и свое влияние на литературу народа <…> Мы можем радоваться в надежде, что наша национальная литература обретет красоту и величие, поскольку ни один народ не обладает теми богатствами природы, что есть у нас» [Лонгфелло 1990: 217], заявляет в своем манифесте Г.У. Лонгфелло. Одним из первых, кому удалось претворить в жизнь культурные искания своей эпохи, стал В. Ирвинг. Хотя с подачи Л.В. Паррингтона писателя долгое время считали «неисправимым фланером, избравшим своим основным занятием безделье и поиски красочного» [Паррингтон 1962: 238], современное литературоведение разрушило этот стереотип романтика-эскаписта, подчеркнув патриотическую подоплеку новелл Ирвинга [Making America… 1996: 187]. Отказавшись подражать европейским законодателям литературной моды, Ирвинг продолжает «американские» традиции (классический нативизм и малый жанр), трансформируя их согласно современным потребностям, и в итоге создает образ новой, невиданной доселе Америки. Большая часть его произведений концентрируется вокруг природы Нового Света и места в ней «нового человека», так называемого «homo Americano». Такой «естественный» подход позволил показать культурную самостоятельность и самоценность страны, особенности местного колорита и национального самосознания. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 25 В качестве примера рассмотрим «американские» новеллы Ирвинга («Рип ван Винкль», «Легенда о Сонной Лощине»), где писатель раскрывает характер своих современников через связь с самобытной природой страны. У Ирвинга на первый план выходит природа в её первозданной красоте, на лоне которой разыгрывается тот или иной сюжет. Именно с природных зарисовок начинаются нативистские новеллы писателя, проблематика которых неизменно строится на контрасте между «старой» и «новой» Америки. Пейзажи Ирвинга отличаются локальностью и топографической точностью: «Всякий, кому приходилось подниматься вверх по Гудзону, помнит, конечно, Каатскильские горы» [Ирвинг 1993: 8. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Или «В глубине одной из тех просторных бухт, которыми изрезан восточный берег Гудзона, там, где река раздается вширь <…> лежит небольшой торговый поселок» [39]. Природа – отнюдь не фон, а полноправное действующее лицо, чьи описания поражают конкретикой, особенно по сравнению со схематичностью образов других персонажей. Описания голландского поселения, где живет Рип, и Сонной Лощины воссоздают образ Америки как земного рая, активно пропагандируемого с момента освоения континента. «Благословенный уголок», «богоспасаемое лоно», которые еще не затронул «великий поток переселений и прогресса» [41], есть идеал для писателя. Однако в эту идиллию постепенно начинают проникать веяния новой эпохи. Ирвинг виртуозно рисует грядущие изменения, противопоставляя «тихую заводь» Лощины «бурным ручьям» [41] развивающихся городов или говоря о бурлящих водоворотах на гладкой поверхности Гудзона. Ключевые типы личности у Ирвинга – поселенец (Рип, Бром Бонс, соннолощинцы) и современный гражданин Америки (Икабод Крейн, постояльцы гостиницы «Союз», политические агитаторы), противопоставленные друг другу. В основе противопоставления – отношение к природе. Симпатии автора на стороне поселенцев, они – добродушные «дети природы» [9], живущие в гармонии с ней. Их главное преимущество – в почтительном отношении к окружающей красоте, её свободном созерцании без намека на корысть. Своей жизненной позицией они отвергают максиму Б. Франклина «время – деньги». В сцене, когда Рип ван Винкль отправляется на рыбалку с единственной целью – порыбачить, просматривается полемика писателя с легендарной личностью в истории США и одним из предвестников нативизма – капитаном Джоном Смитом. Рыбалка «ради рыбалки» Рипа, когда «он сидел сиднем <…> на мокром камне и безропотно удил целыми днями даже в тех случаях, когда ни разу не клюнет» [10], – прямо противоположна рыбалке «ради добычи», за которую ратовал Смит: «Чем не прекрасный вид отдыха – выуживать из реки два, шесть и даже двенадцать пенсов, едва лишь забросив удочку» (перевод осуществлен мной. – А.П.) [American literature to 1900 1986: 30] Даже 26 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 зажиточный фермер Балт ван Тассель далек от меркантильной суеты, он «спокойно и удовлетворенно взирал на свои богатства, но не был спесив, гордясь изобилием и довольством, а не тем, что он богаче других» [48]. Однако Ирвинг прекрасно понимает, что старый добрый склад американца уходит в прошлое. Здесь показателен момент, когда Рип узнает о смерти местного «патриарха», одного из самых уважаемых людей в деревушке, Николаса Веддера: «над его могилой <…> стоял деревянный крест, который мог бы о нем рассказать, но крест истлел, и теперь от него тоже ничего не осталось» [20]. Дерево, как материал непрочный, символизирует недолговечность и полное забвение. Похожая ситуация складывается после смерти легендарного Дитриха Никербокера («История Нью-Йорка», 1809), которому сообщество историков хотело поставить деревянный памятник. Примечательно, что уже в начале XIX в. Ирвинг предощущал духовный кризис и видел его причины в разрыве между человеком и природой. Так, в новелле «Рип ван Винкль» жители срубают многовековой вяз – основное место сборищ местной «элиты» и символ «старого» уклада, в угоду сторонникам частной собственности. Вместо могучего дерева построена несуразная гостиница «Союз» – «большая покосившаяся деревянная постройка, зияющая широкими окнами; некоторые из них были разбиты и заткнуты старыми шляпами и юбками» [18]. Венчал эту постройку «флаг с изображением каких-то звезд и полос» [18]. Но ключевые изменения произошли в самом характере бывших односельчан Рипа: «Вместо былой невозмутимости и сонного спокойствия во всем проступали деловитость, напористость, суетливость» [18-19]. Какое-то время Рип в одиночку пытается вернуть былое, возобновив свои привычки и пытаясь разыскать старых приятелей, но «и они были не те: время не пощадило их» [23]. В результате герой сам обращается в новую веру: перестав казаться другим «живой летописью давних времен» [23], он разрывает священные узы природы, предпочитая лесному уединению продолжительные дискуссии с юным поколением. Причины возникновения разрыва между человеком и природой писатель объясняет в новелле «Легенда о Сонной Лощине» посредством образа Икабода Крейна. Этот герой стоит на рубеже между прошлым и будущим, и посему не до конца утратил связь с предками, хотя и сочетает её со свойствами современного характера. Рациональность уроженца Коннектикута и созерцательное мышление первопоселенца причудливо смешиваются в его натуре, рождая персонаж поистине комический, который своеобразно почитает природу и религию, и верит в чудеса с примесью научного оттенка. Так, своей страстью к древним легендам и сказаниям Крейн, как и Рип Ван Винкль, отдает дань прежней эпохе. Ночи напролет он готов слушать сказки старух-голландок о «духах, призраках, нечистых полях» [46], читать «Историю колдовства» Коттона Мэзера, «в Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 27 непогрешимость которой он верил всей душой» [45]. Немалое место в жизни Икабода Крейна занимает и природа. Предвосхищая героя «Уолдена» Торо, он регулярно совершал ночные прогулки по лесу, а в свободное время «растягивался на пышном ложе из клевера у берега <…> ручейка» [45]. С другой стороны, Икабод – типичный сын нового века. Он охвачен духом современности с его просветительскими идеями. Именно поэтому Икабод потчует благодарных слушателей байками из «Истории колдовства» вкупе с «рассуждениями о кометах, падающих звездах и сообщением тревожного факта, что земля вертится» [46]. В его голове иррациональное спокойно сосуществует с рациональным: кометы пугают не меньше призраков, а суеверные страхи не мешают смотреться в разбитое зеркало перед походом в гости. Даже его удовольствие от лесных прогулок имеет явно извращенный характер: Крейн отправляется в путь, начитавшись «страшилок» Мэзера или наслушавшись голландок, и потому вздрагивает от каждого шороха: «Всякий звук, всякий голос природы, раздававшийся в этот заколдованный час, смущал его разгоряченное воображение: стон козодоя, несущийся со склона холма, кваканье древесной лягушки, этой предвестницы ненастья и бури, заунывные крики совы или внезапный шорох потревоженной в чаще птицы. И даже светляки, которые ярче всего горят в наиболее темных местах, время от времени, когда на его пути внезапно вспыхивала особенно яркая точка, заставляли его останавливаться. И если какой-нибудь бестолковый жук задевал его в своем несуразном полете, бедняга готов был испустить дух от страха, считая, что он отмечен прикосновением колдуна» [45-46]. Еще одна отличительная черта «янки из Коннектикута» – при всех суевериях в его обязанности входит нести религию в массы. Но обучение псалмам Крейн превращает в дополнительный источник дохода, не гнушаясь брать деньги за свой «труд». Не менее интересно сочетание расчетливости и рыцарского настроя в его любовных переживаниях. С одной стороны, его прельщает не прекрасная дама, а ее приданое, которое учитывается вплоть до побрякушек на камине, с другой – он не боится соперничать с отчаянным Бромом Бонсом, сумевшим разогнать других кавалеров девушки и т.д. Образом Икабода Ирвинг показывает невозможность для прежнего типа личности найти компромисс с новым временем. У писателя нет ни малейших иллюзий по этому поводу, отсюда явный сарказм и неодобрение при описании чудачеств Икабода, для которого прелестная ручка девушки выглядит заманчиво, лишь поливая соусом оладьи, природа дает только извращенные наслаждения, а набожность людей – дополнительный и легкий способ заработать. Изгнание Крейна из рая Лощины его антагонистом Бонсом – триумф частичный. Последний выиграл битву лишь благодаря тому, что она происходила на «его» земле. Судьба проигравшего в Сонной Лощине сложилась весьма успешно в среде больших городов, с процветающими в 28 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 них пороками и жаждой наживы: «Икабод переселился в противоположный конец страны, учительствовал, одновременно изучал право, был допущен к адвокатуре, стал политиком, удостоился избрания в депутаты, писал в газетах и под конец сделался мировым судьей» [70]. Однако в целом нативистская проза Ирвинга оптимистична, что подтверждается счастливым финалом для всех его персонажей. Писатель верит, что «тихие заводи» вроде Лощины помогут сохранить баланс между старым и новым мировоззрением. Там обретут приют те, кто жаждет гармонии с собой и миром. Прибежищем же остальных станут большие процветающие города. При таких условиях даже противоборствующие типы личности могут спокойно сосуществовать, находясь каждый на своем месте. Литература American Literature to 1900 / Ed. by M. Cunliffe. England, 1993. Buell L. The Environmental Imagination. Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Harvard, 1995. Early American Nature Writers: a biographical encyclopedia//Ed. by D. Patterson. N.Y., 2008. Making America, Making American Literature: Franklin to Cooper / Ed. by A. Robert Lee and W.M. Verhoeven. The Netherlands, 1996. Брукс В.В. Писатель и американская жизнь. М., 1967. Лонгфелло Г.У. Наши отечественные писатели // Зарубежная литература XIX в. Реализм. М., 1990. Ирвинг В. Легенда о Сонной Лощине. М., 1993. Ирвинг В. Рип ван Винкль. М., 1993. Ковалев Ю.В. Американский романтизм: хронология, топография, метод//Романтические традиции американской литературы XIX в. и современность. М., 1982. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли: В 3 т. Т. 1. М., 1962. С.О. Зотов (Саратов) Мотив двойничества в новелле Ахима фон Арнима «Владельцы Майората» Научный руководитель – профессор В.Ю. Михайлин Тема двоемирия получила самое широкое воплощение в мотиве двойничества – бинарные оппозиции, создаваемые романтиками, максимально четко передавали конвенциональную для романтизма идею взаимодействия человека с внешним миром, разоблачая характеры-маски и создавая тем самым традицию отражения как самостоятельно существующей реальности. Неопределенность, «в которой прячется свобода», стилистическая незавершенность – методы, которые дополняют самый легкий для восприятия выросшим на антропоцентризме читателем прием, аллегорическое выражение полярности неких человеческих качеств (а вместе с ними и способов построения проективных реальностей) через Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 29 противопоставление двух персонажей. «Арним впервые создает в романтизме тему двойника, вскоре получившую широкое распространение через Э.-Т.-А. Гофмана. Но Арним намеренно груб и материален, он ближе других романтиков придвинут к интересам пола, кухни, жилища, имущества», – пишет в своей работе «Романтизм в Германии» Н.Я. Берковский [Берковский 1973: 344], выделяя нарочито физиологический характер двойничества у Арнима. Иногда двойники у него сосуществуют будто на одной плоскости, имея тождественную «структуру» они создаются для того, чтобы показать два противоположных набора свойств личности – и поэтому черты, ярко выраженные у первой персоны, абсолютно невыразительны у второй. В отличие от, например, арнимовской «Изабеллы», двойник в «Майорате» не является клоном некоего персонажа; скорее, такие герои – параллельно существующие «близнецы». Поэтому оппозиционные отношения, выстраиваемые Арнимом, приобретают в этом случае несколько другой смысл – нужны они не столько для того, чтобы маркировать искусственность» и «бездушность» двойника, сколько для вычерчивания границ допустимого и недопустимого в контексте ситуативных и перцептивных рамок героев произведения. Конкретным выражением этого способа создания конфликта в нарративе стало конструирование в новелле Арнима «Владельцы майората» таких пар персонажей, как Лейтенант и Майоратс-херр (Кузен и кузен), Хоф-дама и Эстер, Эстер и Фасти, Фасти и Ангел Смерти, мать Майоратс-херра и Эстер. В тексте «близнецы» проявляют себя одновременно и через противопоставление по одному или нескольким признакам (приземленность Лейтенанта и визионерство Майоратс-херра), и через тождественные свойства (внешнее сходство, одинаковые имена). Помимо того, что Арним создает двухмерный мир протагонистов, контрастирующих и антитетичных, он реализует двухмерность и на уровне пространства – что непременно приводит к возникновению границы между двумя полярными плоскостями, границы как вполне буквальной, вроде рамки (окна или дверцы шкафа), за которой начинается воссоздаваемый персонажем мир, так и фигуральной, которая размежевывает трансцендентное и реальное, бюргерское и аристократическое, истинное и преходящее. В отношениях «близнецов» часто присутствует дихотомия активного и пассивного персонажа – в определенных рамках герой может быть либо «двигателем» действия, либо бездействующей «баржей», которая насильно или случайно втянута в контекст. За счет таких неожиданных и порой анекдотических ситуаций создается игра контекстом, основанная на контр-интуитивности одного из персонажей. Двойники заставляют переключаться читателя, интерпретировать текст разными способами, и, в силу различий в картине мира персонажей, воспринимать его сразу с двух, зачастую друг друга исключающих точек зрения. Еще один интересный прием Арнима – это смысловая наполненность имен персонажей. Причем семантически значимо 30 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 не имя само по себе: факт его присвоения некоему герою маркирует ординарность и обобщенность типа, что противоречит традиции восприятия имени как индивидуализирующей характеристики персонажа. Всех героев новеллы, исключая двух евреек, автор называет их социальным статусом: Лейтенантом, Хоф-дамой, Майоратс-херром. Такая развоплощенность является, с одной стороны, дополнительным способом дифференциации персонажей, их социальной стратификации, показывающим также связь родственных отношений героя с его положением в обществе (как то: Лейтенант называется в тексте то Кузеном, то Лейтенантом, что подчеркивает зависимость выбора модели поведения от вмененной ему в данный момент социальной роли). С другой стороны – Арним избавляется от имени-ярлыка, что влияет на восприятие персонажа, уничтожает предел, ту самую «ступень отвердения, следующую за характером» – и именно поэтому единственные «типичные» персонажи со своими именами в тексте – это две еврейки, личности отчасти экзотические, являющиеся целостными «замороженными» образами, вторичными для произведения. Если выстраивать иерархию двойнических связей в тексте «Майората», то на первой по важности для нарратива позиции будет находиться дуплетная связка «Кузен – кузен», а иначе – Майоратс-херр, владелец майората, и Лейтенант, его родственник. Бинарная оппозиция выражается в первую очередь в принципиально разных для двух этих героев способах существования, один из которых – традиционный, консервативный, дворянский – привычный для Майоратс-херра, давно забыт Лейтенантом, сумевшим приспособиться к быстро меняющимся условиям жизни накануне революции. Тоску героев по старому порядку Арним демонстрирует не отталкиваясь от возрастных условностей. Все пытающийся «совладать с Духом Земли» Майоратс-херр не выдерживает столкновения с материальным воплощением этого духа – Лейтенантом, его «близнецом» на нарративном уровне, представляющему собой красноносую и приземленно-осовремененную материализацию Адама-изкрасной-глины, которому «процессы милей любовей». Поэтому по пришествию новых порядков побеждает не старое поколение – а поколение «мира Необходимости», которое не имеет возраста. Популярная у романтиков тема двойничества находит в данной новелле Арнима самое широкое воплощение – в тексте читатель может наблюдать несколько различных типов бинарных оппозиций. По сути, почти каждый персонаж в данном тексте имеет целую толпу двойников – угасающих хоф-дам, болезненных майоратс-херров или комичных лейтенантов. Конкретно двойники-«близнецы» конструируют в восприятии читателя осознание четкой границы, проходящей между мирами, представителями которых они являются. Если исходить из того, что граница – это семантически значимое средство разделения тождественных или отличающихся формой пространств, задающее им определенные Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 31 разнородные для восприятия категории и определяющее понимание содержимого одного из них относительно другого, то нарративная роль оппозиции Лейтенанта и Майоратс-херра куда важнее, чем сам факт их существования. Стоящие на границе двух контекстов, между прошлым и будущим (или реальным и нереальным), они демонстрируют противоречивость и маргинальность социальных отношений перед грядущей и призванной перевернуть привычный порядок вещей революцией. Литература Arnim v. A. Erzählungen. Die Majoratsherren. Stuttgart, 2000. Stotko C. Erotische Raummetonymik in Achim v. Arnims «Die Majoratsherren». München, 2000. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973. М.В. Трухина (Саратов) Мотив ссоры в повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики» Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров Сборник «Миргород», вышедший в 1835 г. с подзаголовком «повести, служащие продолжением "Вечеров на хуторе близ Диканьки"», чрезвычайно интересен для нас, сосредоточивших свое внимание на реализации мотива ссоры в творчестве Н. В. Гоголя: во-первых, потому что семантически название «Миргород» связано с антонимом ключевого понятия нашего исследования, а во-вторых, потому что в состав этого сборника входит «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», в которой мотив ссоры является сюжетообразующим. Но перед тем как обратиться к центральной для нашей работы повести о двух Иванах, необходимо посмотреть, как воплощается мотив ссоры в других повестях «Миргорода» – прежде всего, в «Старосветских помещиках», открывающих сборник. Несмотря на исключительно мирный идиллический сюжет, мотив ссоры невидимой нитью проходит сквозь всю повесть о старосветских помещиках. Наиболее ясно и отчетливо он проявляется в так называемых «раздорах» Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. Они не просто возникают время от времени в жизни старосветских помещиков, но словно составляют самую её суть: Афанасий Иванович постоянно подтрунивает над Пульхерией Ивановной, заставляя её сердиться. При этом споры старичков абсолютно безобидны и не разрушительны. Такие слова, как «раздор», «ссора», «спор» даже не употребляются автором по отношению к этим беседам. «Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхериею Ивановною и поговорить о чем-нибудь постороннем» [Гоголь 1937: 24. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках], – пишет Гоголь. 32 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 И действительно, разговоры Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны больше похожи на веселую шутку. Они и в структуре своей имеют игровое начало: «"А что, Пульхерия Ивановна", говорил он: "если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?"» [24] Условное наклонение («если») создает некую выдуманную реальность, в которую Афанасий Иванович помещает жену, заставляя её искать выходы из простодушно и озорно смоделированных им ситуаций. Сами ситуации абсолютно неправдоподобны и вымышлены. И Пульхерия Ивановна прекрасно понимает, что ни на какую войну её муж не пойдет, хоть он и говорит об этом почти всерьёз, что он просто подтрунивает над ней, но, тем не менее, она сердится: «Я и знаю, что он шутит, но все-таки неприятно слушать» [26]. Старички будто начинают верить в то, о чем они говорят – эти беседы, насыщенные событиями, пусть и вымышленными, разбавляют мирное течение их спокойной, размеренной жизни, вносят устойчивое разнообразие. Таким образом, споры в «Старосветских помещиках» не только не мешают ходу жизни, но и, наоборот, делают её более содержательной, многообразной. Наряду со сложившимся спокойным и тихим укладом жизни помещиков – постоянными обедами, ужинами и прочими "подкреплениями", превратившимися в ритуал («А что, Пульхерия Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?» [21] – «Чего же бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? разве…» [Там же], далее следует длинный список блюд, которыми вполне можно накормить досыта несколько человек), торжественными, тоже почти ритуальными встречами и проводами редких гостей, солением и варением, эти повторяющиеся споры-пререкания-розыгрыши избавляют стариков от угнетающей и тяжелой скуки, о которой Гоголь вспомнит в конце повести о двух Иванах, воскликнув: «Скучно жить на этом свете, господа!» [276]. Если говорить метафорически, споры Афанасия Ивановича с Пульхерией Ивановной подобны игре в мяч: реплика Афанасия Ивановича («Ну, да положим, что дом наш сгорел, куда бы мы перешли тогда?» [24]) – ответ Пульхерии Ивановны («Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть: Бог этого не попустит» [24]) – вновь подача Афанасия Ивановича («Ну, а если бы сгорел?» [24]) – вынужденный ответ Пульхерии Ивановны («Ну, тогда бы мы перешли в кухню» [24]) – но Афанасий Иванович так просто не сдается («А если бы и кухня сгорела?» [24]). И так – до бесконечности. Пульхерия Ивановна участвует в этой игре против желания: ей приходится отбивать «летящие мячи»-реплики Афанасия Ивановича. Ход и результат игры известны старичкам заранее: Пульхерия Ивановна, привлекаемая к игре мужем, рассердится и не будет отбивать очередную подачу («Бог знает, что вы говорите! я и слушать вас не хочу!» [24]). Победа вновь достанется Афанасию Ивановичу: «Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановною, улыбался, сидя на своем стуле» [24]. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 33 Как мы видим, эти разговоры старичков совершенно бесцельны, их смысл в них самих, в их то и дело наполняющей тихое, безмолвное, идиллическое время самоценности. Примечателен тот факт, что с приближением смерти Пульхерии Ивановны эти шутливые споры прекращаются, несмотря на попытку Афанасия Ивановича, чувствующего приближение беды, вести разговор в привычной тональности: «Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились. Он хотел однако ж победить в душе своей грустное чувство и улыбнувшись сказал: Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна! Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковой» [30]. Но поскольку размеренное течение жизни уже нарушено надвигающимся прощанием с Пульхерией Ивановной, шутка становится неуместной и не переходит в обычный непринужденный спор старосветских помещиков: «"Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковой", сказала Пульхерия Ивановна. И Афанасию Ивановичу сделалось жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной, и он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице» [30]. Эта, казалось бы, незначительная перемена, подчеркивает, что споры были неотъемлемой частью размеренной жизни старичков, не разрушали её, а были необходимы для неё, украшали её, составляли её прелесть. А предчувствие смерти разрушает сложившийся уклад жизни старосветских помещиков, вычеркивает милые привычные споры-беседы из их повседневности, что становится своеобразным знаком, свидетельствующем о конце ничем не омраченных дней. Несмотря на споры, носящие идиллический характер, в «Старосветских помещиках» есть фраза, предвещающая ссору совсем иного характера, ссору, случившуюся между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем: «Какой-нибудь завоеватель собирает все силы своего государства, воюет несколько лет, полководцы его прославляются, и наконец все это оканчивается приобретением клочка земли, на котором негде посеять картофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь колбасника двух городов подерутся между собою за вздор, и ссора объемлет наконец города, потом села и деревни, а там и целое государство» [28]. В этих словах уже видны подходы к той самой ссоре из пустяка, «вздора», постепенно разрастающейся, становящейся масштабной и саморазрушительной. Однако Гоголь отмечает, что необходимо оставить эти рассуждения, потому что «они не идут сюда» [28], тем самым подчеркивает несовместимость, противоречивость споров помещиков и ссоры разрушительной, гибельной, несущей вред. Однако мотив ссоры проявляется в «Старосветских помещиках» не только на сюжетном и лексическом уровнях, но и на композиционностилистическом. С самого начала повести назревает своеобразный разлад между рассказчиком и современной ему действительностью. Явное 34 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 предпочтение повествователь отдает безмятежной жизни старосветских помещиков, противопоставляя её напыщенному блеску современности: «Жизнь их скромных владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют» [13]. Отрицательное отношение рассказчика проявляется, прежде всего, в характеристике современности: негативно окрашенная оценочная лексика сплошь и рядом присутствует в её описаниях («порождения злого духа» [13], «составляющие противоположность тем низким малороссиянам, которые выдираются из дегтярей, торгашей, наполняют, как саранча, палаты и присутственные места, дерут последнюю копейку с своих же земляков» [15]). Страстям и их проявлениям, столь распространенным в его время, рассказчик предпочитает тихий, спокойный, размеренный уклад жизни старосветских помещиков, постепенно отживающий своё, уходящий в прошлое. Пылкую и пламенную любовь, разрушительное горе, находящее утешение в новых привязанностях (эпизод с юношей, который потерял свою возлюбленную, предпринимал попытки к самоубийству и в итоге женился на молоденькой красавице) повествователь сравнивает с привычкой Афанасия Ивановича быть рядом с Пульхерией Ивановной, и сравнение оказывается в пользу привычки, которая, как выяснилось, увы, сильнее, чем страстная и нежная любовь молодости, современности. Кульминации же своей разлад повествователя и современного ему уклада жизни достигает в финальном абзаце повести. Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны уже нет в живых, вместо них поместьем управляет «дальний родственник, наследник имения» [38], пытается навести там «порядок», однако имение постепенно приходит в запустение. На сюжетном уровне никаких столкновений, раздоров, ссор не наблюдается. Но конфликт заключен уже в самой деятельности «наследника»: «Он увидел тотчас величайшее расстройство и упущение в хозяйственных делах; все это решился он непременно искоренить, исправить и ввести во всем порядок» [38]. Лексема «искоренить» – не просто повести хозяйство по-другому, изменить что-то, а именно искоренить, то есть не оставить следа, подчеркивает резкое противостояние образа жизнедеятельности старосветских помещиков и их так называемого наследника: «Накупил шесть прекрасных английских серпов, приколотил к каждой избе особенный номер» [38]. Пульхерия Ивановна, напротив, «в хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора <… > мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердным образом» [20]. К каким же результатам привела столь разная деятельность? «Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, <…> все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их [Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны] хозяйстве» [21]. В то время как «наследник» «так хорошо Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 35 распорядился, что имение через шесть месяцев взято было в опеку. Мудрая опека (из одного бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) перевела в непродолжительное время все куры и все яйцы. Избы, почти совсем лежавшие на земле, развалились вовсе; мужики распьянствовались и стали большею частию числиться в бегах» [38]. Таким образом, заочный спор, невольный, но вполне явный конфликт между образом жизни старосветских помещиков и «страшного реформатора» решаются в пользу Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. «Наследника» повествователь характеризует как «страшного реформатора», подчеркивая разрушительность его деятельности. В этом случае мы наблюдаем игру слов: в тексте слово «страшный» используется во втором значении – «Крайне сильный по степени проявления чего-н., весьма значительный (разг.)» [Ожегов, Шведова 1986: 715]. Однако не удается избежать ассоциации с первым значением слова: «Вызывающий, внушающий чувство страха, пугающий» [Там же]. Рассказчик словно намекает на то ужасающее запустение, вызванное реформами наследника. Но посмотрим, как еще описывает повествователь деятельность «реформатора». «Сам же настоящий владетель, который, впрочем, жил довольно мирно с своею опекою и пил вместе с нею пунш, приезжал очень редко в свою деревню и проживал недолго» [38]. Всего два слова, характеризующие отношения «наследника» старосветских помещиков с опекою, – «жил мирно» – открывают абсолютно новый аспект реализации мотива ссоры в произведениях Н.В. Гоголя. Если в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» ссора трактуется как явление, несущее зло, а мир – ключевой фактор, к достижению которого необходимо стремиться, то в «Старосветских помещиках» ситуация несколько иная. Симпатии повествователя целиком и полностью принадлежат такому образу жизни, который ведут Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, а вот деятельность «реформатора», напротив, вызывает лишь негативные эмоции у рассказчика. Но при этом «наследник» мирно сосуществует с опекою, а старосветские помещики ежедневно ведут шутливые споры. То есть ссора (спор как частное её проявление) больше не оценивается отрицательно и приобретает в определенные моменты и при определенных обстоятельствах шутливую окраску. Мир тоже уже не воспринимается исключительно как положительное явление – в случае «страшного реформатора» мирное сосуществование с опекой привело к полнейшему разорению. Явление ссоры приобретает ситуативную окраску – оно может быть уместно, а может – нет. Повесть «Старосветские помещики» дает принципиально иной взгляд на реализацию мотива ссоры в произведениях Н. В. Гоголя. Во-первых, ссора здесь никакая и не ссора даже, а некое едва уловимое (чуть-чуть назойливое) поддразнивание, которое лишено отрицательной коннотации, приобретающее в некоторые моменты забавную, шутливую окраску. Вовторых, в «Старосветских помещиках» возникает конфликт, а точнее говоря, 36 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 разлад на композиционно-стилевом уровне – между повествователем и современным ему жизненным укладом. Литература Гоголь Н.В. Миргород // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. 2. М., 1937. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1986. Т.А. Волоконская (Саратов) Один день Невского проспекта (О пространстве в повести Н.В. Гоголя) Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров Как известно, миражный характер Петербурга, его принадлежность к фантастическому антимиру – один из фундаментальных постулатов гоголеведения. В текстах писателя этот город неизменно выступает источником всего чрезвычайного и искажающего естественный ход жизни, порождает многочисленные странные превращения действительности. Но и внутри призрачного петербургского мира есть место, отличающееся странностью повышенной степени, удивительное даже на фоне общих метаморфоз города. Место это – Невский проспект, представляющий, на наш взгляд, несомненный образец характерного для Гоголя типа «заколдованного места» [См.: Кривонос 1996: 46]. Образ Невского проспекта к началу одноименной повести уже подвергся странному превращению. В тексте мы замечаем многочисленные детали и авторские оговорки, подтверждающие эту гипотезу. Так, например, в начальной характеристике улицы автор неоднократно подчеркивает ее резкое отличие от остального Петербурга (ср. «Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург» [Гоголь 1938: 9. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]). Самая необычная столичная публика посещает это место: здесь можно встретить не только людей, но и отдельные части человеческого тела (усы, талии, бакенбарды) и даже одежды (сюртуки, шляпки, рукава). Мир Невского – раздробленное пространство, в превращении которого не обошлось без вмешательства потусторонних сил: «…какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе» [24]. Это «заколдованное место», кроме того, способно вовлекать персонажей повести в сферу действия странных превращений и тем самым ее расширять – вспомним, что все «чрезвычайные происшествия» [33], случившиеся с Пискаревым и Пироговым, начались именно с их прогулки по Невскому. Попробуем яснее обозначить характер места, на котором начались их необычные приключения. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 37 Провоцируя самые различные странные превращения своих обитателей, Невский проспект тем самым поддерживает собственную вечно изменчивую природу. «Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! – восклицает автор. – Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток!» [10]. Последовательность и суть этих метаморфоз и составит предмет нашего исследования. Начальный статус проспекта в повести как места странного, отличного от других вроде бы позволяет считать его таким постоянно. Тем более неожиданным оказывается последующее описание утреннего вида улицы. В это время она, казалось бы, лишена необыкновенных черт одухотворенного злой волей «заколдованного места»: «…до 12 часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством» [11]. То же наблюдается на проспекте с 4 часов и до наступления сумерек. Мы можем отметить любопытную закономерность: свою особенную странность Невский приобретает, становясь местом прогулок аристократической и чиновной публики. В ее отсутствие («С четырех часов… вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника» [14]) все обстоит иначе – и мы поэтому начинаем сомневаться в универсальности характеристики, данной автором Невскому в начале повести. Кроме того, принцип изображения «одного дня из жизни» позволяет предположить регулярный, ежедневный характер такого временного возвращения Невского проспекта к вроде бы нормальному виду и статусу. Но так ли обстоит дело в действительности? Несомненная авторская подсказка кроется в том, что Невский проспект не только становится странным при появлении на нем общества определенного сорта, он и описывается через странности представителей этого общества: «Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте!» [13]. На стилистическом уровне, таким образом, странность улицы – метонимический перенос странности ее посетителей; уходя, они уносят эту странность с собой. Невский проспект – не цельная субстанция. Он состоит из множества шляпок, усов и рединготов, на которые его искрошил какой-то демон. Заколдованная сущность пространства раздробляется и словно бы «всасывается» в зачарованных им персонажей, сливается с ними и с ними же распространяется по всему Петербургу, совершая множество мелких превращений. Позднее, когда агенты «странного мира» возвращаются на Невский, «заколдованное место» восстанавливается и в таком концентрированном виде вновь готово служить источником всех фантастических метаморфоз, происходящих в повести. Это снова относительное единство, «без смысла, без толку» скрепленное волей демона: в сумерки «Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться» [24, 15]. Таким образом, получаем, что сущность «странного» – психическая, оно существует не в действительности, но в сознании персонажей. Так, в 38 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 голове «старых коллежских секретарей, титулярных и надворных советников» наблюдается все тот же искрошенный на куски хаос – «ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел» [14]. Именно благодаря этому свойству «странное» предполагает постоянные превращения подвластного ему мира: из своеобразного «гения места» оно переходит в бесчисленные формы внутренних человеческих «демонов» и, наоборот, с течением времени вновь собирается в локусе «выморочного пространства». Это и есть центральное странное превращение в «Невском проспекте». Его же, на наш взгляд, имеет в виду и В.Ш. Кривонос, когда пишет: «Утрачивающее форму пространство обнаруживает существенную у Гоголя способность "…трансформироваться непредсказуемым образом; не имея лица, оно предстает в виде разных обличий", определяя "характер живущего в нем человека"» [Кривонос 2009: 18]. В результате подобных размышлений закономерно возникает вопрос: что же, в таком случае, происходит непосредственно с Невским проспектом после исторжения им «заколдованности» и до ее возвращения? Уточним вставшую перед нами проблему, преобразовав ее в дилемму: можно ли говорить о восстановлении нормы в пространстве Невского в периоды с самого раннего утра до 12 часов и с 4 часов до наступления сумерек, или же интересующая нас улица в эти отрезки времени представляет собой нечто третье, равно отличное от нормы и искажающего ее «заколдованного места»? Если мы предположим первое художественное решение (восстановление нормы), мы будем вынуждены признать, что цепь трансформаций Невского является монотонной, однажды и навсегда установленной сменой двух состояний, в одинаковой степени внутренне цельных и противопоставленных друг другу столь резко, что возникает эффект их взаимного остранения. Иначе говоря, мы будем иметь дело с чередованием двух разных миров, оба из которых, однако, построены по образцу Космоса, то есть гармонично упорядочены и могут быть структурированы (хотя бы на поверхностном уровне). Действительно, без такого допущения мы не могли бы обнаружить столь четкой и регулярно выполняющейся схемы их взаимозамещения на пространстве проспекта. Однако подобный вывод противоречит самой сущности «заколдованного места», относящегося, безусловно, к типу не Космоса, но Хаоса. Вспомним, что демон не просто «искрошил весь мир на множество разных кусков», но и смешал их потом «без смысла, без толку» [24]. Ни о какой упорядоченности, следовательно, речи быть не может, да такая упорядоченность и помешала бы действию странных превращений. Внутреннее постоянство «заколдованного места» предполагало бы постоянство набора превращений, провоцируемых агентами этого пространства, уничтожало бы возможность взаимои даже противодействия нескольких факторов, влияющих на совершение той или иной метаморфозы. Превращения, таким образом, будучи замкнуты Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 39 пределами вдруг оказавшегося Космосом «заколдованного места», потеряли бы свою странную природу и получили бы логическое объяснение, соответствующее общей гармонии. Суммируя все размышления по этому решению предложенной нами дилеммы, можно сказать, что регулярное чередование «заколдованного места» с миром нормы и гармонии предполагает самоликвидацию первого через подмену Хаоса как основного принципа существования Космосом. Подобный результат прямо противоречит сюжету повести, в котором «беспорядок мира» не подлежит схематизации и преодолению [См.: Иваницкий 2000: 120]. Первое решение дилеммы можно отбросить как не подтверждаемое «Невским проспектом». Нам остается предположить, что с утра до 12 часов и с 4 часов до наступления сумерек Невский, исторгнув из себя «куски» «заколдованного места», является не нормой и не антинормой, а следовательно, представляет собой зияющее Ничто, лакуну. Автор оба раза подтверждает нашу мысль буквально: «Начнем с самого раннего утра… Тогда Невский проспект пуст»; «С четырех часов Невский проспект пуст…» [10, 14]. Однако это не естественная пустота как временная безлюдность улицы, а нечто иное, нечто опять-таки странное. Утром, как выясняется, проспект «иногда переходят… русские мужики», выше упоминается «сонный ганимед» из местной кондитерской, десятком строк ниже добавляются «сонный чиновник», «старики и старухи», «мальчишки в пестрядевых халатах» [10, 11]. То же и после обеда: на проспекте встречаются «какая-нибудь швея», «какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика», «какой-нибудь заезжий чудак», «какая-нибудь длинная высокая англичанка», «какой-нибудь артельщик», «иногда низкой ремесленник» [14]. И вот, несмотря на обилие людей на Невском, автор дважды заключает: «Невский проспект пуст» [11, 14]. Смеем добавить: как-то странно пуст проспект. «Пустота» его, видимо, требует специального объяснения. Секрет странного авторского комментария, на наш взгляд, объясняется авторской же скрытой иронией. Поясним нашу мысль: автор, выражающий, как известно, в начале повести общую с дамами-шляпками и мужчинами-бакенбардами точку зрения на Невский проспект, продолжает делать это и теперь, невидимо (но для читателя-то вполне очевидно!) иронизируя по поводу этой самой точки зрения. «Ирония <в «Невском проспекте»> очевидна, – считает В.А. Зарецкий. – Она дает себя знать и в той быстроте, с какою повествователь переходит от людей – как от предмета малосущественного – к бакенбардам, усам, талиям, улыбкам и т.д.; иронично и восторженное многословие, и непрестанное расширение перечня тех частей тела и одежды, которые наделены как бы самостоятельным бытием и ценимы как свидетельства преуспевания и преимуществ» [Зарецкий 1976: 40]. Именно эта ирония и объясняет авторское словоупотребление. 40 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Итак, Невский проспект «пуст», когда свойственное ему общество его покидает, поскольку иного общества ему не положено. С четырех часов «вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника», с утра чиновник «иногда… проплетется с портфелем под мышкою», но это чиновник «сонный», то есть потерянный между сном и явью, на проспекте его, можно сказать, и нет [14, 10]. Невский в это время заполнен «лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем» (в противовес обычной публике, для которой «он составляет всё») [11, 9]. Все они, кстати, тоже ненормальны: старики и старухи «говорят сами с собою», в артельщике «всё шевелится», чудак оказывается «заезжим», то есть иностранным человеком, – и все эти люди настойчиво определяются словом «какой-нибудь» [11, 14]. Это какой-нибудь – любой – кусок искрошенного демоном «заколдованного места», оказавшийся до такой степени не на своем месте («без смысла, без толку» [24]), что он становится странным не только для находящегося вне сферы действия «заколдованного места» читателя, но и для уже странной публики проспекта. Странности множатся и вырастают одна из другой, все более искажаясь. «Заколдованное место» развивается, поддерживая этим нагромождением метаморфоз свою жизнь. Это необходимое условие его существования формулирует Ю.М. Лотман: «…нормальным состоянием волшебного пространства становится непрерывность его изменений: оно строится, исходя из подвижного центра, и в нем все время что-то совершается» [Лотман 1988: 265]. В нашем случае центр Невского проспекта не просто подвижен – он неуловим, поскольку дробится и перемещается с помощью своих агентов. Итак, мы не только подтвердили странный (уточним: прогрессирующе странный) характер превращений Невского проспекта в повести, но и выяснили его психическую природу. Происходя в сознании персонажей произведения, странные превращения часто оказываются мнимыми (с точки зрения «ирреальной реальности» [См.: Манн 2007: 685] Невского): сны Пискарева, амбиции Пирогова, страхи Шиллера. Но даже и в том случае, когда метаморфозы происходят непосредственно с миром «Невского проспекта», они зависят от «заколдованности» сознания героя. Вспомним погоню Пискарева за брюнеткой: «Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз» [19]. Что происходит в действительности, мы не знаем, фантастические превращения совершаются на словах, описывающих то, как видит мир уже подвергшийся метаморфозам Пискарев. «Свершившееся равно возможному, – формулирует эту особенность гоголевской поэтики Иваницкий. – Возможное – это не только собственно языковой троп, но и такие знаки будущего или бывшего действия, как сон, ложь, Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 41 театрализованная мистификация, шутка, ирония, предание, слух, фантазия, видение, мечта, гипербола и т.д., где несвершившееся выступает как возможное и подлежащее свершению» [Иваницкий 2000: 32]. Иначе говоря, как метко сформулировал особенность гоголевской поэтики Ю.В. Манн, «у Гоголя фантастика ушла в стиль» [См.: Манн 1969: 124]. На сюжетном же уровне ей соответствует основное странное превращение: подмена реального Невского проспекта спектром несовпадающих странных миров, существующих в сознании или воображении его посетителей. Манн пишет по поводу сходных принципов поэтики другой петербургской повести Гоголя «Нос»: «Если бы это был сон, то пришлось бы признать, что это такой сон, который одновременно снится многим лицам» [Манн 2007: 683]. Позволим себе предположить: не сон, который одновременно снится многим лицам, но множество разных «снов», которые «снятся» разным лицам. Частичное совпадение и, следовательно, возможность взаимодействия этих «снов» обусловлены общей странной природой Невского проспекта и – шире – Петербурга. Такой вывод открывает перспективу для дальнейшего анализа повести: исследование особенностей взаимодействия «странных» сознаний персонажей как сюжетно-композиционный стержень всего произведения. Литература Гоголь Н.В. Невский проспект // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. 3. М., 1938. Зарецкий В.А. Петербургские повести Н.В. Гоголя. Художественная система и приговор действительности. Саратов, 1976. Иваницкий А.И. Гоголь. Морфология земли и власти. М., 2000. Кривонос В.Ш. Гоголь: Проблемы творчества и интерпретации. Самара, 2009. Кривонос В.Ш. Фольклорно-мифологические мотивы в «Петербургских повестях» Гоголя // Известия РАН. Серия литературы и языка. 1996. Т. 55. № 1. Лотман Ю.М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988. Манн Ю.В. Встреча в лабиринте. (Франц Кафка и Николай Гоголь) // Манн Ю.В. Творчество Гоголя: Смысл и форма. СПб., 2007. Манн Ю.В. Фантастическое и реальное у Гоголя // Вопросы литературы. 1969. № 9. Н.С. Кравцова (Саратов) Плут Земляника в «Ревизоре» Гоголя Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров Занимающая нас тема – мотив плутовства в драматургии Н.В. Гоголя. Однако эта тема является весьма обширной – с плутовством так или иначе соприкасаются все гоголевские персонажи. Кто-то плутует сам, кто-то оказывается замешан в чужих интригах, кто-то страдает от них. В связи с этим мы решили остановиться на одном образе – герое комедии «Ревизор» 42 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Артемии Филипповиче Землянике. То, что данный персонаж является плутом, мы будем считать положением, не требующим доказательств – именно этой характеристикой награждает Землянику автор в «Замечаниях для господ актеров»: «Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив» [Гоголь 1952: 94. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. В нашем исследовании мы попытаемся разобраться с тем, как плутовство проявляется в характере персонажа. Стоит оговориться – мы поведем речь именно о тексте комедии, не касаясь сценических воплощений образа. В первую очередь определимся, какой же набор качеств присущ любому плуту, и как эти качества трансформируются в сложном образе Земляники. Что касается словарной дефиниции слова «плут», то здесь мнения различных словарей почти не расходятся. Плут по Далю – «кто плутует, ловкий обманщик, мошенник, бездельник, нечестный человек, особенно в мелочах, надувала, оплетала, ошукала» [Даль 1982: 298]. Словарь Ожегова добавляет к этому еще одно значение – «плут – хитрец, лукавец» [Ожегов, Шведова 1999: 285]. Слово «проныра» словарь Даля толкует следующим образом: «быть пронырой; пролазничать, заниматься происками, хитрым и самотным искательством, быть пролазом, прошляком, пройдохой, строить козни, каверзы» [Даль 1982: 307]. Исходя из этих определений, можно заключить, что плут – человек ловкий, далеко не глупый, находчивый. Из любой ситуации умеет выкрутиться практически без потерь – а чаще всего и извлечь для себя выгоду. Каждый шаг его продуман, хотя и выглядит легкой и непринужденной импровизацией. И чем больше естественности в его действиях, тем дольше и тщательнее выстраивал он эту комбинацию. В жанре комедии наличие героя-плута – обязательное условие. Нередко он является главным положительным лицом (примерами в западноевропейской литературе могут служить Фигаро, Скапен и другие). В любом случае, в фабуле комедии именно плут, как правило, движет интригу пьесы. Однако рассматриваемый нами герой не оказывает на развитие событий такого глобального влияния. Артемий Филиппович Земляника – попечитель богоугодных заведений в некоем уездном городе. Здесь стоит оговориться, что, как пишет в своей книге «Поэтика Гоголя» Ю.В. Манн, этого персонажа в пьесе в принципе быть не должно. «Уже современники Гоголя отметили, что структура уездного города воспроизведена в комедии не совсем точно: одни важные должностные лица забыты, другие, наоборот, добавлены…» [Манн 2007: 192]. В число Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 43 добавленных попадает как раз Артемий Филиппович. В маленьких уездных городках того времени зачастую просто не было богоугодных заведений, они располагались чаще в губернских городах. Но это отнюдь не ошибка Гоголя: ведь он не описывал какой-то конкретный город, он создавал свой, вполне конкретный, но при этом все-таки обобщенный. И в таком городе не могло не найтись место такому яркому типажу. Следует отметить, что автор изначально наделяет своего персонажа едва ли не фарсовой характеристикой: «…очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив» [10]. Сочетание неповоротливости и пронырливости, неуклюжести и суетливости изначально сбивает читателя с толку, не дает понять, каков же он на самом деле. А следя за развитием действия, читатель и вовсе забывает о неповоротливости и крупных габаритах Земляники (в отличие от, разумеется, зрителя – у которого напоминание всегда перед глазами) – настолько быстро тот соображает, ловко действует и уверенно себя держит. Возвращает нас к изначальному описанию только письмо Хлестакова Тряпичкину, в котором тот называет нашего героя «свиньей в ермолке» [94]. Действительно, Земляника на протяжении всей пьесы принимает решения почти мгновенно. Если Городничего новость от неразлучных Бобчинского и Добчинского о том, что ревизор уже прибыл и обедает в гостинице, приводит в состояние паники, то Артемий Филиппович, хотя и обеспокоен, не теряет способности трезво мыслить. Он как бы между делом дает совет потерявшему голову Антону Антоновичу: Городничий. Две недели! (В сторону.) Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье!(Хватается за голову.) Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? - ехать парадом в гостиницу [21]. А затем, не дожидаясь, пока растерявшееся от страха начальство возьмет себя в руки, спешит позаботиться о себе: Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда. Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду. Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос [21]. За Земляникой водится ничуть не меньше прегрешений, чем за остальными его «коллегами»-чиновниками, даже больше – по их вине ведь не гибнут люди. И неприятностями визит ревизора ему грозит так же, как и остальным. Однако ведет он себя не в пример спокойнее и увереннее. Обратимся к четвертому явлению пьесы: утомленный переживаниями и 44 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 внезапным вниманием к его особе Хлестаков мирно почивает в комнатах у Городничего, а чиновники совещаются, что (а, точнее, как именно) им следует сделать. Судья расставляет всех по комнате, точно собираясь вести шахматную партию – но не долго ему приходится командовать парадом, Земляника почти сразу берет все в свои руки: Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять. Аммос Федорович. А что именно? Артемий Филиппович. Ну, известно что. Аммос Федорович. Подсунуть? Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть [57]. По сути, он первым озвучивает то, что понимают все присутствующие, но старается сделать это так, чтобы слово «взятка» не звучало из его уст. Артемий Филиппович говорит намеками, вынуждая судью заглотить эту наживку и самому сказать заветное словечко, проявить инициативу, которая может оказаться для чиновника роковой – никто же не знает, как поведет себя заезжий гость. Но решив, наконец, что нужно делать, герои оказываются перед другой проблемой: как это сделать. И здесь Земляника снова быстро прекращает все споры: Почтмейстер. Или же: "вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие". Артемий Филиппович. Смотрите, чтобы он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела так не делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует – чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните [58]. Его явно раздражает поведение «товарищей по несчастью»: и неудивительно, ведь их старания вероятнее всего могут привести к тому, что ревизор прогневается, а это, соответственно, повредит и нашему герою. Артемий Филиппович знает, как надлежит действовать. Но отправляться первым на встречу с неизвестным пока еще противником он не спешит. Это слишком рискованно – необходимо прощупать почву, оценить обстановку, поэтому сначала он отправляет к Хлестакову ЛяпкинаТяпкина, своего вечного соперника. Если все сложится удачно – что ж, Земляника своей очереди не упустит. Если же ревизор окажется принципиальным и денег не возьмет – Артемий Филиппович не только не понесет никаких убытков, но и избавится от конкурента. К Хлестакову он входит одним из последних. Это, как уже становится понятно, не случайно – Земляника, во-первых, идет по проторенной дорожке, точно зная, что его не выгонят с позором, а во-вторых, может быть уверен, что его беседу с проверяющим никто не подслушает. И Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 45 вероятно этот пункт для него даже более важен. Он идет к Хлестакову не просто с целью выгородить себя – он идет к нему, чтобы возвысить себя за счет унижения других. В отличие от трясшихся и мявшихся во время аудиенции чиновников, Земляника спокоен, услужлив, уверен в себе. Входит он «вытянувшись и придерживая шпагу» [63], говорить начинает официально, по всем правилам: Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника. Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться. Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях [63]. Своим тоном он сразу дистанцируется от предыдущих «ходоков к ревизору», заявляя одновременно с этим некоторые права на более близкое знакомство с Хлестаковым – в отличие от Ляпкина-Тяпкина, Хлопова и Шпекина он уже встречался с ним, принимал его на своей территории, и Хлестаков этот прием уже одобрил. Можно сказать, что их уже связали законы гостеприимства. И Артемий Филиппович тут же реализует полученный бонус – вместо того, чтобы предложить взятку, он выкладывает ревизору нелицеприятную информацию практически о каждом из чиновников. Больше того, он «пробует уйти, как бы забыв о взятке, но Хлестаков возвращает его и открыто вымогает «рублей четыреста» [Прозоров 1996: 51]. Чуть-чуть не повезло – Хлестакова успели развратить предыдущие просители, и сохранить свои деньги при себе Землянике не удается. Следует отметить два момента, которые кажутся нам очень важными. Первый – это фраза, произнесенная Земляникой в самом начале разговора: Хлестаков. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли? Артемий Филиппович. Очень может быть [64]. Второй – это повторяемый неоднократно Хлестаковым вопрос об имени попечителя богоугодных заведений. А сходятся эти два луча в одной точке. Земляника всякий – и никакой (в этом его сходство с Хлестаковым, о чем подробнее мы скажем чуть дальше). Он умеет оставаться неприметным. Хлестаков не запомнил с первого раза ни фамилию его, не имя-отчество, больше того – не запомнил толком и внешнего облика. Попытайся через какое-то время ревизор (будь он настоящим) уличить попечителя богоугодных заведений в клевете – он, возможно, и не вспомнит, кто именно с ним беседовал. И в то же время Земляника очень разный. И фамилия ему соответствует – ведь у ягоды земляники более тридцати сортов и огромная такая гамма вкусов – от приторно-сладкого до виннокислого. Вот и Артемий Филиппович меняется, подстраиваясь под обстоятельства, становясь таким, каким его хотят или ожидают увидеть – и вместе с тем 46 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 таким, как будет выгодно ему самому. Понять, где заканчивается маска и начинается человек, очень сложно. В какой-то момент читатель теряется, может показаться, что за маской – бесконечное множество других масок, что перед нами симулякр, копия без оригинала. Но – нет, не так это, и Гоголь еще покажет это в финале своей пьесы, когда сдернет со всех героев приросшие, казалось, накрепко, маски. Характер Земляники на протяжении действия пьесы раскрывается во взаимодействии с другими персонажами. Это и остальные чиновники, на фоне которых Артемий Филиппович получает возможность развернуться по-настоящему. Это и Хлестаков, с которым они представляют, по сути, два полюса – доведенное до крайности хитроумие и полнейшие простодушие и чистосердечие. Оба способны принимать любую форму, заполняя собой сценическое пространство, заставляя окружающих воспринимать их сиюминутный образ. Но у Хлестакова такая мимикрия по большей части неосознанна. Вот как объясняет это в «Поэтике Гоголя» Ю. Манн: «У Хлестакова необыкновенная приспособляемость: весь строй его чувств, психики легко и непроизвольно перестраивается под влиянием места и времени» [Манн 2007: 190]. И именно эта похожесть-контрастность позволяет лучше увидеть характеры обоих героев. Но, в первую очередь, это судья, Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, о котором мы уже упоминали выше как о вечном сопернике Земляники. Это человек, «прочитавший пять или шесть книг и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес» [10]. Судье хочется оказаться умнее, сообразительнее, находчивее других. И если это ему в большей степени удается с другими чиновниками уездного городка, то в Землянике он находит противника не просто достойного, но превосходящего его силами. Эти два героя находятся в состоянии вечного соперничества, их обращенные друг к другу реплики – постоянные пикировки, их разговоры развиваются едва ли не по фехтовальной схеме «удар – защита – выпад – укол». Артемий Филиппович. …Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует – чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните. Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба. Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества. Лука Лукич. Не могу, не могу, господа… Нет, господа, увольте, право увольте! Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 47 вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел. Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься, говоря о домашней своре или гончей ищейке… [58] И не случайно именно судью Земляника заставляет первым пойти на поклон к ревизору, и именно судье больше всех достается в кляузе Земляники. Но, несмотря на все их соперничество, Артемий Филиппович и Аммос Федорович очень похожи. Их реплики, обращенные не друг к другу, очень сходны по содержанию и структуре, они почти одновременно и почти одинаково реагируют на происходящие вокруг них события: Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор. Аммос Федорович. Как ревизор? Артемий Филиппович. Как ревизор? Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем. Аммос Федорович. Вот те на! Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай! [11] Однако Земляника более дальновиден, он может просчитывать комбинации на много ходов вперед, тогда как судья относится ко многому более легкомысленно: Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом. Аммос Федорович. Большому кораблю - большое плаванье. Артемий Филиппович. По заслугам и честь. Аммос Федорович (в сторону). Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы. Артемий Филиппович (в сторону). Эка черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. (Обращаясь к нему.) Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте [90]. Оба они льстят своему непосредственному начальнику, оба понимают, что не похож тот на генерала, но если у Ляпкина-Тяпкина срабатывает скорее чувство зависти, и именно его он успокаивает своей репликой в сторону, то Землянику беспокоит другое, и он спешит предусмотреть все ситуации, заручиться поддержкой в будущем возможного генерала Сквозника-Дмухановского. Проследив, как реализуется мотив плутовства в образе Артемия Филипповича Земляники, можно заключить, что так или иначе в характере этого персонажа присутствуют и трансформируются по-своему все 48 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 необходимые настоящему плуту качества: изворотливость, пронырливость, продуманность действий, находчивость. Он раскрывает свою плутовскую сущность при взаимодействии с другими персонажами, в первую очередь – Хлестаковым и Ляпкиным-Тяпкиным. Земляника умело скрывается, читатель на протяжении действия пьесы практически не видит его истинного лица. Литература Гоголь Н.В. Ревизор // Гоголь Н.В. Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1952. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М., 1982. Манн Ю.В. Творчество Гоголя. Смысл и форма. СПб., 2007. Ожегов С.И., Шведова Н Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. О.П. Геранчева (Саратов) «Постановщики» и «актёры» в пьесе Н. В. Гоголя «Игроки» Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров История мировой драматургии знает множество произведений, в которых актёры разыгрывают дополнительные спектакли внутри пьесы. Сразу вспоминаются «Гамлет» Шекспира, «Чайка» Чехова, «Багровый остров» Булгакова. Этот приём, получивший название «театра в театре» (театр в театре – вид спектакля, сюжетом которого является представление театральной пьесы, таким образом, внешняя публика смотрит пьесу, внутри которой публика, состоящая из актёров, также присутствует на представлении [Пави 1991: 349]), в комедии «Игроки» реализуется особым образом – перед нами пример блестящего театра в жизни, где герои пьесы сами сочиняют и воплощают свои сценарии. Ю. В. Манн указал на то, что «взаимодействие уровней игры определяет всю структуру комедии» [Манн 1987: 230], позволяя создать многоуровневый образ «игры-жизни» (о драматургии Гоголя и в частности об «Игроках» существует большое количество исследований Ю.В. Манна, В.В. Прозорова, Ю.М. Лотмана, С.Н. Дурылина, В.В. Гиппиуса, И.Л. Вишневской, К.М. Захарова и др.). В связи с этим интересно обратиться к понятию «драматическая игра» – «коллективная практика объединяющая группу «игроков» (а не актёров), которые коллективно импровизируют на заранее избранную и уточнённую ситуацией тему» [Пави 1991: 114]. Определение наглядно демонстрирует игру смыслов названия комедии, построенного на переплетении мотивов карточной игры и театрального спектакля. И действительно, уловки, к которым приходится прибегать шулерам в карточной игре называются постановкой, то есть так же, как и творческий процесс создания спектакля. В драматической игре, практически снимается разделение на актёра и зрителя, так как делается попытка привлечь каждого к участию в разработке сценической деятельности. Постановка контролируется художественным Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 49 руководителем и постановщиком, который отвечает за организацию и оформление сценического пространства. В современном театре обе эти функции часто выполняет один человек – режиссёр-постановщик. Проследим, как распределяются функции режиссёра, постановщика, актёра и зрителя между действующими лицами комедии «Игроки» во внутренних спектаклях. Важно отметить, что перед публикой предстаёт целая череда надувательских спектаклей шулеров, и построение пьесы напоминает своеобразную матрёшку «театров в театре». И первой плутовской постановкой становится попытка трёх шулеров – Утешительного, Швохнева и Кругеля – выдать себя за благородных дружелюбных постояльцев, чтоб добиться доверия Ихарева, которого впоследствии они планируют обыграть. Постановочной частью занимается Швохнев: он производит предварительный сбор информации, расспрашивая слугу Гаврюшу о хозяине, и именно он решает вступить в игру, хотя уже догадывается о шулерских способностях Ихарева. Утешительный выступает в своего рода амплуа «лучшего друга»: он ведет задушевную беседу, выражает самые возвышенные стремления, добивается доверительного и дружеского отношения от предполагаемых жертв своего шулерского братства. Это минипредставление стоит ближе к карточной постановке, чем к сценической. Когда попытка шулеров обыграть Ихарева проваливается, Швохнев как бы передаёт разработку плана действий Утешительному, который становится режиссёром-постановщиком главного и самого масштабного сценария для обмана Ихарева. В этой постановке принимает участие вся шулерская шайка, поддельные «Гловы» и некто Замухрышкин. Утешительный придумывает новый ход: открыться Ихареву во всём, чтобы завоевать доверие виртуозного картёжника и предложить работать вместе. Шулер озвучивает свои принципы: «В игре нет лицеприятия. Игра не смотрит ни на что. Пусть отец сядет со мною в карты – я обыграю отца. Не садись! здесь все равны» [Гоголь 1949: 75]. Или: «С этими людьми нужно тонко поступать. Не то как раз догадается, что его хотят обыграть» [Гоголь 1949: 83]. (Вероятно, такая напористая откровенность затуманила бдительность Ихарева, поэтому он, несмотря на свой опыт и природную хитрость, не увидел подвоха в поведении новоиспечённых партнёров). Ихарев охотно принимает предложение о создании шулерского союза, и игроки уже вчетвером начинают шулерскую атаку на Михайло Александровича Глова, а затем и на его сына Александра Глова. (Мошенники сравнивают своё положение с осадой неприятельской крепости, мысленно примеряя на себя ещё одну маску). И лишь в финале пьесы, Ихарев, а вместе с ним читатели или зрители, узнают о «дьявольском обмане» хитрых плутов, которые с помощью вымышленных персонажей, чиновника Замухрышкина, старшего и младшего Глова, талантливо разыгравших свои роли, выманили у Ихарева 80 тысяч. «Но только я просто готов сойти с ума – как это все было чертовски разыграно! как тонко! 50 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 И отец, и сын, и чиновник Замухрышкин! И концы все спрятаны! И жаловаться даже не могу! (Схватывается со стула и в волнении ходит по комнате.) Хитри после этого! Употребляй тонкость ума! Изощряй, изыскивай средства!..,<…>Черт возьми! Такая уж надувательная земля!» [Гоголь 1949: 100], – восклицает в финальном монологе поражённый Ихарев. Утешительный занимается и организационной частью процесса: приводит новых персонажей, очевидно, дав предварительные указания к исполнению придуманных им ролей, и провожает их, чтоб обсудить дальнейший ход событий. Так, например, отправляясь за Замухрышкиным, Утешительный не только создаёт иллюзию правдоподобности для Ихарева, но и подготавливает быстрый побег всей компании, который они осуществили сразу после получения денег. Швохнев выполняет функции помощника режиссёра, постоянно делится своими наблюдениями с лидером шайки. Об этом свидетельствуют ремарки: «(Утешительный, Швохнев и Кругель перешептываются между собою)» [Гоголь 1949: 75]. Из этой троицы Кругель выполняет самую пассивную роль, чаще всего отмалчивается, а Швохнев и Утешительный не упускают случая подшутить над ним. Остальные мини-спектакли входят в состав главной постановки Утешительного. Здесь мы выделяем спектакль для обыгрывания Александра Глова, в котором участвовал и сам Ихарев. Но Ихарев выпадает из этого спектакля как действующее лицо, когда разыгрывается попытка самоубийства Александра. Таким образом, выходит, что Ихарев одновременно играет и роль актёра шулерской компании, и является зрителем спектакля, который перед ним разыгрывает триумвират Утешительного-Швохнера-Кругеля вместе с Сашей Гловом. Юноша, исполняющий роль Александра Глова тоже, сам того не ведая, попадает в эту «матрёшку» постановок. С одной стороны он является актёром импровизированного театра Утешительного, а с другой стороны, оказывается зрителем спектакля, разыгрываемого перед ним тремя приятелямишулерами, которые обманывают его, не заплатив обещанные деньги. Особое положение Глова осложняется ещё и тем, что Гоголь оставляет читателю возможность по-разному интерпретировать инсценировку самоубийства проигравшегося гусара. Можно рассматривать этот эпизод как часть общего замысла шулеров, как эффектный трюк, окончательно убеждающий Ихарева в подлинности событий. Но кроме этого, можно предположить, что Александр Глов, увлёкшись игрой, сам придумал этот впечатляющий маневр, выступив, таким образом, в качестве сорежиссёра Утешительного: « У т е ш и т е л ь н ы й (в испуге). Ты! ты! что ты? с ума сошел! Побежать за ним, в самом деле, чтоб еще как-нибудь не застрелился» [Гоголь 1949: 84]. Испуг лидера обманщиков в этом случае вызван, скорее всего, не тем, что он действительно верит в желание Саши застрелиться, но неожиданностью поворота событий. Лидер картёжников боится, что Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 51 самовольство юнца погубит их план. В этом случае трое шулеров неожиданно для себя тоже становятся зрителями особой актёрской репризы. Режиссёры кинопостановок и театральных спектаклей «Игроков» решают эту интерпретационную задачу различно. Нельзя не отметить и ещё один особый внутренний сюжет, который возникает помимо воли шулеров, но, разумеется, по воле Гоголя, и обусловливается особенностями восприятия происходящих событий читателями и зрителями. Дело в том, что публика, как мы уже говорили, находится в таком же неведении, как и Ихарев, ловкий обман шулеров они принимают за чистую монету. Поэтому зрительское восприятие концентрируется на вымышленных взаимоотношениях любящего отца и сына, бессовестно обманутого шулерами. Свидетельства современников подтверждают наши догадки. «”Игроков”, – вспоминал Щепкин,– слушают в Москве, как самую ужасную, потрясающую драму, все принимают глубокое участие в молодом человеке, на котором покоится благословение и любовь отца и который гибнет среди шулеров, и неожиданная развязка поражает неизъяснимо» [Падерина 2008: 51]. Неожиданность финала невольно заставляет перечитать пьесу или пересмотреть спектакль, чтобы понять все скрытые «сценарные» и «режиссёрско-постановочные» смыслы, заложенные в репликах героев. Помимо этого, нам рассказано ещё 2 сценария, разыгранных шулерами ранее. Это история о том, как специальный агент игроков якобы случайно оставил в трактире сто дюжин крапленых карт, и в четыре дня проигрался весь город, и рассказ о картах, подброшенных барской дворне. В комментариях к полному собранию сочинений Гоголя в 14 томах исследователи отмечают: «Оригинальность гоголевских «Игроков» заключается в том, что интерес сосредоточен здесь не на карточной интриге, а на самом содержании ролей, разыгрываемых шулерами с целью обмануть Ихарева. Некоторые из лиц, разыгрывающих эти характерные роли, совсем не выступают без маски и так и остаются неизвестными зрителю и читателю (старик Глов, приказный Замухрышкин). Карточный анекдот служит в «Игроках» только поводом для обрисовки характерных персонажей» [Алексеев, Мордовченко 1949: 473-474]. И действительно, проанализировав описанные выше эпизоды, мы пришли к выводу, что в пьесе «Игроки» представлен не столько карточный азарт, сколько актёрский задор. Эта мысль подтверждается и особенностями поведения шулерской компании. Во-первых, шулера, как видно из их рассказов, всегда осуществляют свои мошенничества с помощью спектаклей. Примечательно, что беседуя о карточной игре, наши герои употребляют театральные словечки, например, «фатальный антракт», или рассказывают о разных ролях игроков, таких как «голь» и «перетыка». Во-вторых, у команды Утешительного есть специальные агенты, основное занятие которых – актёрство, способствующее реализации планов 52 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 шайки. К таким тайным помощникам относится Крыницын и Мурзафейкин. В-третьих, должники шулеров тоже привлекаются к участию в их театрально-карточных постановках. Пример – юноша, исполнивший роль Саши Глова. И наконец, показателем актёрской страсти шулерской братии является и вплетение в сценарий одурачивания жертв избыточных для этой цели элементов. Таким эффектным театральным штрихом можно считать инсценировку попытки самоубийства Саши. (Ещё один вариант интерпретации данного эпизода). Кроме того, интересно посмотреть и на поведение Ихарева. Он неоднократно пробует стать режиссёром собственной надувательской постановки, когда пытается обыграть шулеров, и выступить в качестве помощника режиссёра для Утешительного, активно предлагая свои советы по поводу выстраивания отношений с обоими Гловами. Но в действительности ему удаётся сыграть только роль актёра в труппе Утешительного, когда осуществляется псевдообман Глова. И на протяжении всей пьесы он является зрителем, даже жертвой, мастерских плутовских постановок шайки Утешительного. Итак, каково же распределение функций персонажей во внутренних спектаклях? Утешительный – режиссёр; постановшик; актёр в амплуа «лучшего друга». Швохнев – помощник режиссёра. Кругель, Крыницын (Михайло Глов), Мурзафейкин (Замухрышкин) – актёры. Проигравшийся юноша без имени в роли Саши Глова – актёр; (постановщик, если сам придумал сцену самоубийства). Ихарев – пытается быть постановщиком, но безуспешно; псевдоактёр в труппе Утешительного, поскольку все остальные персонажи знают о его актёрстве; главный зритель, на которого направлены внутренние спектакли «труппы» Утешительного. (Роли слуг мы не рассматривали). В книге «Гоголь и его комедии» И.Л.Вишневская убедительно доказывает, что «”Игроки” занимают особое положение среди других произведений Гоголя, служа как бы «полигоном» для идей, образов, сопоставлений, либо уходящих вперёд к новым гоголевским работам, либо подытоживающих то, что уже было сделано» [Вишневская 1976 : 103]. И действительно, приём «театра в театре» и понятие «драматической игры», так необычно и ярко представленные в «Игроках», возникают и в «Женитьбе», где Кочкарёв берёт на себя роль свахи и становится «режиссёром» свадьбы, и в «Ревизоре», где чиновники-плуты то и дело разыгрывают свои мини-спектакли, и в «Театральном разъезде». Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 53 Литература Алексеев М.П., Мордовченко Н.И., Назаревский А.А., Слонимский А.Л. Комментарии // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. 5: Женитьба; Драматические отрывки и отдельные сцены. М.; Л., 1949. Вишневская И.Л. Гоголь и его комедии. М., 1976. Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. 5: Женитьба; Драматические отрывки и отдельные сцены. М.; Л., 1949. Манн Ю.В. О понятии игры как художественном образе // Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987. Пави П. Словарь театра. М., 1991. Падерина Е.В. Старое и новое в непревзойдённой гоголевской развязке «Игроков» // Вопросы литературы. 2008. №2. Е.А. Зюбина (Саратов) Художественное своеобразие произведения Артура Шницлера «Комедиантки» Научный руководитель доцент О.В. Козонкова Произведение крупного австрийского писателя и драматурга рубежа XIX XX вв. Артура Шницлера «Комедиантки» было создано в 1893 г. и относится, таким образом, к раннему периоду творчества автора. Этот прозаический текст состоит из двух частей, каждая из которых названа по имени соответствующей главной героини: первая называется «Хелене», вторая «Фритци». Эти части не связаны между собой ни сюжетом, ни образом рассказчика, ни местом действия. Тем не менее, А. Шницлер объединяет эти две вполне самостоятельные психологические новеллы в одно произведение и дает ему название «Комедиантки». Героини новелл определяются так не только и не столько из-за сценической деятельности обеих (Хелене – драматическая актриса, Фритци – оперная певица), но главным образом потому, что для А. Шницлера основным качеством каждой женщины является присущий ей талант актрисы, комедиантки, то есть способность к притворству и разыгрыванию ролей, в том числе и в реальной жизни, за пределами театра. В данной статье мы постараемся определить, почему эти так не похожие друг на друга новеллы автор счел необходимым объединить в одно произведение. Комедиантка – образ довольно распространенный в прозаических произведениях А. Шницлера. Проблема реализации женщины в искусстве, в частности на сцене, – одна из основных для этого автора. Сцена была единственной возможностью для женщины в Австро-Венгрии рубежа XIX XX вв. почувствовать себя свободной и независимой от мужчины, иметь профессию. Но эта жажда свободы часто лишала ее возможности быть 54 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 хранительницей очага, матерью, приводила к сексуальной раскрепощенности. «Комедиантки» в обществе воспринимались как товар для богатых покровителей, как «падшие» [Fliedl 1997: 152]. Комедиантки изображаются произведениях А. Шницлера в основном как «сверхмарионетки» [Schnitzler 1983: 14], не способные чувствовать, быть личностью и женщиной, развращенные, лживые, живущие настоящим, не помнящие прошлого и не думающие о будущем, они несут на себе печать болезней времени – истерии и амнезии. Таковы певицы в новеллах «Судьба барона фон Лейзенбога», «Чувствительный», «Эксцентричная», актрисы в романе «Тереза», новеллах «Маленькая комедия», «Умерший Габриэль», повести «Фрау Беате и ее сын». В первой части произведения показана сцена прощания между Хеленой и Рихардом, мужчиной, которого она любит. Сознавая, что чувства любимого к ней, возможно, не так глубоки, как её собственные, а, возможно, и чтобы облегчить себе и ему расставание (мотивы героини остаются не до конца ясными), Хелене играет роль холодной, расчетливой, не способной к любви актрисы, которая не любила, а только проверяла на мужчине свой актерский талант. Она утверждает, что единственной любовью её жизни является искусство, и ей было интересно, сможет ли она достоверно изобразить чувства, которых не испытывала. «Я должна играть, играть комедию, всегда, всюду. Я всегда ощущаю эту потребность, особенно там, где другие испытали бы большое счастье или глубокую тоску. Я всюду ищу повод для роли» (Здесь и далее перевод осуществлен мной. – Е.З.) [Schnitzler 1961: 213. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Недоверчивый, разочаровавшийся в женщинах Рихард убежден в том, что признание Хелены было настоящим. Он замечает в ней невольное обещание принадлежать ему, а также желание защищаться. Ее признание в любви принесло ему, не верящему ни одному слову женщин, миг настоящего счастья; ночью он долго гулял под ее окнами. Тем не менее, он рад ее отъезду, разрыву отношений, своему освобождению. Но на ее слова: «Расстанемся же с улыбкой, так все-таки намного лучше» [214], Рихард только молча смотрит ей вслед, то ли чувствуя обиду из-за ее комедий, то ли все-таки не желая отпускать ее, то ли радуясь освобождению, то ли испытывая все эти противоречивые чувства одновременно. То, что утверждения героини ложны, что она действительно была влюблена, а не играла роль влюбленной женщины, становится ясным из замечаний рассказчика (эта часть произведения написана от третьего лица). Особенно финал новеллы – глубокий вздох Хелены, когда Рихард уже не мог видеть её из своего окна, торопливые шаги, словно она хотела убежать, – говорят о волнении, о глубоком переживании. Хелене образ фактически уникальный для Шницлера, так как эта комедиантка имеет определенно положительные черты. Хелене хочет Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 55 казаться хуже, чем есть, закрывается позицией комедиантки, надевает маску, чтобы скрыть чувства. Во второй части рассказчиком выступает мужской персонаж новеллы, писатель, не названный по имени, поэтому мы видим главную героиню Фритци как бы «извне», его глазами, и узнаем гораздо меньше о её внутреннем мире, в отличие от первой части, где наличие автораповествователя позволило прочувствовать героиню изнутри. Здесь показываются два эпизода из жизни Фритци и рассказчика, две встречи. Вторая встреча с известной оперной певицей пробудила воспоминания о первой, которая состоялась в далеком прошлом и почти уже совсем изгладилась из памяти рассказчика, так как была для него совершенно незначительным событием. Много лет назад писателя и никому тогда еще не известную певичку Фритци связывали близкие отношения. И встреча, которая вспоминается рассказчику, их последнее свидание. Писатель, осознавая мимолетность этих отношений, тяготится встречей. Но неловкости во время прощания удается избежать. Весть о пожаре в театре приводит Фритци в панику, отпустив руку своего кавалера, она скрывается в толпе и, как ему тогда казалось, из его жизни. Спустя много лет рассказчик снова увиделся с Фритци. Она стала популярной певицей, все жители Вены в восторге от нее. Не менее популярна в обществе и ее захватывающая история о той ночи, когда горел театр, которую она рассказывает с талантом драматической актрисы. Зная, благодаря рассказчику, как на самом деле все происходило в ту ночь, мы понимаем, что рассказ Фритци – выдумка от начала до конца, кроме самого факта пожара, в нем нет ни слова правды. Но фантазия Фритци придает ей ореол исключительности, выделяет её из толпы и, в конечном счете, способствуют её успеху в обществе. Благодаря своей славе она становится более привлекательной для рассказчика. Он наблюдает за вдохновенной, увлеченной своей фантазией Фритци, и, несмотря на появившуюся симпатию к ней, у него промелькнула мысль, что «мы, мужчины, все-таки лучше!» [218]. Это утверждение можно трактовать двояко. С одной стороны как объективное определение мужчины как менее хитрого, более прямого, чем женщина, существа, выражающее и авторскую мужскую позицию. С другой стороны как скрытую иронию автора, разоблачение бессознательного, необоснованно самодовольного эгоизма мужчины. Образ Фритци более характерен для творчества Шницлера, её легкомысленность, расчетливость, притворство, доступность для мужчин делают её похожей на других комедианток в его произведениях. Постараемся объяснить, почему эти новеллы объединены в одно произведение. Мы полагаем, что основная идея произведения, отражающая позицию автора новелл, заключается в том, что по своей сущности каждая 56 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 женщина – актриса, постоянно или хотя бы время от времени испытывающая потребность играть роль (этой точки зрения придерживается и крупнейший исследователь творчества А. Шницлера К. Флидль [Fliedl 2005: 125]). Образы Хелены и Фритцы дополняют друг друга по принципу контраста. Они обе разыгрывают роли, но из разных побуждений: одна – чтобы защититься, другая – чтобы добиться большего успеха. Зрителями в обоих случаях являются мужчины, имеющие общие черты, что служит дополнительным связующим звеном между частями. В обоих случаях это люди, причастные миру искусства (в первой части пианист, во второй писатель), оба выражают недоверчивую, скептическую позицию мужчины той эпохи и, прежде всего, самого автора по отношению к женщине. При этом писатель-рассказчик второй части благодаря повествованию от первого лица, которое открывает его самые сокровенные мысли, позволяет читателю лучше постигнуть мужскую психологию и дополняет, раскрывает образ Рихарда из первой части, показанного исключительно извне и оставшегося более закрытым для читателя. На наш взгляд, есть еще одна точка соприкосновения у этих двух новелл – это ситуация прощания навсегда, которая, как мы полагаем, имеет автобиографическую основу. Возможным прототипом образа Хелены является актриса Мария Глюмер, с которой А. Шницлер расстался незадолго до написания новеллы. Он испытывал страстную любовь к ней, но не мог на ней жениться, у их отношений не было будущего. Возможно, этим объясняется такой необычный для А. Шницлера положительный характер комедиантки первой части новеллы. После расставания А. Шницлер еще долгое время испытывал тоску по любимой, не мог вычеркнуть ее из своей жизни. Вторая новелла и в этом отношении бросает отсвет на первую. Рассказчик-писатель второй части думал, что больше не увидит Фритци никогда, но неожиданно встретил ее через много лет. Такой поворот сюжета заставляет по-новому взглянуть на сцену между Хеленой и Рихардом: прощание навсегда, каковым оно кажется обоим персонажам, может окончиться встречей. Жизнь для А. Шницлера непредсказуема, повороты судьбы нельзя предугадать и просчитать. Рассказ о Фритци – это завершение рассказа о Хелене, он о том, что «прощаний навсегда» не бывает. Таким образом, мы можем сделать вывод, что А. Шницлер неслучайно объединил два, казалось бы, столь различных текста в одно произведения. Новеллы «Хелене» и «Фритци» дополняют друг друга контрастными образами комедианток, похожими образами недоверчивых мужчин-художников и развитием ситуации расставания навсегда. Образы комедианток похожи тем, что им свойственна внутренняя потребность играть роли, их различие – в том, для чего они реализуют эту потребность. Образы мужчин-художников сближает то, что они воспринимают разрыв отношений с облегчением; образ писателя объясняет мужскую позицию в Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 57 данном произведении. Сквозной мотив прощания навсегда разрешается в новелле «Фритци» убеждением, что жизнь непредсказуема и прощание навсегда вдруг может закончиться встречей. Литература Fliedl K. Artur Schnitzler. Stuttgart, 2005. Fliedl K. Artur Schnitzler. Poetik der Erinnerung. Wien, 1997. Schnitzler A. Aphorismen und Betrachtungen. Frankfurt a/M., 1983. Schnitzler A. Komödiantinnen // Schnitzler A. Gesammelte Werke. Die erzählenden Schriften. Bd. 1. Frankfurt a/M., 1961. Н.С. Кацуба (Саратов) «Лироирония» Игоря Северянина Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина С первых публикаций И.Северянина обозначилась основная проблема в восприятии его творчества: читатель не знал, по какому коду прочитывать все эти «хабанеры» и «поэзы». Авторская позиция явно двоилась, расщеплялась, лирический герой лукаво подмигивал, примерял разные маски и признавался: «входим в роли мы совсем непроизвольно» [Северянин 1991: 22]. Перед такой авторской стратегией терялись даже опытные коллеги по цеху: «Не всегда ясно, иронически ли изображает поэт людскую пошлость, или, увы! сам впадает в мучительную пошлость», – признавался Валерий Брюсов [Брюсов 1975: 451]. «Привычку к иронии» отмечал у эго-футуриста Николай Гумилев. А Валерий Брюсов прямо констатировал двойную эстетическую природу северянинского творчества: «Это – лирик, тонко воспринимающий природу и весь мир и умеющий несколькими характерными чертами заставить видеть то, что он рисует <…> Это – ироник, остро подмечающий вокруг себя смешное и низкое и клеймящий это в меткой сатире» [Брюсов 1975: 450-451]. Необходимо заметить, что и в отзывах современников, и в авторском сознании нет четкой дифференциации иронии от других видов комического: ирония, сатира, юмор, сарказм часто употребляются как синонимы: «В сатире жалящей искала лирики, / Своей бездарности спев панегирики, / И не расслышала (иль то – политика?) / Моей иронии глухая критика…» [Северянин 1915б: 123], «большой ироник и шутник», «вспомнив сарказмно о порохе» [Северянин 1991: 14]. «Лироирония» – таким индивидуально-авторским неологизмом определяет Игорь Северянин свою творческую манеру. Это определение содержит внутреннее противоречие. Как известно, лирика – это прямое, непосредственное излияние авторских чувств, впечатлений, мыслей. По Аристотелю, это способ подражания, когда автор остается «самим 58 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 собой». Лирическое произведение отличает единство настроения и единый субъект речи и сознания. Гегель положил в основу определения лирики принцип субъективности, поскольку в ней объект и субъект высказывания совпадают. Именно поэтому настоящей лирике противопоказана ирония. Ирония – это всегда взгляд со стороны, даже если это самоирония. Она демонстрирует рассогласованность границ внутреннего Я героя и внешнего бытия. Равновесие Я и мира нарушается либо в сторону самоутверждения субъекта, либо в сторону его самоотрицания. В ироническом высказывании не может быть единства отношения (оно двоится), единства лирического высказывания (говорится одно, а подразумевается другое), прямой оценочной точки зрения. Безусловно, существует ролевая лирика, ироническая и сатирическая поэзия, нарушающие постулаты лиричности, но они никогда не становятся магистральной линией развития лирики, которая по сути своей автопсихологична. Как отмечает В. Хализев, «Лирика в большей мере, чем другие роды литературы, тяготеет к запечатлению всего позитивно значимого и обладающего ценностью. Вряд ли она способна плодоносить, замкнувшись в области тотально скептицизма и мироотвержения» [Хализев 2009: 306]. В большинстве своём лирические произведения чуждаются иронии, которая становится для лирической стихии чем-то слишком сознательным и отрезвляющим. Сам Северянин осознает двойственность эстетической природы своих произведений: «Допустим, я лирик, но я – и ироник» [Северянин 1915б: 31], «Ведь, я лирический ироник: / Ирония – вот мой канон» [Северянин 1988: 172]. Наличие противительного союза «но», частицы «ведь» подчеркивают парадоксальность северянинской «лироиронии». И все же поэт считает, что сегодня нельзя быть только лириком: «Неинтересен он, бряцающий на лире» [Северянин 1990: 29], современный поэт должен быть «Ироником с головы до ног». Равноправие двух стилистических доминант – лирической и иронической – Северянин подчеркивает созданием двух одинаковых по словообразованию неологизмов – «лириза» и «ирониза». Признавая невозможность прямого лирического высказывания («Все веет палитрою Бунина»), поэт все же осознает иронию как болезнь лирики: «Ведь, всё-таки я ироник / С лиризмом порой больным…» [Северянин 2002: 420]. Отношение к иронии как к болезни века восходит к статье А.Блока «Ирония»: «Эта болезнь – сродни душевным недугам и может быть названа «иронией». Её проявления – приступы изнурительного смеха, который начинается с дьявольски-издевательской, провокаторской улыбки, кончается – буйством и кощунством <…> Не слушайте нашего смеха, слушайте ту боль, которая за ним» [Блок 1962: 345]. Давно замечено, что ироническое начало актуализируется в эпохи утраты твердой иерархии ценностей, когда все подвергается сомнению и отрицанию. Релятивизация сознания одинаково характерна для эпох романтизма и модернизма. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 59 Ирония И.Северянина типично модернистская: «Мы шутим – как тогда! / лелея нашу боль» [Северянин 1991: 22], «И больно-сладостно, и вешне-радостно», «Душе вашей бально-больной». Продуктом лироиронии становится больная лирика: «больная поэза», «поэза душевной боли», «как лейтмотив больной симфонии», «дрожит моя больная лира». «Лироиронией» называется третья часть сборника «Поэзоантракт». Здесь чётко прослеживается мотив болезни: «Знаешь ли, ангел здоровья, горячечный бред?», «Бедная муза моя, что сегодня с тобою?» [Северянин 1988: 142]. Автор предпочёл бы избавиться от болезненного состояния: «Я бы хотел, аромат разливая здоровья» [Там же]. Но это невозможно, поскольку ирония не личная беда автора, а диагноз поколения: «На море смотрим мы угрюмо, / Сосредоточенно жуем, / Вдруг раздражаясь иронизой / Над веком, денежным подлизой, / И символически плюем» [Северянин 2002: 415]. Как заметил А. Блок, для этого поколения нет тем и объектов, закрытых для иронии: «Мы видим людей, одержимых разлагающим смехом, в котором топят они, как в водке, свою радость и свое отчаяние, себя и близких своих, свое творчество и свою жизнь и, наконец, свою смерть» [Блок 1962: 346]. Ирония Северянина часто направлена на так называемое «светское» общество и на саму иронию, ставшую хорошим тоном в любой светской беседе: «О, фешенебельные темы! от вас тоска моя развеется! / Трепещут губы иронично, как земляничное желе… / – Индейцы – точно ананасы, и ананасы – как индейцы… / Острит креолка, вспоминая о экзотической земле» [Северянин 2002: 62]; «За чаем мы болтали славно, / Иронизируя над тем / Или иным своим собратом» [Там же: 426]. Объектом иронии становятся читатели и критики, которые не понимают новаторское творчество. Такая ирония служит средством самоутверждения: «Забавно вспомнить: две газеты / Чуть не дрались из-за меня. / «Он создал слово «триолеты», / Значенье нам не объясня…» [Там же: 448]. Обвиняя Северянина в самовлюбленности, критики не учитывали специфики провозглашенной им поэтической школы эго-футуризма и упорно не замечали весьма частой у поэта самоиронии. С грустью осознавая свою невостребованность у широкой публики («сам себе себя читая»), он иронически обыгрывает даже лестный для него титул «Короля поэтов», называя себя «наикорольнейший король», прибегает к приемам автоцитации и самопародирования: «Кто я? Я – Игорь Северянин, / Чье имя смело, как вино!» [Северянин 1990б: 203]. Самоирония выражается и в несобственно-прямой речи критиков в адрес поэта: «И взвоют «евнухи Парнаса», / Кружась передо мной волчком: / «Позволь, о автор «Ананасов», / Тебя ругнуть… чуть-чуть… бочком» [Северянин 1990а: 180]. Одна из лирических масок, которую примеряет на себя Северянин, – «иронизирующее дитя» – сочетание столь же оксюморонное, как и «лирический ироник»: оно вбирает в себя детскую непосредственность, 60 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 наивность, «мудрую ребёнкость», «российский бебеизм», иронически остраняющие банальное взрослое зрение. Иронию Северянина необходимо рассматривать и как эстетическую категорию, и как стилистический прием. Способы проявления иронии в текстах поэта многообразны: гротеск, парадокс, пародия, остроумие, гипербола, контраст, соединение разных речевых стилей. Ироничными могут быть неологизмы Северянина, соединяющие высокую и низкую лексику: «грёзоторт», «грёзогрейка», «грёзоломня», «грёзомыка». Иронично звучат созданные поэтом по нестандартным моделям существительные женского рода: одушевленные – «поэтичка», «поэтша», «авторша», «властелинша», «кандидатка» и неодушевлённые – «пустынька», «моноложки» (короткие монологи), «недужинка» (небольшой недуг). Иронический эффект возникает в неологизмах, образованных с помощью начального «полу»: «была ему полуверна», «полуцари», «полуанекдот», «В Париже – полу-Петербург, / Полу-Москва». Частотный приём лирики Игоря Северянина – это поэтическая игра слов с целью создания каламбура, который тоже может служить достижению иронического эффекта: «Так в критиническом размахе / Рычала критика досель» [Там же: 75]. Своё пренебрежительное отношение к критике автор выражает при помощи окказионального прилагательного «критинический», созвучного со словом критика. Для передачи иронического отношения Северянин любит использовать парадоксы: «Поэза маленького преувеличения», «Поэма Беспоэмия», «И стихотомы… без стихов!». Ироническое звучание фразе может придавать и синтаксис: «Не вы ль, о футуристы-кубо, / Происходящего виной?» [Северянин 1921: 37], «О, вы, поэзовечера, / Но не на блещущей эстраде, / А на лужайке у костра, – / Не денег, а искусства ради, – / Признательный, забуду ль вас?» [Северянин 1988: 256]. Частое использование междометия «ах», особенно определенным образом интонированное, тоже создает комический эффект: «Ах, я не знаю, ах, я – фиалка» [Северянин 2002: 29]. Возвышенно-одическое междометие «О!» в сочетании с бытовой лексикой также маркирует ироническую интонацию: «Услышь, о Господи, мой грешный рот…» [Северянин 1915а: 30]. Проявления иронического начала в лирике Игоря Северянина многообразны. Поэзия отца эго-футуризма представляет собой особый, никому более не свойственный индивидуальный сплав лирического переживания и иронического отношения к миру. Ироническая оценка формирует принцип поэтического мышления автора, отражает особенности его мировоззрения и поэтики. Литература Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии. М., 1957. Блок А.А. Ирония // Блок А.А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. Брюсов В.Я. Статьи и рецензии. 1893-1924 // Брюсов В.Я. Собр.соч.: в 7 т. Т. 6. М., 1975. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 61 Игорь Северянин. Царственный паяц. Автобиографические материалы. Письма. Критика. СПб., 2005. Северянин И. Ананасы в шампанском. Поэзы. Репринтное воспроизведение издания 1915 г. М., 1991. Северянин И. Избранное. Смоленск, 2002. Северянин И. Менестрель. Новейшие поэзы. Том XII. Берлин; М., 1921. Северянин И. Поэзоантракт. Пятая книга поэз. М., 1915. 1915а Северянин И. Соловей. Поэзы. Репринтное воспроизведение издания 1923 г. М., 1990. 1990а Северянин И. Стихотворения. М., 1990. 1990б Северянин И. Стихотворения. Поэмы. Архангельск, 1988. Северянин И. Wictoria Regia. Четвёртая книга поэз. М., 1915. 1915б Хализев В.Е. Теория литературы. М., 2009. И.А. Пашкова (Саратов) Образ Первой мировой войны в поэтическом сборнике Альберта Эренштейна «Человек кричит» Научный руководитель – доцент О.В. Козонкова Альберт Эренштейн, австрийский поэт-экспрессионист, сегодня мало известен. Он родился в Вене в 1886 году в семье еврейских эмигрантов из Венгрии, изучал историю и философию в Венском университете. Стихи Эренштейна были впервые опубликованы в 1910 г. в журнале Карла Крауса «Факел». В 1920-е гг. он много путешествует, знакомится с китайской культурой, переводит средневековую китайскую литературу. В начале 1930-х гг. поэт был внесён нацистами в чёрный список и был вынужден эмигрировать в США. Альберт Эренштейн умер всеми забытый в 1950 г. в нью-йоркской больнице для бедных. Литературное наследие А. Эренштейна составляют семь поэтических сборников, новеллы, эссе, переводы и подражания средневековой китайской литературе. Основными темами его творчества были темы, характерные для экспрессионизма в целом: нравственное падение человека и будущее человечества. А. Эренштейн был одним из немногих авторов той эпохи, кто в своём творчестве выступал против ужасов Первой мировой войны. Тема войны является одной из главных и в его поэтическом сборнике «Человек кричит» (1916). В настоящей статье мы рассмотрим воплощение этой темы в стихотворении «Walstatt» («Поле битвы»). WALSTATT Weiß weint der Schnee auf den Äckern, bitterlich schwarz sind die Witwen, grün warst Du, Wiese des Frühlings, gelb verkrümmt sich das Herbstlaub, 62 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 grauer Soldat im Felde, rot sinkst Du hinab zur hündischen Erde, unter des Himmels unverfrorenem Blau. Mit glockenhell donnernden Schwingen senkt es sich nächtig ins Tal. Flügelschlag wegbläst die feig glimmernden Sterne, über die Röchelnden reckt sich vampyrisch der Roch, Verwundete, Leichen sind seine Nahrung. [Ehrenstein 1997: 97] Непривычно звучащее для современного слуха существительное die Walstatt, вынесенное в название стихотворения, было архаизмом уже в момент создания произведения. Вместо него для обозначения поля боя широко применялось слово das Feld. Тем не менее, мы можем с большой долей вероятности предположить, что поэт намеренно выбирает архаизм. В древнескандинавском языке это слово служило для обозначения всех погибших на поле боя. Его первый компонент – wal – этимологически связан со словами Вальхалла и валькирия. Для творчества А. Эренштейна характерно использование образов из различных мифологий. Этим он придавал изображаемым им картинам вселенский размах и ощущение вневременности. На черно-серо-красном фоне всего поэтического сборника данное стихотворение поражает богатством цветов. Однако это красочное описание весны не радует душу. Образ тающего снега, который традиционно используется для изображения пробуждения природы, производит неожиданный эффект. Первые четыре строки построены по принципу синтаксического параллелизма: «обстоятельство / именная часть сказуемого, обозначающее цвет + сказуемое + подлежащее». Снег не просто тает, он плачет. Он исчезает, открывая слой за слоем гибель современного мира. Первым появляется чёрный цвет, но это не цвет земли, а цвет вдов, а, следовательно, и их мёртвых мужей. В третьем строке упоминается зеленый цвет весенних лугов, которого в этом году под оттаявшим снегом нет. Его заменяет образ из четвёртой строки: gelb verkrümmt sich das Herbstlaub, то есть вместо ожидаемого зелёного появляется жёлтый, вместо наступления весны возвращается осень. На всех этих слоях стоит серый солдат. Красный цвет его умирающего тела становится верхним слоем современного мира. Над всем этим располагается голубое небо. Поэт даёт синеве необычный эпитет. Слово unverfroren в немецком языке является малоупотребительным и для большинства читателей неожиданным. Это прилагательное имеет значение неприличный, беспардонный, наглый, бесцеремонный. Одновременно оно отсылает нас к однокоренному причастию verfroren (промёрзший). Этот сложный эпитет передаёт состояние неба, которое никогда и даже, как в данном случае, наблюдая смерть человека, не теряет своей синевы, то есть остаётся ко всему безразличным. Возникает противопоставление несчастного, измученного и умирающего солдата и непромёрзшей / беспардонной синевы небес. Образ Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 63 неба завершает описание природы, равнодушной к страданиям человека, и одновременно заканчивает первую часть стихотворения. Следующее предложение открывает вторую часть и вносит динамику в застывшую картину. В восьмой строке (Mit glockenhell donnernden Schwingen / senkt es sich nächtig ins Tal) появляется местоимение es (оно), создающее таинственную атмосферу неизвестности. Данное предложение при первом прочтении оставляет нас в некотором недоумении, и лишь позже становится понятным, что за существо с грохотом опускается в долину. Описание полёта также оригинально, субъективно, как и предыдущие образы. В словосочетании mit glockenhell donnernden Schwingen можно выделить две лексические группы. К первой относится определяющий компонент сложного прилагательного glocken(колокольный). Существительное Schwingen вызывает у читателя ассоциацию с глаголом schwingen (колебаться). На первый взгляд данное слово обозначает колебания колокола и может также рассматриваться в первой группе. Во вторую группу входят слова, которые объединяет тема погоды, или, скорее, непогоды. Кроме причастия действительного залога donnernde (громыхающие) здесь можно также рассматривать прилагательное glockenhell (звонкий), ассоциирующееся с раскатами грома. Лирический герой чувствует угрозу. При этом большое значение имеет лексическая группа, связанная с образом колокола. В христианской культуре он часто используется как сигнальный инструмент в случае беды. В результате, колокол издает не традиционный колокольный звон, а раскаты грома, предвещающие катастрофу. Слово Schwingen напоминает субстантивированный инфинитив от глагола schwingen, который ассоциируется с образом колокола. Однако здесь данное слово стоит в форме множественного числа, в которой субстантивированные инфинитивы не употребляются. В лексическом фонде немецкого языка существует также омоним этого слова – die Schwingen (крылья). Источником катастрофического «колокольного грома» становятся крылья загадочного существа, которое опускается на землю. Они оказываются настолько огромными и мощными, что их удары сдувают прочь звёзды (Flügelschlag wegbläst die feig glimmernden Sterne). Звёзды по сравнению с его крыльями теряют свою силу и выглядят трусливо мерцающими. В конце стихотворения становится известным имя таинственного субъекта, прилетевшего на поле боя. Им оказывается совершенно неожиданный персонаж из арабской мифологии – птица Рох (Рух). Она прилетает после битвы, так как питается трупами убитых. Образ птицы Рох в данном стихотворении не соответствует представлениям о ней в других источниках. «В «Путешествиях» Марко Поло мы читаем: «Жители острова (Мадагаскара) сообщают, что в определенную пору года из южных краев прилетают удивительные птицы, которых они называют «рух». С виду, говорят, они напоминают орла, 64 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 только размерами куда огромней; они так громадны и могучи, что лапами своими хватают слона и поднимают его в воздух, а поднявши, бросают на землю, дабы его убить и потом расклевать вплоть до костей. Люди, видевшие эту птицу, утверждают, что крылья ее в развороте достигают с края до края шестнадцати шагов, а перья имеют в длину восемь шагов и соответственную ширину» [Борхес 1997: 337]. Размер крыльев птицы Рох соответствует этому описанию. Однако, информации о том, что она питается трупами убитых воинов, здесь нет. А. Эренштейн совмещает элементы различных мифологий в одном образе. Согласно древнескандинавской мифологии, о которой напоминает название стихотворения, на поле боя появляются крылатые девы – валькирии, но они не едят убитых, а ищут храбрейших из них, чтобы унести их в Вальхаллу и подарить им вечную жизнь. Кровожадность птицы Рох перекликается с библейским образом из Апокалипсиса: «И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим по середине неба: летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых и великих» [Откр. 19: 17, 18]. Таким образом война полностью изменяет привычный облик мира. Земля становится местом всеобщей гибели. Природа в современном мире страдает так же, как и человек, но не протягивает ему руку помощи. Первая мировая война перестаёт быть обычной войной. Она изображается как катастрофа вселенского масштаба. Перед лицом войны солдат оказывается полностью беззащитным, он превращается в «пушечное мясо». Поэт сравнивает войну с концом света, так как большей жестокости на Земле ещё не было никогда. Литература Ehrenstein A. Werke. Bd. 4/I, Gedichte. München, 1997. Борхес Х.Л. Книга вымышленных существ // Борхес Х.Л. Соч.: в 3 т. Т. 2. М., 1997. О.Г. Петрова (Саратов) Ирония как мировоззрение в художественном произведении (на материале комедии О. Уайльда «Идеальный муж») Образующим центром произведения художественной литературы остается творческая личность писателя, автора текста, ее мир, который раскрывается различными гранями в разных ракурсах при его осмыслении, т.к. он как некое объясняющее вселенную законченное описание со своими внутренними законами… Изучение поэтики писателя и устанавливает Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 65 прежде всего принципы и способы его описания предметов, героев, событий. Художественное произведение, как показали многочисленные исследования (Ю.М. Лотман, В.В. Одинцов, В.А. Пищальникова и др.), создается благодаря ряду эффектов, которые возникают вследствие взаимодействия многих факторов, связанных, прежде всего, с идейноэстетической позицией писателя. Каждая грань художественного текста, таким образом, в любом ракурсе рассмотрения его в качестве объекта лингвистического исследования, высвечивает роль автора – языковой, творческой личности – создателя, преобразователя, эстетически трансформирующего средства языка, пользующегося им как тончайшим инструментом в выражении своих взглядов и оценок (Б.А. Ларин, М.М. Бахтин, В.В. Виноградов). Ряд объективных трудностей до определенного времени мешал дать целостное понимание феноменов иронического, механизма порождения и восприятия которых связаны не столько с тем или иным формальностилистическим приемом, сколько с природой языка и человеческого сознания в целом, с так называемой языковой картиной мира. О.А. Коновалова в своей работе «Ирония как атрибут культуры эпохи постмодерна» так характеризует развитие феномена иронии: «Обозначился общий вектор развития феномена иронии – от индивидуального, частного к универсальному, что сделало возможным рассмотрение феномена иронии в качестве одной из фундаментальных составляющих культуры, ее мировоззренческого основания» [Коновалова 2005: 16]. Концептуальная ирония, как философское обобщение, сливается с мировоззрением автора, в этом смысле продолжая традицию романтической иронии. Такая ирония проявляет себя в кризисные периоды жизни общества или отдельного человека. Ироническая модальность охватывает все произведение писателя и выступает и как контекстуальная, и как текстовая категория. Контекстуальная ирония создает фон, при этом обладая своими собственными способами реализации – языковыми. На формирование концептуальной иронии влияет активность контекстуальной иронии, и именно систематическое возвращение к этому приему, нагнетание его, подчеркивание его типичности настраивает читателя на определенное понимание текста, будит в читателе сознание иронического взгляда писателя на мир, косвенно контекстуальная ирония участвует в концептуальной иронии, но концептуальная ирония кроме языковых приемов контекстуальной иронии, создается особыми условно нами названными экстралингвистическими моментами. Весь текст, таким образом, с обилием контекстных иронических фрагментов становится выражением доминантного по своей сути глобального, метафорического образа, заданного заглавием, и этот смысл способствует органической связи, синтезу всех частных событий, всех контекстов со стилистической иронией, синтезу образа автора и образов персонажей. Такую же идею 66 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 находим в работе «Ирония как мировоззрение» латышской исследовательницы Лилиты Изидоровны Кадаша: «Ироническое авторское отношение может быть локальным, то есть относиться только к той части текста, в котором непосредственно находится ироническое выражение. В этом случае ирония проявляет себя в форме стилистического приема с более или менее выраженной сатирической направленностью. Ирония может также вырасти из ситуации, созданной автором. Здесь сам язык текста не ироничен. Ирония вырастает из способа построения событий и ситуаций в произведении. Ситуация перерастает в иронический знак. В романтической иронии ироническое отношение охватывает уже более широкие части текста. Здесь проявляется тенденция иронии к универсальному и к особому – философскому – восприятию действительности. Когда ирония переплетается с эстетикой эпохи, она проявляется как мировоззрение автора, которое иронически оценивает сам смысл человеческих ценностей. Она проявляется как принцип образного построения и композиции, как авторская позиция по отношению к созданному им персонажу или выступает в качестве философского, критически-аналитического осмысления жизненных противоречий» [Кадаша 1990: 8]. Все это имеет непосредственное отношение к Уайльду, ибо эстетическое движение второй половины XIX века оказало решающее влияние на его мировоззрение и творчество. Время правления королевы Виктории с его внешним благополучием и внутренней нестабильностью, показной нравственностью и скрытыми пороками способствовала формированию двойственности и драматизма мировосприятия писателя, так же как и его собственный внутренний конфликт, связанный с изменениями в личной жизни. В комедии «Идеальный муж» Уайльд от юмора переходит к сатире, достаточно язвительно показывая облик английского государственного деятеля и сомнительные пути, приводящие людей к власти в буржуазном обществе. Но, став на этот путь, драматург под конец все же завершил его все сглаживающей компромиссной развязкой. Достаточно и того, что в комедии есть, – она приоткрывает завесу истины, и для своего времени даже это было смелым. «Иронию можно обнаружить на всех уровнях стиля художественного произведения: в речевых характеристиках, в предметной детализации, на сюжетно-фабульном уровне, в построении образов героев и т.д. Возможно использование иронии в качестве структурного принципа. Этот тип иронии функционирует как «контраст двух смыслов» – «контраст элементов формы и содержания» и появляется при возможности выбора форм, своеобразной игры ими, с целью освобождения от старых форм. Так, отдельные компоненты художественного произведения (сюжет, стиль, образы, композиция и др.) могут быть гиперболизированы, обнажены, доведены до абсурда, спародированы и др.» [Иванова 2000: 16]. В «Идеальном муже» авторская Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 67 ирония проявляется и на контекстуальном уровне, когда противоречие между эксплицитным и имплицитным компонентом высказывания персонажа раскрывается в пределах одной фразы: LORD GORING. Really, I don't want to meet my father three days running. It is a great deal too much excitement for any son. I hope to goodness he won't come up. – Лорд Горинг. Три дня подряд встречаться со своим отцом - нет, это уж слишком, даже для самого любящего сына. Чересчур много радостных волнений. Не дай бог, он еще сюда явится. Важной характеристикой в определении взаимодействия жанровых начал является соотношение форм речи в тексте. Преобладающей для большинства драматических произведений является форма диалога, часто принимающая на себя функцию действия. Это способствует усилению драматического начала при сохранении сильной авторской позиции, раскрываемой через иронию и парадоксы или декоративные фрагменты. LADY BASILDON. [Arching two pretty eyebrows.] Are you here? I had no idea you ever came to political parties! LORD GORING. I adore political parties. They are the only place left to us where people don't talk politics. Леди Бэзилдон (выгибает свои красивые брови). И вы тут? Я не знала, что вы посещаете политические салоны. Лорд Горинг. Я обожаю политические салоны. Это единственное место, где не говорят о политике. 8 Авторская ироническая позиция эксплицируется несоответствием формы (политические салоны) и его содержанием (место, где не говорят о политике). LADY BASILDON. I delight in talking politics. I talk them all day long. But I can't bear listening to them. I don't know how the unfortunate men in the House stand these long debates. LORD GORING. By never listening. Леди Бэзилдон. Я очень люблю говорить о политике. Иногда целый день говорю. Но терпеть не могу слушать, когда о ней говорят другие. Не понимаю, как эти несчастные в парламенте выдерживают свои бесконечные прения. Лорд Горинг. Так они же никогда не слушают. Здесь насмешливая реплика персонажа показывает противоречие (говорят, но не слушают), тем самым эксплицируя иронию по отношению к пустословию политических прений. Внимательный читатель заметит, что в ходе непринужденных бесед персонажи комедий Уайльда затрагивают широчайший круг вопросов. Общественная жизнь и политика, нравы и моральные принципы, вопросы семьи и брака – обо всем этом они толкуют иногда с игривостью, кажущейся чрезмерной. Но именно легкость, с какой они касаются всего, выражает особую позицию Уайльда по отношению к нормам буржуазного 68 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 общества. Это общество хочет, чтобы к нему и его проблемам относились серьезно. Уайльд не желает принимать всерьез устоев этой среды. Он крайне непочтителен по отношению к ее святыням, которые он устами своих персонажей проходя задевает на каждом шагу. Персонажная ирония по поводу истинной сути палаты лордов вскрывается противоречием между содержаниями понятия палаты лордов с сопутствующими положительными характеристиками и дальнейшей ожидаемой переменой в муже: LADY MARKBY. I assure you my life will be quite ruined unless they send John at once to the Upper House. He won't take any interest in politics then, will he? The House of Lords is so sensible. An assembly of gentlemen. – Леди Маркби И не знаю, чем все это кончится, если только сэра Джона не введут немедленно в палату лордов. Тогда уж он перестанет интересоваться политикой, правда? Палата лордов такое здравомыслящее учреждение. Настоящие джентльмены! В следующем примере высмеивается та же бесполезность парламента, только в устах самого члена парламента: и это противоречие и становится маркером авторской иронии: LADY MARKBY. Oh! I have brought a much more charming person than Sir John. Sir John's temper since he has taken seriously to politics has become quite unbearable. Really, now that the House of Commons is trying to become useful, it does a great deal of harm. SIR ROBERT CHILTERN. I hope not, Lady Markby. At any rate we do our best to waste the public time, don't we? Леди Маркби. Я привела вам гораздо более приятную гостью, чем мой супруг. С тех пор как сэр Джон всерьез занялся политикой, у него стал невыносимый характер. Право же, ваша Палата общин чем больше старается быть полезной, тем больше приносит вреда. Сэр Роберт Чилтерн. Надеюсь, не такой уж большой вред, леди Маркби. Мы, во всяком случае, прилагаем все усилия к тому, чтобы как можно больше времени тратить зря. Английские представительницы высшего света также становятся объектом авторской иронии, высмеиваются их беспринципность и безнравственность: LORD GORING. [Settling his buttonhole.] Oh, I should fancy Mrs. Cheveley is one of those very modern women of our time who find a new scandal as becoming as a new bonnet, and air them both in the Park every afternoon at five-thirty. I am sure she adores scandals, and that the sorrow of her life at present is that she can't manage to have enough of them. SIR ROBERT CHILTERN. [Writing.] Why do you say that? LORD GORING. [Turning round.] Well, she wore far too much rouge last night, and not quite enough clothes. That is always a sign of despair in a woman. Лорд Горинг. (поправляя цветок в петлице). По-моему, миссис Чивли Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 69 одна из тех весьма современных женщин, которые считают, что новый скандальчик им так же к лицу, как новая шляпка, и выставляют то и другое напоказ каждый день на прогулке в парке в пять тридцать вечера. Я уверен, что она обожает скандалы, и если чем огорчается, так только тем, что их у нее еще недостаточно. Сэр Роберт Чилтерн (пишет). Почему вы так думаете? Лорд Горинг. А видите ли, вчера на ней румян было очень много, а платья очень мало. В женщине это всегда признак отчаяния. Женская логика также становится объектом авторских насмешек, показанная через весьма противоречивое и непоследовательное повествование одной из представительниц лондонского высшего общества: LADY MARKBY. Well, like all stout women, she looks the very picture of happiness, as no doubt you noticed. But there are many tragedies in her family, besides this affair of the curate. Her own sister, Mrs. Jekyll, had a most unhappy life; through no fault of her own, I am sorry to say. She ultimately was so broken-hearted that she went into a convent, or on to the operatic stage, I forget which. No; I think it was decorative art-needlework she took up. I know she had lost all sense of pleasure in life. – Леди Маркби. Ну, значит, вы ее видели. Как все тучные женщины, она выглядит так, словно счастливее ее нет на свете. А между тем у них в семье столько трагедий! Не одна эта история со священником. Ее родная сестра, миссис Джекилл, тоже была очень несчастлива в браке, и, к сожалению, не по своей вине. И так отчаялась под конец, что даже пошла... вот не помню, не то в монастырь, не то в оперетку. Ах нет, она занялась декоративными вышивками. В общем, потеряла всякий вкус к жизни. Ораторское искусство современников также высмеивается через несоответствие на содержательном уровне (наговорит с три короба, а ничего не скажет. Она прямо создана быть оратором) и на структурнологическом (больше, чем ее муж, хоть он и типичный англичанин): MRS. CHEVELEY. Wonderful woman, Lady Markby, isn't she? Talks more and says less than anybody I ever met. She is made to be a public speaker. Much more so than her husband, though he is a typical Englishman, always dull and usually violent. – Миссис Чивли. Замечательная женщина эта леди Маркби, правда? Наговорит с три короба, а ничего не скажет. Она прямо создана быть оратором. Гораздо больше, чем ее муж, хоть он и типичный англичанин, неизменно скучный и по большей части грубый. Английское высшее общество также стало объектом авторской иронии в устах одной из его представительниц: MABEL CHILTERN. Oh, I love London Society! I think it has immensely improved. It is entirely composed now of beautiful idiots and brilliant lunatics. Just what Society should be. – Мейбл Чилтерн. А мне нравится лондонское общество. По-моему, за последнее время оно изменилось к лучшему. И теперь почти сплошь состоит из красивых идиотов и остроумных 70 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 сумасбродов. Как раз то, чем и должно быть общество. Идея того, чем общество должно быть, содержит скрытую авторскую иронию по поводу того, чем оно является на самом деле. Но персонажи Уайльда любят бравировать аморализмом вообще. В комедии Уайльда «Идеальный муж» есть персонаж особенно близкий автору. Это светский молодой человек, изрекающий забавные парадоксы, подчас очень острые и изредка даже по-настоящему смелые. Хотя он любит представляться крайне безнравственным и отрицает все принципы морали, в ходе действия оказывается, что он-то как раз и играет главную роль в торжестве истины и справедливости. За всем этим у Уайльда скрывается ироничная мысль, что так называемые безнравственные люди гораздо более нравственны, чем те, кто выставляет напоказ свои добродетели, тогда как на самом деле у них немало тайных пороков и прегрешений против морали. LORD CAVERSHAM. Can't make out how you stand London Society. The thing has gone to the dogs, a lot of damned nobodies talking about nothing. LORD GORING. I love talking about nothing, father. It is the only thing I know anything about. Лорд Кавершем. Не понимаю, как вы выносите теперешнее лондонское общество. Толпа ничтожеств, которые говорят ни о чем! Лорд Горинг. Я люблю говорить ни о чем, отец. Это единственное, о чем я что-нибудь знаю. Или: LORD GORING. [Leaning back with his hands in his pockets.] Well, the English can't stand a man who is always saying he is in the right, but they are very fond of a man who admits that he has been in the wrong. It is one of the best things in them. – Лорд Горинг (откидывается на спинку кресла, засунув руки в карманы). Гм! Вообще-то говоря, англичане терпеть не могут, если человек твердит, что он прав, но очень любят, если он кается в своих ошибках. Это у нас неплохая черта. Итак, авторская ирония в комедии О. Уайльда «Идеальный муж» проявляется на контекстуальном и на текстовом уровне, являясь формой эстетического сознания, которая служит импульсом художественного мышления и предопределяет эстетические особенности произведения. Отбор персонажей, отбор объектов иронии, отбор форм речи в произведении, вместе со стилистической иронией на контекстном уровне – все вместе отражает особую ироническую позицию автора на уровне мировоззрения. Литература Кадаша Л.И. Ирония как мировоззрение в латышской литературе: автореф. дис. ... к. филол. н. Рига, 1990. Коновалова О.А. Ирония как атрибут культуры эпохи постмодерна: философский анализ: автореф. дис. ... к. филол. н. Кемерово, 2005. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 71 Е.В. Трухачёв (Саратов) Приемы расширения пространства в «Днях Турбиных» М.А. Булгакова Научный руководитель – профессор Ю.Н. Борисов Создавая пьесу «Дни Турбиных», М.А. Булгаков искал сценический эквивалент эпическому изображению действительности. Масштаб событий, описанных в «Белой гвардии», не укладывался в привычные рамки социально-бытовой драмы XIX – начала ХХ в. Поэтому Булгаков нашел новую форму для нетрадиционного содержания. Смысл драматургического новаторства Булгакова наиболее точно выразила А. Тамарченко, которая писала, что Булгаков сделал историческое время движущей силой, участвующей в действии пьесы [Тамарченко 1990: 50]. Дух и ритм революционного слома времени выражались в сценах, которые, казалось бы, не имели прямого отношения к турбинской линии пьесы. Однако все сцены, и турбинские, и нетурбинские, объединены в логическую последовательность. Катастрофа, случившаяся в доме Турбиных, обусловлена тем, что происходит за его пределами. Одного пространства дома оказывается для Булгакова мало. Несмотря на то, что действие пьесы сосредоточено на семейном пространстве Турбиных, в пьесе присутствуют и отвлечения в другие хронотопы. В качестве места действия тут возникают Александровская гимназия, штаб Первого конного полка петлюровской армии, кабинет гетмана. В первоначальных редакциях существовали еще фантастический хронотоп кошмара и квартира инженера Лисовича. Постоянные смены хронотопов не являются обязательным признаком эпизации драмы, однако, судя по составу участвующих в этих сценах лиц, а также по хронологии событий, эти хронотопы (пожалуй, за исключением гимназии) параллельны, а не последовательны времени и пространству дома Турбиных, соприкосновения их опосредованы и минимальны. Интересно, что в первоначальной редакции пьесы о Турбиных можно наблюдать вовсе не характерное для драмы смещение назад во времени: картина вторая четвертого акта заканчивается тем, что в квартире Турбиных слышны вопли Василисы, которого только что ограбили бандиты. Следующая картина показывает нам то, что привело к этим крикам, то есть то, что происходило в то же время, что и события второй картины в квартире Турбиных. Проще говоря, действие пьесы отматывается назад, чтобы мы увидели то, что происходило параллельно только что случившимся событиям. Более традиционная для драмы линейная хронология событий была здесь осложнена. Комические сцены в квартире инженера Лисовича, впоследствии удаленные, представляли собой пьесу в пьесе, становились чем-то вроде фарсовых интермедий в драме о Турбиных. Они делали пространство дома в первом варианте пьесы разделенным, как в вертепе, на два этажа: в 72 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 верхнем были Турбины, в нижнем – Лисовичи. «Вертепная» жанровая структура до сих пор обнаруживалась только в «Мастере и Маргарите» [Джулиани 1988: 323], но, как видим, ее зачатки можно наблюдать и в первом романе Булгакова, и в его драматических опытах. Условное пространственное разделение соответствовало дихотомии «высокого» и «низкого», драматического и фарсового начала. События Революции воспринимались Булгаковым в нераздельном сопряжении трагического и комического: одно прорывалось сквозь другое. Однако эти пространственные переходы между разными уровнями миросозерцания оказались невостребованными в окончательной редакции пьесы. Параллельные сцены вне турбинской квартиры, разветвление сюжета в «Днях Турбиных» можно считать признаком влияния эпической организации пространства на драму. Их включение в пьесу объясняется именно исключительной важностью исторического измерения, которое создавалось в романе эпическими средствами (историческими отступлениями, панорамными описаниями, вставными сценами). Драматург изображает, как революционные события вторгаются в семейный уклад, определяют судьбу людей, он показывает, что резкие повороты истории неизбежно влекут за собой множество личных трагедий. С другой стороны, Булгакова интересуют характеры, мотивы, сущность самих вершителей истории, что заставляет его перемещаться вслед за ними, как когда-то Пушкин в «Борисе Годунове» свободно переносил сцену из одной местности в другую в зависимости от того, где в настоящий момент требовалось внимание зрителя. Однако у Пушкина этот прием свободной смены хронотопа носит характер обязательного, сквозного, он становится в «Борисе Годунове» собственным законом. В то время как в «Днях Турбиных» соединены принципы единства места и переменного пространства, и ни один из этих принципов, пожалуй, не является обязательным и главенствующим. Предположим, что законом тут является именно их равноправное сочетание в зависимости от направления мысли автора, что, на наш взгляд, достигается свободой, скорее характерной для повествовательных жанров, нежели для драматических. В последующем драматическом творчестве Булгакова место действия меняется так же свободно, в соответствии с той совокупностью сложных, растянутых во времени и неограниченных в пространстве процессов и событий, которые писатель избирает в качестве предметов изображения. Исключением тут является разве что «Зойкина квартира», в которой постоянство места вытекает из темы (отдельной бытовой ситуации) и четко задано заглавием. В «Зойкиной квартире» однако же происходит трансформация фиксированного пространства. Исключение составляют также те произведения, пространство в которых структурируется по принципу «театр в театре» («Багровый остров», «Полоумный Журден»). В остальных же пьесах Булгаков стремится охватить широкий спектр явлений, коллизий и Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 73 проблем, избирая небытовые, исторические, фантастические сюжеты, что ведет к совершенно свободному обращению как с пространством, так и со временем. К примеру, в «Беге» постоянная смена мест и времен прямо связана с лейтмотивом движения, которое является не только темой, неким общим действием, совершаемым всеми персонажами, но и принципом структурирования пьесы. В других пьесах перемена мест тоже говорит о доминанте движения, свойственной для творчества Булгакова как такового (речь идет в том числе и о стиле писателя). Мы склонны думать, что одинаковое художественное мастерство Булгакова в повествовательных и драматических жанрах связано именно с его умением представлять в драматической форме сложные (состоящие из множества перипетий), существенно протяженные во времени и пространстве, «движущиеся» сюжеты, которые могли бы с таким же успехом быть реализованы в форме романа или повести. Наличие в его творчестве повествовательно-драматических дилогий кажется нам яркой иллюстрацией этого тезиса. Традиционно роман всегда был связан с изображением судеб героев в движении, происходящем на фоне широких общественных явлений. Вспомним, например, известное определение Стендаля, писавшего, что «роман – это зеркало, с которым идешь по большой дороге». Мандельштам считал отличием романа от других крупных повествовательных жанров то, что он представляет собой «композиционное, замкнутое, протяженное и законченное в себе повествование о судьбе одного лица или целой группы лиц» [Мандельштам 1987: 72]. Как видим, помимо протяженности, тут указывается еще сконцентрированность на судьбе нескольких связанных между собой персонажей, что тоже является вполне обычным свойством драм Булгакова. «Дни Турбиных» были первым известным нам опытом Булгакова в построении драмы на основе широкого, эпического по охвату материала. В этой пьесе соединились традиционная, стабильная организация сценического пространства, которая была более привычна зрителю, воспитанному на пьесах Грибоедова, Островского, Чехова, Горького, и расширенное видение окружающего пространства, ответвления в параллельные хронотопы (и даже переход в сюрреальное бытие сна, правда, впоследствии исключенный). Вообще, редактура пьесы двигалась в сторону стабилизации пространства, уничтожения ответвлений, что заметно повысило динамичность действия и добавило драматизма и без того драматичным событиям. Однако пьеса не была окончательно сведена к камерной версии, поскольку «Дни Турбиных» не могли стать бытовой или семейной мелодрамой. Как писал Я. С. Лурье, «чеховская камерность разрушалась в «Днях Турбиных» самым радикальным образом, в действие включалась история, сюжет оказывался острым и богатым событиями» [Лурье 1987: 25]. Известно, что Булгаков согласился на исключение из пьесы эпизодов в квартире Василисы, но выступил принципиально против 74 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 удаления петлюровских сцен. Частная жизнь, ограниченная стенами квартиры Турбиных, интересовала Булгакова только в соединении с историческим процессом, а исторические события не могли быть даны только с точки зрения действующих лиц, так как были бы отодвинуты на задний план. Все это делало пьесу преемственной по отношению к «Белой гвардии», для которой была характерна такая установка. Недаром Булгаков в качестве своей задачи утверждал изображение дворянско-интеллигентской семьи в традициях «Войны и мира»: в эпопее семейная хроника тесно соединена с историческим повествованием. Пространство в «Днях Турбиных» имеет неуловимое свойство перспективы, когда действие, казалось бы, сконцентрировано в одном определенном месте, в то время как с помощью художественных деталей достраивается и расширяется, создается впечатление смежных помещений и пространств, вплоть до всего города и его окрестностей. Это достигается двумя способами: через реплики персонажей, рассказывающих о происшествиях на улицах города и за его пределами, и при помощи определенных звуковых ремарок, последовательно используемых в пьесе. Звуки в «Днях Турбиных» выполняют не только функцию сценического эффекта или абстрактного изобразительного средства, но и передают события внешнего мира, расположенного за пределами сцены, в их развитии. Звуки в пьесе сами становятся событиями, они совершают поворот в настроении или в движении действия. Например, в самом начале пьесы, когда Турбины пребывают в состоянии неизвестности и ожидания, и братья пытаются успокоить и обнадежить Елену, друг за другом следуют две внешние звуковые ремарки: «громадный хор» проходящей мимо воинской части и «далекий пушечный удар» [Булгаков 1990: 112. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Грозные военные события впервые вторгаются в мирную, хотя и напряженную домашнюю обстановку Турбиных, обнажая хрупкость и уязвимость этого уютного мира. Герои осознают неожиданную близость угрозы, их охватывает беспокойство и нетерпение. Разрывы снарядов сопровождают захват гимназии петлюровцами. С помощью звуков обстрела (в первоначальной редакции полковник Малышев называл их «концертом» [80]) создается впечатление приближения угрозы к месту действия: сначала «дрогнули стекла» [144], потом они «лопнули» [146], слышен «приближающийся лихой свист» [145]. По закону круговой композиции пушечные удары прерывают рождественский тост Лариосика в финале пьесы, но это уже сигналы победного салюта большевиков. Принципы организации пространства в пьесе «Дни Турбиных» тоже в определенном смысле можно считать новаторскими. Действие пьесы начинается и заканчивается в камерной обстановке дома Турбиных, однако концентрируется оно вокруг других событий, происходящих за пределами дома в нескольких разных местах. Структурно-смысловой центр «Дней Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 75 Турбиных» калейдоскопичен, что соотносит пьесу со стилистическими и композиционными особенностями булгаковской прозы. Литература Булгаков М.А. Пьесы 1920-х годов. Л., 1990. Джулиани Р. Жанры русского народного театра и роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» // М.А. Булгаков-драматург и художественная культура его времени. М., 1988. Лурье Я. М. Булгаков в работе над текстом «Дней Турбиных» // Проблемы театрального наследия М. А. Булгакова. Л., 1987. Мандельштам О.Э. Слово и культура. М., 1987. Тамарченко А. Драматургическое новаторство Михаила Булгакова // Русская литература. 1990. № 1. М.А. Шеленок (Саратов) Из драматургического наследия И. Ильфа и Е. Петрова. Водевиль «Вице-король» Научный руководитель – профессор Ю.Н. Борисов В 1931 г. журнал «30 дней» с января по декабрь публиковал роман «Золотой телёнок». Но уже весной 1931 г. Ильф и Петров написали водевиль в двух действиях «Вице-король», посвящённый похождениям бухгалтера Берлаги в сумасшедшем доме. Текст водевиля очень близок к тексту романа и, можно сказать, представляет собой драматургическое переложение прозаического текста (хотя эта пьеса и является самостоятельным законченным произведением). «Вице-король» – первый драматургический опыт Ильфа и Петрова. Напечатан водевиль был впервые лишь 14 декабря 1963 г. в «Литературной газете». Насколько удалось установить, «Вице-король» на сцене так и не был поставлен. И всё-таки мы должны обратиться к водевилю «Вице-король», т.к. он представляет собой первое целостное законченное драматургическое сочинение Ильфа и Петрова. Прежде всего, следует обратить внимание на жанровую особенность этого произведения. Пьеса имеет подзаголовок «Водевиль в двух действиях», однако внутри структуры самой пьесы не наблюдается характерных признаков такого жанра, как водевиль. Рассмотрим, какие характерные черты присущи водевилю. Водевиль – вид комедии, где диалоги и действие, построенное, как правило, на занимательной игре, сочетаются с музыкой, песенными куплетами и танцами [Книгин 2006: 44]. В структуре пьесы Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Вице-король» нет и не предполагается ни характерного для водевиля музыкального сопровождения, ни песен-куплетов, ни танцев. Подзаголовок «Водевиль в 76 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 двух действиях» – это авторское определение жанра. Следует заметить, что примерно в это же время Михаил Зощенко создаёт свои маленькие комедии – «комедии в одном действии». Так вот, пьесы Ильфа и Петрова, так же как и эти пьесы Зощенко, можно отнести к жанру одноактной комедии. Поэтому жанр пьесы «Вице-король» вполне можно определить именно как жанр одноактной комедии. Однако авторское определение «водевиль» мы всё же сохраним, хотя и будем помнить, что целесообразнее называть первую пьесу Ильфа и Петрова одноактной комедией. Итак, рассмотрим теперь, как прозаическое повествование романа «Золотой телёнок» превратилось в драматургический текст водевиля «Вице-король». Нас будут интересовать три главы романа: «Обыкновенный чемоданишко», «Ярбух фюр психоаналитик» и «Блудный сын возвращается домой». Именно эти главы представляют собой основной материал для текста водевиля. Действие, которое разворачивается в романе и в пьесе, в целом, совпадает. В текст пьесы добавлено больше диалогов, и некоторые фразы, которые в романе принадлежат одним персонажам, в тексте водевиля отдаются другим. Познакомимся с героями этой самой истории. Из второстепенного персонажа романа в главного героя пьесы превратился бухгалтер Берлага. Это чиновник-бюрократ, работающий в учреждении «Геркулес». Однако, когда в «Геркулесе» началась чистка, Берлага, испугался и решил бежать в сумасшедший дом, чтобы переждать там, пока не закончится чистка. В самом начале действия мы находимся в комнате Берлаги, где видим множество портретов родственников бухгалтера, которые все изображены в «котелках и пасхальных цилиндрах». Это уже говорит о прошлом Берлаги, который до революции занимался коммерческой деятельностью: он имел собственную аптеку, собственную фабрику, а также у него совместно с Тихоном Марковичем Мармеладовым, который тоже решил пересидеть чистку в психушке, был торговый дом «Мармеладов, Берлага и сын». Теперь мы понимаем, почему бюрократ Берлага так испугался чистки. Но сам бухгалтер слишком глуп, чтобы придумать способ отсидеться, и вот тут ему на помощь приходит шурин, авантюрист и «бедовый человек», решивший втянуть своего родственничка в аферу. Берлага и шурин начинают придумывать способ спасения. Сначала шурин предлагает бухгалтеру просто заболеть на время чистки, потом рассматривается вариант с отпуском или увольнением до чистки, но все эти варианты отпадают. Отчаявшийся Берлага со слезами на глазах начинает причитать, мол, от всего этого с ума сойти можно. Итак, самый лучший способ выбран: Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 77 «Берлага. Ох, трудная штука! Шурин. Глупости! Тебе ничего не придётся делать. Ты только должен всем и каждому кричать в уши: «Я Наполеон!» Или: «Я Эмиль Золя!» Или «Магомет», если хочешь! Берлага (неуверенно). А вице-король Индии можно? Шурин. Можно, можно. Сумасшедшему всё можно…» [Ильф, Петров 2008: 180. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Дальше шурин рвёт на Берлаге рубашку, выливает ему на голову чернила и звонит в психиатрическую больницу. Приезжают санитары и забирают Берлагу, который всё время выкрикивает: «Я вице-король Индии!», «Где мои слоны? Где мои верные магараджи?», «Где мои верные наибы? Мои великие моголы! Мои набобы!.. И баобабы!», «Я не более как вице-король Индии!» и т.д. После этого душераздирающего события мы попадаем в психиатрическую больницу, где встречаемся с другими героями пьесы, которые уже находятся в сумасшедшем доме по тем же причинам, что и Берлага. Кто же эти психи-симулянты? Одним из них является Тихон Маркович Мармеладов – тот самый компаньон Берлаги, совладелец торгового дома «Мармеладов, Берлага и сын». К тому же Тихон Маркович не платил налоги и задолжал 48000 банку! Теперь Мармеладов в психушке изображает из себя человека-собаку. Обратимся к тексту романа: в шестнадцатой главе «Ярбух фюр психоаналитик» (которая, кстати, послужила основным материалом для пьесы) мы видим, что в романе человека-собаку звали Михаил Александрович, и с Берлагой они являются просто старыми знакомыми (никакой речи о торговом доме нет). Но вернёмся снова к пьесе. Гражданин Диванов – второй житель палаты для больных с «неправильным поведением». Это мужчина с усами, выступающий в амплуа голой кокетливой дамочки, которая поёт романсы. Третий же обитатель палаты – особенный пациент. Это бывший присяжный поверенный Старохамский, который возомнил себя Юлием Цезарем. Как уже было сказано, Старохамский – особенный человек. Он в сумасшедшем доме по другим причинам, нежели его сокамерники. Бывший присяжный не хочет мириться с советским режимом и с большевиками, и в психушке он нашёл себе «политическое убежище»: «…сюда, в сумасшедший дом, я пошёл по высоким идейным соображениям. Не-ет! С большевиками я жить не могу, уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти, по крайней мере, не строят социализма. И потом, здесь кормят, подчёркиваю, господа, совершенно даром кормят. Завтраки, обеды и ужины. А там, в ихнем бедламе надо работать! Там даром ничего не делают! Но старый присяжный поверенный Старохамский на ихний социализм работать не будет…» 78 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 [184]. А дальше из уст Старохамского следует одна из самых главных и ключевых фраз: «Здесь у меня, наконец, есть личная свобода! Свобода совести! Свобода слова! (Через палату проходит санитар. Старохамский визгливо орёт.) Да здравствует Учредительное собрание! Все на форум! И ты, Брут, продался ответственным работникам! (Оборачиваясь к собеседникам.) Видели? Что хочу, то и кричу. А попробуйте на улице! В два счёта напорешься на какого-нибудь пролетария!» [Там же]. Однако не все смелые речи бывшего присяжного поверенного были перенесены из романа в текст водевиля. В тексте всё той же главы «Ярбух фюр психоаналитик» есть очень важная фраза, которая подверглась жесточайшей критике и в текст пьесы не попала: «В Советской России, – говорил он, драпируясь в одеяло, – сумасшедший дом – это единственное место, где может жить нормальный человек. Всё остальное – это сверхбедлам…» [Ильф, Петров 1961: 190] И, несмотря на то, что все эти слова говорит псих, они являются выражением одной из ключевых идей Ильи Ильфа и Евгения Петрова, которая выражена в их же формулировке, ставшей крылатой: «в краю непуганых идиотов»! Мотив сумасшедшего дома является одним из самых ярких для писателей-сатириков в мировой литературе от Джонатана Свифта вплоть до Григория Горина. У Ильфа и Петрова психушка – это не только психиатрическая лечебница, это и наша реальная жизнь! Порой мы можем видеть психов ещё более опасных в нашей обыденной жизни, нежели посетив лечебницу для душевнобольных. Настоящий сумасшедший дом находится как раз вне стен этого учреждения. Этот мотив пронизывает значительную часть фельетонов Ильфа и Петрова, и позволяет показать весь абсурд и идиотизм, которые царят в нашей стране, «в краю непуганых идиотов». Но вернёмся к пьесе. При первом знакомстве с обитателями палаты для больных с «неправильным поведением» нам сначала кажется, что мы видим настоящих психов. Санитар обходит палату, а трое её обитателей нападают на него. Однако, когда санитар уходит, лжепсихи сразу же успокаиваются и садятся играть в карты. Но тут к ним в палату приводят Берлагу, орущего во всё горло: «Я вице-король Индии! Отдайте мне любимого слона!» Берлага думает, что перед ним трое психов, а Старохамский, Диванов и Мармеладов думают, что псих перед ними. Берлага говорит: «Буйные сумасшедшие! Эти придушат, не постесняются! Шурин, шурин, что ты наделал!», а Старохамский: «Посадили психа на нашу голову…». Но Мармеладов узнаёт в вице-короле Берлагу: «Тихон Маркович. Позвольте, позвольте, вы не сын Фомы Берлаги? Берлага. Сын. То есть я вице-король Индии» [189]. И вот вроде всё нормализовалось. Четыре симулянта сидят себе в Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 79 палате, играют в карты, но приходит молодая докторша-психиатр с группой студентов и раскрывает весь обман. В итоге из сумасшедшего дома выгоняют всех четверых симулянтов. При этом про Старохамского докторша говорит так: «Он сам завёл себя в сумасшедший дом, и ему, с его жалкими идейками, действительно тут и место» [191]. Финал пьесы следующий: Берлагу выгнали из сумасшедшего дома, но тут же к нему пришёл шурин с ещё одной новостью – Берлагу вычистили из «Геркулеса»: «Шурин (кричит). Берлага! Всё в порядке! Уже! Берлага (уныло). Что «уже»? Шурин. Уже. Вычистили заочно. Берлага. Здесь тоже уже. Вычистили» [Там же]. На этом завершается пьеса. Однако читатели романа «Золотой телёнок» помнят, что в романе Берлагу из «Геркулеса» вычистили не сразу. Перед этим он имел дело с Бендером, и, как помнит читатель, великий комбинатор причинил бухгалтеру своими допросами ещё больше моральных мучений. Так Ильф и Петров наказали этого «нашкодившего бюрократа, вся жизнь которого направлена к тому, чтобы куда-нибудь втереться». Исследователей творчества Ильи Ильфа и Евгения Петрова, как правило, интересовали романы, рассказы и фельетоны. Крупных работ, посвящённых драматургическим произведениям соавторов-сатириков, нет. Хотя проблематика данных текстов актуальна и в наши дни. Поэтому водевиль «Вице-король» является весьма интересным объектом для дальнейших исследований. Литература Ильф И.А., Петров Е.П. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. М., 1961. Ильф И., Петров Евг. 1001 день, или Новая Шахерезада: Повесть. Рассказы. Новеллы. М., 2008. Книгин И.А. Словарь литературоведческих терминов. Саратов, 2006. И.П. Кузякина (Саратов) Набоков – Сирин – Шишков Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова В 1930-е гг. в среде русской эмиграции в Берлине Владимир Набоков был известен прежде всего как поэт, печатавший свои стихотворения в журналах под псевдонимом Сирин. Неординарная манера письма Сирина вызывала достаточно спорные суждения о творчестве поэта. Одним из главных оппонентов Набокова-Сирина того времени был Георгий Адамович, считавший, что в произведениях Сирина всё «душно, странно и холодно» [Адамович 1934: 3]. Постоянные и часто необоснованные нападки 80 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 критика удивляли сторонников поэта и заставили его самого пойти на небольшую уловку, хитрость, литературную мистификацию. В 1938 г. Набоков отправил своему другу Зинаиде Шаховской два рукописных стихотворения – «Мы с тобою так верили в связь бытия» и «Отвяжись, я тебя умоляю». Позже они появились в эмигрантской печати под псевдонимом «В. Шишков». Через год в Париже в журнале «Современные записки» было напечатано стихотворение «Поэты», подписанное тем же псевдонимом. По словам Набокова, «это стихотворение, опубликованное в журнале под псевдонимом "Василий Шишков", было написано с целью поймать в ловушку почтенного критика (Г. Адамович, "Последние новости"), который автоматически выражал недовольство по поводу всего, что я писал. Уловка удалась: в своем недельном отчете он с таким красноречивым энтузиазмом приветствовал появление "таинственного нового поэта", что я не мог удержаться от того, чтобы продлить шутку, описав мои встречи с несуществующим Шишковым в рассказе, в котором, среди прочего изюма, был критический разбор самого стихотворения и похвал Адамовича» [Набоков 1991: 85]. Рассказ «Василий Шишков» был напечатан в 1940 г. в Париже перед отъездом Набокова в США. Стоит отметить, что имя Шишкова появляется и в двух рассказах «Обида» и «Лебеда», вышедшими вместе с повестью «Соглядатай» в 1938 г. В этих двух рассказах герой Путя Шишков оказывается в ситуациях детства самого Набокова, таким образом, писатель передает ему часть своих воспоминаний о жизни в имении, наделяя его своими чертами характера и манерой поведения. Имя героя выбрано не случайно: семья Набоковых была ответвлением рода Шишковых. Однако больший интерес представляет именно рассказ «Василий Шишков», одно из последних произведений, написанных Набоковым на русском языке перед эмиграцией в США. Повествование ведется от первого лица, фабула сжата до нескольких действий: герой случайно сталкивается с Шишковым, начинающим поэтом, просящим его оценить стихотворения. Рассказчик, прочтя тетрадь со стихами, выносит им однозначный приговор: «Стихи были ужасны, – плоски, пестры, зловеще претенциозные. Их совершенная бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малограмотностью рифм» [Набоков 2008: 127]. Однако выясняется, что эти стихотворения – фальшивка, пародия на «продукцию графоманов», созданная для «проверки» адекватности восприятия критика. Шишков вручает герою вторую тетрадь с настоящими шедеврами, которые, естественно, поражают своей силой слова и образа. Повествователь отмечает: «Стихи были очень хороши… Недавно по моему почину одно из них появилось в свет, и любители поэзии заметили его своеобразность» [Набоков 2008: 128]. Шишков при последующей встрече с героем отдает ему тетрадь и просит сохранить ее в любом случае, а позже исчезает: «Через неделю я покинул Париж и едва ли не в первый день по возвращении Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 81 встретил на улице шишковского приятеля. Он сообщил мне престранную историю: с месяц тому назад "Вася" пропал, бросив все свое небольшое имущество. Полиция ничего не выяснила, – кроме того, что пропавший давно просрочил то, что русские называют "картой"» [Набоков 2008: 130]. Фабула проста, прозрачна и понятна. За маской повествователя явно виден Набоков, если стоит вообще говорить о наличии какой-либо маски. Но почему же такой образованный критик Г. Адамович поверил в подлинность истории и существование талантливого поэта Василия Шишкова? На наш взгляд, дело в том, что Набоков умел подарить своим героям-поэтам такую силу самобытного таланта, такую оригинальность в словотворчестве, что происходило не просто раскрытие одной из граней писателя, а рождение самостоятельного поэта. Литературоведами уже не раз вскользь упоминался факт выбора псевдонима (В.Старк, Е.Трубецкова и др.), однако смысловой акцент в таких работах переносился на окололитературные причины сделанного Набоковым выбора, во главу угла ставился именно конфликт с Адамовичем. Нам же кажется, что дело не просто в желании доказать свой талант, иначе Набоков вполне мог бы обойтись имитацией, ему же хотелось показать прежде всего самому себе свою другую, более резкую, страстную, поэтическую сторону. Причина появления псевдонима – в поиске собственного «я», в желании самоопределения. Попробуем рассмотреть стихотворение Шишкова «Отвяжись, я тебя умоляю» [Набоков 1991: 72] («К России») в контексте поэтического творчества Набокова этого времени. В поздних сборниках (1952 и 1970 гг.) оно уже печаталось без псевдонима, однако в 1939 г. в Париже вышло всетаки за подписью «Шишков». В стихотворении с удивительной поэтической силой выражены истинные чувства автора, его отношение к России, к Родине – острейшая тема творчества писателя на протяжении всей жизни. Даже спустя 20 лет после изгнания боль не утихла, «чуть зримое сияние» России продолжало его мучить и вырвалось, выкрикнулось в стихотворении, которое он не решился (или не захотел?) подписать своим настоящим именем, спрятавшись за псевдонимом или связав любовь к Родине с историей рода и семьи. Сложно сказать, что побудило Набокова напечатать под именем Шишкова именно это стихотворение, сильное, смелое и провокационное, была ли эта попытка скрыть от себя самого глубоко запрятанное отчаяние или желание оставить свой общеизвестный образ поэта – последователя классической традиции – в его чистоте и неизменности. Однако с уверенностью можно сказать, что никакое другое стихотворение самого Набокова этого периода не отличается такой остротой боли и такой бескомпромиссностью суждения: Отвяжись, я тебя умоляю! Вечер страшен, гул жизни затих. 82 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Я беспомощен. Я умираю от слепых наплываний твоих. Тот, кто вольно отчизну покинул, волен выть на вершинах о ней, но теперь я спустился в долину, и теперь приближаться не смей. Навсегда я готов затаиться и без имени жить. Я готов, чтоб с тобой и во снах не сходиться, отказаться от всяческих снов; обескровить себя, искалечить, не касаться любимейших книг, променять на любое наречье все, что есть у меня, – мой язык <…> Набоков-Шишков не отказывается от России, но умоляет ее отказаться от него, перестать быть частью его самого. Эта страстная мольба вызвана глубочайшим отчаянием, которое наступило в конце 1930-х гг., когда стало ясно, что возвращение на родину невозможно. После такого эмоционального выпада Набоков на долгое время прячет внутри себя эту отчаянную тоску, скрывает ее за ностальгией по той, прежней Россией, связанной с воспоминаниями детства. В Крыму, в 1919 г., Набоков пишет очень нежное и трогательное стихотворение «Россия», где Родина «в сердце», «в ропоте крови, в смятенье мечты». Ни намека на ту драму, которая позже будет происходить в душе поэта. Через несколько лет появляются пронизанные оптимизмом по отношению к будущему своему и России стихотворения «Возвращение», «Домой», «Русь», «Россия» (1922), где мысль о встрече с Родиной звучит как утверждение очевидного: И будет радостно и страшно возвращенье. Могилы голые найдем мы – разрушенье, неузнаваемы дороги, – все смела гроза глумливая, пустынен край, печален... О чудо. Средь глухих, дымящихся развалин, раскрывшись, радуга пугливая легла. И строить мы начнем, и сердце будет строго, и ясен будет ум... Да, мучились мы много, нас обнимала ночь, как плачущая мать, и зори над землей печальные лучились, – и в дальних городах мы, странники, учились отчизну чистую любить и понимать… [Набоков 1991: 23] Даже смерть и полное исчезновение не видится поэту трагедией, если ее условием станет свидание с Родиной («Расстрел», 1927). Но такая встреча пока возможна только в мечтах и снах («Сны», 1926, «Глаза прикрою – и мгновенно…», 1923). Поэтому такое заметное пятно на полотне поэзии 1917-1940 гг., как стихотворение «К России», явно выбивается из общего эмоционального рисунка творчества той поры, да и в Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 83 более поздних стихотворениях лишь изредка пробиваются схожие нотки («Neuralgia intercostalis», 1950, «Сон» (из «Семи стихотворений», 1950-е)): О, нет, то не ребра – эта боль, этот ад – это русские струны в старой лире болят. [Набоков 1991: 114] Помимо темы разлуки с Родиной Набокова на протяжении всей творческой жизни тревожили мысли о писательском даре, литературном таланте, поэтическом призвании. Эти размышления нашли свое выражение и в ранних стихотворениях: «Поэту» (1918), «Забудешь ты меня, как эту ночь забудешь…» (1918), «Поэт» (1918), «Поэт» (1921?), «Поэты» (1919), «Поэт» (1921?). Почти через 20 лет после написания этих произведений, НабоковСирин печатает под псевдонимом Шишкова стихотворение «Поэты» (1939): Из комнаты в сени свеча переходит и гаснет. Плывет отпечаток в глазах, пока очертаний своих не находит беззвездная ночь в темно-синих ветвях. Пора, мы уходим – еще молодые, со списком еще не приснившихся снов, с последним, чуть зримым сияньем России на фосфорных рифмах последних стихов <…> Нам просто пора, да и лучше не видеть всего, что сокрыто от прочих очей: не видеть всей муки и прелести мира, окна, в отдаленье поймавшего луч, лунатиков смирных в солдатских мундирах, высокого неба, внимательных туч <…> Сейчас переходим с порога мирского в ту область… как хочешь ее назови: пустыня ли, смерть, отрешенье от слова, иль, может быть, проще: молчанье любви. Молчанье далекой дороги тележной, где в пене цветов колея не видна, молчанье отчизны – любви безнадежной — молчанье зарницы, молчанье зерна. Г. Адамович восторженно отозвался на вышедшее стихотворение: «В «Поэтах» Шишкова талантлива каждая строчка, каждое слово, убедителен широкий и верный эпитет, то неожиданное и сразу прельщающее повторение, которые никаким опытом заменить нельзя» [Адамович 1934: 3]. Сам же Набоков в лице повествователя в рассказе «Василий Шишков» отметил, что «кое-где заметны маленькие зыбкости слога – вроде, например, "в солдатских мундирах"» [Набоков 2008: 128]. Набоков-Сирин не позволил бы себе такую роскошь, как зыбкость слога или неверность словоупотребления, поэтому нам кажется, что мимолетное замечание призвано акцентировать границы между Набоковым и Шишковым: то, что Набоков-Сирин не мог позволить себе печатать под 84 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 своим собственным именем, будь то стихотворения со сбитым ритмом или эмоциональные выкрики, он «передавал» своим героям-зеркалам. В то же время, отделяя себя от героев, Набоков постоянно приближал их, даруя им свои воспоминания, слова, мысли. Стихотворение «Мы с тобою так верили в связь бытия», которое, по свидетельству З. Шаховской, было также подписано фамилией Шишков [Шаховская 1991: 205], позже выходило с автографом Иосифу Владимировичу Гессену, другу семьи Набоковых [Старк 1999: 40]. Адресуя стихотворения Шишкова Гессену, Набоков таким образом не просто отдает дань уважения Иосифу Владимировичу, поддерживавшего писателя и его семью много лет, но и на глубинном личностном, даже биографическом, уровне связывает историю Шишкова с историей своей жизни, оживляя образ, созданный на страницах рассказа. Ярким доказательством того, что Шишков для самого Набокова остался одной из сущностей его поэтического творчества, является тот факт, что сборник стихотворений, подаренный жене Вере Слоним, Набоков подписал сразу от имени трех поэтов: «Вере от В.В. Набокова, В. Сирина и Василия Шишкова. Апрель 1962. Монтрё» [Зверев 2004: 134]. Псевдонимы для Набокова никогда не были просто игрой, необходимостью, вызванной обстоятельствами жизни, в самом творческом сознании писателя есть раздвоение и даже растроение, которое через разные облики ведет его по пути поиска своего поэтического «я». Литература Адамович Г. Сирин // Последние новости. 1934. 4 января (№ 4670). Зверев А. Набоков. Изд. 2-е. М., 2004. Набоков В. Собр. соч. русского периода; 1938-1977: в 5 т. СПб., 2008. Набоков В. Стихотворения и поэмы. М., 1991. Старк В. Неизвестный автограф Набокова, или история одной мистификации // Звезда. 1999. №4. Шаховская З. В поисках Набокова; Отражения. М., 1991. А.В. Желудкова (Саратов) Детские вещи и книги в романах В. Набокова «Подвиг» и «Дар» Научный руководитель – профессор Е.Г. Елина «Подвиг» (1930-1932) и «Дар» (1937(8)) – романы русского периода творчества писателя Владимира Набокова, который тогда ещё создавал свои произведения под псевдонимом Сирин. «Подвиг» и «Дар» – очень разные романы по наполнению, идее, по развитию сюжета и авторскому стилю повествования, но их объединяет автобиографичность и детализация детства главных героев: Мартына Эдельвейса и Фёдора ГодуноваЧердынцева. Именно в этих произведениях мы находим особенно много личных воспоминаний автора, которые впоследствии Набоков впишет в Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 85 свою автобиографию «Другие берега» (1954). Выбор романов не случайный. «Подвиг» и «Дар» – романы, в которых автобиографические пласты особенно обширны. Известно, что автор «дарил» своим героям какие-то собственные черты, воспоминания и вещи. Мотив детства и мотив памяти – основные мотивы творчества Набокова. Они особенно полно раскрываются, когда автор детализирует бытие своих героев, наполняя его собственными воспоминаниями. Реальный и ирреальный миры в романах переплетаются, и образуется сложная перспектива. Например, в «Подвиге» в основную линию жизнеописания Мартына Эдельвейса иногда плавно входят, а иногда вторгаются воспоминания: направляясь с родителями в Ялту, он «ощутил то, что не раз ощущал в детстве, – невыносимый подъём всех чувств...» [Набоков 2009: 32], когда же Мартын сквозь окно купе увидел лунную дорожку на поверхности моря, «эта искристая стезя в море так же заманивала, как некогда тропинка в написанном лесу» [Там же]. У читателя возникает ощущение временного разрыва в развитии фабулы, потому что лунная дорожка кинематографично становится тропинкой в лесу, которая стала впоследствии для Мартына роковой. В романе «Подвиг» главный герой Мартын Эдельвейс наделён чертами Набокова и его кузена Юрия Рауша. В «Других берегах» Юрию отведена целая глава, где автор неразрывно связывает судьбу двоюродного брата с приключенческим романом Майна Рида «Всадник без головы». В «Подвиге» линия майнридовских персонажей находит своё разрешение в IX главе, где роман Мартына с замужней женщиной Аллой Черносвитовой отзывается в памяти читателя историей Юрия Рауша, у которого была страсть к замужней даме. «Майн-Ридов герой, Морис Джеральд, остановив коня бок о бок с конём Луизы, обнял белокурую креолку за гибкий стан, и автор от себя восклицал: «Что может сравниться с таким лобзанием?» [Набоков 2009: 50] – эта сцена из «Всадника без головы» упомянута и в «Других берегах», и в «Подвиге», явно связывая Юрия и Мартына. Отметим также, что тот самый «подвиг» для Мартына заключался в нелегальном, и от того превращающемся в опасное приключение возвращении в Россию на один день. Стихия чуть сниженной романтики, несдержанность нрава в силу молодости свойственна главному герою. Более всего Мартын боялся, что его посчитают трусом. В «Других берегах» Набоков вспоминает, что когда они с Юрием, будучи двумя самовлюблёнными мальчиками, «пытались перещеголять друг друга в смелости» [Набоков II 2004: 143], они переправлялись через реку у лесопилки, прыгая с одного плавучего бревна на другое. Для юного Набокова эта забава не была так опасна, как для Юрия: Набоков прекрасно плавал, Юрий же не умел и отчаянно это скрывал. Таким образом, сходство Мартына и Юрия очевидно. В биографии Набокова Брайан Бойд отмечает: «Читатели «Других 86 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 берегов» заметят, что Набоков передал Мартыну собственный романтизм, свою картинку с изображением лесной тропинки, свои драгоценные камни огней в темноте» [Бойд 2001: 417]. Ранние годы Мартына Эдельвейса наполнены воспоминаниями Набокова о своём детстве: в детстве Мартына появляется велосипед «Энфильд», усадьба, где рос герой (её описание напоминает Батово), англомания семьи, которая была не данью моде, а образом жизни. Первые книги Набокова и Мартына были на английском языке. В «Других берегах» писатель вспоминал: «первыми «английскими друзьями» были незамысловатые герои грамматики – коричневой книжки с синяком кляксы во всю обложку: Ben, Dan, Sam и Ned [Набоков II 2004: 55]. В «Подвиге», подчёркивая русское восприятие мира Мартыном, Набоков пишет: «от полуанглийского детства у него остались только такие вещи, которые у коренных англичан, его сверстников, читавших в детстве те же книги, затуманились, уложились в должную перспективу (…) – а жизнь Мартына (…) пошла по другому пути, и тем самым обстановка и навыки детства получили для него привкус сказочности…» [Набоков 2009: 77]. Книги, которые герою читала мать, Софья Дмитриевна, совпадают с теми историями, которые Набокову читала его мать, Елена Ивановна. В романах «Подвиг» и «Другие берега» можно найти почти полные текстуальные совпадения отрывков о детском чтении. «Подвиг»: «Меж тем в одной из английских книжонок, которые мать читывала с ним, – и как медленно и таинственно она произносила слова, доходя до конца страницы, как таращила глаза, положив на неё маленькую белую руку…» [Набоков 2009: 11], «…и приключения Артуровых рыцарей, – когда юноша, племянник, быть может, сэра Тристрама, в первый раз надевает по частям выпуклые латы и едет на свой первый поединок и какие-то далёкие, круглые острова, на которые смотрит с берега девушка в развевающихся одеждах…» [Там же: 14]. В «Других берегах» в воспоминаниях о матери, Елене Ивановне, с которой Набокова особенно сблизили его детские частые простуды, важным элементом повествования становятся истории о рыцарях, которые она читала маленькому Набокову перед сном: «Подбираясь к страшному месту, где Тристана ждёт за холмом неслыханная, может быть роковая опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя слова, и прежде, чем перевернуть страницу, таинственно кладёт на неё белую руку с перстнем… Были книги о рыцарях, чьи ужасные, – но удивительно свободные от инфекции – раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы, на средневековом ветру, юноша в трико и волнистоволосатая дева смотрели вдаль на круглые Острова Блаженства...» [Набоков II 2004: 57]. Приведённые выше строки показывают, что написанное Набоковым в романе «Подвиг» в 1930 году о детстве Эдельвейса отзовётся через двадцать лет в автобиографическом романе детальным воспроизведением собственных воспоминаний, идентичных истории Мартына. Это типично набоковский приём: играть со своей памятью и Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 87 вниманием читателя, вписывать в произведения детали, которые всплывают то в одном романе, то в другом. Здесь заметим, что в предисловии к американскому изданию «Подвига» (1970) Набоков просит «умного читателя» не листать автобиографию «Другие берега» в «поисках вторых экземпляров и похожих пейзажей» [Набоков 2009: 285], тем самым признавая дублирование отрывков. Безусловно, автору, который видит в своём читателе себя, неинтересно, если этот читатель займётся поисками похожих или идентичных элементов сложной системы набоковских образов, героев и пейзажей. Однако хотелось бы заметить, что читателю, который знает биографию автора, трудно не увлечься поиском этих деталей и их сопоставлением. Почти во всех романах Набокова мы имеем дело с прошлым главного героя. И это прошлое изобилует детализацией обстановки, мира материальных вещей и мира воспоминаний (книги и детское чтение располагаются как раз на границе материального и мира Мнемозины). Говоря о центральном романе русского периода, о «Даре», отметим, что центр повествования находится в отрывках, посвящённых отцу и творчеству. При этом весь роман разворачивается в мире русской литературы. Набоков сам не раз отмечал, что героиня «Дара» «не Зина (возлюбленная главного героя), а русская литература». Борис Носик пишет, что «роман этот и впрямь – настоящая энциклопедия русской литературы. Достаточно упомянуть, что начало романа уводит нас к безымянным мужикам из «Мёртвых душ», а конец его впрямую указывает на Онегина» [Носик 1995: 360]. Роман заканчивается строками: «Прощай же, книга! Для видений – отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, но удаляется поэт <…> и для ума внимательного нет границы там, где поставил точку я: продлённый призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка» [Набоков I 2004: 380]. «Дар» – это роман, где царит Пушкин, будь то описание творческого процесса, которым увлечён главный герой, или воспоминания об отце: «В течении всей весны… он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина, – у пушкинского читателя увеличиваются легкие в объёме…», «Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца…» [Там же: 57], «Мой отец мало интересовался стихами, делая исключение только для Пушкина: он знал его, как иные знают церковную службу, и, гуляя, любил декларировать» [Там же: 151]. В «Других берегах» Набоков писал: «Бездной зияла моя любовь к отцу – гармония наших отношений… Пушкин, Шекспир, Флобер, и тот повседневный обмен скрытыми от других семейными шутками, которые составляют тайный шифр счастливых семей» [Набоков II 2004: 142]. Увлечение Пушкиным стало маленькой частью огромного целого, которое разделяли в своих мировоззрениях отец и сын. «Дар» – это роман о мире автора, где этап отчуждения писательской индивидуальности от индивидуальности персонажа не был пройден до конца. В «Подвиге» отец главного героя – первая в очереди «знаменитость»: 88 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 известный врач (вспомним здесь «знаменитых» отцов Лужина и Пнина). Отец бросил Мартына и мать, он явно не наделён качествами Владимира Дмитриевича Набокова. В «Даре» отец Фёдора – путешественник-энтомолог, и гармония отношений Фёдора Константиновича Годунова-Чердынцева с отцом очень близка гармонии отношений Набокова с его отцом. Знаменитая библиотека Владимира Дмитриевича Набокова находит своё место в романе «Дар»: «мальчик ещё до поступления в школу перечел немало книг из библиотеки отца» [Набоков I 2004: 15], что полностью совпадает с реальностью детства автора. Именно в этой библиотеке юный Набоков нашёл научные труды о бабочках, которые собирал отец. Здесь автобиография, «Дар» и реальность прошлого сходятся в одной точке: для Владимира Дмитриевича энтомология была любительским увлечением, для Набокова стала делом жизни. С фигурой матери героя в «Даре» также связаны воспоминания, которые можно найти в «Других берегах»: «Вдруг растворилась дверь – вошла мать, улыбаясь и держа, как бердыш, длинный коричневый свёрток. В нем оказался фаберовский карандаш в полтора аршина длины и сообразно толстый: рекламный гигант, горизонтально висевший в витрине» [Набоков I 2004: 25]. В автобиографии об этом карандаше Набоков пишет следующее: «В объятиях у неё был большой удлинённый пакет <…> карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом <…> Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана как дирижабль, и мать знала, что я давно мечтаю о нем…» [Набоков II 2004: 26]. Здесь мы видим, как и в «Подвиге», почти полное совпадение сюжетов. Фёдор не является двойником писателя, у него свой творческий путь, пусть и сопряжённый с творчеством Набокова. Как пишет Б. Бойд, «Дар» – история эволюции писателя». И этим книга во многом схожа с «Другими берегами»: там мы следили за развитием жизни автора через его творчество – от первых стихов и «Машеньки» до первых больших русских романов. Отметим, что «Дар» стал хронологическим продолжением «Подвига». В «Подвиге» автор много внимания уделяет годам, проведённым в Кембридже, а «Дар» – это уже время Берлина, куда Набоков переехал после завершения обучения в Англии. В художественном мире Владимира Набокова прошлое – почти утопический мир, и если отдать дань его английскому воспитанию, его творчество можно охарактеризовать категорией прошедшего времени в грамматике английского языка: «Past perfect», что в данном случае переведём дословно: прошлое идеально. Детальное рассмотрение романов позволяет прийти к выводу, что мотивы детства, детского чтения и мотив памяти в целом не только характеризуют персонажей и расширяют перспективу романов, они являются своеобразным маркером – отсылкой главного героя к самому писателю. Набоков безраздельно владел вниманием читателя, проверял его Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 89 память, способность воспринимать неоднозначные тезисы и разнообразие смыслов того или иного эпизода. И если читать романы, уже зная набоковскую автобиографию, книга получает иное звучание, становится объёмнее, читатель начинает чувствовать, где он прикасается к авторскому сокровенному, а где доверительно следует по тропам набоковских сюжетов. Как мы уже отмечали в начале, мотивы детства и памяти – основные и связующие мотивы авторского творчества, а детские вещи – это приём характеризации персонажа, который сразу же отсылает читателя к авторскому «я»; они направляют повествование и делают его более объёмным, соединяют два мира: реальный и ирреальный. Литература Бойд Б. Владимир Набоков: русские годы: Биография. М.; СПб., 2001. Набоков В.В. Дар: Роман. М., 2004. Набоков I Набоков В.В. Другие берега: Роман. Весна в Фиальте: Рассказы. М., 2004. Набоков II Набоков В.В. Подвиг: Роман. СПб., 2009. Носик Б. Мир и дар Владимира Набокова: Первая русская биография писателя. СПб., 1995. Л.Ю. Матвеева (Саратов) Городские пейзажи Германии в творчестве К.А. Федина Научный руководитель – доцент Т.В. Бердникова Германия – неотъемлемая часть биографии Константина Федина. Приехав в Нюрнберг в 1914 г. московским студентом, он не знал, что задержится там до конца войны. Будучи «гражданским пленным», он изучил жизнь немецкого города начала XX века во всех ее подробностях. О романе «Города и годы» Федин писал так: «И так как изображение Германии, которая является как бы одним из главных действующих лиц романа, возникло из этих личных наблюдений, то я хочу о них сказать в автобиографическом плане, не чуждом самому роману» [Федин 1961: Т. 10: 256 – здесь и далее цитируется это издание с указанием в квадратных скобках номера тома и номера страницы]. В данном произведении рассказывается о событиях первой мировой войны и революции в России и Германии. Роман эпичен по своему охвату. Автор показывает, как история страны изменяет ход жизни людей да и самих людей. Материал исследования был распределен по описываемому объекту: город и строение. Задача данной статьи – рассмотрение элементов пейзажа с точки зрения языковых средств, которые использует автор в своем произведении. Обратимся к объекту Город: Новый город мутным кругом опоясывал старый. Пять башен, широких и грузных, озирали окрестность. На 90 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 скученных темных домах, сросшихся в нерушимую каменную грудь, короной веков лежал розовый бург [10: 56]. Город Бишофсберг, описываемый в романе, подразделяется как и всякий город, ведущий свою историю из средних веков на старый и новый город. Историческая часть города ведет спокойную и размереннообеспеченную жизнь. Относительно новая же его часть ведет жизнь более бедную и более смутную. Мутный круг (ср. МУТНЫЙ – 1. О жидкости: непрозрачный, нечистый; 2. Потускневший, затуманенный; 3. перен. О сознании: помрачённый, смутный. Мутная голова [здесь и далее данные приводятся из: Ожегов, Шведова 1999]) нового города неясен не только в противопоставлении с возвышающимся старым бургом, но там затуманено и само сознание. Однако старый Бишофсберг еще не понимает этого. Он «лежит» на этих домах, не замечая их. Бург автор называет розовым – этот цветовой эпитет он неоднократно будет употреблять по отношению к крепости. В семантике этого цвета содержится компонент ‘беззаботный’, в следствие чего город сразу предстает перед нами нежным существом, нежащимся на солнышке. Ср. пример: И из-за туманной вершины Лауше поднялось старое доброе солнце, и Бишофсберг порозовел, как девушка, после сна окунувшаяся в холодную речку. Бишофсберг нежится и потягивается, жмурясь на Лауше. Крепость сравнивается с короной – символом монаршей власти, которая прочно держится на постаменте. Но стоит только немного пошатнуться основанию этого постамента – новому городу, корона упадет. Когда приходит весть о падении монархии, город растерян: «В куски разлетелася корона, нет державы, нету трона…». Вот что самое страшное для Бишофсберга: Он был слишком тих, этот город, он почти дремал, он щадил покой своего средневекового каменного костяка. И теперь, разбуженный, вспугнутый, очнувшийся, город должен в несколько дней, в несколько часов догнать двадцатый век. Он должен догнать его, чтобы сохранить в целости свой средневековый костяк. Толковый словарь русского языка дает такое определение: КОСТЯК/ СКЕЛЕТ – Совокупность твёрдых образований, составляющих опору, остов тела человека и животного. Здесь можно говорить о так называемой «норме контекста» [Ларин 1974: 63] слово в языке писателя имеет множество оттенков, множество обертонов смысла. Эти семантические оттенки раскрываются только в контексте. Город дремлет – эта метафора снова возвращает нас к сочетанию «розовый бург». Город предстает как старик, уверенный в стабильности своей жизни, однако не знающий, что эта жизнь подходит к концу. Старый город здесь сравнивается со скелетом, не только как с чем-то, составляющим опору, но и как с останками, которые бережно хранятся в тиши музея. Немцы, по словам писателя, вообще воспринимают ход жизни как нечто устоявшееся, не способное подвергаться каким-либо изменениям. Покой и Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 91 размеренность – главный принцип жизни немецкого города. А теперь город – разбуженный, вспугнутый, очнувшийся, – не знает, как быть дальше. Его ход жизни, законсервированный с семнадцатого века, нарушен революцией: В башнях и рвах седого бурга, оплетенного паутиной тесных улиц, игрушечных площадей и нагромождениями кукольных домиков с непомерными мансардами, средневековье казалось только мертвым памятником. Даже «Железная дева» - башня с коллекцией орудий пыток – невинно дремала в романтической оправе города-музея [10: 65] Лексема СЕДОЙ дается в словаре со следущим значением- 1. Белый вследствие потери окраски (о волосах); с такими волосами; 2. перен. Белёсый, тускло-серый; 3. перен. О времени, эпохе: очень далёкий, давний. Седая старина. Седые времена. Это описание уже другого немецкого города – Нюрнберга. Такое ощущение, что писатель смотрит на него откуда-то сверху, держа его у себя в ладонях, как «Городок в табакерке». Сочетания игрушечные площади и кукольные домики дают ощущение какой-то игры, неестественности. Наверно, просто заведен какой-то средневековый механизм, который обеспечивает неторопливую и упорядоченную жизнь города. Бург здесь называется седым, может быть в соотнесении с выражениями седая старина и седые времена, но скорее всего, он простого белесого цвета. Он как бы покрыт пылью, паутиной от времени. Сам автор говорит, что город оплетен паутиной тесных улиц. Это налет времени, здесь давно уже ничего не меняется. Федин называет Нюрнберг городом-музеем. Вот что можно прочитать о Нюрнберге в энциклопедии: НЮРНБЕРГ – город в Германии, где находятся: Германский национальный музей. Городское художественное собрание, музеи ремесла, игрушек, дом-музей немецкого художника Альбрехта Дюрера. Упоминается с сер. XI в. То есть этот город на самом деле является городом-музеем. Но снова нужно сказать, что с музеем его сравнивает автор и потому, что здесь замерло средневековье. Город производит впечатление кукольного театра, где даже башня с коллекцией орудий пыток, выполнив свою роль злодейки, невинно дремлет, окруженная романтической дымкой этого города. Строения Пять башен, широких и грузных, озирали окрестность. Словарь трактует слово ГРУЗНЫЙ как – 1. Большой и тяжёлый; 2. Тяжёлый, с большим весом. Башни – защитники и наблюдатели любой средневековой крепости. Они грузные – так же принято называть и полного человека. Эта их кажущаяся неповоротливость делает их бессильными. Они хоть и обязательные атрибуты крепости, но уже не действенные. Возможно, они могли дать отпор врагу в семнадцатом веке, но век двадцатый ведет войны и революции по своим правилам. Как бы сильны и грузны не были сторожевые башни, они не смогут обезопасить город от болезни, приходящей извне, но сразу же поражающей все внутренности – 92 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 революции. Дом стоял статно, разглаженно и застегнуто, блестя на солнце, как шуцман — пуговицами, медью и никелем оконных ручек, замков, начищенной чашкой звонка с массивной доскою на двери: ПАНСИОН МИСС РОНИ для благородных девиц Стоит обратить внимание и на такие наречия как статно, разглаженно и застегнуто. Этим подчеркивается сходство дома с человеком, появление последних двух наречий – авторский окказионализм. «Борьба за новое слово для меня заключается в постоянном обновлении фразы путем бесчисленных сочетаний тех самых «обыкновенных», «некрасивых» слов, которые усвоены нашей живой речью и литературой» [10: 252]. Архаизм ШУЦМАН обозначает – ист. Полицейский в Германии (до 1945 г.) [Крысин 2007]. Качество немцев, поражающее, пожалуй, все остальные нации – их любовь к порядку во всем. Неудивительно, что герою здание пансиона своей строгостью напоминает шуцмана. Все что связано с охраной порядка невольно в сознании ассоциируется с ограничением и даже с принуждением. А теперь вернемся к тексту. Этот дом – пансион для благородных девиц! В романе находится и объяснение этому: «Распорядок жизни пансиона был установлен мисс Рони раз навсегда, и был он также прямолинеен, тверд и точен, как чугунная решетка, как замки на окнах, как дорожки и глазированные шары в саду. Каждый человек, вступавший в пределы владений мисс Рони, ходил только по начерченной директрисой ясной и ровной линии, садился на отведенных ему стульях, вздыхал в указанных заранее местах и улыбался в предусмотренные минуты». Час, в который началась война, родился под знаком вокзалов, Гороподобные, изрытые подземными ходами, перетянутые мостами и переходами, оплетенные железными клубками рельсов, в вечном содрогании и воплях – вокзалы делали войну. Как исполинские пылесосы, они втягивали в свои прокопченные жерла неисчислимые пылинки, собирали их в генераторах, протаскивали трубами. Спутанные нити рельс – это спутанные судьбы людей. По этим рельсам поезда уносят людей туда, откуда многие из них уже не вернутся. В клубок здесь спутаны не только сами рельсы, клубок – «смотанные шариком нитки», как читаем в словаре. Здесь спутаны нити людских судеб. Следующее сравнение вокзал - исполинский пылесос говорит само за себя. Людей Федин сравнивает с пылинками. Для войны не важна человеческая индивидуальность, да и вообще судьба человека. Поэтому вокзал – этот пылесос, – втягивает их без счета, не разбирая, для того, чтобы они уже никогда не вернулись такими как прежде. В цитадели помещались тогда городские весы и сеновалы и багровосиняя крепость была похожа на старого беззубого медведя, свернувшегося Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 93 погреться на солнышке. Писатель рисует в своем произведении картины жизни до и во время революции, до и во время войны. Здесь – цитадель до войны. Она совершенно мирная и безопасная. Уже в который раз появляется образ старого зверя, греющегося на солнышке. Медведь беззубый, то есть уже не способный никому причинить зла. Теперь – цитадель во время революции. Старомодные домики испуганно таращили свои оконца на цитадель и пятились от ее подавляющей мрачности, образуя просторную кольцевидную площадь. Домики, стоявшие по соседству уже много лет, поражены произошедшей в ней переменой. Медведь, так долго притворяющийся старым и добрым, снова показывает свою мощь. «В войну из цитадели убрали весы и вывезли сено, в окна под крышей вставили решетки, у входа водрузили полосатую будку и – на десять шагов от узкой дорожки – вокруг крепости протянули веревку. Первое время бишофсбержцы косились на своего ручного медведя, превратившегося в неприступного, хмурого зверя». Домики таращатся на цитадель, то есть смотрят на нее широко раскрытыми от страха глазами. Дома снова обретают у Федина человеческие качества – они способны бояться. Они пятятся от цитадели, словно не веря еще своим глазам-оконцам. Этот дом был благополучен. Он не мог не быть благополучным. Его окна горели на солнце таким огнем, точно в них были вставлены не стекла, а хрустальные многогранники. Он был умеренно сер, потому что был облит цементом, умеренно розов, потому что к цементу был примешан сурик, умеренно бел, потому что выступы и лепка фасада были чистенько отштукатурены. Этот дом – с сотнями горящих окон, тяжелой, как храмовые врата, дверью, прикрытый гладкой чешуей кирпично-красной черепицы, – этот дом был умеренно приятен. Всякий умеренно приятный дом, конечно, благополучен. Как человек, который стоит на своем месте, в галстуке, и манжетах, проглаженных брюках, с упорядоченными полосами на голове, в крепких башмаках и с своевременной улыбкой на лице. Такой человек приятен, такой человек благополучен. Так этот дом. Обратим внимание на лексему УМЕРЕННЫЙ – Средний между крайностями – не большой и не малый, не сильный и не слабый. Достаточно интересно автор использует некий аналог сравнительной степени цвета – умеренно серый, умеренно белый, умеренно розовый. Кроме того, дом умеренно приятен. Стоит заметить, что автор часто замечает, что умеренность – главное определяющее качество в жизни немцев. Часто он даже довольно иронически отзывается об их умеренности, точности, стремлении жить по 94 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 расписанию: По словам автора, жители Бишофсберга жили согласно с правилами, которые были написаны на табличках: «Запрещается сорить бумагой и кожурой фруктов». «Воспрещается нянькам с детьми сидеть на лавках». «Не ломать веток. Не обивать листьев». «Не расковыривать дорожек зонтами и палками» и т.д. Более того, жители Германии до такой степени были уверены в силе действия этих предписаний, что если бы где-то была повешена табличка, запрещающая делать революцию, то революции в Германии никогда бы не было. «РЕВОЛЮЦИЯ. И не где-нибудь в России или в Китае – в чем не было бы ничего необычного, а в Германии, что было уже не только необычно, но даже сверхъестественно». «Какой-то бюргер, все еще веря в силу установленных вещей, как отец все еще верит в свою власть, когда сын впервые безбоязненно выкажет непослушание, – какой-то бюргер, заперев свою табачную лавочку, вывесил на двери картонку с объявлением: ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДЕЛАТЬ РЕВОЛЮЦИЮ. В самом деле, не могли же люди, проснувшись утром десятого ноября, сойти с ума! И если они неслись по дороге и тротуарам без видимого смысла, то, конечно, только потому, что ни на дороге, ни на тротуарах не было написано: ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ НОРМАЛЬНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ». Толковый словарь дает такую дефиницию ЧЕШУЯ (ГЛАДКАЯ ЧЕШУЯ ЧЕРЕПИЦЫ) – Мелкие твёрдые пластинки, расположенные по поверхности (растения, кожи некоторых животных) так, что каждая тесно прикрывает край соседней. В данном случае можно говорить о семантическом приращении. «Слово в художественном произведении является смысловым элементом. Поэтому оно двупланово по своей направленности и в этом смысле образно. Его смысловая структура расширяется смысловыми приращениями смысла. В структуре литературно-художественного произведения экспрессивнообразные функции могут выпасть даже на долю семантически нейтральных абсолютно безобразных слов» [Виноградов 1963: 125]. Черепица на доме сравнивается с чешуей, а пластинки чешуи всегда плотно прилегают друг к другу, образуя как бы непробиваемый панцирь. Двери его напоминают тяжелые храмовые ворота. Все это дает ощущение надежности, защищенности, уверенности в ходе жизни. Развернутое сравнение с человеком, идущее далее, снова рисует идеал немецкого общества – строгость, порядочность, добротность, педантичность в своем отношении к тому, как он выглядит в глазах окружающих. Только такого человека будет замечать общество. Нельзя забывать, что в романе это здание – клиника единственного в Германии городского гласного еврея герра Отто Мозеса Мильха. Для того чтобы немецкое общество признало еврея он должен Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 95 быть именно таким – умеренно-благополучным. Даже человек другой национальности попадая в Германию должен жить по законам этого государства. Столько правил устанавливаются для него, что он по-другому и жить не может. Не смеет. Таким образом на материале романа «Города и годы» и на материале воспоминаний о Германии К.А. Федина были рассмотрены элементы пейзажа и средства их создания, была предпринята попытка объяснения некоторых элементов пейзажа с точки зрения исконных черт немецкого менталитета. Литература Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. Крысин Л.П. Толковый словарь иностранных слов. М., 2007. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя // Ларин Б.А. Избранные статьи. Л., 1974. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. Федин К.А. Собр. соч.: В 10 т. Т. 1, 10. М., 1961. В.А. Куранова (Саратов) Образ американца в повести И. Во «Незабвенная» Научный руководитель – профессор И.В. Кабанова Ивлин Во приехал в США в 1947 г. для обсуждения вопроса об экранизации его романа «Возвращение в Брайдсхед». По пути в Голливуд он завел несколько интересных знакомств, в частности с супругами Калманами (Cullman). Мисс Маргарет Калман, будучи поклонницей творчества Во, с удовольствием составила ему компанию во время путешествия. Именно она «посоветовала ему посетить кладбище животных с живописным ландшафтом, мавзолеями, надгробиями и мраморными статуями. Прочитав в 1948 году повесть «Незабвенная», она поняла, что слушал он ее куда внимательней, чем она предполагала» [Stannard 1992: 187]. Образ жизни американского общества вполне мог поразить глубоко верующего человека, каким был Во. Америка дала миру новый тип религиозности, когда исчезает интерес к богословию, а на первое место выходит стремление проповедовать, наставлять, молиться, давать людям конкретное руководство к действию. По словам биографа писателя М. Стэннарда, «вопросы понимания догматов и сложные философские построения мало волновали как простых американцев, так и их пасторов… Религия была четкой, простой и быстродействующей» [Там же: 189]. Такие религиозные установки привели и к изменению отношения к смерти, которая в Америке к середине ХХ в. превратилась из религиозного таинства в коммерческое предприятие. Ему посвящен очерк знакомой Во, английской журналистки Джессики 96 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Митфорд, «Мотели для покойников, или американский образ смерти». Она рассказывает о том, как похоронные фирмы, и прежде всего крупнейшее калифорнийское предприятие, которое так поразило Во и послужило прообразом кладбища «Шелестящий дол» в повести, наживаются на смерти, манипулируя стремлением американцев во всем превосходить ближнего своего. Исподволь и постепенно они «создавали гротескно-бредовый мир, в котором все излишества «элегантной жизни» превращались, словно в кошмарном сне, в излишества "элегантной смерти"» [Митфорд 1966: 229]. Сейчас вам предложат всевозможные услуги на любой вкус, разрекламируют новые уникальные водонепроницаемые гробы, туфли, поддерживающие стопы, естественные румяна, не забыв при этом, разумеется, содрать с вас кругленькую сумму за комфорт вашего усопшего близкого. Само собой разумеется, что немыслимо окружить покойника роскошью, но не привести в должный вид его самого. Соответственно тело должно быть подано с наибольшим эффектом. Митфорд показывает, что ходовое понятие «терапия скорби» используется «для прикрытия слишком многого…А по сути дела, самые «терапевтические» похороны – те, которые гарантируют наибольший барыш похоронной конторе» [Там же: 232]. Таким образом, материал повести Во – американский образ смерти – взят с натуры. Он позволяет писателю проницательно взглянуть и на американский образ жизни, как он практикуется в культурном сердце США – Голливуде и его окрестностях, которыми пространственно ограничено действие повести. Отрицание смерти, неприемлемое для Во-католика, свидетельствует о глубоком неблагополучии общества; отказ взглянуть в лицо смерти со стороны взрослого человека может быть вызван разными причинами, но как группе он присущ детям. Это психологическая особенность детства – ощущать себя бессмертным, вечным, это проявление детского оптимизма, необходимое условие для здорового роста личности. Вот почему в изображении героев-американцев в повести Во на первый план выходит инфантилизм, человеческая незрелость. Главная героиня «Незабвенной» – Эме, косметичка похоронного агентства «Шелестящий дол». У этой девушки романтичное имя, по-гречески означающее «возлюбленная», и соответствующая ее профессии фамилия – Танатогенос («танатос» – по-гречески «смерть»), и в целом ее имя погречески означает «возлюбленная, к смерти зовущая». Она молода, красива и выступает из толпы молодых, красивых американок чем-то поначалу трудно определимым. С виду она принадлежит к «той совершенно новой породе изысканно прелестных, обходительных и энергичных молодых особ, которых он (Деннис) на каждом шагу встречал в Соединенных Штатах» [Во 2004: 42. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Только Денис Барлоу, главный герой повести, талантливый английский поэт, а после ухода из Голливуда – собачий похоронщик, сразу Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 97 видит ее «единственной в своем роде» [43]. Во набрасывает биографию своей героини. Она рано лишилась родителей; отец, разорившийся на религии, ушел от ее матери еще до того, как Эме окончила университет. Мать отправилась на его поиски на Восточное побережье, где и умерла. Тем не менее, Эме закончила университет, где изучала искусство. В университете девушка брала для общего развития курсы китайского языка и психологии, но специализировалась на косметике. Тема ее дипломной работы – «Восточные прически». Неудивительно, что, с таким дипломом о высшем образовании в кармане, Эме остается личностью темной, нравственно неразвитой, несамостоятельной. Поначалу она работала в салоне, но волей случая оказалась косметичкой в похоронном агентстве, о чем ни разу еще не пожалела. В ходе их беседы о возвышенном, искусстве и смерти, Деннис цитирует строки из «Оды соловью» Джона Китса, а Эме не узнает хрестоматийного стихотворения. Она считает, что автор этих строк – сам Деннис. В дальнейшем она приписывает ему и стихотворения Хаусмана, Теннисона и даже сонеты Шекспира – Деннис пускает в ход «Антологию английской любовной лирики», чтобы завоевать сердце Эме, а она простодушно полагает, что все эти стихи он пишет для нее. По ходу повествования читатель все больше и больше разочаровывается в Эме. Оказывается, что она атеистка с «передовыми взглядами на воспитание в плане религии», что вершиной всего, что есть в американском образе жизни, она считает творения Искусства в парке «Шелестящего дола» (копии с самых знаменитых европейских статуй), что она непостоянна, неспособна самостоятельно принимать важные решения, действует зачастую импульсивно, не задумываясь о последствиях. Так, например, выбирая между Деннисом и мистером Джойбоем, главным бальзамировщиком трупов в «Шелестящем доле», она постоянно обращается за помощью к Гуру Брамину, так называемому «оракулу» в местной газете. Девушка пишет ему длинные письма о своих душевных муках, просит совета, и, что самое удивительное, выполняет абсолютно все, что тот ей велит. Разочаровавшись в обоих кандидатах на свои руку и сердце, Эме в очередной раз прибегает к помощи Гуру Брамина. Поздно вечером, в полном отчаянии, она звонит «оракулу». Тот, изрядно выпивший, накануне уволившийся из газеты, не интересуется ее проблемами, даже ее не слушает, и его безразличие обретает форму жестокого совета, которому Эмме, как привыкла, безоговорочно следует. Он предлагает ей покончить жизнь самоубийством. Это детски-дословное следование глупым, спьяну сказанным словам окончательно показывает жизненную несостоятельность героини. У нее есть духовные запросы, стремление к культуре – но она живет в окружении 98 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 подделок; она не имеет никаких средств, чтобы отличать истинную красоту от второсортных копий. Идеология фальши, подделки, следования заповедям рекламы пронизывает все ее повседневное существование. Кроме того, ее работа состоит в том, чтобы на время церемонии прощания придавать покойникам видимость жизни, то есть подделывать саму жизнь. Красота и простодушие Эме, ее детская, некритическая вера всему, что ей говорят, ее верное служение «Шелестящему долу», метафорически – служение смерти, и делают ее «незабвенной» для Денниса, и незабываемым для читателя воплощением американской женственности. Одним из воплощений американской мужественности в повести является начальник Эме мистер Джойбой, В «Шелестящем доле» он занимает важный пост, его уважают сотрудники его отдела, он профессионал своего дела, получивший прекрасное образование и имеющий немалый опыт работы в сфере похоронных услуг. Очевидно, что образ этого героя остросатиричен; Во использует в нем приемы гротеска, «говорящей фамилии». Джойбой: «joy» – жизнерадостный, веселый; «boy» – мальчик, юноша. Его поведение соответствует его фамилии. Ухаживая за Эме, он использует необычный способ выразить ей свою симпатию – он присылает ей усопших с «лучезарными улыбками детства». А когда видит девушку, его глаза загораются, а голос звучит по-особому. Так же реагирует ребенок на появление родного человека, или на новую желанную игрушку, искреннее, не в силах скрыть свой восторг. Его инфантильность проявляется и в отношениях с матерью. Он, будучи уже взрослым и вполне успешным мужчиной, прислушивается к ее мнению и боится, что Эме, которую он пригласил на семейный обед, не понравится его «мамуле». «Мамуля» – самый важный человек в его жизни, даже на просьбу отчаявшейся Эме приехать он отвечает, что не может приехать к своей «детуле-роднуле», так как должен быть с «мамулей», которая сильно переживает из-за смерти своего любимого попугая. Еще более нелепо ведет себя этот «маменькин сынок», обнаружив невесту мертвой на своем рабочем столе: Джойбой в слезах спешит за помощью к Деннису, своему сопернику. Он так боится за свою работу, что умоляет англичанина помочь ему избавиться от трупа и соглашается на ее кремацию в печи «Угодий лучшего мира» – похоронного агентства для животных, в котором работает Деннис. Удивительная, необъяснимая трусость, бесхребетность, сумбурность чувств, нежелание принимать на себя ответственность. Вспоминается реклама персиков без косточек, которую видит Эмме перед самоубийством. «Только покупая кайзеровские персики без косточек, вы покупаете полновесную, сочную персиковую мякоть без всяких посторонних…» [150]. Американское общество отличается юношеским максимализмом. Настолько, что даже природу переделывает под себя, извлекая из нее максимум пользы. Косточка – сердце фрукта, гарантия Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 99 дальнейшего существования вида. И, лишая персик этого центра, человек лишает его права на жизнь. Так происходит и с героями повести. И Джойбой, и Эме не хватает стержня, у них внутри образуется пустота, внешний мир ломает и пугает их. Эме в результате не выдерживает этого давления. Таким образом, наш анализ центральных американских персонажей повести Во «Незабвенная» позволяет заключить, что Во-сатирик, исследуя тему смерти в современных США, воплощает в центральных американских персонажах повести узость, невежество, незрелость, эмоциональную уязвимость американского общества, тот комплекс свойств, который можно охарактеризовать как инфантилизм и который проявляется, в частности, в его облегченном, коммерциализованном отношении к смерти. Литература Stannard M. Evelyn Waugh: No Abiding City (1939-1966). London; Dent, 1992. Во И. Незабвенная. М., 2004. Митфорд Д. Мотели для покойников, или Американский образ смерти // Иностранная литература. 1966. № 10. К.А. Старцева (Северодвинск) Интерпретация образа скорбящей матери в русской литературе XX века (на примере произведений В. Закруткина «Матерь человеческая» и Ч. Айтматова «Материнское поле») Научный руководитель – профессор Э.Я. Фесенко Теме материнской любви во всех видах искусства придавалось и придается особое значение. Известно, что прообразом Матери является Дева Мария, Богоматерь. В русском искусстве этот образ занимает особое место. Любовь и почитание к Богоматери возникли с первых веков принятия христианства на Руси: церкви, календарные праздники, исконны и молитвы посвящены Пресвятой Деве. В русской литературе особенно популярными образы Матери и Сына становятся в XX в. К ним в своих произведениях обращаются такие писатели как М. Горький («Мать»), М. Шолохов («Тихий Дон»), Л. Чуковская («Софья Петровна»), Б. Пастернак («Доктор Живаго»), В. Крапивин («Лоцман», «Кораблик, или Помоги мне в Пути») А. Приставкин («Ночевала тучка золотая»), С. Василенко («Ген смерти») и многие другие, каждый из которых создает и воссоздает свою Мать и своего Сына. Такое количество различных интерпретаций возникло и продолжает возникать, на наш взгляд, по двум причинам: во-первых, максимальная приближенность библейского сюжета рождения сына матерью к реальной жизни и, во-вторых, многозначность образа Богоматери в канонических 100 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 евангелиях. Появляются целые типы Матерей. Мы выделяем их, взяв за основу архетип Матери, выделенный К.Г. Юнгом. Он занимает особое место в теории швейцарского психолога и имеет множество аспектов. Среди которых: – родственный аспект: мать, крестная мать, бабушка и т.д.; – религиозный или мифологический аспект: богиня, мать бога, дева (например, Деметра), София; – символический аспект: рай, Царство Божие, Церковь, мудрость, земля, лес, море и др.; – анималистический аспект: корова и другие животные, помогающие людям. Кроме прочего архетип Матери имеет позитивное и негативное выражение. Наиболее выраженную амбивалентность имеют Богини: например, богини судьбы [Юнг 1997]. На основе этих значений мы выделили следующие типы Матерей: – Мать, родившая Бога (М.Горький «Мать» и Л. Чуковская «Софья Петровна»); – Мать, родившая человека (Б. Пастернак «Доктор Живаго»); – всеобщая Мать (или Мать-заступница) (В. Крапивин «Кораблики, или Помоги мне в пути»); – скорбящая Мать (В. Закруткин «Матерь человеческая», Ч. Айтматов «Материнское поле»); – Мать-наставница (А. Приставкин «Ночевала тучка золотая»). В противопоставление истинно материнскому началу – образ блудницы (на материале произведений М. Шолохова «Тихий Дон», С. Василенко «Ген смерти»). Особого внимания заслуживает тип скорбящей матери. Он сочетает в себе черты и матери, родившей человека и всеобщей матери (или материзаступницы). От типа всеобщей матери (матери-заступницы), скорбящую мать отличает чувство скорби по тем, кто умер и тем, кто еще жив, но обречен. Образ скорбящей матери характерен, в первую очередь, для военной прозы. Повесть В. Закруткина «Матерь человеческая» (1969) написана через двадцать лет после окончания Великой Отечественной войны. В центре произведения образ Матери: земной матери Марии и евангельской Богоматери. Писатель, используя аллюзии и реминисценции, сопоставляет и противопоставляет жизнь женщин, переживших одинаковую трагедию: «Смерть сына – тяжкое, неизбывное горе для матери» [Закруткин 1985: 5. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках], но «Разве нет на земле матерей человеческих, испытавших более страшные удары судьбы, чем те, которые ниспосланы были тебе (Мария)?» [5]. Стимулом к жизни для земной Марии становится еще не родившийся ребенок. В утробе матери – символ новой жизни: «Не убивайте его, Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 101 идущего в мир! Он хочет жить...» [28]. Через образ материнской утробы реализует символический аспект архетипа Матери: в числе своих значений утроба это «мягкий образ, чувствительный, болезненной незащищенности перед ударом. Вочеловечевание раскрывает перед человеком перспективу стать Богом» [Белова 2001]. Положительную коннотацию символ чрева имеет уже Евангелии, он связан с появлением новой жизни, надеждой на рождение Спасителя («по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго», <…>не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого [Ев. от Мт. 1. 18, 20]). Особое значение при анализе образа Богоматери играет имя. В канонических евангелиях авторы обращаются к Богородице как Дева Мария, Матерь, Матерь его, жена Иосифа. В то время как имя «Мария» имеет несколько значений, которые, не теряя связи с евангельской Богоматерью, реализуются в произведениях русской литературы ХХ в. В повести В. Закруткина «Матерь человеческая» Мария, сопоставленная писателем с евангельской Марией, как ‘святая и возвышенная’. Значение имени «Мария», кроме библейского варианта «матери Иисуса Христа», от древнееврейского – ‘противиться, отвергать’; ‘святая, высокая, печальная’; ‘превосходство, госпожа’ [Петровский 1984]. Образ Марии в повести В. Закруткина относится к типу скорбящей матери и в контексте произведения реализует значение имени ‘противиться, отвергать’: женщина противится смерти, страху, боли. Значение имени Мария ‘святая, высокая, печальная’ в повести «Матерь человеческая» является своего рода апелляцией к апокрифическому сказанию «Хождение богородицы по мукам». Мир для Марии сопоставим с адом: «Ей (Марии) казалось, что все вокруг гудит: и небо, и земля, и что где-то в самых недоступных глубинах земли тоже не прекращается это тяжкое, смертное гудение» [28], в центре повествования эсхатологический мотив. Аллюзия в тексте произведения «Матери человеческая» на сюжет о Великом Потопе, образ Ноева ковчега («Сказал [Господь] Бог Ною: конец всякой плоти пришёл пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями; и вот, Я истреблю их с земли» [Быт. 6:13-16]) расширяет временные рамки произведения и вносят добавочное значение к образу Матери (‘скорбящей матери’). Также как в библейском сюжете, в повести В. Закруткина к месту спасения (погреб в котором укрывалась Мария от разрушений мира) пришли звери: собаки, коровы, голуби, пчелы, овцы, лошади, курицы. И всех Мария встречала с радостью: «Бедные вы мои, – сквозь слезы сказала она коровам, – не пожалели вас люди...» [33], «сиротиночки мои бедные, – ласково зашептала она, – некуда вам приклонить свои головочки, некому пожалиться на свое сиротство» [51]. «Ноев ковчег» в контексте повести «Матерь человеческая» является символом гибнущей цивилизацией, спасти которую может только любовь и милосердие. 102 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Религиозный аспект прочтения повести В. Закруткина не исключает политической подоплеки: «Это правда, что ты ходишь в церковь? И тебе не стыдно? – приподняв бровь, спросил вожатый» [70]. Война, как общечеловеческая трагедия, все ценности и приоритеты расставляет на свои места: людей лишили Бога, предложив на замену вождя В.И. Ленина, и потому спрос за человеческую жизнь теперь тоже с него: «Вот, товарищ Ленин, – сказала она (Мария), давясь слезами, – вот чего сделали с людьми, с бедной Санечкой, со мною... Куда мне теперь податься, товарищ Ленин? Скажите, дайте мне ответ, Владимир Ильич, научите меня... Отец мой, и мать моя, и муж мой, и сыночек мой малый жизни лишились, и осталась я на белом свете одна...» [12], – так обращалась Мария к профилю Ленина на белой эмали значка, приколотого к воротничку убитой Санечки. Писатель подчеркивает естественность потребности человека в вере: с детства «нравилось Марии и в церкви, все казалось ей там необычным, торжественным: и дрожащие огоньки свечей, и запах горячего воска и ладана, и смутное отражение человеческих лиц в стеклах икон, и сами люди, спокойные, умиротворенные, празднично одетые» [69]. В Храме Божьем человек равен Богу: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему … И сотворил Бог человека по образу Своему, по Образу Божию сотворил его» [Быт. 1, 26-27], человек отражение Бога: «отражение человеческих лиц в иконах». Вся скорбь Матери реализуется в ее борьбе за жизнь еще не родившегося ребенка: «Живой незрячий комок не видит, как жестоко истязают один другого люди, как безжалостно убивают они друг друга. Растущий в теплой тьме материнского чрева, глухой, он не слышит, как, уродуя землю, грозно гремят орудия смерти, не ощущает, как вздрагивает потрясенная земля, как натужно трещат вырываемые из земли живые корни деревьев. Безъязыкий, он не может сказать: «Опомнитесь, люди! Пожалейте себя, не убивайте жизнь на земле! Пожалейте тех, кто еще не пришел, но придет в мир! Пожалейте еще не рожденных, еще не зачатых! Оставьте им светлое солнце, и небо, и воды, и землю!» [28]. Чингиз Айтматов в романе «Тавро Кассандры» (1996) продолжает тему, начатую В. Закруткиным: «в первые недели внутриутробного развития человеческий зародыш способен интуитивно предугадывать то, что ожидает его в грядущей жизни, и проявить свое отношение к потенциальной судьбе. Если это отношение негативно, у эмбрионов возникает сопротивление грядущему появлению на свет Божий. <…> Суть того, что сообщает кассандро-эмбрион, можно передать примерно так: «Будь на то моя воля, я предпочел бы не рождаться. В ответ на ваш запрос я посылаю сигналы, которые вы можете разгадать как предчувствие рока, беды, ожидающей меня, а значит, и моих близких, в будущем. И если вы эти сигналы разгадаете, то знайте, я, кассандро-эмбрион, предпочитаю исчезнуть, не родившись, не принося никому лишних тягот. Вы Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 103 запрашиваете – я отвечаю: я не хочу жить» [Айтматов 2007]. Киты в романе Ч. Айтматова выбрасываются на берег «это явление – самоубийство китов – противоречит биологическому закону самосохранения вида. То есть – природе вопреки. Такого нет в животном мире. <…> В акте группового самоубийства китов он видит реакцию мирового разума на земные события». Образы скорбящей матери В. Закруткина и образы кассандроэмбрионов Ч. Айтматова – это символы, предостерегающие человечество. Литература в данном случае выполняет репрезентирующую по отношению к реальности функцию. Еще одно значение Матери, которое реализуется в повести «Матерь человеческая» это всеобщая мать. К Марии идут животные, чудом выжившие на сожженном немцами хуторе, к ней выходят дети из ленинградского детского дома. «Голубяточки мои... Деточки родные... Выходите все... Все выходите... Я вас накормлю, напою, искупаю... Мы будем жить вместе... Я одна, совсем одна... и голоса человеческого давно не слышала...» [84]. Мария принимает детей как родных: «А я и есть ваша мама, – глухо сказала Мария. – Выл у меня один-единственный сыночек, а теперь вон вас сколько, и все славные, хорошие деточки...» [87]. В образе русской женщины Марии сливаются образы матерей немецкого солдата Вернера Брахта и матери русского Славика. Умирая Вернер тянул к ней руки: «Мама! Мама!». Мария понимала, что «она – последний человек, которого обреченный на смерть немец видит в своей жизни, что в эти горькие и торжественные часы его прощания с жизнью в ней, в Марии, заключено все, что еще связывает его с людьми, – мать, отец, небо, солнце, родная немецкая земля, весь огромный и прекрасный мир» [53]. И для нее в образе умирающего немецкого мальчика слились воедино «и казненный немцами сын, и умирающий мальчишка-немец, и Иван, и Феня, и застреленная Саня, и все смерти, которые довелось ей увидеть в короткие, полные ужаса и крови дни, и она, припадая к горячим рукам и заплаканному лицу Вернера Брахта, билась в исступленном рыдании, а он слабеющим движением рук гладил ее жесткие, натруженные руки и тихо шептал: «Мама... мама...» [Там же]. Всеобщая мать – это мать для всех людей на земле, вне зависимости от национальности, религиозной принадлежности, живым она помогает, мертвых оплакивает, скорбит. Тип скорбящей матери мы выделяем как отдельный тип, так как он является специфическим, характерным для военной прозы, когда Мать является Матерью не только всем живым, но и мертвым. В повести В. Закруткина Мария хоронит убитую немцами соседскую девочку Санечку: «рыла (могилу) по-собачьи, с трудом подгребая под себя сухую, комковатую землю: «Прощевай, деточка, – хрипло сказала она, – пусть земля тебе будет пухом...» [13], хоронит старого немецкого офицера: «Негоже так тебе лежать, – сказала Мария, – ты ведь человек, и дети, должно быть, не раз по тебе заплачут» [49], Вернера Брахта, русского 104 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 политрука Славика: «Погоди, миленький, – сказала она, – зараз я схожу за лопатой. Захоронить тебя надо, а могильщицей я одна тут осталась... Если помру, не знаю, кто меня захоронит...» [73]. Мария – скорбящая мать, на этом сожженном врагами кусочке земли она осталась одна и кроме нее оплакивать и хоронить людей, вне зависимости от того русские это или немцы, некому. Писатель настойчиво повторяет мысль о том, что все люди на земле равны перед Богом и матерью. Анализ повести В. Закруткин «Матерь человеческая» позволил нам выделить следующие значения архетипа Матери: мать, родившая ребенка (прямое значение), всеобщая мать, скорбящая мать. Символический аспект архетипа Матери реализуется в образе материнского чрева – символ новой жизни. В литературе ближнего зарубежья образ скорбящей матери появляется в повести Ч. Айтматова «Материнское поле» (1976). Основной темой произведения является война. Образ Матери у Ч. Айтматова многозначен. Во-первых, это мать, родившая ребенка (героиня повести Толгонай проводила на войну трех своих сыновей и всех троих потеряла). Во-вторых, народная мать: вспоминая детей Толгонай гордится, и понимает, что «материнское счастье идет от народного счастья». Рефреном в повести звучит мысль о силе материнской любви, как способной объединять, роднить, воскрешать: «Я проглотила хлеб со слезами и подумала: "Хлеб бессмертия, ты слышишь, сын мой Касым! И жизнь бессмертна, и труд бессмертен!"» [Айтматов 1963: 209]. Тип скорбящей матери в повести Ч. Айтматова «Материнское поле» реализуется в образе Матери, потерявшей троих сыновей и мужа на войне и в образе Матери-Земли, которая впитала в себя кровь всех убитых: «Земля, мать-кормилица, ты держишь всех нас на своей груди, ты кормишь людей во всех уголках света» [Там же: 210]. Народную мать и Мать-Землю (всеобщую мать, скорбящую мать) объединяет писатель одним вопросом: «А как же быть с другими, со всеми людьми, живущими на белом свете? Как дойти до сердца каждого человека?». Айтматов показывает неразрывную крепкую связь человека и природы в том виде, в каком она должна быть: к солнцу, туче, земле обращается мать человека за помощью, но мать-земля отвечает: «Нет, Толгонай, ты скажи. Ты – Человек. Ты выше всех, ты мудрее всех! Ты – Человек! Ты скажи!» [Там же]. «Матерь человеческая» В. Закруткина и «Материнское поле», «Тавро Кассандры» Ч. Айтматова с образами скорбящих матерей, детей, отказывающихся появляться на свет, эсхатологическими и апокалипсические мотивами появились во второй половине XX в. и являются своеобразными итогом прошедшего столетия, это произведенияпредостережения. Евангельские аллюзии и реминисценции в творчестве В. Закруткина и Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 105 Ч. Айтматова расширяют текстовое пространство произведений с библейских времен до ХХ в., позволяют обратиться к актуальным проблемам современности (война, человеческое отчуждение, низкая рождаемость и т.д.). Современный исторический контекст, в который В. Закруткин включает параллель земной скорбящей матери с евангельским образом Богоматери и библейский сюжет о Великом Потопе, дают возможность рассмотреть мотивы апокалипсиса, веры и безверия, жертвы и жертвенности и др., интерпретировать проблемы борьбы Добра и Зла, которые в русской литературе были и остаются «вечными». Литература Айтматов Ч. Материнское поле / Приложение к журналу «Сельская молодежь». М., 1963. Т. 4-5. Айтматов Ч. Тавро Кассандры: Роман, повести. СПб., 2007. Белова Д.Н. Образ Богоматери – эстетический идеал православия // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2001. №5. Закруткин В. Матерь человеческая: повесть. Сыктывкар, 1985. Петровский Н.А. Словарь русских личных имен / Спец. науч. ред. О.Д. Митрофанова. М., 1984. 3-е изд., стереотип. Юнг К.Г. Психологические аспекты архетипа матери // Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ. М.; Киев, 1997. Л.Ю. Морская (Саратов) Остров в романе М. Спарк «Робинзон» как пространство «английскости» Научный руководитель – профессор И.В. Кабанова В данной работе мы рассматриваем художественное пространство острова в романе английской писательницы Мюриэл Спарк (1918-2006) «Робинзон» (1958) как пространство, внутри которого ярко проявляются типичные черты английского национального характера. В книге «Понять Британию» Карен Хьюитт пишет: «Нашей культуре свойственно ощущение, что таинственность – это само по себе что-то дурное, ибо атмосфера «секретности» способствует недоверию. <…> Наше воспитание замешано на неприятии лжи, поэтому, наверное, и таинственность, вынуждающая говорить неправду, оказывается для нас морально затруднительной» [Хьюитт 1992: 118-119]. Именно такая «атмосфера «секретности» и складывается на острове Robinson, который принадлежит добровольному отшельнику по фамилии Робинзон и на который попадают потерпевшие авиакатастрофу Джэньюэри Марлоу, Джимми Уотерфорд и Том Уэллс. Изолированность от мира лишь способствует возникновению подозрительности. У всех героев романа есть 106 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «прошлое», им всем есть что скрывать: непростые отношения Джэньюэри с членами её семьи, возможное наличие гомосексуальной связи между Джимми и Робинзоном, грязные махинации Тома Уэллса. Все они находятся вдали от цивилизации, на крохотном участке суши, со всех сторон окружённом водой. Именно на этом пространстве исконно английское неприятие таинственности сталкивается с другой, ещё более известной чертой английского характера – индивидуализмом, который проявляется в защите личного пространства от вторжений извне. Активнее всего своё право на личное пространство отстаивают трое героев: Джэньюэри, Том Уэллс и хозяин острова – Робинзон. Вполне логично, что это и становится причиной возникновения конфликтов. Личное пространство – понятие сугубо индивидуальное, его границы сложно обозначить. У Спарк оно во многом пересекается с пространством самого острова. Если рассматривать Робинзона, то для него личное пространство – это всё пространство его острова. Таким образом, уже в самом начале потерпевшие крушение путешественники вторгаются в некую запретную зону, которую Робинзон сам для себя обозначил и в которую никого не намеревался впускать. На маленьком острове люди – пусть даже несколько человек – всё время находятся на виду друг у друга, и им поневоле приходится взаимодействовать: оказывать друг другу помощь, решать общие для всех задачи, разговаривать. Ко всему этому герои подходят по-британски собранно и рационально. С самого начала Робинзон старается максимально упорядочить жизнь на острове. Прежде всего, он чётко распределяет обязанности между своими незваными гостями: «Когда я поднялась со своей лежанки на полу, левая рука всё ещё была на перевязи и болела, а голова кружилась, но, несмотря на моё полуобморочное состояние, Робинзон тут же велел мне идти ухаживать за Томом Уэллсом <…> Я дежурила с восьми утра до трёх дня, потом меня сменял Робинзон» [Спарк 1992: 304. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Жёсткий график, по мнению Робинзона, способствует, во-первых, скорейшему выздоровлению его пациентов, а во-вторых, не оставляет времени на праздное шатание, которое ведёт к возникновению мрачных мыслей и к обострению сложившейся непростой ситуации. По этим же соображениям он настоятельно просит Джэньюэри вести дневник, строго придерживаться в нём фактов и не тешить себя напрасными надеждами. Вот как героиня вспоминает о совете, данном ей Робинзоном: «Помню, он не раз советовал: «Пишите только о фактах». И ещё говорил, что совершенно ни к чему выискивать в море долгожданный пароход, а в небе самолёт, что это занятие угнетает. В первые недели я только и делала, что смотрела в небо и на море, хотя пароход, который должен был привести съестные припасы и забрать урожай гранатов, мог Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 107 появиться у южного берега не раньше второй недели августа. Я донимала Робинзона просьбами сделать радиопередатчик. Но он говорил, нет деталей» [307-308]. С читательской точки зрения, действия Робинзона вполне оправданы: кто-то должен поддерживать на острове порядок до прибытия корабля со сборщиками гранатов. Тем более что Джэньюэри и Том Уэллс, оказавшись в непривычных для себя условиях, проявляют себя не с лучшей стороны. Во-первых, они яростно отстаивают своё личное пространство, а во-вторых, не желают идти на какие-либо уступки. Более того, они делают всё, чтобы максимально приблизить свою жизнь на острове к той, которую они вели у себя дома. Особенно наглядно это демонстрирует следующая цитата: «Том Уэллс отчасти из-за травмы, отчасти из-за лени и отсутствия любопытства не испытывал особого желания исследовать окрестности; мне казалось, он пытается, насколько это возможно, воссоздать вокруг себя атмосферу своей издательской конторы в Паддингтоне. Робинзон поставил ему в комнату письменный стол, где, разложив бумаги, Уэллс сочинял статьи для следующих номеров «Вашего будущего», исписывая листы, которые с мрачным видом ему выдавал Робинзон» [346]. Так, Том Уэллс сужает своё пространство до размеров комнаты, в стенах которой пытается воссоздать свою контору в Лондоне. Он часто выходит на залитый солнцем двор, но, за исключением крайних случаев, не покидает пределов усадьбы Робинзона. Джэньюэри и Джимми – наоборот – свободно передвигаются по острову, включая самые отдалённые его уголки. Они с интересом исследуют его, длительные прогулки совершенно их не пугают: «Мы с Джимми решили отправиться в поход на ту сторону горы…» [345], «Мы захватили с собой дорожный мешок, в нём были две гуаявы, банановое печенье и бутылка бледно-жёлтой минеральной воды…» [348]. Попытки Робинзона наладить совместную жизнь на острове нельзя назвать в полной мере успешными. С одной стороны, безусловно, ему удаётся навести на своём острове определённый порядок и заставить своих гостей следовать некоторым правилам и предписаниям. С другой стороны, именно его статус «хозяина» вызывает массу нареканий со стороны Джэньюэри, Тома Уэллса и Джимми. Они возмущены «деспотизмом» Робинзона (ограничение их личной свободы!), ставят под сомнение его право отдавать распоряжения и не упускают случая показать свою исключительную самостоятельность (порою в довольно оскорбительной форме): «– Попросту говоря, это совершенно неважно, – ответил Робинзон, – но у меня нет возражений. Вот ещё! Меня крайне злило, когда он принимался рассуждать, есть у него возражения или нет. Слёзы сразу высохли. И я сказала: – Ваши возражения никого не интересуют» [351]. 108 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 По настоянию Робинзона, Джэньюэри, Джимми и Том Уэллс вместе проводят вечера в его гостиной: слушают музыку, играют в шахматы (несносная терапевтическая процедура, по мнению Джимми и Тома Уэллса), разговаривают. Со стороны Робинзона это элементарное проявление вежливости к гостям, а также соблюдение приличий: «После ужина Робинзон пригласил нас к себе. Всем было неловко. Мы никогда не чувствовали себя легко и свободно в его кабинете. Я понимала, что он собрал нас вовсе не потому, что любит гостей; это напоминало чаепитие у директрисы – скучная обязанность с обеих сторон. Робинзон поддерживал между нами почти официальные отношения. Мы до сих пор ничего не знали о прошлом друг друга. Он не задавал вопросов, не заговаривал о том, что нас привело на лиссабонский самолёт, где кто живёт и куда летел» [329]. Робинзон терпит присутствие в своей крепости незваных гостей “with a stiff upper lip”. Он совершенно по-английски поддерживает small talk («Не хотите ли послушать музыку?» [330], «Вам нравится Россини?» [331]), потому что «так принято», но при этом совершенно не интересуется тремя новыми обитателями его острова. Его позиция сходна с позицией Джэньюэри, которая не намерена заводить близкое знакомство с людьми только на том основании, что они оказались на одном острове. Эти невыносимые для всех вечера – последняя отчаянная попытка Робинзона по поддержанию порядка на своём острове. Вот что говорит об этом Джэньюэри: «Чувствовалось, что Робинзон намерен держать себя в руках. Он делал всё, чтобы держать в руках себя, нас и свой остров. И не собирался допускать, чтобы мелкие препирательства дали нам возможность объединиться и нанести удар по столь ценимой им обособленности» [330]. Итак, столь желанное уединение, ради которого Робинзон поселился на необитаемом острове, разрушено – разрушено мелкими стычками, накопившимся взаимным недовольством и вторжением в личную жизнь под прикрытием неприятия лжи и «секретности». Это толкает Робинзона на очень странный и неоднозначный поступок, который ему видится единственно возможным: он инсценирует своё убийство, тайно запасается провизией и несколько недель прячется в труднодоступной пещере на берегу моря. Оценку его поведению даёт Джэньюэри, которая в зависимости от настроения характеризует его то как эгоцентричного, но благожелательного чудака, то как человека с тёмной душой, ослеплённого злобой. Кем бы он ни был – религиозным фанатиком или благочестивым отшельником – ясно одно: одиночество – сознательный выбор Робинзона. Он выбирает остров как идеальное место для затворничества; когда в его пространство столь бесцеремонно вторгаются, он предпочитает уединённую и подконтрольную только ему жизнь в крошечной пещере более комфортабельной жизни в доме на острове в компании других людей. Его жизненное пространство напоминает круги: сначала большой круг – Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 109 Европа, потом – маленький остров в океане, а затем второй круг сжимается до точки – крошечной пещеры. Что это – доведённая до абсурда идея о том, что личная свобода превыше всего, или просто человеческая странность – решать читателю. Само исчезновение Робинзона в корне меняет наше восприятие пространства острова, открывает его новые особенности и грани. Атмосфера сгущается, а сам роман становится более авантюрным. За природным изобилием и яркими красками может скрываться зловещая потусторонняя сила или же убийца из плоти и крови. Наблюдается и романтизация острова – густой туман, наползающий на гору, загадочные тени и шорохи. Пространство чётко разделяется на пространство дома и пространство всего остального острова: причём ни там, ни там герои не могут чувствовать себя в безопасности. В доме на авансцену выходит комната, где у Робинзона хранится оружие, а на самом острове – мрачные подземные туннели, в которых тяжело дышать от густого запаха серы. Пробираясь ночью в комнату за оружием или проползая на четвереньках по узкому туннелю, Джэньюэри проявляет ещё одну национальную черту британцев – стойкость при любых жизненных обстоятельствах и в любых природных условиях, стойкость, позволившая британцам создать империю, в которой никогда не заходит солнце. Когда главный герой в «Башне из чёрного дерева» Фаулза не решается войти в сад, где его подстерегают огромные псы, он напоминает себе о том, что он – англичанин, и смело идёт вперёд. По сути, такую же смелость неоднократно проявляет и Джэньюэри в своих расследованиях, в схватке с Томом Уэллсом. Отдельные черты британского национального характера проявляются не только в образах героев, но и в пространстве дома, хотя в целом дом Робинзона принадлежит не британской, а испанской культуре: «Дом Робинзона был построен в начале девятнадцатого века в старом испанском стиле. Это каменное бунгало располагалось на естественной горной террасе. Вокруг него тянулась низкая стена, за которой по утрам из моей комнаты виднелось сине-зелёное озеро, если его не скрывал туман. <…> А когда у меня перестали путаться мысли и выдавалась минутка, чтобы отдохнуть от обязанностей сиделки, я гуляла по небольшому запущенному саду или сидела в запущенном внутреннем дворике, поглаживая больное плечо и глядя на заглохший фонтан» [308]. Изображённая Спарк картина бесконечно далека от типичного изображения родины англичан: «обнесённый живой изгородью палисадник под окнами, который он охорашивает, радуясь воскресному дню» [Овчинников 1983: 226]. Плетёные кресла, тюфяки, набитые папоротником, резные католические распятия – всё это делает дом совсем не английским. Однако, взяв за основу испанский антураж, Спарк добавляет в образ дома несколько типично английских штрихов. Так, целые страницы посвящены описанию кошки Робинзона: её наружности, характера, повадок. Кошка – 110 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 любимое домашнее животное англичан, и Робинзон и Джэньюэри искренне любят кошку по кличке Bluebell. Джэньюэри терпеливо учит Bluebell играть в пинг-понг, а Робинзон ревнует её к кошке, правда, потом он подарит кошку Джэньюэри и та заберёт её с собой в Англию. Каждое утро жители острова едят овсянку, а по вечерам собираются вместе в одной комнате перед камином и проводят время чисто поанглийски: разговаривают, устроившись в уютных креслах, слушают музыку, потягивают спиртные напитки. Пространство дома у Спарк не так важно, как, например, у Эмилии Бронте в «Грозовом перевале», где всё повествование строится вокруг дома, но также играет важную роль в пространстве романа. Интересной деталью в доме являются книжные шкафы Робинзона. Вот как описывает один из них Джэньюэри: «В застеклённых шкафах была собрана большая библиотека. Я бы свои книги за стекло не прятала. У меня они не такие чистенькие. А вот у Робинзона библиотека ухоженная, все книги – в аккуратных переплётах. Среди них я нашла неразрезанные первые издания. Есть во мне некоторый снобизм, не позволяющий держать первые издания у себя на полке. Но сама мысль о неразрезанных первых изданиях в библиотеке человека, живущего на острове, очень меня позабавила» [312]. В приведённой выше цитате очень ярко проявляется специфический английский снобизм, присущий Джэньюэри. Известно, что демонстрирование своих знаний, а также своей образованности, начитанности считается у англичан признаком дурного тона. К тому же, если говорить об обычных англичанах, то у них дома редко можно увидеть обширную библиотеку: «У нас прекрасные книжные магазины и хорошая библиотечная служба. Книг полно: они красочны, хорошо оформлены – но дороги. Дома у британца вы найдёте гораздо меньше книг, чем в квартире русского» [Хьюитт 1992: 218]. Таким образом, Робинзон «выбивается» как из среднестатистических англичан (у них просто не будет такой богатой библиотеки), так и из высокообразованных представителей высшего класса (снобизм не позволил бы им так открыто кичиться неразрезанными ценнейшими первыми изданиями). Приведём цитату из «Анатомии снобизма» Артура Кёстлера, которая помогает понять истоки английского снобизма в целом, и снобизма Джэньюэри в частности: «Поговорим, к примеру, о лёгком презрении, с каким английская знать произносит слово "образованность", а также о гордости и воодушевлении, с каким женская её половина делает заявления вроде: "я не сильна в орфографии, арифметике, географии…" и так далее. Когда-то люди образованные были по преимуществу писцами, жившими впроголодь, а ещё раньше – рабами, тогда как высшие классы занимались своими господскими развлечениями. Пренебрежение, с каким самые закоснелые представители верхушки общества по сей день относятся к знаниям, Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 111 "образованности", "учёности", – несомненно, слабый отголосок тех давно минувших дней» [Кёстлер 2001: 254]. Возможно, именно эту сторону английского снобизма Спарк так ярко характеризует, вкладывая в уста Джэньюэри высокомерные слова по поводу книжного шкафа Робинзона. Не исключена и другая трактовка: героиня – интеллектуалка, для которой ценность книги состоит в том, что она прочитана и усвоена, и неважно, в каком издании, дорогом или дешевом. Неразрезанная книга – значит, непрочитанная, к тому же цена первых изданий высока; библиотека Робинзона с ее точки зрения достойна усмешки, потому что для нее книги – не предмет интерьера, как, похоже, для него. И наконец, английскость романа Спарк достигается не только за счёт пространства острова, но и благодаря цитатам, которые отсылают нас к хрестоматийным текстам английской литературы. Говоря о том, как черты национального характера англичан оживают на острове, созданном Мюриэл Спарк, мы хотим обратиться к следующей прямой цитате из Джона Донна, которая присутствует в тексте Спарк: "No man is an island". Это самая известная и цитируемая строка из проповеди Джона Донна «Devotions upon Emergent Occasions» (1623). Выдающийся английский поэт-метафизик противопоставляет человека острову: в отличие от острова, человек не может быть сам по себе, он всегда взаимосвязан с другими людьми, он не может не ощущать потери, которые, как кажется на первый взгляд, не должны его трогать. У Спарк высокий философский смысл и нравственный пафос этих слов становятся сатирически окрашенными, гораздо более приземлёнными, даже комическими: Джимми произносит эту фразу, когда Джэньюэри жалуется Робинзону на сексуальные домогательства со стороны Тома Уэллса. Как нам кажется, такое использование цитаты помогает, во-первых, ещё раз указать на «островное» сознание британцев, а во-вторых, добавить ироничных штрихов в образы своих далёких от идеальности героев. Литература Donne J. Devotions Upon Emergent Occasions [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gutenberg.org/catalog/world/readfile?fk_files=1533637. Загл. с экрана. Дата обращения: 01.03.2012. Spark M. Robinson. Penguin Books, 1978. Spark M. Robinson. Penguin Books, 1978. Кёстлер А. Анатомия снобизма // Иностранная литература. 2001. №4. Овчинников В. Сакура и дуб: Впечатления и размышления о японцах и англичанах. М., 1983. Спарк М. Девушки со скромными средствами. Холостяки. Робинзон: романы. Л., 1992. Хьюитт К. Понять Британию. Пермь, 1992. 112 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Е.Н. Чиженькова (Саратов) Автобиографический элемент в романе Дорис Лессинг «Золотая тетрадь» Научный руководитель – профессор И.В. Кабанова В XX в. жанр автобиографии приобрёл особую популярность. Его бурный расцвет, жанровое разнообразие способствовали повышению интереса к феномену автобиографии, а изучение этого жанра считается актуальным и перспективным не только в современном литературоведении, но и в гуманитарных науках в целом. Многие писатели, создавая художественные произведения, часто привносят в них какие-либо факты, события, черты из собственной жизни. Назвать такое произведение автобиографией трудно, однако вполне очевидно, что в нем присутствует автобиографический элемент. Под автобиографизмом (греч. autos – сам, bios – жизнь, grapho – пишу) понимается «трансформация автором "жизненного материала" в направлении своей экзистенциальной сферы, своего эмоционального комплекса и видения человека; в литературнохудожественном произведении такое понимание автобиографизма реализуется указанием субъекта речи на автобиографическую основу повествования» [Карпов 2003]. Немаловажной проблемой, имеющей отношение к автобиографизму, является соотношение реальности и вымысла в художественном произведении, выявление «степени» автобиографизма текста, его правдивости, документальности. Этой теме мы и посвятим настоящую работу, рассмотрев элемент автобиографизма в романе Дорис Лессинг «Золотая тетрадь». На основе двухтомной автобиографии Дорис Лессинг, созданной в конце 90-х годов, мы постараемся выявить степень автобиографического элемента в одном из самых знаменитых романов английской писательницы. «Золотая тетрадь», впервые опубликованная в 1962 г., переведенная на русский язык Е.А. Мельниковой лишь в 2009 г., вызвала весьма разнообразную реакцию, как среди женщин, так и среди мужчин. В настоящее время роман очень высоко оценивается в английской критике и считается классикой феминистской литературы; в России исследование данного произведения только начинается. Рассматривая сложные отношения между автором и героем в художественном произведении, следует отметить, что автор не является носителем душевного переживания героя, он лишь формирует образ, преподносит читателю видение героя в структуре единого целого. По мнению М. Бахтина, автор и герой никогда не смогут стать одним лицом. Автор может лишь принимать сторону героя, симпатизировать ему или сочувствовать. Если речь идет об автобиографическом произведении, то отношения между автором и героем будут еще более сложными и запутанными. В таких случаях можно сказать, что прототипом Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 113 литературного героя является сам автор. Однако не стоит приравнивать героя к автору, как это делают многие критики и читатели, когда речь идет о «Золотой тетради». Есть те, кто свято верит, Анна – это автопортрет Дорис Лессинг, а «Золотая тетрадь» – её исповедь, как было сформулировано в одном из интервью [Interview in Counterpoint 1964: 148]. На что писательница ответила, что подобный автобиографический подход критиков очень легкомыслен. «Like every other writer, my novels are a mixture of straight autobiography, and creation» («Как у любого другого писателя, мои романы представляют собой смесь автобиографии и вымысла») (Здесь и далее перевод осуществлен мной. – Е.Ч.) [Bloom 2003]. Идея создания «Золотой тетради» заключалась в том, чтобы передать мысли, чувства и настроения людей в послевоенный период времени: «The idea was that people might look back in 100 years’ time, and find a record of the kind of things people thought about and talked about during these years» («Замысел состоял в том, чтобы и через 100 лет можно было прочесть и узнать, о чем говорили и думали люди в те времена») [Lessing 1994: 90]. «Золотая тетрадь» принадлежит к числу интеллектуальных романов, что подтверждается количеством разнообразных тем, затронутых в произведении. Здесь переплетаются темы войны полов, тема художника, судьбы коммунистической идеи в ХХ веке, тема психологического срыва, психического расстройства. Их сложное взаимодействие делает этот роман поистине эпохальным. В основе романа лежит история Анны Вулф, заботливой матери, талантливой писательницы и, по мнению многих, убежденной феминистки. Анна и ее подруга Молли представляют собой, как им самим кажется, новый для 1950-х гг. тип свободных женщин. Следует также отметить необычную форму романа, не имея представления о которой, невозможно понять смысл произведения: костяк повествования составляет небольшой роман Анны Вулф под названием «Свободные женщины», который вполне мог бы существовать отдельно, сам по себе. Но он поделен на пять частей, между которыми помещены части четырех тетрадей, в которых Анна Вулф записывает все свои мысли, воспоминания и переживания. Трудно определить жанр этих тетрадей – это и воспоминания Анны, и ее дневник, сюда же она вклеивает газетные вырезки на политические темы, записывает свои сны, наброски для будущих произведений. Это рабочие тетради писательницы, однако, между тетрадями есть различия: тетрадь в черном переплете посвящена преимущественно воспоминаниям о минувшем, Красная – политике, Желтая – литературному творчеству, и Синяя – повседневным событиям. Четыре тетради появляются из-за необходимости как-то разделять разные сферы жизни, из-за страха перед хаосом и желания его избежать. Но со временем появляется пятая – Золотая тетрадь, в которой все сошлось воедино, разорванности существования, фрагментарности пришел конец, в результате чего в финале романа героине удается найти выход из тупика. 114 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Дорис Лессинг, безусловно, является прототипом Анны Вулф. В подтверждение этого мы находим многочисленные моменты сходства в биографиях автора и главной героини романа. Анна – молодая талантливая писательница, живущая в Лондоне, также как Дорис Лессинг, была замужем, затем развелась и теперь одна воспитывает своего ребенка. Анна переживает творческий кризис, которого у самой Дорис Лессинг не было, однако образ художника «в ступоре» был необходим автору по многим соображениям. Одно из них это то, что «невозможно было дальше терпеть образ чудовищно оторванного от всего и всех, чудовищно самовлюбленного и возведенного на пьедестал художника» [Лессинг 2009: 12]. Анна Вулф предстает перед нами, прежде всего, как женщина, мать, подруга, и только потом как писательница. В дневниках Анны можно найти довольно много от самой Дорис Лессинг. Черная тетрадь посвящена воспоминаниям, связанным с жизнью героини в Южной Африке. Анна описывает компанию, с которой проводит все время в Машопи, подробно пересказывает их разговоры, споры, а также рисует общую картину быта местных жителей. Из автобиографии писательницы под названием «Under my skin» 1995 г. нам известно, что в 1925 году, когда Дорис было 6 лет, ее семья переехала в Южную Родезию (сейчас – Зимбабве), государство в Южной Африке, бывшую британскую колонию, в которой она жила до 1947 г. Становится понятно, что все темы, идеи, воспоминания Анны Вулф, а также впечатления, полученные в период проживания в африканской колонии, принадлежат самому автору. По своим воспоминаниям и впечатлениям Анна написала книгу под названием «Границы войны», в которой на первый план вышли такие проблемы, как тяжелое положение африканцев, несправедливость и жестокость белых хозяев по отношению к ним. Роман «Границы войны» очень похож на первые романы Лессинг на африканском материале, романы, принесшие ей раннюю славу – «Трава поет» (1950), «Дети насилия», серия из пяти романов, наиболее известный из которых «Марта Квест» (1952). В Красной тетради, которую Анна посвятила политике, в основном идет речь о коммунистической партии, в которую она вступила еще в Африке в годы Второй мировой войны с верой и надеждой, что вскоре мир изменится. Позже, поняв, насколько наивны и обманчивы были ее ожидания, полностью разочаровавшись и увидев несостоятельность идей коммунизма, она решает выйти из партии, но долгое время еще не может определиться, когда и как это лучше сделать. Дорис Лессинг по тем же самым причинам примкнула к коммунистам в 1942 г. и до 1954 г. принимала активное участие в жизни партии. Затем, также испытав разочарование, она напишет, что ей потребовалось 20 лет, чтобы избавится от чувства вины и стыда, чтобы почувствовать себя свободной от влияния идей коммунизма. Мы говорим о том, что Дорис Лессинг является прототипом Анны Вулф, которая в свою очередь является прототипом созданной ею героини Эллы, о которой она пишет в Желтой тетради. Элла несчастна, так как её Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 115 отношениям с любимым мужчиной пришел конец, также как и отношениям Анны и Майкла, которые длились 5 лет. Тем не менее, Анна и ее героиня гордятся тем, что независимы и самостоятельны, они относят себя к новому типу женщин «new type of women – free women». [Лессинг 2009]. Но вскоре к ним приходит осознание того, что эта свобода им нечего не дает, кроме одиночества; женщина может быть либо свободной, либо счастливой. Следует отметить, что мысли и чувства Анны и Эллы, касающиеся свободы и независимости женщин, не принадлежат самой Дорис Лессинг. Писательница говорила, что не относит себя к типу свободных женщин, только потому, что считает, что никто не может быть в полной мере свободным. Ей ближе идеи, к которым приходят героини после осознания того, насколько велика плата за эту свободу. Во второй части своей автобиографии «Walking in the shade» (1998) Дорис Лессинг говорит о том, что у Майкла и Савла Грина, «сорвавшегося» американца, с которым Анна вместе впадает в безумие, были также свои прототипы, значимые в ее жизни мужчины: «Both Jack and Clancy are in The Golden Notebook. Not necessarily facts, but emotional truth is all there» («И Джек, и Кленси описаны в «Золотой тетради». Возможно, не реальные факты, но эмоциональная сторона наших отношений – вся там»)[Lessing 1998: 172]. Дорис Лессинг в одном интервью однажды призналась, что в эмоциональном, душевном плане ей ближе Элла, созданная Анной героиня, о которой она пишет в Желтой тетради. Принимая во внимание подобный характер взаимоотношений между автором и героем, вполне уместно употребить термин «автопсихологизм», впервые упомянутый в трудах Л.Я. Гинзбург, под которым понимается использование автором своего личного, духовного опыта при создании образа героя. Обращение к биографии писателя при рассмотрении связи между личностью автора и героя на психологическом уровне считается не совсем целесообразным. Здесь, скорее всего, окажутся полезными признания и откровения самого автора, если таковые имеются. Тем не менее, назвать «Золотую тетрадь» исповедью Дорис Лессинг, а героинь романа зеркальным отражением внутреннего мира автора будет неправильно. Говоря об автопсихологизме в романе, мы, прежде всего, имеем ввиду то, что автор использовал этот прием как один из способов психологического анализа. Например, через дневники главной героини передается психологический элемент, составляющий основу произведения. Мы знаем не только мельчайшие детали ее жизни, ее мысли и чувства, мы буквально заглядываем в ее внутренний мир. Автору удалось создать убедительный образ современной женщины, а затем, прорвавшись через субъективное, возвести личное до общего. Ведь, по мнению автора, в «Золотой тетради» запечатлен опыт целого поколения, а не только ее сугубо индивидуальный. Тенденция к фрагментарности, желание разграничить сферы своей жизни, как делала это Анна, приводят к душевному кризису, 116 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 творческому «ступору», внутреннему срыву, а душевное и творческое здоровье возвращаются к ней, когда она приходит к мысли о спасительной ценности общения, коллектива, целостности. Если же речь идет о внешних признаках, то даже при поверхностном знакомстве с биографией Дорис Лессинг, можно заметить сходства в событиях, каких-то деталях бытовой жизни, различных ситуациях, происходящих как с автором, так и с героинями романа: Анной и Эллой. Многое, описанное в «Золотой тетради», имело место в реальной жизни писательницы. В целом дистанция между героиней и автором довольно большая, но всё же и черты характера Анны, и ее обстоятельства в подавляющей мере автобиографичны. Таким образом, в романе «Золотая тетрадь» можно наблюдать смесь вымысла и реальных фактов, которые самым тесным образом переплетаются между собой. Различить ту грань, которая пролегает между ними очень трудно. Ведь довольно часто получалось так, что те черты героини «Золотой тетради», которые приписывали Дорис Лессинг, оказывались вымышленными. До сих пор остается открытым вопрос о том, принадлежит ли автор феминистского романа, к женскому движению или нет. Так как в романе большое значение придавалось теме войны полов, эмансипации женщин, проблемам матерей одиночек, так как главные героини романа выражают феминистские идеи, то и автора стали считать убежденной феминисткой. Несмотря на то, что Лессинг продолжает повторять, что у нее ничего нет общего с феминистами, что в «Золотой тетради» она отразила общее настроение эпохи, запечатлела обычные женские разговоры, которые можно было услышать на любой кухне. На вопрос о том, что она думает по поводу женского движения, она всегда неизменно отвечает: «Well, I know very little about it because I’m not involved in it…» («Я очень мало знаю о нем, потому что не имею к нему никакого отношения») [Hendin 2000: 55]. Получается, что в «Золотой тетради» грань между вымышленным и реальным очень подвижна и порой едва уловима, но она, безусловно, есть, как в любом другом автобиографическом произведении. «Золотая тетрадь», таким образом, в очередной раз подтверждает высокую продуктивность обращения автора к автобиографическому элементу в романе ХХ в. Сопоставление с автобиографией Лессинг выявляет, что «сырой» автобиографический элемент составляет основу Черной и Красной тетрадей, в меньшей степени присутствует в Желтой тетради, а степень его влияния на основное повествование в романе не выявляется сопоставлением с автобиографией писательницы конца 90-х годов; чтобы уверенно судить о мере автобиографизма в написанном от третьего лица основном повествовании «Золотой тетради», придется подождать создания фундаментальной биографии Дорис Лессинг. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 117 Литература Bloom H. (ed.) Doris Lessing. Philadelphia, 2003. Hendin J. The Capacity to Look at a Situation Coolly // Doris Lessing: Сonversations / ed. E. Ingersoll. Ontario Review Press, 2000. Interview in Counterpoint / ed. R. Newquist. Chicago, 1964. Lessing D. Conversations / ed. E. G. Ingersoll. Ontario Review Press, 1994. Lessing D. Under my skin. Vol. 1. First Harper Perennial, 1995. Lessing D. Walking in the shade. Vol. 2. First Harper Perennial, 1998. Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. М., 1999. Карпов И.П. Авторология: Литературоведение, лингвистика, философия, логика, психология. М., 2003. Лессинг Д. Золотая тетрадь. СПб., 2009. К.А. Клюков (Саратов) Образ шута в поэзии В.С. Высоцкого Научный руководитель – доцент В.В. Биткинова Исследователи творчества Владимира Высоцкого не раз делали попытки установить происхождение и характер смехового мира поэта. В результате этих изысканий делались разные выводы, суть которых можно свести к двум основным точкам зрения. Первая связывает творчество Высоцкого с европейской сатирической традицией [Намакштанская и др. 1999: 245-254], вторая предполагает, что поэт «оставался верен традициям русской классической литературы и отечественной сатиры» [Ананичев 1999: 261]. Общим же знаменателем всех размышлений оказывается положение о том, что смеховой мир поэта связан с фольклором, притом, как отмечает Д.Н. Курилов, «чем очевидней связь с фольклором, тем отчетливей выражено целостное народно–карнавальное, игровое начало; чем сильнее крен в сторону литературной традиции, тем смеховое начало становится серьезнее, злее, сатиричнее» [Курилов 1999: 243-244]. Однако след традиции (литературной или культурной) в связи с таким ярким и неоднозначным образом как шут пока подробно не рассматривался, и мы ставим себе целью анализ этого образа в поэтическом творчестве Владимира Высоцкого. При этом нас будут интересовать те тексты поэта, в которых шут упомянут напрямую. В нашей работе мы будем опираться на классический труд М.М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», разбирающий смеховые традиции Европы, и книгу Д.С. Лихачёва, А.М. Панченко, Н.В. Понырко «Смех в Древней Руси», рассматривающую традиции смеха в русской культуре. Кроме этого мы будем учитывать мнения исследователей творчества Владимира Высоцкого, 118 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 изучавших тему смеха и смехового мира поэта. Назовём некоторые из них: Ананичев С.А. «...Не ради зубоскальства, а ради преображения», Курилов Д.Н. « "Карнавальные" баллады Галича и Высоцкого», Шилина О.Ю. «"Вы – втихаря хихикали, а я – давно вовсю!": Творчество Владимира Высоцкого и традиции русской смеховой культуры». В поэтических произведениях Высоцкого мы встречаем героев, сопоставляемых с шутами, – героев, которые смешат своими действиями (например, песня «Иван да Марья» (1974)). Однако эти действия могут иметь и более глубокий смысл, а вызванный ими смех – очищающий эффект. Рассмотрим стихотворение «Енгибарову – от зрителей» (1972). «Он смешного ничего не делал, – / Горе наше брал он на себя» [Высоцкий2 1991: 61. Далее цитируется это издание, том и страницы указываются в квадратных скобках]. Смех соотносится с «возрождающим началом» [Бахтин 1965: 89], становится как бы свидетельством душевного и морального оздоровления людей, которые вначале ничего подобного не ожидали: «...Да разве это клоун! / Если клоун – должен быть смешной!» [2, 61]. Однако, скажем, речи о «лечении» каких–либо пороков здесь идти не может: как замечал Лихачёв, сопоставляя европейских шутов с русскими юродивыми, «шут лечит пороки смехом, юродивый провоцирует к смеху аудиторию, перед которой разыгрывает свой спектакль», притом смеяться над последним «могут только грешники (сам смех греховен), не понимающие сокровенного, "душеспасительного" смысла юродства» [Лихачёв и др. 1984: 81]. Кстати, неслучайной кажется перемена «наименования» героя с «шута» на «клоуна» и обратно. Строгой закономерности в таком «переключении» проследить нельзя, но всё же кажется, что «клоун» больше связывается с цирковым пространством, а «шут» принадлежит всему, что находится за пределами арены – пространству жизни, на что намекают строки: «Рыжий воцарился на арене, / Да и за пределами её» [2, 62]. Шут похищает у людей их «грустные минуты». Страх, горести рассеиваются смехом. В действиях шута можно разглядеть что–то от смеховой традиции Средневековья, где было важным «острое ощущение победы над страхом», когда «всё грозное становилось смешным» [Бахтин 1965: 102]. Однако образ шута у Высоцкого наполнен трагизмом, что противоречит средневековой смеховой традиции: «Слишком много он взвалил на плечи / Нашего – и сломана спина» [2, 62]. Смех зрителей, «кража тоски» во имя их спасения оборачиваются для него смертью. Если продолжить размышления о связи образа шута с традициями смеха Средневековья, то можно вспомнить слова М.М. Бахтина об «исключительной односторонней серьёзности официальной церковной идеологии», которая не допускала внутри себя «весёлость, смех, шутку», но провоцировала их появление «вне официального и канонизированного культа и чина» [Бахтин 1965: 83]. Положение о «церковной идеологии» можно применить шире – по отношению к любой идеологии, в том числе и советской, современной Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 119 Высоцкому. Попытаемся под этим углом рассмотреть трилогию «Ошибка вышла», «Никакой ошибки», «История болезни» (1975–1976). Все три стихотворения объединены приёмом «перевёртывания»: лирическому герою кажется, что он находится на допросе, тогда как на самом деле он оказался всего лишь на медицинском осмотре, где его подвергают различного рода процедурам и обследованиям. Однако они в сознании лирического героя имеют больше сходства с пытками: ...А вдруг уколом усыпят, Чтоб сонный раскололся? .................... Ведь скоро пятки будут жечь, Чтоб я захохотал. .................... Вон вижу я – спиртовку жгут, Всё рыжую чертовку ждут С волосяным кнутом. Где–где, а тут своё возьмут! А я гадаю, старый шут: Когда же раскалённый прут – Сейчас или потом? [1, 505-506] Герой называет себя «старым шутом», что может указывать нам на причину «переворачивания» реального мира. С образом шута связана тема психического здоровья / нездоровья: ...Вот профессор входит в дверь – Тычет пальцем: «Параноик», – И пойди его проверь! [1, 508] Герой признан врачами психически больным (диагноз, кстати, сравнивается с приговором), но о себе он говорит: «...не душевно, а духовно я больной!» [1, 509]. Возможно, что духовное нездоровье связано с его «больным истерзанным нутром» [1, 504], то есть с внутренним смятением, невозможностью сказать слово. Ведь именно готовность героя сказать («и – горлом кровь, и не уймёшь...» [1, 510]) пресекается насильно («...но иглы вводят / И льют искусственную кровь – / Та горлом не выходит» [Там же]); льющаяся живая кровь становится опасной уже не для пациента, а для всех окружающих: «В твоей запёкшейся крови / Увязнет кто–нибудь!» [Там же]. Напрашивается мысль о том, что весь смысл «лечения» заключается только в отчуждении героя от мира других людей, тем более врачам он «всё же доказал, / Что умственно здоров» [1, 510] (Выделено мной. – К.К.). Для подтверждения обратим внимание на «эволюцию» истории болезни. Вначале она представляется лирическому герою протоколом допроса, затем она оказывается тем, чем и должна быть на самом деле, – медицинским документом («перевёрнутый» мир как бы возвращается в нормальное положение: «Не подследственный, ребята, / А исследуемый я!» [1, 508]. В конце заключительной части трилогии со слов врача мы узнаём, что «Почти у всех людей вокруг – / История болезни» [1, 511]. Образ 120 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 приобретает вселенский масштаб, становится гротескным: абсолютно все больны, больны с самого начала времён и даже «создатель болен был, / Когда наш мир творил» [1, 511]. Следовательно, кроме лирического героя всё живое претендует на «лечение», на цензурирование, на то, чтобы быть признанным душевно нездоровым – «Живёт больное всё бодрей, / Всё злей и бесполезней...» [1, 511]. Герой трилогии, называющий себя «старым шутом», сначала как бы пытается обличить ненормальность происходящего, с чем можно соотнести и, казалось бы, вполне «шутовское» действие – герой «заголяется» [Лихачёв и др., 1984: 93]: «В полубреду, в полупылу / Разделся донага...» [1, 504] (хотя, с другой стороны, для медицинского осмотра человеку просто необходимо раздеться). Он будто бы пытался создать свой смеховой антимир, однако получилось так, что последний «стал активным, пошёл в наступление на мир действительный», продемонстрировав нам «неупорядоченность его (действительного мира. – К.К.) системы, отсутствие в нём смысла, справедливости и устроенности» [Лихачёв и др. 1984: 49]. Слова Д.С. Лихачёва в нашем случае вполне оправданы. Вспомним, например, о том, что героя считают душевно больным, когда он «умственно здоров»; в него вливают искусственную кровь, как некий суррогат живого слова; вся история человечества представляет одну большую историю болезни. Образ шута здесь, действительно, восходит к традиции средневекового смеха, объединяя в себе элементы и европейской, и отечественной культуры. Подобное противостояние двух миров встречаем в «Моей цыганской» (1967/68): с одной стороны это кабак, а с другой – церковь. Характерно, что кабак в глазах лирического героя представляется как «Рай для нищих и шутов» [1, 204], он противопоставлен церкви, где «смрад и полумрак». Герой не приравнивает себя к шутам, как в стихотворении «Ошибка вышла» («Моя цыганская» написана значительно раньше, когда образ шута только начинает появляться в творчестве Высоцкого). Герой вообще остаётся в стороне от обоих миров, так как убеждён, что «ни церковь, ни кабак – / Ничего не свято!» [1, 205]. Причина же кроется в душевном дискомфорте: «Всё не так, как надо!» [1, 204]. В представлении лирического героя реальный мир и антимир сближаются вплоть до потери различий между ними. Не с этим ли связано появление «злых шутов» (как «участников» смехового антимира, переставшего быть смешным) в поэзии Высоцкого? В «Песне Бродского» персонажи, враждебные по отношению к лирическому герою, оказываются «в роли злых шутов и добрых судей» [2, 210]. Это связано с тем, что они предлагают выбрать лирическому герою либо «жизнь счастливую на блюде» [Там же], либо «деревянные костюмы». При этом неоднократно подчёркивается единственно «верный» и неизбежный путь: «Но надо выбрать деревянные костюмы» [Там же]. Само предложение выбора между жизнью и смертью при неизбежности последней выглядит как Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 121 злое шутовство, не подразумевающее уже никакого смеха (разве только циничного), по крайней мере для того, кто должен сделать этот выбор. Не вызывает смеха и ратник, превратившийся по воле судьбы в шута (стихотворение «Я скачу позади на полслова...» (1973)): Я скачу позади на полслова, На нерезвом коне, без щита, – Я похож не на ратника злого, А скорее – на злого шута. [2, 92] Это превращение соотносимо с «перемещением иерархического верха в низ», о котором писал М.М. Бахтин: «шута объявляли королём, на праздниках дураков избирали шутовского аббата, епископа, архиепископа...» [Бахтин 1965: 91]. В нашем случае происходит обратное перемещение – от ратника (рыцаря) к шуту, но «топографическая логика» всё же действует. Оказавшись похожим на шута, герой подвергается насмешкам, оскорблениям («...я беззащитен / Для зуботычин, дротиков и стрел» [2, 92]), его отстраняют «от всяких ратных дел». Образ «злого шута» драматизирован – он не вызывает и не может вызвать смеха, по крайней мере у нас, так как нам известно, что происходит в душе героя. Шутом он выглядит в глазах окружающих, но на самом деле он «злой ратник» и для него важен не внешний вид, а участие в битве, ратный подвиг: «Влечу я в битву звонкую да мáнкую – / Я не могу, чтоб это без меня...» [2, 93]. Слова «злой шут» позволяют нам понять, какая драма происходит в якобы смеховом антимире. Этот антимир стоит слишком близко к окружающей героя действительности и, в сущности, не несёт в себе ничего смешного. Лирический герой стихотворения «Мне судьба – до последней черты, до креста...» (1978) сам видит себя «злым шутом»: Пусть не враз, пусть сперва не поймут ни черта, – Повторю даже в образе злого шута, – Но не стоит предмет, да и тема не та... [1, 550] Образ не совпадает с мироощущением героя и является как бы навязанным со стороны. Появление образа «спровоцировано» спором с неким оппонентом лирического героя, возможно, с самой судьбой: Только чашу испить – не успеть на бегу .................................. Что же с чашею делать?! Разбить – не могу!.. [1, 550] Героя не останавливает бесплодность его попыток, он настойчив, готов «спорить до хрипоты», «доказывать с пеной у рта, / Что – не то это вовсе, не тот и не та!» [1, 550]. Последние слова заставляют вспомнить, что такое несоответствие, дисгармония были ещё раньше, в «Моей цыганской», – «всё не так, как надо». Только «злой шут» появляется именно в «Мне судьба – до последней черты, до креста...», и сам лирический герой надевает его маску. Образ «злого шута» и шута вообще у Высоцкого не может смешить, так как его смех и создаваемый им антимир очень похож на реальность, а «смех, слишком отвечающий действительности, перестаёт быть смехом» 122 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 [Лихачёв и др. 1984: 56]. Следовательно, можно говорить о драматизации образа; его появление свидетельствует о дисгармонии, присутствующей в реальном мире, и о попытке если не вскрыть её, то хотя бы понять её причины. Рассмотрим стихотворение «И кто вы суть? Безликие кликуши?..» (между 1977 и 1979): Я ротозей – но вот не сплю ночами, – В глаза бы вам взглянуть из-за картины!.. Неймётся мне, шуту и лоботрясу... [2, 163] Взгляд «лоботряса» понимается как остраняющий, освежающий восприятие и без того непривычного гротескного образа «полуобразин», «тушенош». Последние можно сблизить с тем самым «материально– телесным моментом» во внеофициальной культуре, о котором писал М.М. Бахтин [Бахтин 1965: 89]. Однако мы можем отметить здесь сохранение лишь отдельных элементов карнавала. «Топографическая логика» здесь не действует: «незавершённость» образов стихотворения («безглазны, безголовы»), «телесный низ» говорит скорее о бесповоротном омертвении плоти, нежели намекает на обновление, возрождение («И рёбра в рёбра вам – и нету спасу» (II; 163)) [Там же: 91-92]. В этом случае «шут и лоботряс» выглядит как разоблачитель этого абстрактного порока, и его точка зрения обретает даже религиозные черты: Так кто вы суть, загубленные души? ............................... Вы крест несли и ободрали спины? [2, 162-163] Герою они малопонятны («И кто вы суть?»), и он не стремится к тому, чтобы высмеять их, он пытается осмыслить их как явление, появившееся в реальной жизни. Несколько обособленно по отношению ко всем рассмотренным стоит стихотворение «Мой Гамлет». Оно крепко связано с литературной и культурной традицией: в нём можно «расслышать» «голос шекспировского Гамлета <…> голос Гамлета из стихотворения Бориса Пастернака <…> одновременное звучание голосов автора (Высоцкого–человека и Высоцкого–актёра, играющего Гамлета) и героя (принца Датского из трагедии Шекспира)» [Исрапова 2001: 420]. Интересующий нас «шут» упомянут в «Моём Гамлете» только мимоходом, однако в очень интересной связи. Гамлет говорит: Я улыбаться мог одним лишь ртом, А тайный взгляд, когда он зол и горек, Умел скрывать, воспитанный шутом, – Шут мёртв теперь: «Аминь!» Бедняга Йорик!.. [2, 64] «Наследный принц крови» словно перенимает некие знания, умения у придворного шута и пользуется ими. Он начинает вести себя странно, не так, как ему дόлжно, мир, реальность открываются для него с новой стороны, и как бы ключом к тому служит герою по–шутовски «глупый» взгляд: Я прозревал, глупея с каждым днём, Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 123 Я прозревал домашние интриги. [2, 65] Глупость здесь оборачивается умом, пониманием истинного смысла происходящего; возможно, что с «глупостью» связана и саморефлексия героя («Я бился над словами "быть, не быть", / Как над неразрешимою дилеммой» [2, 65]) и его неспособность к действию, то есть к мести, к тому, что связано с «низким», «плотским», «земным» («А крылья плоти вниз влекли, в могилу» [2, 65]). Глупость (как перевёрнутый ум) не только указывает на связь образа Гамлета с образом шута, она драматически заостряет образ принца Датского, делая стихотворение отчасти похожим на «своеобразный лирический спектакль» [Исрапова 2001: 427]. Шуты в творчестве Владимира Высоцкого выглядят совершенно непохожими друг на друга, однако мы попытались найти объединяющее начало, выводя его из культурной традиции. Помимо этого общего, восходящего к традиции, они несут на себе печать индивидуального авторского осмысления. Шуты Высоцкого перестают быть только развлекающими, смешащими – или вообще перестают быть такими. Их образы приобретают особую окраску и тут можно согласиться с мнением О.Ю. Шилиной, считающей, что в творчестве Владимира Высоцкого смех «выходит за рамки только смехового мира, трансформируясь в некую фатальную предопределённость, заданность <...>, и воспринимается уже как ролевая зависимость – необходимость соответствовать определённому образу (в данном случае – шута <...>), что и придаёт ей оттенок обречённости, трагичности...» [Шилина 2002: 76] Литература Ананичев С.А. «...Не ради зубоскальства, а ради преображения» // Мир Высоцкого. Вып. 3. Т. 2. М., 1999. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965. Высоцкий В.С. Сочинения: в 2 т. М., 1991. Исрапова Ф.Х. «Мой Гамлет» как интертекст // Мир Высоцкого. Вып. 5. М., 2001. Курилов Д.Н. «Карнавальные» баллады Галича и Высоцкого // Мир Высоцкого. Вып. 3. Т. 1. М., 1999. Лихачёв Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. Л., 1984. Намакштанская И.Е., Романова Е.В., Куглер Н.А. «Человеческая комедия» в поэтике Высоцкого // Мир Высоцкого. Вып. 3. Т. 2. М., 1999. Шилина О.Ю. «Вы – втихаря хихикали, а я – давно вовсю!»: Творчество Владимира Высоцкого и традиции русской смеховой культуры // Мир Высоцкого. Вып. 6. М., 2002. 124 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 М.С. Балашова (Саратов) От факта к вымыслу: изображение литературного творчества в романе Дж.М. Кутзее «Фо» Научный руководитель – доцент И.В. Кабанова Джон Максвелл Кутзее родился в 1940 г. в Кейптауне, ЮАР. После окончания Кейптаункого университета он уезжает в США, где защищает диссертацию по творчеству Сэмюэла Беккета в Университете Техаса, а затем в течение двух лет преподаёт английский язык и литературу в НьюЙорке. Кутзее получает отказ в виде на жительство в США и возвращается на родину в ЮАР, где занимает должность профессора английской литературы в Кейптаунском университете. Сейчас он живет и работает в городе Аделаида, Австралия. Свой первый роман «Сумеречная земля» Кутзее публикует в 1974 г. В 2003 г. Кутзее становится лауреатом Нобелевской премии по литературе. Он также стал первым писателем, который дважды удостоился Букеровской премии (в 1983 году за роман «Жизнь и время Михаэла К.» и в 1999 г. за роман «Бесчестье»). Роман «Foe» (в русском переводе «Мистер Фо») был опубликован в 1986 г. Этот роман, в отличие от других, более социально-направленных произведений писателя, был плохо воспринят читателями, которые посчитали его неактуальным для раздираемой расовыми конфликтами Южной Африки. Действительно, этот роман лишь вскользь касается темы расовой дискриминации, которая так широко освещена в других книгах Кутзее. Его главной темой становится проблема соотношения реальности и вымысла в жизни и в литературном произведении. К анализу этой темы мы и обратимся в своей работе. Действие романа разворачивается в начале XVIII в. Повествование начинается с воспоминаний героини Сьюзен Бартон о том, как она, после бесплодных попыток найти свою похищенную дочь, возвращалась на корабле из Бразилии в Англию, но по дороге была выброшена за борт бунтовщиками и попала на остров, на котором уже долгие годы жили Робинзон Крузо и Пятница. Сьюзен прожила на острове год, после чего ее спас проплывавший мимо английский корабль. Крузо скончался от лихорадки на корабле, а Сьюзен и Пятница, который, будучи немым, следует за ней, как ребенок, вернулись в Англию. Вторая часть представляет из себя письма Сьюзен к известному писателю Мистеру Фо (настоящая фамилия Даниеля Дефо), в которых она просит его написать роман о ее жизни на острове. Он соглашается, но после этого исчезает, скрываясь от кредиторов, и Сьюзен поселяется в его опустевшем доме, продолжая записывать свои размышления и воспоминания, но, не зная места пребывания Фо, не может отправить Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 125 письма. У нее нет денег на существование, и она предпринимает отчаянную попытку найти Фо. В третьей части книги Сьюзен это удается. Она поселяется вместе с Мистером Фо в его тайном убежище и ведет с ним долгие споры о том, как должен быть написан роман о ее жизни. Фактически, «Фо» – это история того, каким образом действительность интерпретируется и преображается в произведение искусства. Кутзее проследил процесс создания художественного произведения, процесс, результатом которого является, как это ни парадоксально, роман Даниеля Дефо «Робинзон Крузо», написанный за 250 лет до этого. Вместе эти 2 романа, роман Дефо и роман Кутзее, образуют замкнутый круг: Сьюзен Бартон пишет мемуары о своей жизни на острове, постепенно превращаясь из участника событий в писателя, творца новой реальности. Затем Фо, пользуясь рассказом Сьюзен, перерабатывает его и пишет то, что нам известно как роман «Робинзон Крузо», который одновременно является прецедентным текстом для романа Кутзее. В начале повествования Сьюзен является ярым борцом за истину. Много раз в своих мемуарах и письмах к Фо она упоминает, что не допустит никакой лжи о ее жизни. Но она понимает, что из ее рассказа вряд ли можно написать роман, который заинтересует читателя, ведь за год ее проживания на острове не произошло ничего интересного. При этом она отвергает всякие предложения Фо внести изменения в описание событий. Интересно, что все предложенные Фо изменения мы можем найти в романе Даниеля Дефо. Не один раз Сьюзен заявляет о своем отношении к изложению ее истории на бумаге: «Если уж я не могу выступить в качестве автора и поручиться за истинность рассказа, то какой во всем этом толк? С таким же успехом я могла бы все это выдумать, лежа в уютной постели в Чичестере» [Кутзее 2004: 45. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Искусство, по мнению Сьюзен, необходимо для написания романа, но при этом оно не должно допускать лжи, что противоречит самому понятию творчества. При этом в своем письме к мистеру Фо Сьюзен признает, что история в ее пересказе не дает ощущения реальности, в то время как писатель может выдумать намного более «реалистичный» рассказ. «Верните мне мою потерянную сущность, мистер Фо, умоляю вас. Потому что мой рассказ, оставаясь чистой правдой, не передает сущности этой правды» [55]. Однако постепенно Сьюзен осознает, что не знает объективную истину. Большая часть ее писем к Фо состоит из риторических вопросов, попыток догадаться, как события происходили на самом деле. Она и сама не осознает, что записывая свои предположения, она уже создает художественное произведение – выдумку, вариант развития событий. Сьюзен постепенно становится писателем. Хотя она считала себя только участницей событий, которая передает объективные факты, она не может удержаться от того, чтобы не высказывать свое личное мнение, свои 126 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 догадки. Она становится автором не только своей истории, но и истории Крузо, Пятницы, самого мистера Фо, который на протяжении большей части романа является лишь внесценическим персонажем. Не в состоянии дождаться появления Фо, Сьюзен сама пишет роман, переосмысляя все, что произошло с ней на острове. Складывается впечатление, что Сьюзен предсказывает то, как будет написано произведение, или, скорее, наталкивает Фо на мысли о том, как стоит исказить истину, чтобы роман был читаем. «Я пишу письма, запечатываю их и бросаю в почтовый ящик. Настанет день, когда нас здесь уже не будет, вы получите их и пробежите глазами. "Было бы хорошо, если б речь шла только о Крузо и Пятнице. – Пробурчите вы себе под нос. – Лучше бы обойтись без женщины"» [75]. От упорного отказа признавать себя рассказчиком, Сьюзен приходит к осознанию себя как писателя. «Никогда не думала, что быть писателем так легко» [96]. Сьюзен не только вынужденно берет на себя роль Фо. Она физически заменяет его, поселившись в его доме, распоряжаясь его вещами. Она пишет ему, и он становится героем ее рассказа, а не наоборот. В своих первых письмах Сьюзен вспоминает о том, как Фо сидит за столом и пишет, но теперь она сама садится за его стол и начинает писать воспоминания об острове. Фактически, именно она является настоящим автором. Все ее идеи о том, каким должен был бы быть роман, воплотились в «Робинзоне Крузо», каким мы знаем его сейчас. Задумавшись о том, что на острове в действительности не произошло ничего странного, Сьюзен предполагает, какие события могли бы быть более подходящими для книги. Фактически, она пересказывает сюжет романа «Робинзон Крузо». «Меня давно уже подмывает выдумать новые и еще более удивительные вещи: спасение инструментов и мушкетов с затонувшего корабля; изготовление лодки или, на худой конец, ялика, попытка доплыть до материка, высадка людоедов на остров, закончившаяся схваткой с кровавыми жертвами» [71]. В некотором смысле Сьюзен также является «прототипом» самого Крузо таким, как мы видим его в романе Дефо. Она берет себе его фамилию, называет себя его вдовой, становится хозяйкой Пятницы; еще живя на острове, постоянно предлагает что-то изменить, занимает активную мужскую позицию. Вернувшись в Англию, она становится автором истории о Крузо, ведь он не вел никакого журнала. В третьей части романа можно наблюдать столкновение писателя, мистера Фо, и его персонажа, Сьюзен Бартон – внутренний диалог писателя с его героем. Он пытается заставить героя делать то, что ему не свойственно, но художественное полотно существует по своим законам, и какой бы властью ни обладал писатель, не так легко, оказывается, заставить Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 127 героев делать то, что хочет автор. Они, словно живые люди, обладающие своим собственным характером. Сьюзен активно противостоит искажению своей настоящей истории, пытается понять себя. «Что мне остается, кроме как протестовать и доказывать, что это неправда? Мне, как и вам, известны многочисленные способы самообмана. Но можно ли жить, если не верить, что мы знаем, кто мы такие и кем были раньше?» [134]. Сьюзен убеждена, что важно то, кем человек является по-настоящему, но для Фо она – лишь еще одна новая история, глина, из которой можно лепить, на что Сьюзен возражает: «Я не выдуманное создание, мистер Фо. <…> Я свободная женщина, и я утверждаю свою свободу, рассказывая эту историю, как я желаю» [134-135]. Дом Мистера Фо, в котором и разворачиваются события 3 части романа, – это мысли самого Фо, который в своих попытках написать роман, переработав факты в вымысел, встречается с множеством препятствий в лице его собственных героев. Сама Сьюзен начинает сомневаться в своей реальности, в обособленности своего существования. «Сначала я думала рассказать вам историю про остров, а затем вернуться к моей предыстории. Но теперь вся моя жизнь перерастает в некий рассказ, в котором мне ничто уже не принадлежит» [137]. В процессе разговора Фо рассказывает Сьюзен историю о женщине, которая приговорена к смертной казни за многочисленные преступления и исповедуется капеллану, но перечисляет ему такое множество грехов, что он не верит в правдивость ее слов и уходит прочь. Когда Сьюзен в недоумении спрашивает о смысле этой истории, Фо отвечает: «Для меня ее мораль заключается в том, что наступает время, когда мы должны отчитаться перед миром и тем самым навсегда внести покой в нашу душу». Сьюзен же отвечает так: «По-моему, мораль в том, что последнее слово принадлежит людям, располагающим большей силой» [127]. Кто же в романе распоряжается этим «последним словом» – повествовательница Сьюзен или все-таки, если «последним словом» является классический текст «Робинзона Крузо», последнее слово принадлежит мистеру Фо? Интересно, что рассказ о себе представляется обязательным действием: «мы должны отчитаться перед миром». Создается впечатление, что, пока о человеке не написали, он не может считаться в полной мере человеком. Именно так относятся к Пятнице. Он в романе представляется умственно отсталым, но причина этого не в том, что он действительно недоразвит. Корень его неполноценности кроется в отсутствии языка, в неспособности рассказать о себе. Писатель, как Бог, творит новую жизнь. Реальность быстро забывается, но то, что остается навсегда – это чья-то интерпретация, субъективный 128 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 пересказ реальности. И постепенно эта рассказанная история становится более реальной в восприятии людей, чем сама действительность, как это и произошло в случае с романом «Робинзон Крузо», вытеснившим все реальные истории о необитаемых островах и кораблекрушениях. Одну из вполне возможных версий подлинной реальности предложил в своем романе Кутзее, дополнив ее к тому же выдуманной, неожиданной и оригинальной, но психологически вполне убедительной для современного читателя версией творческой истории классического романа. Литература Attridge D. J.M. Coetzee & the ethics of reading: literature in the event. University of Chicago Press, 2004. Masłoń S. Père-versions of the truth: the novels of J. M. Coetzee. Uniwersytet Slaski, 2007. Барт Р. S/Z. Пер. с фр. 2-е изд., испр. / под ред. Г.К. Косикова. М., 2001. Дефо Д. Робинзон Крузо: Роман; пер. с англ. М. Шишмаревой. История полковника Джека: Роман; Пер. с англ. Н. Шерешевской и Л. Орел. М., 1974. Ильин И.П. Поструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996. Ильин И.П. Постмодернизм: Словарь терминов. М., 2001. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / пер. с фр. Г.К. Косикова // Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / Пер. с фр., сост., вступ. ст. Г.К. Косикова. М., 2000. Кутзее Дж.М. Мистер Фо: Роман; Пер. с англ. А. Файнгера. Турнье М. Пятница, или Тихоокеанский лимб: Роман; Пер. с фр. И. Волевич. СПб., 2004. Лотман Ю.М. Текст в тексте // Лотман Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин, 1992. В.О. Федоркина (Саратов) Проблематика образа ребенка в романе Дж.С. Фоера «Жутко громко и запредельно близко» Научный руководитель – профессор И.В. Кабанова Американский писатель Джонатан Сафран Фоер (род. в 1977 г.) на протяжении первого десятилетия ХХI в. завоевал положение одного из талантливейших молодых прозаиков США. Фоера отличает обращение к общественно значимой проблематике – к истории холокоста в первом романе «Полная иллюминация» (2002), к истории 11 сентября 2001 г. во втором романе «Жутко громко и запредельно близко» (2005), к проблеме прав животных в публицистической книге «Поедание животных» (2009). На русский язык переведены оба романа Фоера, и поскольку исследование его творчества у нас только начинается, мы обращаемся к роману «Жутко громко и запредельно близко» в переводе Василия Арканова, и ставим вопрос о проблематике образа героя-повествователя в романе. Главным героем является девятилетний Оскар Шелл, потерявший отца во время трагедии 11 сентября. Уже возраст героя, от лица которого Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 129 ведется повествование, позволяет поставить роман в богатую традицию американской литературы о ребенке, о герое-подростке, традицию, ведущую начало от «Приключений Гекльберри Финна» Марка Твена, а в ХХ в. представленную романами Сэлинджера, Харпер Ли, Бел Кауфман, Филипа Рота и др. Синтия Озик написала об этом романе: «В смешном, нежном, трагичном и изящно построенном романе Джонатана Сафрана Фоера «Жутко громко и запредельно близко» есть озорство и живость безудержного детского воображения и одновременно пронзительная детская боль. Фоеровскому Оскару Шеллу всего девять, но ему уже довелось столкнуться с катастрофами современности и доказать свою неповторимость» [livelib.ru]. В начале романа Оскар не кажется читателю маленьким ребенком. Его скорее хочется назвать маленьким взрослым, старающимся заглянуть в самую суть всего, что его окружает. Он значительно отличается от детей его возраста – неудивительно, что у него совершенно нет друзей. Да ему и не о чем разговаривать со своими сверстниками, которые только и могут, что говорить разные сальности или обсуждать «Гарри Поттера», о котором Оскар – невероятно! – даже ни разу не слышал. И совершенно очевидно, что те дети, с которыми ему приходиться общаться, не знают о существовании его любимой книги – «Краткой истории времени» Стивена Хокинга. Эта научно-популярная книга одного из крупнейших физиков современности о происхождении Вселенной, о философских аспектах проблемы времени, кажется малоподходящим чтением для мальчика его возраста. Более того, Оскар вступает в переписку с ученым, знаменитым своим вкладом в науку и тем фактом, что Хокинг давно парализован, общается с миром с помощью синтезатора голоса и компьютера и постоянно выступает с новыми смелыми теориями. Но увлеченность «взрослой» наукой не делает Оскара ни вундеркиндом, ни «ботаником», как его называют в школе; он просто интеллектуально не по возрасту развит. Весьма показательным эпизодом в книге является начало главы «Радость, радость» – в нем описывается урок, на котором Оскар делал доклад о ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Оскар демонстрирует видеозапись интервью одной из очевидиц происшедшего, дочь которой умерла прямо у нее на руках. «Я нажал "стоп" на магнитофоне, потому что интервью кончилось. Девочки плакали, а мальчишки имитировали отрыжку. "Ну что же, – сказал мистер Киган, вытирая носовым платком лоб и одновременно поднимаясь со стула, – Оскар предоставил нам богатый материал для размышления". Я сказал: "Это еще не все". Он сказал: "Помоему, картина полная"» [Фоер 2010: 232. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. 130 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 После этого Оскар подробнее рассказывает о том, как ученые определили эпицентр теплового излучения от взрыва и т.д., но один из одноклассников поднимает руку и спрашивает, кто такой упомянутый им Ричард Бакминстер Фуллер. Оскар отвечает так точно и полно, как будто зачитывает словарную статью об этом ученом-изобретателе, а потом говорит, что Бакминстер – это его кисонька, имея в виду, что так он назвал и своего кота. Это вызывает смех у всего класса, несмотря на то, что они только что слушали доклад Оскара о гибели тысяч человек. Даже учитель, как замечает Оскар, засмеялся про себя, «тоже раскололся» [235]. Этот небольшой эпизод иллюстрирует трудности коммуникации Оскара с внешним миром, со сверстниками и со взрослыми в равной мере. Учитель Оскара не в восторге от темы доклада Оскара, и он пытается как можно быстрее заставить его замолчать, хотя и в довольно вежливой форме. Взрослые стараются не просто отложить знакомство детей с трагической стороной жизни, с драматичной историей ХХ в.; сама тема доклада Оскара вызывает в американском классе определенную неловкость, потому что культура общества потребления отворачивается от всего неприятного, нецивилизованного, связанного со смертью, террором, массовой гибелью людей. Учитель рад, что пошлая шутка одного из мальчиков заставляет весь класс забыть о том, что Оскар рассказывал только что. Умненький мальчик проводит много времени в школьной лаборатории, ставя разные опыты, и постоянно что-то изобретает. Детская страсть к познанию нового у него приближается к взрослой одержимости наукой. Оскар оригинален во всем – побывав недавно во Франции, он начал вставлять в свою речь некоторые особенно понравившиеся ему французские слова, например, raison d’etre, и даже ругается он исключительно словами, перевернутыми задом наперед. Изоляция среди сверстников, странности и причуды Оскара постепенно получают объяснение в романе. Читатель узнает, что прошел уже год после гибели отца Оскара, но создается ощущение, что для Оскара все произошло только вчера. С первых страниц романа он обрушивает на читателя огромный поток информации, описывающий его жизнь – некие мелкие события, которые с ним произошли, отдаленно связанные друг с другом. Из них в сознании читателя начинает выстраиваться некая причудливая картинка-мозаика, и чем дальше Оскар говорит, тем меньше нас уже смешит его простовато-наивная, обманчиво открытая манера повествования. При первом не слишком вдумчивом прочтении создается впечатление, что Оскар говорит быстро-быстро, перескакивая с одной темы на другую и не доводя ни одну мысль до конца. Но каждая из зарисовок, сделанная им, очень яркая и несет определенный смысл. Например, Оскар рассказывает нам как бы между делом, что ему не хватает его тамбурина, потому что на сердце у него остались гири (это выражение и еще несколько других Оскар будет постоянно повторять во время своего рассказа), а если сыграешь – гири кажутся легче. «Мой самый коронный номер Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 131 на тамбурине – «Полет шмеля» композитора Николая Римского-Корсакова, его же я закачал и на свой мобильник, который у меня после смерти папы» [15], – так Оскар, наконец, говорит нам то, что таким «гирями» лежит у него на сердце. Весь роман построен на таком «заговаривании зубов» читателю, а в первую очередь и самому себе. Оскар не может сказать, что чувствует, открыть свою истинную боль; только говоря о вещах, которые очень отдаленно связаны с его отцом, Оскар постепенно рассказывает, как все было на самом деле, и наконец, воссоздается полная картина его утра 11 сентября 2001 г. Отец звонил ему из рушащегося небоскреба Всемирного Торгового Центра, а он дома не смог заставить себя снять трубку, только слушал голос отца, записываемый на автоответчик, и голос прервался ровно в 10.24, в момент обрушения небоскреба. Сюжет романа основан на поисках Оскаром замка, к которому подошел бы ключ, найденный им в вещах отца. После смерти отца он как будто потерял ключ от собственной души. Отгородился от мамы, от бабушки, от друзей, начал лихорадочно читать научные журналы, особенно по проблеме обратимости времени. Оскар мучается раскаянием и скорбью, ему необходимо освободиться от тяжелых душевных переживаний, которые становятся поводом для встреч с детским психиатром. Можно сказать, что он в своем роде герой, ему удается самому справиться с тем, что мешает ему жить нормально. Не каждый девятилетний ребенок мог бы оправиться от такой тяжелейшей травмы без посторонней помощи. Оскар замыкается в себе, он не говорит ни маме, ни бабушке о том, что он чувствует; друзей у него нет; психолог, к которому его заставляют ходить, не может заставить его раскрыться и даже советует его матери госпитализировать Оскара. По большому счету те люди, которые действительно могли бы ему помочь – а именно мама и бабушка, больше заняты собой, чем им. Они очень любят его, но им самим тоже очень тяжело. Отношения Оскара с мамой – отдельная тема книги. На протяжении всего повествования заметно, что Оскар не доверяет ей, сердится и обвиняет в невнимании к себе. Поиски ключа продолжаются полгода, и для Оскара странно, что мама ни разу за все это время не спросила у него, куда он уходит по выходным. «Почему она ни о чем не спросила? Почему не остановила меня, не бросилась защищать?» [349]. Несмотря на это, Оскар очень любит маму, особенно отчетливо это видно в начале книги – т.е. еще до начала поисков. «Я люблю изготавливать для нее украшения, потому что ее это радует, а радовать ее – еще один из моих raisons d’etre» [21]. Конфликт с мамой у него возникает из-за того, что сначала Оскар заявляет, что не хочет, чтобы его хоронили, когда он умрет. Жутковато слышать от девятилетнего мальчика желание быть похороненным в мавзолее. Оскар не знал, что вечер, когда папа рассказывал ему историю про шестой муниципальный округ, будет последним. Никто не мог предположить, что его папа в тот день окажется в том самом торговом центре, хотя его и не должно 132 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 было там быть. Размышления о том, что с ним тоже может что-то случиться, не просто глупая фантазия. Оскар действительно ужасно боится лишиться того, что у него осталось, ведь он потерял своего самого любимого человека. Неосознанно он боится за свою маму и бабушку, но старается не показывать этого, а наоборот, «застегивается на все молнии внутри самого себя» и все больше отдаляется от своих близких. Разговор с мамой о мавзолее – не пустая детская фантазия; это – затаенный страх Оскара, навязчивая идея о смерти в душе ребенка. «Ты же знаешь, что я жутко храбрый, но вечно лежать в яме под землей я не смогу».< … > «Потому что вдруг я умру завтра?» – «Ты не умрешь завтра». – «Папа тоже не думал, что завтра умрет». – «С тобой такого не может случиться». – «С ним тоже не могло». – «Оскар». – «Просто я запрещаю тебе меня хоронить». – «Неужели ты не хочешь лежать вместе со мной и с папой?» – «Папы там нет!» – «Как это нет?» – «От него ничего не осталось». – «Не говори так». – «А как говорить? Это же правда. Не понимаю, почему все притворяются, что он там» [209]. Любовь Оскара к матери ослабевает, и трудно сказать, что в большей степени стало тому причиной. Он даже пишет список самых дорогих ему людей, в котором мама занимает только третье место. Бабушку Оскар ставит на второе место, и действительно, после смерти отца, бабушка – самый близкий для него человек. В конце становится понятно, почему мама Оскара ведет себя так – для нее он все равно остается самым дорогим, что есть в ее жизни, но она понимает, что ни курс психологической помощи, ни ее попытки заменить Оскару отца не помогут. Только сам он в состоянии распутать клубок противоречий, который возник в его душе; он сам должен понять, что он должен жить дальше без отца и принять тот факт, что его никто не в состоянии заменить. В процессе поиска Оскар узнает множество новых людей, он знакомится с их историей и их проблемами; он осознает, что он – не единственный одинокий человек в этом мире; он открывает для себя, что другие люди точно так же как и он, переживают потерю своих близких. Показательна в этом смысле фраза старика Блэка: «Сколько людей проходит через твою жизнь! Сотни тысяч людей! Надо держать дверь открытой, чтобы они могли войти! Но это значит, что они могут в любую минуту выйти!» [190]. Кажется, что эта мысль красной нитью проходит через все повествование – жизнь Оскара после смерти отца потеряла смысл, потому что он не может признать, что он уже ушел из его жизни и его не вернуть. Но у него остались другие, не менее важные в его судьбе люди, которые продолжают появляться в его жизни – все эти Блэки, каждый из которых привнес что-то новое в его понимание мира, его дед, бабушка, мама. Каждый из них делает все возможное, чтобы помочь ему, и Оскар в конце концов понимает, что если действительно любишь кого-то, нужно сохранять свои воспоминания в глубине души, но жить дальше. Нужно оставлять дверь открытой – хочешь ты этого или нет, но те люди, которые тебе дороги, уйдут рано или поздно, но на их место придут другие. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 133 На протяжении всего романа Оскар размышляет о том, чем на самом деле был для него отец. После того, как он увидел картотеку, Оскар задумывается, в какое одно слово можно уместить папу – ювелир, атеист, корректор или что-то другое? Но подобрать одного определения Оскар не может, потому что отец был очень разносторонним человеком, которого трудно было загнать под рамки условностей. Оскар не только постепенно узнает, кем на самом деле был для него отец; для него обретают смысл множество вещей, которых он раньше не замечал. «Даже спустя год мне по-прежнему трудно делать некоторые вещи – типа принимать душ (почему-то) и ездить на лифте (само собой). Есть целая куча вещей, которые меня напрягают, типа подвесные мосты, микробы, самолеты, салют, арабы в метро (хоть я и не расист), арабы в ресторанах, кафе и других общественных местах, строительные леса, решетки водостоков и сабвеев, оставленные сумки, обувь, люди с усами, дым, узлы, высокие здания, тюрбаны» [54]. Если подходить к проблеме с психологической точки зрения, то ребенок переживает сильную психологическую травму, лишившись отца; это влечет за собой появление вышеперечисленных фобий, которые так или иначе связаны с обстоятельствами смерти отца – боязнь лифтов, высоких зданий, арабов – все это Оскар представляет себе как нечто враждебное, пугающее. В одном из источников это описывается так: «Причиной психологической травмы могут быть дорожная авария или теракт, тяжёлый ожог или собственная болезнь, смерть близкого человека или его болезнь... Ребёнок может пережить психологический шок, даже если он был лишь очевидцем трагического события, а не непосредственным его участником. При этом сила его эмоций настолько высока, что сбивает все отлаженные механизмы психологической защиты. У ребёнка исчезают как ощущение защищённости и целостности собственного тела, а так же чувство уверенности в себе и в близких людях. В некоторых случаях, особенно если ребёнок (это относится также и к взрослому) непосредственно участвовал в трагическом событии, у пострадавшего нередко развивается психологическое расстройство, так называемый посттравматический стресс. При этом его преследуют навязчивые и часто повторяющиеся страшные картины происшедшей трагедии, избавиться от которых он не в состоянии; постоянно мучают ночные кошмары, чувства беспокойства и тревожности. Всё это, вместе взятое, приводит к сбоям в привычном функционировании организма, парализует жизнь и разрушает личность ребёнка. Вряд ли в данном случае мы можем говорить о разрушении личности ребенка – происходят лишь изменения в поведении Оскара, которые, скорее, обусловлены его взрослением, нежели приобретением серьезной травмы; жизнь для него не останавливается, но находит новый смысл. Посттравматический стресс может сопровождаться депрессией, соматическими жалобами, фобиями, расстройством поведения (агрессивностью), проблемами питания и сна. При этом дети боятся 134 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 оставаться одни и требуют постоянного присутствия взрослого. Они избегают посещения мест, связанных с трагедией и любой лёгкий намёк на травму вызывает у них бурно выражаемый негативизм» [all-about-child.com]. Из этого описания можно сделать вывод о том, что у Оскара налицо все признаки посттравматического стресса. Его нельзя назвать здоровым в полном смысле этого слова. Потеря отца – сильный стресс, который сопровождается соответствующей реакцией. Часто повторяющиеся картины смерти отца преследуют Оскара даже спустя год после трагедии; Оскар пытается узнать, как именно погиб его отец – выбросился ли он в окно или сгорел заживо. Он специально ищет в интернете кадры падения людей, пытаясь увидеть в них своего отца. Как он сам объясняет, ему было бы гораздо легче, если бы он знал, как на самом деле погиб отец. Оскар, обладая очень богатой фантазией, страдает от того, что пытается придумать, как бы он поступил на месте отца. В поисках ключа ему приходится подняться на лифте в очень высокое здание, от чего в голове возникают навязчивые картины: «…мой мозг начал пошаливать, и мне стало казаться, будто в здание вот-вот врежется самолет, прямо под нами. Я не хотел изобретать, но ничего не мог поделать» [296]. Оскар представляет себе даже лицо террориста-смертника, который вот-вот врежется в здание; кричащих людей; собственные страдания от того, что его кожа начнет плавиться от жара; и он размышляет, что бы он выбрал – прыгнуть или сгореть?.. Еще Оскар сильно страдает от бессонницы и ночных кошмаров; он долго не может уснуть: «Ночью я проснулся только один раз, потому что Бакминстер положил мне лапы на веки. Он, наверное, почувствовал, что мне снятся кошмары» [98]. Оскар не способен причинить окружающим людям боль, по крайней мере, боль физическую. Однако он постоянно ставит себе синяки. Нанесение себе таких небольших увечий тоже носит явно нездоровый характер, с помощью этого он переносит часть своей душевной боли на тело. «Видно, я уснул на полу, когда я проснулся, мама стаскивала с меня рубашку через голову, чтобы переодеть в пижаму, и значит, должна была увидеть все мои синяки. Я их пересчитал вчера вечером перед зеркалом, и их было ровно сорок один. Некоторые расплылись, но большинство маленькие. Я их наставил не для нее, но все равно хотел, чтобы она спросила, откуда они взялись (хотя она, скорее всего, знает), и пожалела меня (поняв, наконец, как мне тяжело), и устыдилась (потому что она в этом тоже виновата), и пообещала, что не умрет, оставив меня сиротой. Но она ничего не сказала» [214]. В финале романа один за другим следуют два диалога, две освободительные, очищающие душу исповеди. Не только Оскар находит в себе силы признаться в том, что слышал последний вопрос отца: «Ты там?» и не отозвался на него. В свою очередь, мать Оскара рассказывает о последнем разговоре с отцом по мобильному телефону. Поняв, что ему не выбраться из Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 135 здания, он позвонил жене и, чтобы успокоить ее, сказал, что он уже на улице и направляется домой – он солгал, чтобы любимая женщина не волновалась. Роман, богатый разного рода типографскими затеями, кончается серией фотографий. Это стоп-кадры падения человека, который в момент катастрофы выбрасывается с верхних этажей башен-близнецов, только эти фотографии смертельного полета расположены в обратном порядке, так что если их листать, создается впечатление, что тело, вопреки законам физики, летит вверх. Так автор завершает тему обратного хода времени, физическая проблема оборачивается нравственной проблемой героя. В романе сюжетная линия Оскара соседствует с историей его бабушки и дедушки, которые эмигрировали в США из разбомбленной в ходе Второй мировой войны Германии. В обеих сюжетных линиях повторяется тема исторической катастрофы, нарушающей нормальный ход жизни, убивающей любовь. Семья Шеллов пыталась спастись в Америке, но и в этой безопасной, богатой, благополучной стране уже по следующему поколению семьи бьет смертельная внешняя сила, террористическая атака, нанося подростку Оскару не физическое, а психологическое увечье. Ребенок в столкновении с неподконтрольным ему насилием внешнего мира, психологическая травма, скорбь, вина (ведь Оскар чувствует, что предал отца) и искупление – вот комплекс проблем, на которых Фоер строит образ американского подростка начала XXI в. Литература [Электронный ресурс]. Загл. с экрана: http://www.all-about-child.com/ developmentdisorder/2childposttraumstress.html. Дата обращения: 01.03.2012. [Электронный ресурс]. Загл. с экрана: http://www.livelib.ru/author/202203/latest. Дата обращения: 01.03.2012. Фоер Дж.С. Жутко громко и запредельно близко; пер. с англ. В. Арканова. М., 2010. О.В. Переходцева (Саратов) Культурная, национальная и индивидуальная память в романе Дж. Барнса «Артур и Джордж» Научный руководитель – профессор И.В. Кабанова «Артур и Джордж» (Arthur & George, 2005) – роман-номинант Букеровской премии, одно из самых популярных произведений известного английского постмодерниста Барнса. Действие происходит на рубеже XIX и XX вв. в Эдвардианской Англии. Заглавные герои романа – безызвестный юрист, сын священника Индийского происхождения Джордж Идалджи и всемирно известный писатель Артур Конан-Дойл, создатель бессмертного образа детектива Шерлока Холмса, одного из самых запоминающихся символов английскости. 136 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 В основе сюжета лежит документально зафиксированная история о жестоких убийствах домашнего скота, известная как преступления в ГрейтУайрли. Семью Джорджа преследует тайный недоброжелатель, который забрасывает их письмами с угрозами, шлет посылки с бесполезными вещами и всячески старается опорочить имя Джорджа. Затем в поселке под покровом ночи начинают совершаться хладнокровные убийства пони и лошадей. Письма, носившие откровенно расистский характер, усугубили предвзятое отношение полиции и способствовали аресту невиновного Джорджа: в 1903 г. он приговаривается к семи годам лишения свободы. Это вопиющая ошибка правосудия приобретает огласку, и Артур Конан-Дойл берется за расследование этого запутанного дела, что частично реабилитирует Джорджа. Убийца животных и ненавистник Джорджа так и остаются не найдены, поток писем просто иссекает, убийства прекращаются, так и не обнаружив свою причину, что создает эффект обманутого ожидания для читателя, который следит за развитием детективного сюжета, двигающего повествование. Самая интересная составляющая романа – не сама документальная история, а то, что Барнс в нее добавляет, а именно, психологические портреты персонажей. Сложная ирония, одновременно комическая и трагическая, сопутствует истории о взаимопроникновении жизней знаменитого писателя и ничем не примечательного юриста. Проблема памяти, ее механизмов и превратностей, часто проявляется в прозе Бернса, и роман «Артур и Джордж» не исключение. В своей диссертации «Категория памяти в русской литературе XIX в.» Н.З. Коковина определяет категорию памяти следующим образом: «Во все времена память является настолько изначальным, естественным кодом восприятия действительности, истории, будущего, что редко осознается анализирующим сознанием. <…> Тем не менее, она может быть воспринята в качестве метакатегории литературоведения, так как генетически художественная литература, как и культура в целом, есть один из способов коллективной памяти» [Коковина 2004: 3]. В зависимости от того, кому принадлежит эта память, Н.З. Коковина выделяет следующие ее типы: память отдельной личности, межсубъектная коллективной память социальных групп и внеличностная память культуры. В романе «Артур и Джордж» в образах заглавных персонажей прослеживается как индивидуальная, так и коллективная память. Барнс тщательно реконструирует процесс создания идентичностей персонажей через фиксацию их воспоминаний, в очередной раз осуществляя реализацию своего тезиса «память есть идентичность». В автобиографической книге «Нечего бояться» он неоднократно его подчеркивает: «Память – это идентичность. Я верил в это с того момента – о, с того самого момента как себя помню. Ты то, что ты совершил; то, что ты совершил, сохранено в твоей памяти; то, что ты помнишь, определяет то, кто ты есть» [Barnes 2008: 140. Здесь и далее перевод осуществлен мной. – О.П.]. Развитие героев, данное автором в рамках жанра Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 137 романа воспитания, включает их приобщение к коллективным ценностям через апроприацию коллективных воспоминаний, которые формируют их национальную идентичность. В этом отношении справедливо говорить о коллективной памяти. Документальная история, лежащая в основе сюжета «Артур и Джордж», позволяет рассмотреть роман как часть английской культурной памяти. Для описания процессов построения идентичности при помощи воспоминаний современными исследователями используется термин «нарратив» – это повествование, история или рассказ, создаваемый человеком для описания и организации своего жизненного опыта. «Все нарративы историй жизни, будь то бесконечные истории, которые мы рассказываем себе и друг другу как часть конструирования идентичности или более оформленные литературные нарративы автобиографии или романные повествования от первого лица становятся возможными благодаря памяти», – констатирует Никола Кинг, проводя эту мысль через всю свою книгу «Memory. Narrative. Identity» [King 2000: 2]. В «Артур и Джордж» Барнс приводит нарратив не от первого лица, а от третьего лица пофлоберовски отстраненного автора, имеющего полный доступ к внутреннему миру героя, не корректирующего его мнения, взгляды и предрассудки. Здесь он не подвергает сомнению способность памяти давать доступ к прошлому, как он делает в автобиографической книге «Нечего бояться», а раскрывает взаимосвязь триады память, идентичность, нарратив. Индивидуальная память центральных героев выступает средством создания их образов и прослеживания их развития во времени. История персонажей начинается с первого воспоминания и заканчивается через много лет после их общения. Перед нами разворачиваются две параллельные биографии: повествование делится на главы, названные «Артур» или «Джордж», и переходит по очереди от одного к другому, что, как отмечает Ф. М. Холмс, напоминает движение маятника и невольно наталкивает читателя на их сравнение. Совершенно разные по личностным качествам, внешности, способностям персонажи сначала совершенно не связаны, затем постепенно их линии пересекаются, что отражено в появлении их «совместных» глав, названных «Артур и Джордж». Первое воспоминание Артура, связанное со смертью его бабушки, оказывается источником его интереса к спиритизму: «То, что он увидел там, стало его первым воспоминанием. Маленький мальчик, комната, кровать, задернутые занавески, просачивающийся дневной свет. <…> Маленький мальчик и труп. Душа бабушки просто улетела на небеса, оставив позади себя только сброшенную оболочку, свое тело. Мальчик хочет видеть, так пусть мальчик увидит» [Барнс 2007: 7. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Ясность видения – это настойчивый мотив текста, связанный с обоими героями. Позднее Артур начнет видеть души умерших на спиритических сеансах, но Джордж, 138 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 напротив, ясностью не обладает – он страдает близорукостью. Отсутствие первого воспоминания Джорджа выступает основой выстраивания его ограниченного сознания. «У Джорджа нет первого воспоминания, а когда кто-то высказывает предположение, что иметь его было бы нормально, уже поздно. <…> Хотя другие дети возмещают этот пробел – силой вводят любящее лицо матери или заботливую руку отца в свои воспоминания, – Джордж этого не делает» [8]. У него отсутствует воображение. По мнению Барнса, воспоминание больше является плодом воображения, нежели отражением реальности. Воображение способно восполнить пустоты в воспоминаниях, сплетая их фрагменты в связную историю жизни. Отечественный литературовед Н.В. Киреева пишет: «Английские писатели, роман за романом нащупывают, отрабатывают приемы, ходы, технику письма, которые бы «подключили» прошлое к настоящему, сохранили память о нем» [Киреева 2004: 57]. Историографическая метапроза – один из основных жанровых разновидностей британского постмодернистского романа. Историческим контекстом романа «Артур и Джордж» является эдвардианское общество, которое скрывает за поверхностью благополучия неуверенность в своих основах. Каролайн Мур считает, что это роман, в том числе и о «боли и неуверенности, которая вызвана крушением старых истин: веры в ортодоксальную религию, в Империю, в традиционные модели поведения мужчин и женщин, в непогрешимость Британской судебной системы» [Moore 2005]. Система ценностей эдвардианского общества присутствует в измерении коллективной памяти нации, представленной в романе в сознании двух героев. Коллективная память стала объектом научного исследования социолога Мориса Хальбвакса (1877-1945) в начале XX в. Коллективная память у Хальбвакса не относится к разряду метафор. Субъектом памяти всегда остается отдельный человек, но социальные коммуникативные рамки конструируют содержание его памяти. «Артур и Джордж» можно прочесть как очередное барнсовское размышление об «английскости». Коллективная память актуализируется в комплексе идей, составляющих понятие «английскости». Прослеживая жизни Артура и Джорджа с самого раннего детства, Барнс показывает их формирование за счет воздействия социальных норм и дискурсов, которые становятся частью их самих, то есть как индивидуальная память и идентичность сходятся в одной точке с коллективной памятью и идентичностью. Оба героя отождествляют себя с величием Британни, находящейся на тот момент на пике своего могущества. Для Джорджа ключевым пластом национальной памяти были заповеди церкви. Отец маленького Джорджа каждый вечер заставлял его повторять наизусть как катехизис о том, что их маленький поселок находится в самом центре Англии: «А что такое Англия, Джордж? Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 139 Англия – это бьющееся сердце империи отец. Хорошо. А какова кровь, которая струиться по артериям и венам Империи, достигая даже самых дальних ее пределов? Англиканская церковь» [26]. Религиозные основы для сына священника становятся основами его идентичности. Его сознание определяет фраза, которую он слышит много раз из уст своего отца: «"Я путь, истина и жизнь". Ты идешь свои путем по жизни и говоришь правду. Джордж знает, что Библия подразумевает не совсем это, но пока он взрослеет, слова эти звучат для него именно так» [9]. Он хорошо помнит стихи Библии наизусть, понимает их буквально, а когда его простят их истолковать, он совершенно теряется, из-за отсутствия самостоятельного мышления и воображения. Приверженность к честности и правде определяет его поведение до конца жизни. В истории Джорджа обнаруживается нестабильность, зыбкость основ построения идентичности. Будучи юристом, Джордж высоко ценит «закон и порядок» английского права. Как считает Ф.М. Холмс, он не случайно пишет книгу «Железнодорожное право для человека в поезде» (в 1901 исторический Дж. Идальджи действительно такую книгу написал), так как он видит жизнь как прямой как железная дорога путь к справедливости: «спокойная поездка до конечной станции по двум строго параллельным рельсам, согласно точно согласованному расписанию» [69]. После ареста и заключения Джордж теряет веру в божественную справедливость, а в довершение, став жертвой ошибки правосудия, и в справедливость социальную. После осуждения, он лишается своего звания солиситора, своей профессиональной идентичности, своей личной истории. Для Артура английскость, наоборот, наполнена воображением, соткана из сказок, рыцарских романов. Из всех слоев английской коллективной памяти для Артура наиболее дорого романтизированное средневековье, образ которого был усвоен из рассказов боготворимой им матери и подкрашен его богатым воображением: «Английская история его вдохновляет, английская свобода внушает ему гордость, английский крикет делает его патриотом. А величайшей эпохой в английской истории был четырнадцатый век. Для Артура корни английскости уходили в давно миновавший, долго хранимый в памяти, много напридуманный мир рыцарства» [33]. Рыцарские романы соединились в его сознании с генеалогией его семьи, более того он напрямую идентифицирует себя с фигурой рыцаря, и королем Артуром в особенности. Рассказы матери привили ему вкус в хорошей истории, к захватывающему повествованию, и в итоге вывели его на путь писательской деятельности. При этом из-за особенностей своего происхождения оба героя не могут ощущать себя полноценными англичанами. В образе Артура Барнс подчеркивает сконструированность английской национальной идентичности: «Ирландец по происхождению, шотландец по рождению, наставленный в римско-католической вере голландскими иезуитами, Артур становится 140 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 англичанином» [33]. Постепенно благодаря своему литературному успеху Артур становится воплощением лучшего из англичан: «Рыцарь королевства, друг короля, защитник Империи и заместитель лорда-наместника Суррея. Человек нарасхват» [267]. Вызывая восхищение соотечественников, Артур тем не менее ощущает глубокий зазор между своим внешним и внутренним «я». Чем более знаменитым он становиться, тем острее он чувствует свою поддельность. Что интересно, Джордж, наоборот внутренне ощущает себя истинным англичанином, но его ориентальная внешность, инаковость, отрезанность от социума не позволяют его окружению относиться к нему как к англичанину. Его смуглая кожа и восточные черты лица становятся непреодолимым барьером, по сравнению с ирландско-шотландским происхождением Артура. Официальные лица и сводки газет рисуют Джорджа после суда как злоумышленника, брутальную угрозу цивилизованному европейскому обществу: «…трудно найти сходство с типичным солиситором в его смуглом лице с выпуклыми темными глазами, выпяченным ртом и маленьким округлым подбородком. Его внешность сугубо восточная в полной невозмутимости – никакого выражения чувств не вырвалось у него, если не считать легкой улыбочки, пока развертывалась поразительная история обвинения» [154]. Биография Артура служит особенно наглядным примером конструирования идентичности через нарратив. Еще мальчиком он представлял, что его жизнь – это рыцарский роман, текст, где он выступает настоящим героем вместо своего слабовольного отца, а мать – прекрасная дама, попавшая в беду. Его беспокоит вопрос, как прожить свою жизнь так, чтобы пройти от начала этого текста до его счастливого конца: «он не мог спасти ее приемами четырнадцатого века и потому будет вынужден пользоваться теми, которые применимы в менее славном столетии. Он будет сочинять рассказы, он будет спасать ее, описывая выдуманные спасения других. Эти описания принесут ему деньги, а деньги довершат остальное» [35]. Когда он достигает своей цели, создавая детективные рассказы про Шерлока Холмса, он придерживается того же метода, как и для создания нарратива своей жизни: сначала он представляет конец, а затем придумывает все предыдущие части, чтобы они привели путем дедукции Холмса к этому завершению. И на уровне системы образов, и на идейнотематическом уровне в романе подчеркивается дихотомия правды и вымысла. Так, несколько фраз прорывается на метатекстуальный уровень, например, расследования Артура сравнивается с написанием романа, при этом обнажается нестабильность границ между правдой и вымыслом. В глаза бросается несоответствие между ясностью детективной истории и неясностью реальной истории преступления. Как пишет Ф.М. Холмс, Артуру удается воплотить в жизнь историю, Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 141 которую он для себя придумал: он знаменит, хорошо обеспечил свою семью и заботу о матери. Его рыцарское путешествие завершено, но конец этого вымышленного нарратива не совпадает с концом его жизни. Он находит себе новые приключения – занимается делом Джорджа Идальджи. Самая большая сложность состоит в примирении факта своей физической смерти с историей, которая должна иметь счастливый конец или не иметь конца вообще. Поэтому он обращается к спиритизму (смерть всегда интересовала его, начиная с первого воспоминания), который для многих людей того времени доказывал, что существование души продолжается и после смерти. Барнс основывает мистические эпизоды романа на широко распространенном мнении биографов Конан-Дойля о вере писателя в спиритические сеансы и его тяге к мистицизму. Роман завершается тем, что после смерти Артура Джордж посещает спиритическое собрание в Альберт Холле в память о Конан-Дойле, и медиум заявляет, что его душа посетила сеанс. Нам для ответа предложены только отрывочные мысли Джорджа, который через театральный бинокль наблюдал за пустым стулом, поставленным на сцене для сэра Артура. Что же на самом деле видит Джордж, может ли вера повлиять на то, что он увидит, и как он может быть уверен, что вообще что-то достоверно видел – эти и другие вопросы Барнс оставляет открытыми, передавая читателю глубокое, тревожное чувство гносеологической неуверенности: «Он не знает, был ли он свидетелем правды или лжи или их смеси. Он не знает, была ли такая очевидная, неожиданная не английская пылкость тех, кто окружает его в этот вечер, доказательством шарлатанства или веры? А если веры, то истинной ли ложной?» [475]. Как указывает В. Гинери, при создании романа Барнсом было проделано много исследовательской работы. Барнс документально воспроизводит дело Дж. Идальджи во всей сложности, одновременно давая ощутить всю туманность и эфемерность прошлого. В послесловии Барнс указал свои источники: «Кроме письма Джин Артуру, все цитируемые письма, подписанные или анонимные, являются подлинными; так же как цитаты из газет, правительственных докладов, выступлений в Парламенте и произведений сэра Артура Конан-Дойля» [479]. Самым важным источником для Барнса была, похоже, книга Конан-Дойла «Воспоминания и приключения» (Memories and Adventures, 1924) – в романе Джордж неоднократно перечитывает страницы этого произведения. Впервые Артур изложил события в статье «Дело Мистера Джорджа Идальджи» (The Story of Mr. George Edalji, 1907), опубликованной в двух частях в газете Дэйли Телеграф, затем в своем письме, опубликованном в том же году в той же газете – «Заявление о деле против Ройдена Шарпа», главного подозреваемого, по мнению Артура. Дело Джорджа имеет параллели с делом Дрейфуса, как пишет в романе сам Барнс. По масштабам огласки это менее заметное происшествие, чем дело Дрейфуса, но результатом расследования на общественном уровне стало создание 142 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Аппеляционного суда в Великобритании. В свое время эта история стала сенсационным разоблачением британской судебной несправедливости. Англия, в отличие от Франции, достаточно быстро забыла об этом позорном для государства деле. Опять же Барнс связывает эту благополучную забывчивость с особенностями английскости: «Франция, как он [Джордж] ее понимал, была страной крайностей, бешеных мнений, бешеных принципов и долгой памяти. Англия была много спокойней, столь же принципиальной, но менее охочей поднимать шумиху из-за своих принципов; <…> где большие общественные взрывы происходили время от времени – взрывы чувств, которые могли бы даже перейти в насилие и несправедливости, но которые скоро изглаживались из памяти и редко встраивались в историю страны. Ну, случилось, а теперь давайте забудем и продолжим жить как жили прежде – такова английская традиция» [446]. Самая преуспевающая и цивилизованная на тот момент страна мира не может преодолеть реальность расизма и провинциализма своего общества. Барнс подчеркивает, что нарратив истории страны подвергается редактированию, и горькая правда, которую она не хочет признавать, подвергаются забвению и не «встраивается» в нарратив культурной памяти. Сейчас эта история стала достоянием биографий Конан-Дойля, а также судебной литературы, в частности делу Джорджа посвящена монография 2006 (Conan Doyle and the Parson's Son: The George Edalji Case) юриста Гордона Уивера, где он подробно рассматривает судебные слушания. Телеканал Би-Би-Си в 1972 г. в серии документальных фильмов об эдвардианцах подробно останавливается на расследовании Конан-Дойля. Теперь уже роман Барнса был адаптирован для театральной сцены Бирмингемского театра Дэвидом Эдгаром. Таким образом, сам текст романа Барнса заново вписывает и «освежает» полузабытый сюжет о Конан-Дойледетективе в английской культурной памяти. Литература Barnes J. Nothing to Be Frightened Of. Random House Canada, 2008. Guignery V. The Fiction of Julian Barnes: A Reader's Guide to Essential Criticism. Palgrave Macmillan, 2006. Holmes F.M. Julian Barnes. Palgrave Macmillan, 2010. King N. Memory, Narrative, Identity: Remembering self. Edinburgh University Press, 2000. Moore C. A Far From Elementary Novel. July, 2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.telegraph.co.uk/culture/books/3644616/A-far-from-elementary-novel.html. Загл. с экрана. Дата обращения: 01.09.2011. Барнс Дж. Артур и Джордж. М., 2007. Киреева Н.В. Постмодернизм в литературе Великобритании // Постмодернизм в зарубежной литературе: учебный комплекс для студентов-филологов. М., 2004. Коковина Н.З. Категория памяти в русской литературе XIX в.: дисс. ... д. филол. наук. Тверь, 2004. Коковина Н.З. Формирование понятия «память» в европейском гуманитарном сознании // Картина мира и способы ее репрезентации: сб. науч. докладов. Воронеж, 2003. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 143 Ю.О. Васильева (Саратов) Время и пространство в романе Ч. Айтматова «Когда падают горы: (Вечная невеста)» Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова В центре романа Ч. Айтматова «Когда падают горы: (Вечная невеста)» (2006) представлены две параллельные во времени сюжетные линии. Это небольшой отрезок жизни независимого журналиста и писателя Арсена Саманчина, начиная с вечера в ресторане мегаполиса и заканчивая его гибелью в пещере Молоташ. Параллельно с этим протекают последние дни снежного барса Жаабарса. Но настоящее романа представлено как результат определенных перемен. Для Ч. Айтматова важно дать читателю представление о том, что раньше жили иначе. В 90-ые годы изменилась судьба всего постсоветского пространства. Вот как размышляет об этом главный герой романа Арсен Саманчин: «Капитализм проклятый творит свое дело! Творит – и ничто не может помешать ему, кишка тонка! А вообще при чем тут капитализм? А при том, что идею можно купить, как товар, идею, оказывается, можно продать, эмбарго устроить идее – за деньги все можно» [Айтматов 2006: 100. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. В мире, который изображает Ч. Айтматов, продавать и покупать стали все – от нефти и газа до цветов и меда. Писатель прямо говорит, что для людей традиционной культуры такой бизнес показался бы абсурдным. «В горах люди не могут взять в толк то, что рассказывают челноки и челночницы, скитающиеся по миру: оказывается, к великому их удивлению, цветы можно продавать и покупать! Кому такое в голову могло прийти, ведь цветы живут сами по себе, полюбоваться можно, проезжая на коне, сорвать можно, как детишек, но чтобы торговать цветами – совсем смешное дело!» [110] Ч. Айтматов показывает, что успешный председатель колхоза Бектурага теперь возглавляет охотничью фирму «Мерген». Уже и до снежных барсов дотянулась «длань рыночная» – «с ними же контракт не заключишь» [138]. Саксан-Сагай, преподаватель физкультуры, подался в табунщики, потому что «на учительские копейки не проживешь» [136]. Ардак, бывший врач-терапевт, занимается собаководством, разводит среднеазиатских овчарок и торгует ими в Европе, большей частью в Германии. Только его семья стесняется нового бизнеса своего родственника. Элес закончила пединстут, работала в библиотеке, а теперь стала челночницей. Но все это лишь мелкие штрихи, с помощью которых автор воссоздает эпохальные перемены. В центре же его внимания находится судьба Арсена Саманчина, журналиста и писателя. В силу своей 144 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 профессии и высокого интеллектуального развития он склонен к глубокому осмыслению происходящего. Многое в меняющемся мире он не принимает. Но он понимает, что «получается, будто все мчатся мимо по автобану современности, а он, чудак, голосует на обочине, но никому до него нет дела» [33]. На его жизнь повлияло изменение мировоззрения окружающих людей, которое произошло в процессе смены эпох. Арсен Саманчин потерял любимую женщину, Айдану. В недавнем прошлом ведущая солистка оперного театра, она «оказалась вдруг порабощена эрташевским бизнесом, замелькала по всем телеканалам, превращаясь на глазах во все ярче разгорающуюся эстрадную звезду, переиначив в ореоле нахлынувшей попсовой славы и голос, и лик» [64]. Ей захотелось славы, богатой жизни – всего того, чем привлекателен шоу-бизнес. Из-за этого она и ушла от Арсена к Эрташу Курчалову. В крахе своих отношений с Айданой Арсен винит именно эпоху, выдвигающую на первый план таких людей, как Эрташ Курчалов. А в Айдане Ч. Айтматов видит похищенную «Вечную невесту» своего времени, которую «сбили с пути, завлекли, совратили, купили. Если в прежние времена красивую женщину умыкали, посадив на коня, то теперь ее вскидывают на мешок с долларами, и на нем она скачет сама, да поскорее, к долларовым табунам устремляется, а табунщики там миллионеры, и каждый свой долларовый табун погоняет-выпасает» [100-101]. Однако автор не склонен подталкивать читателя к мысли, что все в жизни зависит лишь от экономического курса, который установился в государстве. Безусловно, для Ч. Айтматова неприемлема та реальность, в которой все стало товаром, начиная от горных цветов и заканчивая любовью. Но для него очевидно и другое – помимо злободневного существует вечное. Каждый втянут в некий непостижимый ряд событий, предопределенный Судьбой. «Существует одна непреложная данность, одинаковая для всех и всегда, – никто не волен знать наперед, что есть судьба, что написано ему на роду, – только жизнь сама покажет, что кому суждено, а иначе зачем судьбе быть судьбою…» [19] Этими словами Ч. Айтматов начинает роман, и они очень важны для понимания авторской идеи. Неслучайно события жизни Арсена, начиная с его размолвки с Айданой и его изгнания из ресторана, тесно связаны с событиями жизни Жаабарса. На судьбу животных тоже повлияли изменения человеческих законов – люди торгуют природой, приглашают иностранных гостей для охоты на снежных барсов. Но главные перемены в жизни Жаабарса произошли до приезда ущелье Коломто иностранных гостей. Таким образом, настоящее – это не только результат как самых недавних политических и экономических изменений, которые в памяти главных героев, это результат всего многовекового развития человеческой Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 145 цивилизации. Ведь современные законы жизни не возникли молниеносно, в момент распада Советского Союза. Да и на Западе, по законам которого живут арабские гости, не было тех потрясений, которые изменили судьбу людей, что воспитывались в СССР. С другой стороны, все герои находятся во власти Судьбы. События основной сюжетной линии привязаны к определенным пространственным координатам: к городу, в котором мы впервые видим главного героя, к Тянь-Шаньским горным районом, где обитает Жаабарс и куда в кульминационный момент собираются почти все герои романа, а также к предгорному поселку. Пространство в романе Ч. Айтматова имеет довольно четкую организацию, в которой заметен глубокий символический смысл. На это обратил внимание Г. Гачев. Он выделил в романе два пространственных плана, в которых разворачивается основное действие – Горы и Город. «Два уровня, предлагаемые для обитания человеку: Бытие и Жизнь – тут и материально-телесно обозначены: Горы и Город. Выси снежные, где Земля переходит в Небо, в Дух и там – во Вселенную, Вечность, Целое. Его участником-причастником создан и призван быть человек. Но ровно так же он – «homo» из «гумуса», земли, – член понизового мира – Природы, Общества, Истории...» [Гачев 2006: 10] В системе образов романа таким «соучастником-причастникам» является главный герой Арсен Саманчин. Он «жил в мегаполисе, распираемом от перенаселенности, от уличных торжищ и кабаков с шашлычными дымами» [19-20]. Именно так уже на первой странице романа Ч. Айтматов характеризует город, как пространство Арсена Саманчина. Город «распираем от перенаселенности», которая порождает вражду между людьми, соперничество, неприязнь. Эту «перенаселенность» отражают и заурядные хрущовские семиэтажки в «совковом микрорайоне», в одной из которых живет Арсен. Именно там, ночью после изгнания из ресторана, у него рождаются мысли о мести – об убийстве Эрташа Курчалова. Атмосфера города отчетливее всего передана автором через описания ресторана, в котором читатель видит Арсена Саманчина. Ч. Айтматов показывает центр отдыха мегаполиса, «самый престижный, элитный, как принято теперь говорить, и, разумеется, самый дорогой ресторан, детище 90-х годов, бывший Дом офицеров, отделанный под евростиль и названный с геополитическим подтекстом весьма громко и модно – "Евразия"» [32]. Здесь отдыхают самые богатые люди, в сознание которых прочно засела мысль, что все можно купить. Человеческое достоинство отходит на второй план. Один звонок влиятельного человека – и мирно сидящего Арсена Саманчина выставляют из ресторана как персону нон-грата, а отдыхающие остаются безучастными к происходящему. Горы же в романе представляют собой пространство между Землей и 146 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Небом, где возникает особое состояние духа. «На таких горных высотах... происходит "вахтенная смена души", что-то вроде переразрядки, обновления настроения и восприятия окружающего мира. В горах лучше думается... Говорят, что мыслится в горах раскованней и эмоциональней, чем на низинных равнинах. Высокогорье обладает феноменальной аурой. Вот почти осязаемое небо прямо над головой, рукой дотянуться до облаков» [218]. Именно в горной деревне Арсен встретил Элес. Он полюбил – и эта любовь возвысила его нравственно и заставила по-другому оценить все события своей жизни и оставить мысли об убийстве. «Могу, могу я прожить и без нее, без Айданы зазвездившейся» [193], – к такому выводу приходит Арсен после встречи с Элес. Горы – это, в противовес Городу, открытое естественное природное пространство. В этом отношении оно сопоставимо с Хайдельбергским парком в Германии, местом счастливой любви Арсена и Айданы, где «в романтически-возвышенной обстановке все повседневное было начисто забыто и отброшено» [90]. Объединяет эти пространственные координаты и образ Вечной Невесты. Если Тянь-Шаньское высокогорье – это, по преданию, место ее жизни и вечного покаяния за грехи рода людского, то в Хайдельбергском парке о Вечной Невесте узнает Айдана. Горы – это место морально-нравственного преображения главного героя. С горами связан кульминационный момент романа. Арсен Саманчин ценой собственной жизни срывает план Таштанафгана, по которому арабские гости должны были стать заложниками. Он спасает Хасана и Мисира от ташафгановской команды, спасает Ташафгана от преступления, спасает дядю и весь аил от позора, который обрушился бы на них, если бы план Ташафгана воплотился в жизнь. Но истинные намерения Арсена, суть его жертвы для всех, кроме Ташафгана, навсегда остались тайной. Арсен погибает, проклятый всеми, в горной пещере рядом с убитым Жаабарсом – зверем, судьба которого была во многом схожа с судьбой человека. Но при этом Арсен Саманчин восходит на вершины нравственного развития. Перед смертью, прощаясь с этим миром, он просит прощения у всех своих родных за то, что сорвал им прибыльное дело, у Айданы – за то, что презирал ее звездность, у Эрташа – за то, что вынашивал в себе план убить его. В конце герой романа обращается к Ташафгану, из-за которого он и погибает. «Пусть буду я жертвой, тобой принесенной, и никто не узнает о том, на что ты готов был в преступном озверении своем. Я сам повинен – перед собой, не перед тобой. Так пусть стану я жертвой и твоим искупителем, бог с тобой» [233]. Путь главного героя романа представляет собой перемещение из города в предгорные районы, восхождение в горы. Но при этом пространство романа намного шире, чем пространство того большого города, в котором живет Арсен, и показанных в романе горных районов. Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 147 Ведь в повествовательную ткань романа входит множество различных пространственных пластов, в которых побывали разные герои или о которых они просто упоминают (например, Сахара). Опыт, приобретенный героями в разных странах, изменил их мировоззрение. Наиболее ярко это проявляется в образе Ташафгана и его товарищей: у них за плечами опыт афганской войны, в своей команде они фактически установили законы, которые познали в Афганистане. Более того, после получения выкупа они планировали перейти на афганскую сторону Памира. За счет вхождения в роман всех этих пространственных пластов происходит расширение романа, есть выход на уровень мировых проблем. Следя за судьбой героев, мы видим целый срез событий и тенденции, характерные для развития всего мира. Пространство и время в романе размыкается – читатель выходит на бытийный уровень. По сути, Ч. Айтматова интересует все развитие человеческой цивилизации – от Адама и Евы до рубежа XX – XXI вв. Но авторское видение не ограничивается финальным моментом, Ч. Айтматов размышляет о будущем. И будущее представляется ему в высшей степени трагичным. Если обратиться к названию романа с позиции хронотопа, становится очевидным, что оно указывает на конечный момент истории, разрушение времени и пространства. Падение гор означало бы погребение всего того, что находится на них и под ними – гибель всего земного. Падение гор – это разрушение пространства, а время не может существовать отдельно от него. Таким образом, хронотоп полностью разрушается. В этом апокалипсический смысл романа. Но в самой повествовательной ткани произведения не показан момент конца истории. Трагически заканчивается жизнь двух главных героев романа – человека и животного. Такой исход в фабульном плане осмысляется Ч. Айтматовым на бытийном уровне как исход истории. Автор подводит читателя к выводу о том, что путь всей человеческой цивилизации – это путь к катастрофе. Человек сам выбрал этот путь, когда пошел против тех негласных законов, по которым люди жили в течение многих веков. В основе сюжета фактически лежит возвращение людей к природе, к своим истокам. На малую родину вернулся Арсен, чуть раньше вернулись с войны Ташафган и его товарищи, в своем родном пространстве находится Бектур-Агы. Арабские гости, казалось бы, приехали в чужую страну, но в то же время они возвращаются к родовым истокам человечества, тянутся к миру природы. Причем это не просто мир природы, это, как было показано, пространство между земным и небесным. Однако большинство героев романа не стремятся к гармонии с этим пространством, все они входят в этот необычный в силу своих магических свойств мир со злом в душе. Гибель Арсена Саманчина вряд ли способна повлиять на них, изменить законы, по которым живет общество, победить то зло, которое привело в горы каждого из героев. 148 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 В романе судьба человека в обществе параллельна судьбе снежного барса в природном пространстве. Ч. Айтматов в своих произведениях не раз давал подобные параллели между миром животных и миром людей. В его философской концепции это сопоставление является очень важным элементом, т.к. позволяет полнее представить бытие. Все это дает возможность выйти на уровень обобщений. «Когда падают горы» – это единственный роман, в котором пространство разрушается. Плаха – тоже место гибели, место казни человека, но на плахе погибает один человек. А если рушатся горы, гибнет все живое (причем не только мир людей). Роман Ч. Айтматова можно рассматривать как роман-предупреждение и как роман-пророчество. С одной стороны, Арсен Саманчин чувствует себя искупителем грехов своих односельчан. Такое прочтение дает читателю надежду на то, что гибели мироздания все же удастся избежать. Но вопрос, одумается ли человек, осознает ли греховность своей жизни, остается открытым. Поведение Ташафгана после смерти Арсена, нежелание похоронить друга и односельчанина, говорит об обратном. Поступок Арсена Саманчина не понят почти никем, а те, кто знали о его мотивах, проклинают Арсена. О трагическом взгляде Ч. Айтматова на все происходящее говорит название романа. Горы все-таки падают, человек не успевает одуматься, отказаться от своих греховных помыслов. Литература Айтматов Ч.Т. Когда падают горы: (Вечная невеста): Роман, повесть, новелла. СПб., 2006. Гачев Г.А. О том, как жить и умирать // Айтматов Ч.Т. Когда падают горы: (Вечная невеста): Роман, повесть, новелла. СПб., 2006. К.А. Розанов (Саратов) Тема учебы в студенческой интернет-литературе Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров Студенты всегда и во все эпохи (начиная со времен школы Аристотеля и продолжая днем нынешним) занимались самодеятельным литературным и паралитературным творчеством: эпические, лирические и драматические тексты, философские эссе, литературные альбомы, журналы, письма, дневники, любовные послания, студенческие байки и анекдоты, стройотрядовские песни, надписи на партах, сценические зарисовки, тексты КВНовских миниатюр и прочее – все это составляет единство специфической, самобытной, чаще всего непрофессионально-массовой студенческой словесности. Описанию студенческого бытия в разных его формах и проявлениях Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 149 посвящено неисчислимое многообразие литературных и литературнохудожественных текстов, большая часть которых никогда не была предъявлена широкому кругу читателей, а оставалась в личных дневниках и письмах, на полях тетрадей и учебников, гораздо реже – в литературных разделах и рубриках недолговечных стенных и многотиражных вузовских газет. Сегодня, в век новых информационных технологий, значительная часть литературных и окололитературных проб молодых писателей обретает своего читателя. Повсеместное распространение Интернета и простота в использовании инструментов глобальной коммуникационной сети позволяют начинающим авторам в любых словесных жанрах и формах отражать свои переживания и недоумения, радости и печали, восторги и возмущения, раздумья и сетования – все, что наполняет ежедневную жизнь современного российского студента. Студенческие годы пестры и неоднородны, наполнены событиями разного рода и сорта, а потому уникальны и неповторимы. И все же, более или менее условно можно выделить несколько основных, общих, сюжетообразующих для жизни каждого студента сфер деятельности: получение образования, участие в художественной самодеятельности или общественной работе, жизнь в общежитии, общение с одногруппниками. В них, с разной степенью включенности, оказывается вовлечен каждый, кто переступил порог вуза, влился в университетскую среду. К описанию указанных сфер чаще всего обращаются молодые писатели, и именно степень востребованности этих тем в их творчестве, частотность обращения к ним в произведениях новейшей интернет-литературы как к источникам основополагающих сюжетов и образов, с большой долей допущений позволяют очертить некие, очень зыбкие и колеблющиеся, тематические границы словесно-художественного изображения студенческой жизни. Однако студенты – это, прежде всего, люди, обучающиеся в высших учебных заведениях, и образовательный процесс занимает в их жизни особое место. Именно поэтому во всем многообразии интернет-словесности о студенческом бытии наиболее часто встречаются произведения молодых литераторов, посвященные различным аспектам обучения в вузе: иногда интересного и познавательного, но часто скучного и утомительного, неизменно заканчивающегося экзаменационной сессией. Вот пример типичной для любого вуза ситуации (примеры из Интернета даются с соблюдением орфографии, пунктуации и стилистики источника): Студент Иванов сидит на паре и засыпает, Студент Иванов предмет не понимает, Он на паре сидит, сидит и мечтает, О звонке студент Иванов мечтает «Ах, если бы все пары отменили, Вот тогда бы мы, наверное, зажили, Спали бы мы часов до 2-х дня, А потом гулянки и друзья»…[Ефимов К.] и т.д. и т.п. 150 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Образ дремлющего (спящего) во время лекции студента находит отражение в огромном количестве интернет-текстов. Все они схожи по авторскому настроению и авторской идее: вряд ли можно придумать что-то лучшее, чем сон, взамен скучному, а иногда и непонятному монологу преподавателя: Немного эмоций, жестов, движения Стряхнули бы с публики сна наваждение. Голос погромче, чуть-чуть интонации. Знаешь, как фюрер убалтывал нацию? Но как донести до него мои мысли, Чтобы они мертвым грузом не висли? Я ж не профессор, ЕГО поучать?! Значит и дальше на паре мне спать. [Кузин Д.] Стихотворения и зарисовки студентов различаются в основном содержанием сновидений: один студент грезит о «курочке с подливкой | Или хотя бы булочке с сосиской!» [Чумаченко М.А. «Сижу на лекции…»], кому-то снятся «песок и пальмы, райской птицы пенье» [Кузнецов Е.] или «много зеленой травы» [Рогалева А.], а кто-то мучается от кошмаров: Жажда, дрожащие руки, пыль Мятая майка, щетина, костыль Чайник, стены в гвоздях, пар Старое зеркало, новый кошмар…[Денисенко А.] Не погружаясь в специальные психологические размышления и не стремясь к какому бы то ни было толкованию студенческих сновидений, приходится, однако, отмечать, что сам образовательный процесс, четко соотносящийся с необходимостью посещения занятий, ассоциируется у молодых литераторов чаще всего с рутинной и тяжкой обязанностью и в большинстве художественных текстов отходит на второй план. При этом единственной достойной альтернативой вынужденному присутствию на лекциях становится сон. Нередко прямо на студенческой скамье. Самостоятельным блоком во всем многообразии студенческой интернет-литературы представлены рассказы, мемуары, зарисовки, стихотворения о самом напряженном, волнующем и сложном периоде в студенческой жизни – экзаменационной сессии. Молодые авторы с удовольствием пишут обо всем, что связано с порой экзаменов и зачетов: бессонных ночах Час рассвета все ближе становится, На востоке уж солнце встает. Не могу я никак успокоиться, Сон ко мне, ну, совсем не идет. Так студенту приходится мучиться – На подарок судьбы уповать И надеяться, что всё получится Бог поможет экзамены сдать. [Баченин В.] студенческих приметах и обрядах Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 151 «Только во время сессии понимаешь, что самые суеверные люди на свете – это студенты!.. Вот, только что, прошел мимо Виталя, мой одногруппник, вонище от него как от городской свалки номер 2, но никто ему и слова не скажет: все понимают, примета такая – нельзя мыться до окончания сессии. Хотя, сам хорош: вчера пол ночи простоял в форточке с раскрытой зачеткой крича: «Ловись, ловись, халява!». Потом, как полагается. закрыл ее, обвязал белой ниткой и под подушку. Правда, в результате, несданный экзамен привел меня к самому страшному выводу для студента: ПРИДЕТЬСЯ ВСЕ УЧИТЬ». [Васков В.] шпаргалках и их применении «А я пишу шпаргалки. Не люблю так, но ничего не поделаешь... В голову статистика за полтора дня мытарств как-то не поместилась, приходится действовать альтернативными методами. Всего однажды за три года учёбы скатывала – когда сдавала Восток. НО! Преподаватель принимал экзамен в семь утра и спал, поэтому я просто положила шпору на стол и начала делать непотребство – списывать». [songe_colore] попытках соблазнения экзаменатора взяткой «С перепугу в девичью голову пришла шальная мысль: надо дать взятку! Любаша сунула руку в сумку, не глядя цапнула в горсть содержимое кошелька и сунула в зачетку. После чего в нерешительности замерла, напуганная дерзостью идеи. <…> На стол упало несколько мелких купюр и монет. – Это что? – удивился он. – Взятка, – обреченно призналась Люба, мысленно ругая судьбу, направившую ее руку в то отделение кошелька, где лежала мелочь на проезд. – Вы тут еще и цирк будете устраивать?! – рявкнул Иннокентий Петрович. – Я нечаянно, – пролепетала Любаша, понимая что подобная сумма взятки оскорбит кого угодно». [Чумаченко М.А. «Зачет»] подкупе сотрудников деканата «– Ты совсем обнаглел, ну да ладно, что там у тебя? Я ведь пью только дорогой коньяк. В это время Вася извлёк из рюкзака бутылку с прозрачной жидкостью и без этикетки. По всему универу ходила хвалебная молва об этом напитке, но продавали его только студентам, а преподам так хотелось этого попробовать. <…> В углу лежал и мирно похрапывал Кузнецов. Вася начал вспоминать, зачем он сюда пришёл. Вспомнил он, когда увидел на столе свою зачётку, в которой нетрезвой рукой зам. декана были проставлены все двенадцать хвостов». [Поделякин Д.] Солидный корпус студенческих текстов о сессии посвящен преподавателям, которые обычно предстают перед читателями в образе 152 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 жестоких тиранов, иногда – интересных собеседников и мастеров своего дела (в основном – в произведениях недавних выпускников вузов, оценивающих события своей студенческой жизни спустя некоторое время) и очень редко – снисходительных и сочувствующих «спасителей» в период сессии. Так в рассказе-очерке «Человек, который поставил мне единственную "тройку", или "Байкер" из... "Москвича"» Евгений Савин вспоминает своего преподавателя по предмету «Техника и технология СМИ»: «Среди студиозов нашего универа Евгений Панаско (он же – "Панас", он же – "Хохол", он же – "Байкер") в "особо зловредных" преподавателях не числился. По крайней мере, – на моём родимом курсе. А его предмет "Техника и технология СМИ" не отличался большой сложностью.<…> – Что вы знаете о печах пиролиза? Пока я ошарашенно размышляю, он к Петьке подбирается: – ...давайте поговорим о программах для электронной вёрстки. <…> – У нас один компьютер на весь курс, – взмолился Петька. Откуда нам знать... – Что с того? Журналист должен уметь искать информацию. <…> Я не выдерживаю: – Ну, какое отношение анкерный болт имеет к этому предмету? – Никакого. Это – на эрудицию. Вы же журналист». [Савин Е.] Фрагмент студенческой жизни, представленный в данном отрывке, – вполне реальный и в целом типичный, не выходящий из ряда вон: требовательный преподаватель ставит низкие оценки отличникам, плохо подготовившимся к экзамену. Типичен и финал фрагмента: досада студентов и «заочная» обида на руководство факультета: «– Помнишь, нам Лёха рассказывал, что преподам перед последним экзаменом установку дают – валить определённое количество студентов. – Зачем? – Что за выгода всему курсу "степуху" платить?» [Там же]. Однако годы учебы меняют отношение к преподавателю: автор вспоминает его не с укором и злобой, а с уважением и теплотой: «Мы не поняли друг друга. Он поставил мне первую и единственную "тройку" в зачётку. <…> мы помирились. На пятом курсе я пересдал ему экзамен на "пять". У нас оказалось много общего. Даже имя с отчеством. Даже увлечения, среди которых – музыка и пение. Даже тембр голоса – баритон. Даже фантастика. Он любил Стругацких, и я ими зачитывался». [Там же] Изучение литературного Рунета показало, что в Сети довольно редко встречаются тексты, в которых начинающие писатели пытаются воссоздать наиболее объективный образ преподавателя. Чаще всего молодым литераторам свойственно «метание» меж крайностями: от восторженных слов до низких оскорблений. И тем не менее, некоторым авторам удается поставить себя на место экзаменатора, почувствовать его изнутри, попытаться угадать мысли и ощущения педагога. Интересен с этой точки Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 153 зрения юмористический рассказ Марии Чумаченко «Зачет»: «– Что бы такое у Вас спросить? – Иннокентий Петрович медленно повел пальцем по списку вопросов. – Выискивает, гад, вопрос посложнее... – тоскливо думала Любаша. – Как бы угадать, что ты знаешь... – тоскливо думал преподаватель. Посмотрев на девушку, Иннокентий Петрович неуверенно попросил дать определение науки, которой был посвящен зачет. Девушка испуганно вцепилась в край стола, и он понял, что попал пальцем в небо. – А что Вы можете сказать... – Иннокентий Петрович задумался – о целесообразности применения той методики, про которую рассказывали, отвечая на первый вопрос? – Она целесообразна, – упавшим голосом сообщила Любаша, не имевшая не малейшего понятия, о какой такой методике она там рассказывала. Иннокентий Петрович тяжело вздохнул. Принимать у Любаши еще и пересдачу отчаянно не хотелось. В конце концов, на вопросы билета она ответила. Он еще раз посмотрел на девушку и решительно открыл ее зачетку. <…> – Когда же эти преподы перестанут над нами издеваться?! – рыдала в коридоре Любаша. – Когда же эти студенты начнут учить? – с тоской подумал Иннокентий Петрович». [Чумаченко М.А. «Зачет»] В учебе, подготовке к сессии и сдаче экзаменов проходит значительная часть студенческой жизни, зачастую именно эта ее составляющая становится самой эмоциональной, будоражащей воображение, а потому и оказывается наиболее полно и разнообразно описанной в текстах молодых прозаиков и поэтов. Однако отнюдь не только лишь образование интересует учащихся высших и средних учебных заведений в их студенческие годы: «Студенчество – это не только маза от армии, но и несколько лет веселой, беззаботной жизни. Для кого-то вдали от родительских нравоучений, а для кого-то и нет, но как бы оно ни было, студенческие годы – это такая пора, которую просто необходимо провести весело и с пользой, то есть терять драгоценное время и при этом совершенно не вкуривать, что талдычит препод, начеркав очередную заумную формулу, я считаю занятием бессмысленным. Вместо того чтоб рвать жо посещать занудные лекции, вообщем, как говорится "ботанить", можно заниматься многими интересными делами, собственно: "Лучше красная рожа и синий диплом, чем синяя рожа и красный диплом!"». [Главная] Традиционно со студенчеством ассоциируется несколько твердо закрепившихся в русской словесности лексических констант: «от сессии до сессии живут студенты весело», «бедный студент», «студенческая общага», «студенческая практика», «стройотряд» и др. Все они в большей степени 154 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 связаны с внеучебной деятельностью студентов, к ним с немалым энтузиазмом в своих текстах обращаются и молодые авторы. Литература songe_colore. Приехала мама и всех вылечила // Живой журнал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://songe-colore.livejournal.com/82557.html. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Баченин В. Размышления перед экзаменом студенческое // Стихи.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2006/10/11-615. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Васков В. Сессия! // Стихи.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2001/01/21-39. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Главная // Студенческие истории [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.cmycmop.ru/index.php. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Денисенко А. Сон на лекции по информатике // Стихи.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2005/08/12-796. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Ефимов К. Мысли студента, или Один день студенческой жизни // Стихи.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2008/09/03/4203. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Кузин Д. Сон на утренней лекции [написано на занятиях декана ф-та германистики проф. Билля] // Стихи.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2005/02/15-1793. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Кузнецов Е. Сон студента. к студенту, заснувшему на лекции // Стихи.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2003/09/26-249. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Поделякин Д. Вася и зам декана из универа // Сборник рассказов о бедном студенте Васе [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vkontakte.ru/topic-4913984_12025523. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Рогалева А. На лекции // Стихи.ру [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.stihi.ru/2006/09/18-1488. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Савин Е. Человек, который поставил мне единственную «тройку», или «Байкер» из... «Москвича» // Сетевая Словесность [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.netslova.ru/panasko/bajker.html. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Чумаченко М.А. Зачет // Журнал "Самиздат" [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zhurnal.lib.ru/c/chumachenko_marija_alekseewna/zachet.shtml. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Чумаченко М.А. Сижу на лекции… [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zhurnal.lib.ru/c/ chumachenko_marija_alekseewna/sizhunalekcii.shtml. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2010. Е.А. Абашкина (Самара) Инверсивная пара «детство-смерть» в цикле Л. Горалик «Говорит» Научный руководитель – профессор Н.Т. Рымарь В центре нашего внимания – цикл рассказов Л. Горалик «Говорит». Он состоит из отдельных историй, написанных от лица неизвестных рассказчиков. Вопрос, который будет нас интересовать: что Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 155 свидетельствует о существовании этих текстов как единого цикла, как тематически воплощается связь фрагментов друг с другом? Формальное единство данных текстов очевидно: каждый из них не имеет ни начала ни конца и представляет собой «подслушанный» монолог героя. Надо отметить, что для творчества Л. Горалик в целом характерно объединение текстов по формальному принципу: так, существует цикл текстов «Например», каждый из которых начинается с этого слова и представляет «наблюдение», сценку или «картинку из жизни». Рассказы цикла «Говорит» существуют в двух планах, охватывающих большую часть представленных текстов – планах детства и смерти. Оба плана оказываются соприкасающимися, имеющими общие черты. Посмотрим, какие сюжеты включают в себя эти два плана и какие особенности текста дают нам право говорить об их взаимопроникновении. В статье попытаемся доказать, что мы можем рассматривать взаимную инверсию оппозиций детство и смерть как смысловой код, объединяющий фрагменты цикла «Говорит». Говоря об инверсии, мы опираемся, прежде всего, на работы Вяч. Иванова, который понимал под инверсией «нейтрализацию противоположностей» [Иванов 1976], «переворачивание отношений между верхом и низом» [Иванов 1996]. То есть, детство и смерть, существующие в культуре как противоположные понятия (начало и конец жизни), в цикле «Говорит» составляют пару, где одно сложно отделить от другого. План детства в этом случае понимается нами широко – как поле ассоциаций, культурных и личных, как память о детстве взрослого человека (рассказчики в цикле почти всегда – взрослые люди), то есть, речь идет не о конкретном периоде жизни, но о широком смысловом поле. Детство в цикле «Говорит» можно рассматривать как локус «вечных ценностей», идеальное пространство, с которым как образцом субъекты речи (взрослые люди) пытаются соотносить события своей сегодняшней жизни: «Краситься не хочется, ногти делать не хочется. Стою у прилавка, аж тошнит. Хоть не просыпайся утром. Вообще не понимаю, что такое. В школе ничего похожего не было» [Горалик. Далее цитируется это издание]. План детства (школа) выступает здесь не как беззаботная пора, когда не нужно было работать, но как модель жизни, по сравнению с которой настоящий упадок сил представляется странным, не соответствующим этой модели. Соотнесение событий настоящего с памятью о детстве может принимать различные формы: в одном из фрагментов героиня, рассказывающая об успехах на работе и о большом повышении своей зарплаты, вдруг задумывается: «А я сижу и думаю: ну это уже значит, что я взрослая, что ли? Это я уже взрослая или как?». «Взрослая» в этом контексте означает не возраст (у женщины уже есть дети), а представления о «взрослости», успешности, которые нередко бывают у детей. Сама ситуация вопроса отсылает к детским фантазиям: 156 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «Когда я вырасту, я буду… у меня будет… и т.д.». Мысль героини – не попытка личной идентификации, но соотнесение себя с некоторым (личным или общим, социальным) образцом, который сам по себе напоминает детские фантазии о «взрослости», сформированные в раннем возрасте и с тех пор неизменные. Смысловое поле «детство» представляется не как отделенное от реальной жизни пространство, куда нет возврата («потерянный рай»), но как пространство вечностное, существующее в каждый момент жизни рядом с человеком в форме ожиданий, ассоциаций, стандартов – это поле смысла, метафор, через которые люди, уже взрослые, осмысливают жизнь: «…с кладбища, и тут она опять закурила, а у меня же нервы ни к черту тоже, и я нет бы оставить ее в покое в такой день, но меня переклинило просто... И я прям подошел сзади и вырвал у нее сигарету изо рта, а она так медленно ко мне поворачивается, и у нее такое лицо, что я понимаю: вот сейчас она мне просто в морду даст, и все. … А она на меня смотрит, знаешь, из-под бровей, и медленно говорит: «А теперь, Володенька, мы будем играть в папу и маму». Я на нее смотрю, а она говорит: «В папу и маму. Ты мне будешь папа теперь, а я тебе буду мама». В этом рассказе в ситуации переживания смерти близкого (скорее всего, родителя или родителей) героиня пытается восстановить разрушенные основания жизни, опираясь на модели, которые остаются неизменными: «родители-ребенок». Понимание детства как «вечного» состояния, к которому постоянно мысленно возвращается взрослый человек, в какой-то степени снимает противопоставление полов (взрослые люди цикла «Говорит» уподобляются детям с их невыраженной сексуальностью). В этом случае физиологические проявление женского организма могут восприниматься как странные, неприемлемые для конкретного человека: «…уже за две недели перед менструацией так грудь болит, что даже ходить тяжело, при каждом шаге болит. И так ка-ждый ме-сяц! Еще до менструации! А во время менструации так вообще выть хочется, а надо на работу ходить. И вообще жить. Какое жить, куда. Ужас же. А ведь как подумаешь – все самое жуткое впереди. Это самое еще. Восемь раз пытаться родить, из них два раза рожать. Из них один, небось, с кесаревым. Ух ты ж господи. Потом трубы удалять или яичники, или еще что. Это уже не говоря о климаксе. И раке матки! Господи, дорогой боже мой, ну не хочу я быть девочкой, ну не хочу я, не хочу. Одна радость – хоть девственность потеряла. Хоть что-то уже позади, слава богу». То есть, проявления женского организма воспринимаются рассказчиком не как привычные, но как что-то небезусловное, что-то, от чего хочется отказаться – как это возможно для ребенка, для которого собственная принадлежность к конкретному полу – еще новость, нечто странное и, возможно, нежеланное. Личность человека не определяется, не осмысляется через конкретные Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 157 проявления пола. Интересен в этом смысле и другой фрагмент: «…да я и сам так делаю, а девочкам прям Бог велел. Это всего касается, не только на дороге. Но вот когда надо, например, перестроиться из первого ряда в шестой, я беру и начинаю повторять, как мантру: "Я девочка и мне нужно. Я девочка и мне нужно". И это всегда работает, сам Бог велел, говорю же». «Девочка» здесь представляется не половым признаком, а полем представлений, сгустком смыслов, который может и не соотноситься с женским полом (рассказчик – мужчина). Итак, пространство детства в данном цикле не имеет временного воплощения – оно существует не в прошлом, но вне времени, как постоянно сопутствующее человеку в его «взрослой» жизни. Как вневременное осмысливается в цикле и пространство смерти (имеется в виду не мифическое «царство смерти», но те смыслы и эмоции, которые вкладывает живой человек в понятие смерти, те образцы поведения, которые он имеет при столкновении с ней). Столкновение со смертью (переживание смерти другого человека) вызывает у человека потребность в остановке времени собственной жизни, в отказе от любых событий, действий, которые могут отодвинуть смерть в прошлое. В ситуации остановленного времени смерть остается событием сущностным, вечным, не имеющим времени. Так происходит, например, в рассказе, где мать устраивает музей из комнаты умершего сына, сохраняя в ней все так, как было в тот день, когда он последний раз ушел на работу. Таким образом, она избавляется от необходимости пережить смерть сына, продолжать собственную жизнь. Эта фиксация на смерти граничит с сумасшествием, но, вместе с этим, и с игрой, гротесковой игровой формой. Так, в истории про мать, потерявшего сына, в конце добавляется: «А про это писали в какой-то газете, что-то такое, и в некоторых туристских каталогах есть их дом, она пускает туда в какой-то день недели несколько часов». Этот финал «переворачивает» смысл истории: существование комнаты как реального музея, который можно посетить, соотносит застывшее горе матери (безусловно, искреннее) с театральным представлением. Речь идет не о лицемерии, а о зыбкой грани между переживанием смерти и игровой формой этого переживания, когда сам человек, не осознавая того, играет роль. Сходным образом может быть расшифрован смысл другой истории, где девушка, рассуждая о фильме о Жаклин Кеннеди, говорит о белых перчатках Жаклин, забрызганных кровью президента Кеннеди: «… я бы эти перчатки никогда не сняла. Не смогла бы. (…) Ну, то есть, наверное, я бы сошла с ума сначала и была бы сумасшедшая старуха с кровью президента Кеннеди. И называла бы их «Джон». Обе. Ну, или одну "Джон", а вторую "Роберт"». 158 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 В этом случае можно говорить о нескольких уровнях игрового поведения: о почти детской игре, когда перчатки, забрызганные кровью, представляются своеобразными «куклами» (им даже даются имена). Но и сама говорящая, никогда не бывшая в подобной ситуации, придумывает для себя роль, более значительную и «красивую», чем реальная жизнь. Еще более наглядный пример – рассказ о компьютерной игре, в которую играют день напролет: «…играю взахлеб, не могу прямо, типа, не сплю, не ем, в институт не хожу, ничего, с ума сойти. …А там надо ходить командой, у нас команда собралась – две девочки и два мальчика. …Мальчику одному, что ли, двенадцать, он в Новосибирске, а другому тринадцать, не знаю, откуда. А девочки я и еще одна женщина, ей тридцать семь лет, у нее год назад дочка умерла, она вообще ничего не может делать, кроме этого». Таким образом, остановка времени, прекращение времени собственной жизни может воплощаться в цикличной замкнутости, повторении одних и тех же действий (потерявшая ребенка мать играет в компьютерные игры, человек, получивший смс о смерти близких, ходит вокруг столба и не сознает этого). Итак, мы можем говорить о соотнесении планов детства и смерти: и тот, и другой существуют как вневременные, вечностные планы. Более того, зацикленность на детстве, на постоянном воспроизведении стандартов и моделей поведения, которые выносятся оттуда, тоже означает остановку времени собственной жизни, когда всякое развитие отрицается. Детство и смерть также связаны через понятие игры, которое существует в текстах, скорее, не в связи с оппозицией «игра (фальшь)-правда», а в связке «игра (детство)-взрослость». Таким образом, игровые модели поведения, возникающие в момент переживания смерти близкого, говорят не о неискренности переживания, а о «не-взрослости» страдающего человека, о его нежелании или неумении выбрать те модели поведения, которые ассоциируются в культуре с поведением взрослого. В чем причина взаимной инверсии этих двух планов, восприятия их как глубинно родственных друг другу, в текстах цикла «Говорит»? Возможно, дело в том, что «детское» состояние и столкновение со смертью воспринимаются в культуре как состояния пороговые. Они дают возможность переосмысления собственной жизни, а так же отстраненного взгляда на повседневность, осмысления привычного как странного. Здесь можно вспомнить о выражении «детский взгляд на мир», под которым понимается наивное суждение, которое, тем не менее, улавливает сущностное, скрытое от взгляда взрослого человека. Отличие здесь лишь в том, что в цикле «Говорит» представляется лишь сама ситуация порога, предельно локальная, вне рассмотрения дальнейших выборов человека и его последующей жизни. Герой оказывается в ситуации, коренным образом меняющей его восприятие Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы 159 действительности, и в этой ситуации «застывает»: продолжение находится за пределами текста, как будто бы «подслушанного» на улице. Литература Горалик Л. Говорит [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.linorg.ru. Загл. с экрана. Дата обращения: 01.03.2012. Иванов Вяч.Вс. Очерки по истории семиотики в СССР. М., 1976. Иванов Вяч.Вс. Значение идей М.М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семиотики // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 3. Раздел 2 Проблемы литературного диалога К.С. Медведчикова (Саратов) Библеизм в русских поэтических текстах (на материале поэзии XIX и XXI вв.) Научный руководитель – профессор М.Б. Борисова В изучении идиостиля поэта большую роль играет анализ лексики не только в семантическом и стилистическом аспекте, но и в синтезе данных подходов, то есть в плане семантико-стилистического анализа текста, актуального с середины 50-х годов XX века (Б.А. Ларин, Л.С. Ковтун, Д.М. Поцебня и др.). Такой анализ проводится с точки зрения семантического объема слов, их стилистической окраски, ассоциативных связей слов, взаимодействия стилистически окрашенных слов с контекстом, с речью персонажей. Особенным объектом изучения в художественном тексте является библейская лексика [Гашева 1998; Грановская 1998]. Использование ее имеет давнюю традицию, связанную с православной верой русского народа, и получает актуальное современное звучание в связи с возрождением Российской православной церковью. Изучение библейских пластов лексики проводится с помощью разных методов подхода к художественному тексту, самые активные из них семантикостилистический, когнитивный, коммуникативный. Эти методы взаимодействуют, но каждый имеет свою специфику. Мы подходим к анализу художественного текста с позиции семантико-стилистического метода анализа. Единицами изучаемой лексики служат библеизмы, прямо или косвенно связанные с Библией, ее текстом и сюжетами. Объектом анализа являются библеизмы в поэтическом тексте, что обуславливает особое, ассоциативное, лирическое прочтение художественного текста. Библеизмы создают особую систему значений, Раздел 2. Проблемы литературного диалога 161 оттенков этих значений, важную роль играют обертоны смысла. Мы выделяем основные смыслообразующие сферы идиостиля поэта (самоидентификация, поэт и мироощущение, поэт и природа, поэт и любовь, поэт и поэзия, поэт и религия), классифицируем все библеизмы по тематическим группам (имена (наименования) Верховного божества, имена (наименования) злого духа, наименование библейских реалий, наименование церковных праздников, обрядов, таинств, обозначение понятий, относящихся к церкви, вере, характеризующие человека и его религиозные чувства, деяния, наименование Библии и ее книг), по типам (библеизмы-слова, библеизмы-устойчивые сочетания слов, библеизмытекстовые отрезки) и даем им семантическую характеристику, выделяя при этом основные функции библейских единиц. Смысловая парадигма веры и творчества издавна выстраивается в художественной системе каждого русского поэта. Классическим примером становится творчество А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. Одним из основных компонентов идиостиля обоих поэтов становится восприятие ими веры в Бога. Многообразие и частотность библейских единиц, использованных в текстах их произведений, подтверждает это. При классической сравнительной характеристике стихотворений А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова одинаковым заглавием «Пророк» мы сталкиваемся с узнаваемой библейской тематикой прозрения человека, восприятием поэтического творчества как дара от Бога. Но сколь различен эмоциональный настрой восприятия двух авторов! А.С. Пушкин воспринимает свой дар как откровение, как подарок серафима после одинокого скитания в пустыне. Он описывает процесс трансформации, изменения лирического героя как в физическом, так и в душевном плане. Двоякое перерождение представляет уже не просто отшельника, а Пророка, Поэта, имеющего свою задачу: «глаголом жечь сердца людей». Совсем другую эмоциональную составляющую встречаем у Лермонтова. Сюжетная линия второго стихотворения продолжается там, где оборвал ее Пушкин, – в момент поставленной задачи, – и показывает, как именно распорядился лирический герой Божиим даром и как исполнял он сообщенную ему верховную волю: С тех пор как Вечный Судия / Мне дал всеведенье пророка <…> В очах людей читаю я / Страницы злобы и порока. И здесь возникает вопрос: продолжает ли Лермонтов именно традицию Пушкина? Сюжетно – да. Однако для пророка, понявшего, узревшего тайные смыслы, не может быть уготована лишь злоба и порок. Для Пушкина подобный взгляд на мир был бы слишком ограниченным, упрощенным. Для Лермонтова, с его тяготением к крайностям, – подобное восприятие оказывается возможным. Итак, пророку открыта высшая истина. Пушкин раскрывает назначение Пророка как долг жечь сердца, очищая их от греха и порока для дальнейшего. Лермонтов именно на это дальнейшее и претендовал, его 162 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 пророк обучает, считал себя обладателем высоких знаний. Ближние же принять эту истину отказываются, отвергают ее. Стереотипная ситуация невосприятия истины описана и в Библии, есть она и у Пушкина. Но совершенно различна степень эмоционального напряжения у двух поэтов: Пушкин пишет о суде глупца, брани, холодном смехе толпы – у Лермонтова же представлена поэзия крайностей – изгнание, возвращение пророка к истоку – к пустыне. Мотив нежелания осуществлять пророческое служение из-за недостойности тех, на кого оно должно быть обращено, последовательно развивается в творчестве Лермонтова. Его поэзия построена на принципе отказа от ответственности перед Богом за полученный от него дар. Большинство религиозных мотивов творчества Лермонтова контрастны, резки, лишены светотени. Если его поэтическое искусство часто строится на парадоксальном смешении кромешного мрака и божественного света, на двух противоположных полюсах души, между которыми она разрывается, всякий раз являя в своих состояниях то хаос смятения, то гармонию устремленности к Творцу, то творчество Лермонтова контрастно до крайности: в его стихотворениях не «ад и небо», но «ад иль небо». Он любит привлекать на помощь себе, своим созданиям идеи полярно несовместимые и совмещать их, творя особый мир, поэтический мир своей антимолитвы Богу. Современная русская поэзия не утратила той христианской составляющей, свойственной литературе XVIII-XIX вв. Эта составляющая, естественно, претерпела свои изменения: часть значений слов была изменена или получила деэтимологизацию, часть, к сожалению, была утрачена. Классические христианские сюжеты узнаваемы и современными авторами. Таково творчество С. Кековой, чьи художественные тексты скрывают в себе многослойные православные смыслы, которые угадываются лишь на интуитивном уровне, без наличия определённых знаний. Процесс декодирования христианских образов требует как минимум знания текста Библии, что для широких слоев читателей затрудняет восприятие всех скрытых смыслов, поскольку в наше время мало глубоко знающих Святое Писание. Но количество таких людей растет, как и растет интерес к православной вере, ее символам и сюжетам. И творчество С.Кековой – верный путь к таким переменам [Кекова 2006]. С. Кекова – один из современных поэтов, строящих свое творчество на христианской основе. Для анализа мы выбрали стихотворение «Возвращение блудного сына». Данное стихотворение можно считать для С. Кековой программным из-за затронутых в нем глобальных тем поэта и поэзии, любви между мужчиной и женщиной, судьбы человека как сына Господа. С библейским образами мы сталкиваемся уже в самом названии «Возвращение блудного сына»; аллюзия на притчу о блудном сыне, растратившем свое наследство и вернувшемся домой бедным, но получившем прощение своего отца. Раздел 2. Проблемы литературного диалога 163 Сюжетная линия стихотворения отрывочна, эпизодична. Автор строит стихотворение как прямую речь лирической героини, повествование идет от первого лица, что ярко передает личное сопереживание героини, интимный характер раскрытых эмоций. Стихотворение строится как исповедь с элементами пророчества (перекличка с Пушкиным и Лермонтовым), но сама героиня не апостол, ведущий за собой верующих, не отшельник в пустыне, – она такая же грешница, такая же «заблудшая овца», причем предел своих грехов она уже перешла, – по сюжету она уже отстала от общего стада, не имея желания ни двигаться за пастухом, ни наслаждаться травой и водой: Лежит в пыли. Ей ничего не надо – / Ни пастыря, бредущего в ночи, /Ни сладких трав, ни воды, / Ни солнца, ни награды за труды, / Ни маленького тёплого ягненка. Состояние лирической героини метафорически воплощается в образе этой библейской овцы (буквализированная метафора), оно передано в виде наивной библейской картины мира: она покинута возлюбленным, и ее уже ничто не может утешить – ни Господь-пастырь, ни пища, и, что особенно подчеркивает отчаянность ситуации, дети. Такое отчаяние обусловлено и другой причиной, развёртывание событий приводит к тому, что образы меняются. Героиня говорит о троекратном отречении от дара небес, от поэзии – Я трижды отрекалась от небес – по ассоциации с библейским троекратным отречением Петра от Христа. Но Бог не оставляет ее в «невидимой проказе», – он целует ее в лоб. Поцелуй этот сакральный, не любовный, а дающий откровение высшего знания, наставнический; он вновь пробуждает в ней пленного ангела, И вновь из тела рвется ангел пленный, – ее душу, что рвется вверх, к Господу. В стихотворении используются различные типы библеизмов. Наибольшей частотностью пользуются библеизмы-слова: Бог, пастырь, проказа, грешность, ангел, нимб. Эти слова используются в номинативной функции, называя образы и понятия, с которыми связан сюжет стихотворения. Так же в стихотворении есть библеизмы-устойчивые выражения слов: волк в овечьей шкуре, заблудшая овца, блудный сын. Данные единицы выполняют как номинативную, так и характерологическую, оценочную функцию. Библеизм «блудный сын» обладает текстообразующей функцией, поскольку является частью названия стихотворения. Все представленные единицы несут также экспрессивноэмоциональную функцию, создавая особую христианскую атмосферу стихотворения, его молитвенную насыщенность. Заключением стихотворения становится своеобразная картина всечеловеческих судеб обиженных, скорбных, – «Кто был потерен, будет обретен. / Кто потерял, и тот найдет пропажу», «Кто падал так, что был не в силах встать, / кто умер и забыл слова молитвы, / Кто по ночам не спал, но, словно тать, / Шел на разбой с ножом острее бритвы, / Кто был в аду и чья горела плоть, / Кто шел путем глухим и многотрудным… – 164 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 но эта картина не безнадежна, как и судьба лирической героини. Каждая человеческая душа становится для Бога «блудным сыном», еще не осознавшим своих грехов, не пришедшим через раскаяние и прощение к Царствию Небесному: «За каждым смертным следует Господь, Как тень отца за бедным сыном блудным». Последние две строки как своеобразный вывод, как пророчество автора и одновременно возвращение нас к началу стихотворения, к его названию. Мы получаем разгадку названия – каждый смертный человек становится этим блудным сыном, ушедшим от отца (от Бога), совершим череду грехов, нарушившим множество запретов, и, возможно, впавшего уже в отчаяние. Но автор дает нам надежду, говоря о постоянном присутствии Бога рядом с нами (наши ангелы-хранители) и, самое главное, дает надежду на такое же милосердное прощение наших грехов, как и прощение блудного сына отцом в известной библейской притче. Литература Гашева Л.П. Библейские фразеологизмы в контексте русской лингвокультуры // Мир православия. Волгоград, 1998. Грановская Л.М. Библейские фразеологизмы. Опыт словаря //Русская речь. 1998. № 1-5. Кекова С.В. Плач о древе жизни: Стихи разных лет. Саратов, 2006. Ларин Б.А. Эстетика слова и язык писателя. Л.,1974. М.С. Кислина (Саратов) Реальная основа и литературные истоки сюжета романа Пушкина «Дубровский» Научный руководитель – профессор Е.П. Никитина Сюжет романа «Дубровский» взят из современной Пушкину действительности. В основу сюжета положен подлинный факт: законный владелец лишён прав на собственное имение влиятельным помещиком. Исследователями приводится целый ряд подобных случаев из русской действительности, которые могли быть известны автору и давали материал для работы над романом. Пушкин вводит во вторую главу романа текст нескольких страниц подлинного судебного документа от октября 1832 г. о тяжбе между подполковником Крюковым и поручиком Муратовым. Предваряющее эту публикацию замечание автора-повествователя является ключевым в оценке описываемых в «Дубровском» событий: «Мы помещаем его вполне, полагая, что всякому приятно будет увидать один из способов, коими на Руси можем мы лишиться имения, на владение коим имеем неоспоримое право» [Пушкин 1948: 167. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Суд между Троекуровым и Андреем Дубровским роковым образом поссорил недавних друзей, обездолив Раздел 2. Проблемы литературного диалога 165 сына последнего – Владимира, служившего в Петербурге в гвардии. Оказавшись без средств к существованию, он вершит собственный приговор: поджигает свой дом и становится разбойником. Крестьяне, негодующие на вероломство Троекурова, спровоцированные грубостью судейских, приехавших ввести во власть нового хозяина, уходят вместе с Дубровским. Кузнец Архип запирает перед пожаром дом, в котором находились судейские, но (классический эпизод) рискуя жизнью, спасает от огня кошку. История жестоко окончившейся тяжбы в процессе повествования усложняется любовной линией в общем сюжете романа. Любовная история структурно выделяется. В первой главе присутствуют лишь упоминания о Владимире Дубровском и Марии Кириловне. Когда-то Троекуров говаривал Дубровскому: «Слушай, брат, Андрей Гаврилович: коли в твоем Володьке будет путь, так отдам за него Машу; даром что он гол как сокол» [162]. Дубровский, как главный герой, представлен читателю в начале третьей главы: «Пора читателя познакомить с настоящим героем нашей повести» [172]. Появление Маши и история с Дефоржем-Дубровским происходит только в восьмой главе: «Читатель, вероятно, уже догадался, что дочь Кирила Петровича, о которой сказали мы еще только несколько слов, есть героиня нашей повести» [186]. Завязкой для любовного романа служит «благородное увеселение русского барина», внезапно вталкивающего гостей в комнату с медведем: «Дефорж вынул из кармана маленькой пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил» [189]. Эффектная сцена убийства Дефоржем зверя так поразила воображение героини, что «Маша в него влюбилась, сама еще в том себе не признаваясь» [189]. А Владимир отказался от намерения мстить Троекурову. Таким образом, возникновение любовного чувства Маши объясняется случаем: «При первом случайном препятствии или незапном гонении судьбы пламя страсти должно было вспыхнуть в её сердце» [203]. Основные повороты в сюжете романа «Дубровский» объясняются именно случаем: «Нечаянный случай все расстроил и переменил» [162], этими словами предваряется рассказ о ссоре Троекурова и Дубровского. Размышления над ролью случая в человеческой жизни занимали Пушкина на протяжении всего зрелого периода творчества. Сюжет романа многопланов, многосоставен. Конкретно развёртывается система персонажей. «Старинный русский барин» Троекуров находится в центре повествования. Первый том начинается с характеристики Троекурова, которая является экспозицией романа, предшествуя началу событий, она содержит в себе причины обстоятельств, которые повлияют на развитие сюжетного конфликта: «его богатство, знатный род и связи давали ему большой вес в губерниях, где находилось его имение», «губернские чиновники трепетали при его имени», «в домашнем быту выказывал все пороки человека необразованного», «привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем затеям довольно ограниченного ума» [161]. Семейная история Дубровских и Троекуровых вовлекает в 166 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 происходящее людей разных сословий. Подчеркивается различие положений в дворянской среде: бедная вдова Анна Савишна Глобова; Антон Пафнутьич Спицин, живущий «свинья свиньей»; богатый князь Верейский. Лаконично и точно показана жизнь офицерства в столице: Владимир Дубровский «играл в карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую невесту, мечту бедной молодости», а его гости – офицеры «сидели у него, развалившись по диванам и куря из его янтарей» [172]. Сатирически описано чиновничество и обычаи, господствующие в уездном суде. Самым ярким субъектом «чернильного племени» является заседатель Шабашкин. В сюжетно-композиционном развертывании повествования его роль среди действующих лиц романа значительна. Он подобострастно выполняет условие Троекурова в ведении тяжбы: «<…> какие тебе документы. На то указы. В том-то и сила, чтобы безо всякого права отнять имение» [166]. В эпизоде приезда суда в день похорон Андрея Гавриловича Дубровского Шабашкин бесцеремонно обращается к крестьянам: «по решению уездного суда отныне принадлежите вы Кирилу Петровичу Троекурову. <…> Слушайтесь его во всем, что ни прикажет, а вы, бабы, любите и почитайте его, а он до вас большой охотник» [180], вызвав тем самым гнев крестьян. Грубость и дерзость заседателя сменяется унизительным заискиванием перед Владимиром Дубровским: «Шабашкин <...> вышел на крыльцо и с униженными поклонами стал благодарить Дубровского за его милостивое заступление. Владимир слушал его с презрением и ничего не отвечал» [181]. Представлен быт станционного смотрителя, ютящегося за перегородкой, который на реплику жены о свисте постояльца, как о плохой примете, отвечает: «Пахомовна, у нас что свисти, что нет: а денег всё нет как нет» [199]. История, рассказанная французом Дефоржем, и судьба мамзель Мими дают представление о положении учителей-иностранцев. Замечательно и ново то, что крестьяне показаны в индивидуальном облике, каждый со своим именем, собственным мнением о происходящем и независимыми поступками. Во время пожара няня Дубровского Орина Егоровна Бузырева, просит Архипа: «Архипушка, <…> спаси их [приказных – М.К.], окаянных, бог тебя наградит» [184], на что он сердито отвечает: «Как не так». Камердинер Гриша, сын Орины Егоровны, верен своему господину Дубровскому. Краток, но выразителен эпизод драки двух мальчишек из-за рокового кольца, являвшегося сигналом Маши Дубровскому о спасении от произвола отца, обрекающего её на брак с ненавистным князем Верейским. Характеры барчука Саши и «рыжего и косого оборванного мальчишки» [215] Мити раскрываются в короткой сцене: один, испугавшись наказания, выдаёт свою сестру, другой бесстрашно ведёт себя на допросе, учинённым барином и полицмейстером, смело заявляя, что он «дворовый человек господ Дубровских». В тоже время наглость псаря Парамошки стала причиной ссоры между закадычными друзьями. Крестьяне Троекурова «пользовались происшедшим разрывом» [165], прознав про ссору Раздел 2. Проблемы литературного диалога 167 помещиков, они начали безбоязненно воровать лес в кистенёвской роще. В 1830-е гг. Пушкин проявляет настойчивое внимание к «крестьянскому вопросу», трактуя его реалистически сложно, объективно. В осмыслении социальных конфликтов Пушкин имел великих предшественников в русской литературе. Читаем у В.Б. Шкловского: «История дворянина-разбойника была уже известна в русской литературе до "Дубровского"» [Шкловский 1937: 84]. Опыт европейских писателей, изображавших героев-протестантов, бунтарей, был ему хорошо известен. В пушкинистике существует большой пласт исследований, открывающих литературные истоки тем, сюжетов, характеров в пушкинских произведениях на протяжении всего творчества. «Дубровский» и «Капитанская дочка» сопоставляются с текстами В. Скотта, Ш. Нодье, Ф. Шиллера, П. Кальдерона. В монографии Н.Л. Степанова «Проза Пушкина» такого рода сближения рассматриваются тщательно. Но совершенно очевидным представляется то, что авантюрное превращение Дубровского в Дефоржа, история ограбления им Спицина традиционно литературны. Однако Н.Л. Степанов предупреждает: «Сходство сюжетных ситуаций и мотивов <…> может объясняться близостью жизненных обстоятельств, известной ограниченностью сюжетных положений» [Степанов 1962: 187]. Определяя литературные истоки сюжета, необходимо обращаться не к прямым перекличкам (хотя они, конечно, очень показательны), а к процессу формирования художественных принципов Пушкина 30-х годов. Тот факт, что действия Дубровского-разбойника в каноническом тексте романа не описываются, о них ходят лишь слухи, говорит о том, что Пушкин не намерен был развивать распространенную в литературном обиходе ультраромантическую историю. Авантюрному перевоплощению Дубровского в Дефоржа предшествует забавная проказа переодевания Лизы Муромской в Акулину в «Барышне-крестьянке», замысел которой исключал трагические коллизии. В «Дубровском» любовная история молодых людей описана лирически возвышенно. Здесь литературно-эстетические импульсы героини раскрываются со всей определённостью. Маша «не имела подруг и выросла в уединении» [186], она возрастала на французских романах XVIII в. (См. о Марье Гавриловне из «Метели»: «воспитывалась на французских романах, и, следственно, была влюблена»). Гости Троекурова во время рассказа Анны Савишны о Дубровском узнавали в нём романического героя, автор-повествователь иронически замечает: «Все слушали молча рассказ Анны Савишны, особенно барышни. Многие из них втайне ему доброжелательствовали, видя в нем героя романического – особенно Марья Кириловна, пылкая мечтательница, напитанная таинственными ужасами Радклиф» [197]. Дубровский «грабил с разбором, у кого лишнее», вызывая тем самым симпатию и литературные ассоциации с образом «благородного разбойника», широко распространенным в литературе конца XVIII – начала XIX вв. Князь Верейский вальяжно справляется о «славном разбойнике» 168 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Дубровском: «Куда же девался наш Ринальдо?», имея в виду героя романа немецкого писателя Вульпиуса, который в XVIII в. создал целую серию разбойничьих романов [208]. Так выясняется ироническое противостояние Пушкина романтической моде: он включает в поле зрения читателя модные истории, но реальные обстоятельства, в которых оказываются герои, устраивают их судьбы «нелитературно», традиционные темы имеют жизненное наполнение. Генетически роман «Дубровский» включается в пушкинскую художественную систему. «Повествовательная структура "Дубровского" заключает в себе ряд признаков перехода от малых прозаических жанров (и в первую очередь повести-новеллы <…>) к большой повествовательной форме романа» [Петрунина 1979: 149]. Ретроспективно – это вышеприведенные примеры из «Повестей Белкина», в перспективе – судьба Маши и Гринёва в «Капитанской дочке». Литература Петрунина Н.Н. Пушкин на пути к роману в прозе: «Дубровский» // Пушкин: Исследования и материалы / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). Л., 1979. Т. IX. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. (17 т. доп.) Т. 8, кн. 1. Романы и повести. Путешествия. М.; Л., 1948. Роман «Дубровский» цитируется по этому изданию, сноски даются в тексте в скобках с указанием тома и страницы. Степанов Н.Л. Проза Пушкина. М., 1962. Шкловский В.Б. Заметки о прозе Пушкина. М., 1937. Д.Л. Рясов (Саратов) Тема Германии в «Ганце Кюхельгартене» Н.В. Гоголя Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров Идиллия в картинах «Ганц Кюхельгартен» – первое крупное произведение, которое молодой Н.В. Гоголь решился представить на суд широкой публики. Тогдашняя критика холодно встретила это сочинение, что сильно удручило автора, заставило его забрать у книгопродавцев все имеющиеся экземпляры книги и сжечь. В науке поэме уделяется немного внимания, прежде всего, из-за её незрелости, подражательности, большого количества романтических штампов. Но именно с этого, казалось бы, незначительного произведения берёт начало немецкая тема в творчестве писателя. По утверждению большинства учёных (В. Шенрок, И. Золотусский, Ю. Манн), поэма писалась в 1827 г., во время учёбы Гоголя в Нежинской гимназии. Вполне возможно также, что он дорабатывал своё произведение непосредственно перед его изданием в 1829 г. Гимназисты (и Гоголь в их числе) увлекались романтизмом вообще и немецким, в частности. Они читали альманах «Северные цветы», журналы «Московский вестник» и Раздел 2. Проблемы литературного диалога 169 «Московский телеграф», в которых публиковались многие произведения немецких романтиков: «Немецкий романтизм и творчество «благородного», «пламенного» Шиллера (воспринимаемое в русской литературе 1830-х гг. в романтическом аспекте) были дороги Гоголю своей идеальностью, отделённостью от «существенности», высокими представлениями о всеобщей гармонии» [Карташёва 1975: 38]. Немецкие сочинения воспринимались Гоголем, в основном, в переводах, так как язык он знал довольно плохо. Большое влияние на писателя оказывали переводы и переработки немецких произведений В.А. Жуковского. Стихи, подобные строкам Жуковского «Лучи луны сияют, / Кругом кресты мелькают», мотив сна, завывающий ветер и другие подобные приметы романтизма можно найти и в «Ганце». Неудивительно поэтому, что Гоголь выбирает местом действия именно Германию. Подобный миф об этой стране, как бы олицетворявшей романтизм, был распространён в России первой половины XIX в. «Ганц Кюхельгартен» был издан в Петербурге в 1829 г. под красноречивым псевдонимом В. Алов («алый» – романтический цвет). Издание открывалась небольшим предисловием, в котором говорилось, что «сочинение никогда бы не увидело света, если бы обстоятельства, важные для одного только Автора, не побудили его к тому» [Гоголь 1940: 60. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Это предисловие тоже выдержано в несколько туманном романтическом тоне. Читателю сообщается, что перед ним произведение восемнадцатилетнего «юного дарования», что некоторые «куски» книги были безвозвратно утеряны. По утверждению П. Кулиша, это замечание автора говорит об осознании самим Гоголем того, что части его первого творения слабо связаны между собой. «Силы поэта были ещё слишком слабы для произведения чего-нибудь стройного целого», – замечает П. Кулиш [Кулиш 1856: 69]. Всего в идиллии 18 картин (в связи с тем, что некоторые якобы утрачены, за IV следует VI; отсутствуют также XII и XV картины). Помимо них в поэме присутствуют «Ночные видения» героини, «Дума», в которой выражается авторская позиция, и «Эпилог». Наша задача двуединая: отметить в поэме Гоголя более или менее знаковые детали, характеризующие немецкую жизнь (быт, природу, реалии, саму атмосферу), и понять, как ранние, юношеские представления Гоголя о Германии сочетались с намечавшейся исподволь эволюцией миросозерцания автора. По замечанию И.П. Золотусского, в поэме «многословие соперничает с подражанием, где Пушкин, Жуковский и немецкие романтики свалены в кучу» [Золотусский 2005: 74]. Конечно, на страницах идиллии мы встречаем немецкие географические названия, имена, и даже немецкий стол. Особенно ярко проявляется немецкий быт в VI картине. Вот описание дома Вильгельма Бауха, мызника, т.е. хозяина хутора: «Он выкрашен 170 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 зелёной краской, крыт / Красивою и звонкой черепицей; <…> Решётка из прекрасных лоз, красиво / И хитро сделана самим Вильгельмом; / По ней висит и змейкой вьётся хмель; <…> / В пролом на чердаке толпится стая / мохнатых голубей…» [72]. Далее следует перечисление животных, которые имеются в хозяйстве у немецких хуторян, а затем – праздничного стола, накрываемого в честь дня рождения жены Вильгельма, Берты: «…жёлтый вкусный сыр, / Редис и масло в фарфоровой утке, / И пиво, и вино, и сладкой бишеф; / и сахар, и коричневые вафли; / В корзине спелые, блестящие плоды: / Прозрачный грозд, душистая малина, / И как янтарь желтеющие груши, / И сливы синие, и яркий персик» [73]. В честь именинницы играют старый скрипач и юноша Фриц на флейте. Вся эта картина хоть и не лишена реальной составляющей, но всё же идеализирована и во многом навеяна мифологическими представлениями, существовавшими в то время в России. Посмотрим на описания несколько иного рода. Вот, например, первые строки поэмы: «Светает. Вот проглянула деревня, / Дома, сады. Всё видно, всё светло. / Вся в золоте сияет колокольня / И блещет луч на стареньком заборе. / Пленительно оборотилось всё / Вниз головой, в серебряной воде: / Забор, и дом, и садик в ней такие ж, / Всё движется в серебряной воде… /» [61]. Фактически, если мы забудем про колокольню, то увидим, что данное описание, если можно так выразиться, не совсем «немецкое». Или например, описание осени из шестнадцатой картины: «Чиликают нахалы воробьи, / Весь день в навозной куче роясь. / Видали уж красавца снигиря; / И осенью давно запахло в поле, / И пожелтел давно зелёный лист, / И ласточки давно уж отлетели / За дальние, роскошные моря» [92]. Подобную картину Гоголь мог наблюдать и на родине, здесь скорее узнаётся малороссийская осень. Поэт не вдаётся в подробное описание немецкого быта и реалий, а лишь поверхностно их очерчивает. Читатель ничего не узнаёт о внешнем виде героев, их одежде, да и описание дома, приведённое выше, также довольно размыто. В идиллии фактически не представлен национальный колорит. Автор с теплотой относится к своим персонажам: «живой Вильгельм» [73], «разумная хозяйка Берта» [92], «добросердечный пастор» [64], всегда «милая» «дитя-Луиза» [74], как ласково называет Гоголь героиню. Подчёркивается и гостеприимство немцев: «Смотри, ты Ганца пожури порядком: / Зачем он к нам так долго не идёт?» [73] – говорит Луизе отец. Все гоголевские немцы идеальны. Сюжет поэмы традиционно романтический. Ганца, молодого мечтателя, выросшего в прекрасном немецком краю, вдруг одолевает «любовь к дальнему», и чудесная родина отныне не мила ему: «Ему казалось душно, пыльно / В сей позаброшенной стране; / И сердце билось сильно, сильно / По дальней, дальней стороне» [71–72]. В какой-то момент жизни Ганц изменился, стал всё больше времени проводить один, а по ночам читать романтический сборник: «Но если мир души разрушен, / Забыт счастливый Раздел 2. Проблемы литературного диалога 171 уголок, / К нему он станет равнодушен, / И для простых людей высок» [69]. И герой решается бросить этот мир и отправиться в дальние страны – Грецию и Индию – края, о которых он мечтает. «Родоначальником любви к дальнему служит <…> отчуждение от «ближнего», полный разрыв с окружающею средою и её жизнью» [Франк 1990: 17]. К тому же, у Ганца есть ещё одна цель – слава. «Себя обречь бесславью в жертву? / При жизни быть для мира мертву?» [78] – такого он допустить не может. Помимо литературы, будущий писатель увлекается театром и живописью. Уже с юности он начинает сознавать, что его тяга к искусству – не простое увлечение. «Сознание своих эстетических творческих возможностей жило в Гоголе ещё до прямого осознания себя как писателя, но входило в общую уверенность о своей исключительности» [Гиппиус 1924: 16]. Отсюда – размышления об избранности, миссионерстве, призвании служить обществу. Вместе с этим – уверенность в будущей известности, славе. Осуществить свою мечту Гоголь собирался в Петербурге, который так же, как и Германия, не виденный им ни разу, представлялся ему в романтических красках. Таковым он и рисует этот «прекрасный город» в письмах матери и Г. Высотскому. «И он спадёт, покров неясный, / Под коим знала вас мечта, / И мир прекрасный, мир прекрасный / отворит дивные врата, / Приветить юношу готовый, / И в наслажденьях вечно новый» [79]. Эту мечту Ганца можно отнести и к самому автору. В то же время, у Гоголя имеются опасения, исполнятся ли его мечты о Петербурге, что мы можем видеть из письма Г.О. Высотскому: «Не знаю, сбудутся ли мои предположения, буду ли я точно живать в этаком райском месте, или неумолимое веретено судьбы зашвирнет меня с толпою самодовольной черни – [мысль ужасная!] в самую глушь ничтожности, отведёт мне чёрную квартиру неизвестности в мире» [Кулиш 1856: 48–49]. Эта цитата говорит сама за себя: хуже всех ожидающих его возможных лишений Гоголь считает оказаться ввергнутым в неизвестность. Такие мысли одолевали его в 1827 г., когда он создавал свою идиллию. Гоголь писал её втайне от всех, и лишь Н.Я. Прокопович знал о существовании произведения. «Гоголь сам боялся гласности и прокладывал себе дорогу к литературным успехам тайком даже от ближайших друзей своих» [Там же: 65], – пишет П. Кулиш. Таким образом, Гоголь постоянно сомневается: с одной стороны, он уверен в успехе, в своём предназначении, а с другой – опасается, что может смешается с толпою «черни», что его произведение окажется непринятым. Итак, мечтающий о славе и дальних землях, Ганц уходит, оставляя в одиночестве любимую девушку Луизу. Он посещает страны, являвшиеся объектами его желаний, и видит, что они совершенно не такие, какими рисовало их его воображение. В Афинах он представлял себе оживлённые споры, происходившие в глубокой древности. Мечтая, он как бы видит их перед собой (текст написан в настоящем времени): «Вот от треножников 172 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 до самого Пирея / Кипит, волнуется торжественный народ; / Где речь Эсхинова, гремя и пламенея, / Всё своенравно вслед влечёт» [69]. Когда мечты неожиданно рассеиваются, Ганц восклицает: «Хотя бы Фавн пришёл с долин; хотя б прекрасная Дриада / Мне показалась в мраке сада» [70]. Ему видятся мифологические персонажи. Говоря об Индии, поэт тоже упоминает о них. Таким образом, представляя себе дальние страны, Ганц обращается к их далёкому прошлому, по сути дела, к легендам, то есть представления его о них – мифологические. Увидев эти страны собственными глазами и поняв, что теперь они абсолютно другие, Ганц разочаровывается в своих мечтах: миф разрушается. Герой как бы возвращается из прошлого в настоящее, из мечтаний в реальность – в свой родной край, и понимает, как он его на самом деле любит. Нечто подобное произошло и с самим Гоголем по отношению к Германии. В 1829 г., когда Гоголь впервые, при загадочных побудительных обстоятельствах прибыл в эту страну и увидел её собственными глазами, его возвышенные представления о ней рушатся. Он фактически оказывается в подобной Ганцу ситуации, с той лишь разницей, что существенность, от которой бежал герой его поэмы, – сама по себе романтическая, идиллическая. Из вышесказанного можно сделать вывод, что сам Гоголь прекрасно сознавал этот процесс крушения идеалов, разрушения мифов и формирования образа на основе личного опыта, чему, во многом, и посвящено его первое произведение. Но у поэмы есть ещё главный вопрос, поставленный в «Думе»: «Когда ж коварные мечты / Взволнуют жаждой яркой доли, / А нет в душе железной воли, / Нет сил стоять средь суеты, – / Не лучше ль в тишине укромной / По полю жизни протекать, / Семьей довольствоваться скромной / И шуму света не внимать?» [95]. Здесь пути Гоголя и его героя расходятся. Ганц выбирает второй вариант – тихо и мирно жить с любимой Луизой в идиллической Германии. Гоголь же верит в свои силы, в наличие у него «железной воли». «Но мысль и крепка, и бодра / Его одна объемлет, мучит / Желаньем блага и добра; / Его трудам великим учит. / Для них он жизни не щадит. / Вотще безумно чернь кричит: / Он тверд средь сих живых обломков» [95], – говорит автор о Сыне Божьем. На это же ровняется и он сам, что доказывают переклички этой цитаты с письмами 1827 г. К тому же у Гоголя есть свой идеал, альтернативный мечтаниям Ганца. И это не страны древних. Он обозначен им в «Эпилоге». «Страна высоких помышлений! / Воздушных призраков страна! / О, как тобой душа полна» [100]. Это Германия. Но Германия, на наш взгляд, несколько отличная от той идиллической страны, которая описывалась автором в самом произведении. Здесь имеется в виду, конечно же, Германия философов, мыслителей, поэтов во главе с Гёте. Без гениев мысли и слова писатель не видит эту страну. В этот идеал Гоголь верил до своего первого посещения Германии. Раздел 2. Проблемы литературного диалога 173 В связи с тем, что Гоголь на момент написания поэмы имел только стереотипно-идиллические представления о Германии, в его произведении наличествует большое количество штампов, а картина размыта и неконкретна. Гоголь слабо был знаком с повседневным немецким бытом и национальными особенностями. Крушение идеалов, переживаемое главным героем, говорит о понимании автором процесса разрушения мифа, который произойдёт позже и с ним самим по отношению к Петербургу и самой Германии. Считая себя сильной личностью, способной к твёрдым решениям, человеком, который непременно добьётся успеха, Гоголь ожидал, что его ждёт иная судьба, чем его героя. Писатель, как ему казалось, верил в настоящее – в «свою Германию», такую, какой он нарисовал её в «Эпилоге» поэмы. Литература Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. 1. М., 1940. Золотусский И.П. Гоголь. М., 2005. Карташёва И.В. Гоголь и романтизм: спецкурс. Калинин, 1975. Кулиш П.А. (Николай М.) Записки о жизни Николая Васильевича Гоголя, составленные из воспоминаний его друзей и знакомых и из его собственных писем: в 2 т. СПб., 1856. Т. 1. Манн Ю.В. Гоголь. Труды и дни. 1809–1845. М., 2004. Франк С.Л. Сочинения. М., 1990. Шенрок В.И. Материалы для биографии Гоголя: в 4 т. Т. 1. М., 1892. Н.Е. Музалевский (Саратов) «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Бедность не порок» Островского: параметры сопоставительного ряда Научный руководитель – профессор Ю.Н. Борисов В исследовательской литературе об А.Н. Островском накоплен обширный и достаточно аргументированный материал, свидетельствующий о преемственных связях драматурга с творчеством классиков европейской и русской литературы – таких, как Шекспир, Мольер, Сервантес, Гольдони, Фонвизин, Грибоедов, Пушкин, Гоголь. В какой мере европейские и русские тексты имели для Островского значение литературного образца, предстоит еще изучать, но ясно, что сопоставление возможно проводить не только по внешним параллелям, по идейно-тематическому содержанию, но прежде всего в сфере поэтики жанра. Признано, что жанр комедии в кругу жанров мировой литературы сохраняет на протяжении всего времени устойчивые общие черты, которые варьируются и обновляются в творчестве каждого автора. В то же время параллельное прочтение пьес разных национальных литератур осложняется временной дистанцией между ними. 174 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Комедия «Мещанин во дворянстве» впервые поставлена в 1670 г. в замке Шамбор и была показана для королевской аристократии. В том же году пьеса была сыграна в Пале-Рояле. Премьерный показ пьесы «Бедности не порок» состоялся в московском Малом театре в 1854 г. Более чем два века – пропасть, которая наполнена историческими событиями, формировавшими новые литературные эпохи. Пьесы Мольера и Островского создавались в контексте разных историко-литературных эпох. Представим некоторые моменты, позволяющие сопоставить две комедии французского и русского авторов – «Мещанин во дворянстве» и «Бедность не порок», отметив и безусловное сближение их жанровых характерологических принципов, и драматургическую новизну пьес Островского как виднейшего представителя русской классики XIX в. Наиболее бесспорным являются «анкетные» данные двух героев Мольера и Островского – господина Журдена и Гордея Торцова. Сами названия двух комедий – «Мещанин во дворянстве» и «Бедность не порок» – обещают социальные проблемы, противостояние разных сословий. Стремясь войти в высший круг общества, герои двух пьес пытаются демонстративно отказаться от своего сословия и обрести новый имидж. Но они в состоянии воспринять только внешние приметы облика, манеры одеваться, рассуждать на модные темы. Именно эти смешные претензии комически подаются в каждой из комедий. Журден, имея возможность общаться с лицами придворного круга, нанимает учителей музыки, танцев, смешно учится фехтовать («наносить удары, но не принимать их» [Мольер 1939: 695. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]) и даже приглашает учителя-философа, вступая с ним в дебаты, посягая на приоритетность своих мнений, на ученость. О главном действующем лице в «Мещанине во дворянстве» Журдене мы узнаем до его появления на сцене из разговора учителя музыки и учителя танцев, которые обозначают конфликтную ситуацию. Учитель музыки прямо дает характеристику хозяина дома: «Мы оба нашли именно такого человека, какой нам нужен. Со своей фантазией казаться дворянином и светским человеком господин Журден для нас – просто клад» [678]. Учитель танцев присовокупляет: «Мне бы хотелось, для его же пользы, чтоб он побольше смыслил в искусствах, которые мы ему преподаем» [Там же]. На протяжении всей комедии Журдена дурачат, потакая его гонору и амбициям, чтобы добыть деньги. В пьесе Островского конфликтная ситуация обозначается также до появления Гордея на сцене – в рассказе смешливого Егорушки, который говорит о ссоре двух братьев – Гордея и Любима Торцовых. Эта ситуация в начале проходит через всю пьесу, уступая место другим конфликтам, и в финале разрешается примирением братьев. Гордей Торцов в «Бедности не порок» свою характеристику получает и от жены Пелагеи Егоровны. Выясняется, что в прошлом году ее муж в Раздел 2. Проблемы литературного диалога 175 «отъезд ездил, да перенял у кого-то. Перенял, перенял, уж мне сказывали… все эти штуки-то перенял. Теперь все ему наше русское не мило; ладит одно – хочу жить по-нынешнему, модами заниматься». Перечить ему невозможно: «Гордость-то его одна чего стоит! Мне, говорит, здесь не с кем компанию водить, все, говорит, сволочь, все, видишь ты, мужики, и живут-то по-мужицки; а тот-то, видишь ты, московский, больше все в Москве… и богатый» [Островский 1949: 272. Далее цитируется это издание, страницы указываются в круглых скобках]. Самое же огорчительное то, что у купца Торцова с фабрикантом Коршуновым «никаких делов» нет. Они вместе пьют, и более того, с приглашенным англичанином Африкан Савич тоже только пьянствует. И ту и другую комедию объединяет сама причина, исток «конфликта». Для Журдена и Гордея становится ментально неприемлемым обиход, образ жизни той среды, к которой они отроду принадлежали, что и порождает нелепые поступки и выходки. Так, например, Журден является к учителям в халате и ночном колпаке, небрежно извиняясь за опоздание: «Я заставил вас немного дожидаться, но я одеваюсь теперь так, как одеваются знатные люди. А тут портной прислал мне такие шелковые чулки, что я думал, никогда их не натяну» [681]. Рассказывая о том, что он сшил себе халат из индийской ткани, он демонстрирует «восхищенным» учителям ливреи своих лакеев: Г-н Журден. Лакей! Эй! Оба моих лакея! Первый лакей. Что угодно, сударь? Г-н Журден. Мне ничего не угодно. Я хотел только знать, слышите ли вы, когда я зову? (Учителям) Как вам нравятся ливреи моих слуг? [682] Очевидно, что в двух лакеях и модном их одеянии нет никакой практической необходимости. Кульминацией появления перед учителями становится презентация своего домашнего костюмчика для утренних упражнений, который скрывался под халатом (!) – узкие красного бархата штаны и зеленого бархата камзол. Вся эта подиумная часть вызывает у учителя музыки безоглядно льстивую реакцию: «Очень изящно» [682]. Далее следуют эпизоды, раскрывающие, каким вкусом Журден обладает на самом деле. Утомившись исполнением заказанной серенады, совершенно не понимая достоинств и стиля стихов, которые ему предложили, он радостно поет песенку «про овечку»: Я думал, что Жанета Кротка, добра, милашка, Я думал, что Жанета У нас добрей барашка. Увы, увы и ах! В сто раз она, милашка, Лютей, чем тигр в лесах! [684] Долго решая, как же удобнее слушать серенаду – в халате или без, 176 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 мещанин подводит итог, достойный рядового клиента нашего времени: «Довольно заунывная песня; она как-то усыпляет. Нельзя ли сделать ее чуточку повеселее?» [683], и тут же показывает свой образец. Зритель, увидев эту сцену, несомненно, приходит в восторг, наблюдая богатый ассортимент глупостей и смешной демонстрации «образованности». Такова, например, оценка танцоров балета: «Это совсем недурно! Отплясывают эти люди знатно» [691]. Для Гордея Торцова высшая амбициозная планка – столичный фабрикант Коршунов, у которого на фабрике служит англичанин. И не только у Гордея, а вообще у персонажей ранней драматургии Островского отличием и превосходством является так называемая «образованность», мнимая конечно. Гордей с презрением уличает окружающих в необразованности. Торцов, застав святочное веселье (то, что всегда было его привычной средой до знакомства с Коршуновым), не может простить жену, стыдится и корит ее: «Зарезала ты меня» (297). Однако перед Африканом Савичем разворачивает всю концепцию своей «образованной» жизни: «Нет, ты вот что скажи: все у меня в порядке? В другом месте за столом-то прислуживает молодец в поддевке либо девка, а у меня фициянт в нитяных перчатках. Этот фициянт, он ученый, из Москвы, он все порядки знает: где кому сесть, что делать. А у других что! Соберутся в одну комнату, усядутся в кружок, песни запоют мужицкие. Оно, конечно, и весело, да я считаю так, что это низко, никакого тону нет. Да и пьют-то что, по необразованию своему! Наливки там, вишневки разные... а и не понимают они того, что на это есть шампанское!» (311). И приказывая лакею подать шампанского, демонстративно добавляет: «На серебряном подносе». Когда он говорит Разлюляеву, высмеивая его сюртук: «Отец-то, чай, деньги лопатой загребает, а тебя в этаком зипунишке водит» (277), то это смешно. Но по отношению к Мите, приказчику, Гордей просто грубо бесцеремонен: «Да ведь безобразно! Уж коли не умеешь над собою приличия наблюдать, так и сиди в своей конуре; коли гол кругом, так нечего о себе мечтать!» (277). Рядом с Журденом ведет свою сюжетную линию объект подражания мещанина – граф Дорант. Его роль в комедии лежит в основе низкой интриги. Граф, проходимец и обманщик, выстраивает свою дружбу с Журденом путем мошеннических уловок, выманивая денежную поддержку для своей личной цели – заполучить маркизу Доримену. Для Журдена, иметь любовную интрижку на стороне – обязательный пункт светского человека. Этим и пользуется граф, передавая записки, подарки, предназначенные для Доримены, от имени Журдена. И приглашая на обед в дом Журдена, он предлагает составить компанию себе, а не хозяину. В итоге Доранту интрига удается, и вернувшаяся не вовремя жена Журдена обеспечивает благополучную для графа развязку. Как полагается в комедии, необходимая составляющая – это Раздел 2. Проблемы литературного диалога 177 любовный сюжет. В этом аспекте в обеих пьесах проявлены черты главных персонажей. В «Мещанине во дворянстве» молодой человек по имени Клеонт влюблен в дочь Журдена Люсиль. Но поскольку Клеонт не является дворянином, Журден не соглашается отдать дочь ему в жены. Свою развязку этот сюжет получает подготовленной авантюрой, в ходе которой Клеонт был представлен хозяину дома турецким муфтием из знатного рода, и загримированный молодой человек получает согласие на брак с Люсиль. В «Бедности не порок» приказчик Гордея Митя влюблен в дочь купца Любовь. Будучи бедным человеком, Митя также не может надеяться на брачный союз с возлюбленной. Однако, запросы Торцова более масштабные – ему непременно нужен богатый жених, москвич, престижный, модный (современный). И если у Мольера Журден занят исключительно общением с графом и построением интрижки с маркизой Дорименой, то у Островского выбор жениха для своей дочери стоит в центре сюжета. Любовные планы Коршунова, друга Гордея Торцова в «Бедности не порок», заканчиваются, наоборот, разоблачением и полным крахом. Коршунов – традиционный злодей, фигура реальной общественной жизни. Фабрикант – страшная угроза счастья хорошей девушки. Но что он являет собой как тип социальный? Его прошлая семейная жизнь покруче любых домостроевских правил – он погубил свою жену самым страшным образом. И не только Любим Торцов, даже робкая Любовь Гордеевна задает Коршунову совершенно недвусмысленный вопрос: «А вас та жена… покойная любила?» (310). Злобный ответ, превратившийся в целый монолог, раскрывает всю подноготную этого хищника. Оказывается, что в его первом браке не было никакой любви ни с той, ни с другой стороны. Он цинично рассказывает о том, как он купил свою нищую жену. Так откровенно заявляя свое право покупать, он, скорее всего, проговаривается, не забывается от злости, а напрямую высказывает свое отношение к семейной жизни и любви как к купле-продаже. Ясно, что невозможно видеть в Коршунове никакого представителя столичного, и тем более европейского образа жизни. И Островский, создавая этот персонаж, рисовал не карикатуры, а высказывал свое отношение к реальным проблемам в жизни нового времени, нового века. В «Бедности не порок» развитие действия достигает драматизма, поэтому развязки у Мольера и Островского совершенно разные. В «Мещанине во дворянстве» Журдена в очередной раз смешно обманывают – пьеса, которая началась с одурачивания, им же и закончилась. Совершенно неизбежный, законный, традиционный финал. Сюжет русского драматурга начинает касаться психологии, нравственного анализа. Неслучайно развязка пьесы является пунктом полемики в работах об Островском. Новизна, которую можно заметить в финале, как бы обеспечивается появлением нетрадиционного персонажа, брата Торцова, Любима. Он стал классическим персонажем в театральном 178 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 репертуаре. Но в истории характера Любима Торцова (такого же богатого в молодости, попавшего в хищные руки Коршунова, промотавшегося в столице и вернувшегося к брату, который его и «в нахлебники не берет») была заложена гуманная и психологически сложная мысль Островского. По-человечески кратко и очень точно об этой сложности написал Гончаров: «Надо дойти до невероятной и едва ли существующей крайности, чтобы сказать: все пропало, кончено, человек заблудился и не воротится. Надо для этого разве быть у ворот кабака, во фризовой шинели с разбитым носом: да и там есть Торцовы, которым лежит удобный путь к возврату. Я хочу сказать, что глубина дурного не превышает глубину хорошего в человеке и что дно у хорошего даже… да у него просто нет дна, тогда как у зла есть – все это, разумеется, обусловлено многим» [Гончаров 2008]. Комедийные способы разоблачения в этих комедиях несут жены главных героев Мольера и Островского, которые ошеломлены метаморфозами, произошедшими с их мужьями и их объектами глупого подражания – графом Дорантом и фабрикантом Коршуновым. Жены, госпожа Журден и Пелагея Егоровна, – выразительницы здравого смысла, разоблачающие все эти неожиданные причуды, происходящие на их глазах. Однако жена Журдена на сцене выполняет разоблачительную роль с точки зрения здравого, бытового смысла, создавая контраст со стремлениями своего мужа к подобию дворянской ментальности. Роль Пелагеи Егоровны с первой и до последней сцены во время всего представления пьесы – это открытие Островского-реалиста, создавшего характер русской женщины, добросердечной, совестливой, мудрой, чуждой всякой фальши. Душевная отзывчивость ко всем окружающим, участливое отношение к переживающей молодой паре, бережливость в любви и сочувствие искренности чувств и взаимности – эти черты характера Пелагея Егоровна ценит высоко, будучи сама награжденной ими. Полное непонимание вероломства своего мужа и сохранение любви как главной драгоценности в жизни – в этом виден женский опыт, несмотря на ее кротость, смирение и терпение. В этой линии комедии виден Островский, создавший целую галерею женских образов, унаследовавший пушкинскую традицию. Более линейная традиционная композиция мольеровского времени в «Мещанине во дворянстве» обеспечена обычным перечнем действующих лиц. В «Бедности не порок» – многонаселенность персонажами. Здесь усиленно характеризуется натура Гордея, поэтому все герои противопоставлены ему, чтобы в полной мере обрисовать горделивость купца и его смешные претензии. Итак, комедии «Мещанин о дворянстве» и «Бедность не порок» объединяют непререкаемость вечных истин – таких, как гуманность, справедливость, добросердечность. Мошенничество, корыстолюбие – эти черты осмеяны в обеих пьесах. У Гордея Торцова они доведены до сатиры так же, как у Мольера доведен Тартюф. Раздел 2. Проблемы литературного диалога 179 Литература Гончаров И.А. Письмо И.И. Льховскому. 13 (25) июня 1857. Варшава [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://az.lib.ru/g/goncharow_i_a/text_0360.shtml. Загл. с экрана. Дата обращения: 23.07.2008. Мольер Ж.-Б. Собр. соч.: в 4 т. Т. 3. Л., 1939. Островский А.Н. Полн. собр. соч.: в 16 т. Т. 1. М., 1949. М. Айдос, Г.М. Алтынбаева (Саратов) Турция в биографии и творчестве И.А. Бунина: постановка темы Весной 1903 г. Иван Алексеевич Бунин впервые побывал в Турции. В письме старшему брату читаем: «13 апр. (воскресенье) 1903 г. Вход в Босфор показался мне диковатым, но красивым. Гористые пустынные берега, зеленоватые, сухого тона, довольно резких очертаний. Во всем что-то новое глазу. Кое-где, почти у воды, маленькие крепости, с минаретами. Затем пошли селения, дачи. Когда пароход, следуя изгибам пролива, раза два повернул, было похоже на то, что мы плывем по озерам. <…> Босфор поразил меня красотой, Константинополь» [Бунин 2003: 425]. В этот же день Бунин делает запись в дневнике: «Незабвенная весна (апр. 1903 г.), первый раз в Константинополе…» [Цит. по: Муромцева-Бунина 1989: 222]. По словам В.Н. Муромцевой-Буниной, пребывание в Константинополе – «самое поэтическое из всех путешествий Ивана Алексеевича: весна, полное одиночество, новый, захвативший его мир» [Муромцева-Бунина 1989: 222]. Вспоминая о своей первой поездке в Константинополь, Бунин в письме С. Найденову (от 3 июня 1903 г.) делится впечатлениями: «Я чрезвычайно доволен, что попал туда, жалею только, что пробыл там очень мало времени, и даю себе слово непременно побывать в Турции еще раз» [Цит. по: Бабореко 2009: 87]. Впоследствии Бунин подсчитал, что «тринадцать раз был в Константинополе». В свою следующую поездку в 1904 г., ставшую свадебным путешествием Ивана и Веры Буниных, писатель поразил жену «знанием этого сказочного города». В воспоминаниях Веры Николаевны Муромцевой-Буниной об очередном посещении Стамбула (1907 г.) есть такие записи об экскурсии по городу, которую вел сам Бунин: «Пошли турецкие сады с темными кипарисами, белые минареты, облезлые черепицы крыш <…> Ян называет мне дворцы, мимо которых мы проходим, сады, посольство, кладбище <…> Он знает Константинополь не хуже Москвы...» [Там же: 304-305]. О посещении Афонского подворья жена поэта пишет 180 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 так: «Мы долго бродим вокруг мечетей по темным уличкам, мимо деревянных домов с выступами и решетчатыми окнами… потом попадаем на ухабистую площадь с тремя памятниками: это знаменитый Византийский ипподром. Белеет сквозь сумрак султанская мечеть Ахмедиэ со своими минаретами. Вокруг ветхость и запустение, что необыкновенно идет к Стамбулу» [Там же: 306]. В январе-феврале 1920 г. Иван и Вера Бунины вновь едут в Константинополь. Это было их последнее путешествие в Турцию, оно стало очень тяжелым, так как теперь через Босфор они навсегда покидали Россию. В дневнике В.Н. Муромцевой-Буниной есть такая запись: «31 января/12 февраля (пятница). На Константинополь смотрю безучастно. Ян в каюте, он даже не захотел взглянуть на столь любимый им город» [Цит. по: Бабореко 2009: 249]. События и впечатления этой последней поездки отразились в рассказе «Конец» (1921): «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что – я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России – конец, да и всему, всей моей прежней жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше?» [Бунин5 1965: 67]. Валентин Пруссаков назвал И.А. Бунина «главным "мусульманином" русской поэзии» [Пруссаков 2005]. Стихотворения о мире арабомусульманской культуры И.А. Бунин начинает создавать после первой поездки в Турцию. Именно с тех пор Турция и ислам стали для Бунина неотделимыми друг от друга источниками тем для лирики и прозы. Жена поэта вспоминала, что перед первой поездкой в Турцию в 1903 г. «он в первый раз целиком прочел Коран, который очаровал его, и ему хотелось непременно побывать в городе, завоеванном магометанами, полном исторических воспоминаний, сыгравшем такую роль в православной России, особенно в Московском царстве» [Муромцева-Бунина 1989: 219]. «Русский перевод Корана был для него одной из самых необходимых и постоянно читаемых книг. Установлено, что он всю жизнь возил его в дорожном чемоданчике (московское издание 1901 г., перевод А. Николаева). И все же восточные стихотворения поэта имели своим источником не только Священную книгу мусульман. Бунин, как известно, немало поездил по белу свету, и особенно его властно манили к себе исламские страны» [Пруссаков 2005]. Кроме того, Вера Николаевна обращает внимание на очень важные для нас детали: «Византия мало тронула в те дни Бунина, он не почувствовал ее, зато Ислам вошел глубоко в его душу» [Муромцева-Бунина 1989: 222]; «Я считаю, то пребывание в Константинополе в течение месяца было одним из самых важных, благотворных и поэтических событий в его духовной жизни. <…> он, наконец, обрел душевный покой, мог, не отвлекаясь повседневными заботами, развлечениями, встречами, даже творческой Раздел 2. Проблемы литературного диалога 181 работой, подумать о себе. Отдать себе отчет в том, как ему следует жить. <…> В Константинополе его поражала двойственность: величие, красота, богатство и – убожество, грязь, нищета» [Там же: 223]. По словам И. Таварацян, «для Бунина ислам не являлся узко культовым понятием: в истории народов, их религий, их прошлых и настоящих культур Бунин искал ответы на острые вопросы современности и пути преодоления мировоззренческих противоречий. Для этого он много раз путешествовал по странам Востока, из которых самыми плодотворными оказались три поездки: в 1903 г., в 1907 г. и в 1910-1911 гг.» [Таварацян 2007], в частности, посещение различных городов Турции (Константинополь, Скутари, Измир и др.), Египта, Сирии, Палестины и др. Путешествие 1907 г. послужило материалом к созданию цикла рассказов «Тень птицы» (1907-1911). В рассказе «Тень птицы» (1907) автор говорит: «Не знаю путешественника, не укорившего турок за то, что они оголили храм, лишили его изваяний, картин, мозаик. Но турецкая простота, нагота Софии возвращает меня к началу Ислама, рожденного в пустыне. И с первобытной простотой, босыми входят сюда молящиеся, – входят когда кому вздумается, ибо всегда и для всех открыты двери мечети. С древней доверчивостью, с поднятым к небу лицом и с поднятыми открытыми ладонями обращают они свои мольбы к Богу в этом светоносном и тихом храме» [Бунин3 1965: 328]. В стихотворении «Айя-София» (1903-1906) звучит похожая мысль: Светильники горели, непонятный Звучал язык, – великий шейх читал Святой Коран, – и купол необъятный В угрюмом мраке пропадал. <…> Все молчало В смиренной и священной тишине, И солнце ярко купол озаряло В непостижимой вышине [Бунин1 1965: 254]. В 1902-1909 гг. в издательстве «Знание» вышло первое собрание сочинений И.А. Бунина (структура книг определена самим писателем). В третьем томе «Стихотворенiя 1903 – 1906 г.» (СПб., 1906) отдельный раздел под названием «Исламъ» (С. 175-207) состоял из девятнадцати стихотворений, связанных с притчами и изречениями из Корана, с легендами арабского Востока: «Путеводные знаки» (1903-1906) «Пастухи» (1905) «Миражъ» (1903) «Черный камень» (1903-1905) «Мудрымъ» (1903-1906) «Зеленый стягъ» (1903-1906) 182 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «Священный прахъ» (1903-1906) «За измѣну» (1903-1905) «Авраамъ» (1903-1906) «Ночь Аль-Кадра» (1903) «Сатана – Богу» (1903-1906) «Джины» (1903-1906) «Зейнабъ» (1903-1906) «Склонъ горъ» (1903-1904) «Бѣлыя крылья» (1903-1906) «Гробница Сафiи» (1903-1905) «Тэмджидъ» (1905) «Птица» (1903-1906) «Тайна» (1905) В дальнейших изданиях эта последовательность не сохранилась, стихотворения подвергались неоднократным изменениям. При следующих переизданиях поэт все более решительно их сжимает, сокращает, отсекая строфы, изменяет или вовсе удаляет эпиграфы, меняет названия. В целом «турецкие» и «мусульманские» стихотворения, написанные Буниным в разные годы, могут составить целую книгу. Для И.А. Бунина в этих произведениях важен более всего смысл, основанный на реминисценциях из Корана, а также на отсылках на турецкую топонимику и культуру повседневности. Бунинские стихотворения турецко-мусульманской тематики отличаются от стихотворений на те же темы других русских поэтов, которых больше интересовал ориентализм, а не реальная жизнь Востока. У Бунина – реальный Восток и, более того, поэт через описание восточных реалий выражал свою собственную духовность. Литература Бабореко А.К. Бунин: Жизнеописание. М., 2009. Бунин И.А. Айя-София // Бунин И.А. Собр.соч.: в 9 т. Т. 1. М., 1965. Бунин И.А. Конец // Бунин И.А. Собр.соч.: в 9 т. Т. 5. М., 1965. Бунин И.А. Письма 1885–1904 годов. М., 2003. Бунин И.А. Сочинения. Т. 3: Стихотворенiя 1903–1906 г. Спб., 1906. Бунин И.А. Тень птицы // Бунин И.А. Собр.соч.: в 9 т. Т. 3. М., 1965. Муромцева-Бунина В.Н. Жизнь Бунина. Беседы с памятью. М., 1989. Пруссаков В. Иван Бунин – главный «мусульманин» русской поэзии // Литературная газета. 2005. 2-8 марта (№ 9 (6012)). Таварацян И. Зеленое знамя жизни: ислам в творчестве И.А. Бунина // Четки. 2007. № 1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-credo.ru/site/?act=lib&id=2244. Загл. с экрана. Дата обращения: 29.04.2011. Раздел 2. Проблемы литературного диалога 183 Е.Н. Жаднова (Саратов) Литературное урочище «Медный всадник» в творчестве писателей Серебряного века Научный руководитель – профессор И.Ю. Иванюшина Понятие «урочище» имеет множество словарных трактовок, которые в самом общем виде сводятся к следующему: «Урочище – местность, отличающаяся по каким-либо признакам от окружающего пространства» [Толковый словарь русского языка 1940: 982]. Этимологическое значение слова урочище – нечто уговоренное, условленное [Фасмер 1987: 164]. В. Даль дает определение, уводящее в сферу семиотики: «Живое урочище – всякий природный знак, мера, естественный межевой признак» [Даль 1980: 1064]. Опираясь на существующие толкования, мы будем понимать под урочищем локально значимое место, обладающее специфическими по отношению к окружающему пространству признаками, несущее символический смысл, знаковость. Урочище может быть природным, городским, литературным. А.М. Буровский в статье «Локусы Петербурга: Урочища в урочище» разделяет городские урочища по этническим, сословным, интеллектуальным и культурным признакам. Автор замечает, что между городскими урочищами нет четкой грани, переходы между ними проницаемы [Буровский]. Городские урочища обладают не только топографической данностью, они окутаны легендами, их образы запечатлены в литературе. В связи с этим возникает понятие «литературное урочище». Впервые оно было введено В.Н. Топоровым в работах «К понятию литературного урочища», «Аптекарский остров как городское урочище (общий взгляд)». Исследователь определяет литературное урочище как сложное соединение литературного и пространственного, «культурного» и «природного», предполагающее принципиальную многофункциональность. Литературное урочище, по словам В.Н. Топорова, это и описание реального пространства для «разыгрывания» поэтических образов, мотивов, сюжетов, тем, идей; это и место вдохновения поэта <…> место творчества и откровений <…> место, где поэзия и действительность вступают в разнородные, иногда фантастические синтезы, когда различение «поэтического» и «реального» становится почти невозможным…» [Топоров 2009: 502]. Литературное урочище – своеобразный маяк литературной памяти, творческий источник, из которого черпают свои сюжеты целые поколения авторов. История литературных урочищ Петербурга начинается с момента основания города. А.М. Буровский называет Санкт-Петербург громадным урочищем, внутри которого существует множество городских и литературных урочищ [Буровский]. Среди них исследователь выделяет Невский проспект, Дворцовую площадь, Адмиралтейство, Летний сад и другие. 184 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Одно из наиболее привлекательных для русской литературы урочищ Санкт-Петербурга – Сенатская площадь, старейшая из площадей города. Начало формирования площади – 1704 г. С этого времени площадное пространство расширялось и дополнялось новыми сооружениями. С южной стороны к Сенатской площади примыкает Исакиевский собор, с восточной – Адмиралтейство, здания Сената и Синода, с юго-восточной – Английская набережная. Центральным сооружением площади стал установленный в 1782 г. памятник Петру I. С момента основания площадь меняла название на Исаакиевскую, Петровскую, Площадь декабристов. С Сенатской площадью связаны многочисленные страницы русской литературы и истории. Произошедшее 14 декабря 1825 г. восстание декабристов стало трагической вехой в истории Петербурга и России в целом. Событие получило огромный резонанс в литературе XIX – XX вв. Однако более масштабным по поэтической значимости и востребованности стало литературное событие, связанное с центральным сооружением Сенатской площади – памятником Фальконе: в 1833 г. А.С. Пушкин завершил поэму «Медный всадник», послужившую началом Петербургского текста русской литературы. Медный всадник становится своего рода комплексным названием урочища Сенатская площадь. Как пишет В.В. Абашев, «историческая жизнь места (локуса) сопровождается непрерывным процессом символизации, результаты которой закрепляются в фольклоре, топонимике, исторических повествованиях…» [Абашев 2000: 5]. «Медный всадник» А.С. Пушкина – произведение, которое закрепилось в русской литературе и культуре, как символ Петербурга. Поэт поставил «вечные вопросы» русской жизни: о человеке и власти, природе и цивилизации, Востоке и Западе, он показал образ Петербурга, величественного и трагичного в своей умышленности. «Новая философско-историческая трактовка темы Петербурга <…> открыла перед русской литературой совершенно новые пути…» [Петрунина, Фриндлендер 1969: 206]. По словам Б.В. Томашевского, «о Петербурге писали и до Пушкина. Известна даже прямая зависимость начальных стихов поэмы от прозы Батюшкова. "Похвалу царствующему граду Санкт-Петербургу" писал ещё Тредиаковский. Но узаконил эту тему, конечно, Пушкин. Равно узаконил он тему Медного всадника, хотя и до него мы встречаем в литературе символизацию фальконетова памятника. В своей поэме Пушкин утвердил за художественными образами Петербурга и Медного всадника новое синтетическое значение» [Томашевский 1961: 409]. Медный всадник – это не просто художественное имя памятника Петру Великому, это сложная контаминация пространственного (Сенатская площадь с ее окрестностями), природного (гром-камень, на котором стоит памятник, Нева) и культурного (скульптура, легенды и мифы, связанные с ее оживлением). Раздел 2. Проблемы литературного диалога 185 Как утверждал Ю.М. Лотман, «в "Медном всаднике" столкновение образов-символов отнюдь не является аллегорией какого-либо однозначного смысла, а обозначает некоторое культурно-историческое уравнение, допускающее любую историко-смысловую подстановку, при которой сохраняется соотношение структурных позиций парадигмы…» [Лотман 1995: 297]. Огромный пласт текстов русской литературы в той или иной мере касается Медного всадника. Каждое литературное направление по-своему изображало урочище, выделяя то пространственный, то природный, то культурный план. Нас будет интересовать история литературного урочища «Медный всадник» в ее движении от символизма к ОБЭРИУ. Символисты сосредоточили внимание на символическом значении фигуры Петра I в российской истории. В. Брюсов в «Вариации, на тему Медного всадника» изобразил Сенатскую площадь, которую называет Петровой, как место встреч декабристов: «Вольнолюбивые мечты спешат признаньями меняться» [Брюсов 1980: 444]. Частично повторяя пушкинский сюжет, поэт сосредоточивает внимание на образе Петра Великого, воплощенного в памятнике. Петр становится первопричиной всех петербургских бед, «демоном», «виденьем призрачных сибилл». Здесь получает развитие тема пути Петровской России: верное ли историческое направление задал император? Что стало итогом петровских реформ? В. Брюсов подчеркивает неизбывное присутствие фигуры Петра в историческом времени Петербурга: «все тот же медный великан» [Там же], «неизменный, венчанный» [Там же]. И. Анненский, напротив, показывает фигуру Петра Великого как преходящую: «гигант на скале – завтра станет ребячьей забавой» [Анненский 1990: 186]. Петр не преобразователь, а разрушитель, его лавры «темные», обманные. Урочище предстает как место казни, смерти: «пустыни немых площадей, где казнили людей до рассвета» [Там же]. Совсем иначе представляет «гиганта на скале» А. Блок, который говорил о «Медном всаднике»: «Все мы находимся в вибрациях его меди…» [Блок 1965: 169]. Для поэта памятник – символ защиты города, а Петр – хранитель Петербурга: «Он будет город свой беречь и, заалев перед денницей, в руке простертой вспыхнет меч над затихающей столицей» [Блок 1960: 141]. Фигура Петра предстает двойственной, в нем добро и зло неразделимы: «Там, на скале, веселый царь взмахнул зловонное кадило!» [Там же]. «Кадило» – церковную утварь, источающую благовонный дым – А. Блок называет «зловонным», лишая его сакральности. В результате и царь предстает не помазанником Божием, а сеятелем зла. А. Белый в романе «Петербург» не просто обращается к описанию скульптуры императора, но и задает точные пространственные характеристики местонахождения памятника: «За мостом, на Исаакии <…> 186 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 простирал руку западный всадник» [Белый 1990: 70]. Поэт указывает на природную составляющую памятника, подобно тому, как Петербург возник на болоте – «из мути возникла скала» [Там же]. Следуя сюжету пушкинской поэмы, А. Белый использует прием оживления статуи. М. Эпштейн увидел в этом поэтическом приеме «сатанинский мотив». И действительно, поэт придает памятнику демонический оттенок: «Тень скрыла огромное Всадниково лицо» [Там же], «В темноту, в пустоту занеслись два передних копыта» [Там же]. Возникший из тьмы и пустоты, памятник стал олицетворением петровской государственной мощи, изменившей до неузнаваемости судьбу России: «С той чреватой поры, как примчался сюда металлический Всадник, как бросил коня на финляндский гранит, – надвое разделилась Россия; надвое разделились и судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа Россия» [Там же: 71]. А. Белый через пространственный и культурный пласт урочища уводит читателя к одной из центральных проблем самоопределения России – проблеме Востока и Запада, недаром поэт нарекает всадника «западным». Таким образом, символисты, продолжая литературную традицию «Медного всадника» А.С. Пушкина, актуализируют историософский план урочища. Через трансформацию образа Петра Великого обнажается круг проблем, связанный с завершающим этапом петербургского периода российской истории. В отличие от символистов, сосредоточившихся на мифе Петербурга, акмеисты обращаются жизни современного им города. Образы-символы Петербурга вытесняются реальными поэтически значимыми локусами. У А. Ахматовой: «Вновь Исакий в облаченье из литого серебра. Стынет в грозном нетерпенье конь великого Петра» [Ахматова 1990: 68]. Мы видим две доминанты урочища – Исакиевский собор и памятник Петру I. Причем статуя не оживает, но уже находится «в грозном нетерпенье», словно готовясь сорваться с постамента и вмешаться в судьбу города: «Ах! Своей столицей новой недоволен государь…» [Там же]. Аллюзии к «Медному всаднику» А.Пушкина встречаются и в позднем творчестве А.Ахматовой. Одно из самых значительных петербургских произведений А.Ахматовой – «Поэма без героя». Поэтесса дает подзаголовок первой части «триптиха» – «Петербургская повесть», что прямо отсылает нас к поэме А. Пушкина «Медный всадник». Как отмечает Л. Кихней, ахматовский подзаголовок обретает «парадигматическую функцию собирания разных мифов о Петербурге в единый метамиф, начиная от народных преданий о гибели Петербурга, кончая поэтическими мифами, созданными современниками Ахматовой – И.Анненским, А. Блоком, О. Мандельштамом» [Кихней, Шмидт]. В строках, посвященных Петербургу, А. Ахматова использует архаически высокую лексику, передающую дух города. Для поэта Петербург – неделимое целое. О. Мандельштам обращается к топографической составляющей Раздел 2. Проблемы литературного диалога 187 интересующего нас урочища, расширяя его пределы: «А над Невой – посольство полумира, Адмиралтейство…» [Мандельштам 1993: 81]. Центральное место урочища занимает уже не скульптура императора, а «вал сугроба», вытесняя символическое значение реальным. Для поэта «Медный всадник» не более, чем памятник: «И храма маленькое тело одушевленнее стократ гиганта, что скалою целой к земле беспомощно прижат!» [Там же: 101]. Происходит значимая замена доминанты урочища: храм, а не памятник, духовная власть, а не светская. В «Петербургских строфах» Мандельштам помещает героя пушкинской поэмы в условия современного города: «Самолюбивый, скромный пешеход – чудак Евгений – бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет!» [Там же: 81]. Это преемственность, но преемственность парадоксальная: «Евгений не просто продолжает свои скитания в мандельштамовском Петербурге – он "обезумел" "по-новому", и слово "чудак" говорит о труднопостигаемом, парадоксальном инобытии героя на новом витке петербургской истории. Классика не наследуется как родовая вотчина – в художественном мире Мандельштама она порой взрывается, как "пороховой погреб"» [Сурат 2009: 56]. Для О. Мандельштама в Петербургском тексте были важны прежде всего архитектурные образы, что отвечало представлениям поэта о сути акмеизма: «Акмеизм – для тех, кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Зодчий говорит: я строю – значит, я прав <...> "Мы не летаем, мы поднимаемся только на те башни, какие сами можем построить"» [Мандельштам 1987: 169]. Не удивительно, что строитель-Петр не вызывает у О. Мандельштама отторжения. Для акмеистов Петербург не был «сознаньем проклятой ошибки», город воспринимался как уникальная данность, вызывающая гордость, поэтому часто в произведениях акмеистов звучит тема причастности к судьбе города, сопровождающаяся апокалипсическими предчувствиями гибели культуры. В творчестве футуристов культурный пласт урочища «Медный всадник» трансформируется. Уже первые строки стихотворения В. Маяковского «Последняя Петербургская сказка» отсылают нас к претексту Пушкина: «Стоит император Петр Великий, думает: "Запирую на просторе я!" – а рядом под пьяные клики строится гостиница "Астория"» [Маяковский 1955: 1, 129]. Маяковский вводит новую доминанту урочища «Асторию», где и происходит дальнейшее действие. Центр урочища смещается с Сенатской площади к гостинице: «Завистью с гранита снят слез император. Трое медных слазят тихо, чтоб не спугнуть Сенат…» [Там же]. Происходит не просто оживление статуи, но и всех ее компонентов: оживает император, змей и конь, которые не только находятся в движении, но и участвуют в бытовой сцене: «Император, лошадь и змей неловко по 188 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 карточке спросили гренадин…» [Там же]. Движение статуи не кажется сверхъестественным, т.к. жанр сказки, выбранный поэтом, предполагает элементы фантастики. К тому же мотив ожившей статуи у Маяковского лишен всякой инфернальности и помещен в демонстративно бытовой, обыденный контекст. Пародируя А. Пушкина, В. Маяковский отнюдь не пренебрегает идейным содержанием поэмы. Как и А. Пушкин, он показывает Петербург в исторической перспективе: от замысла основать город до реальных результатов реализации этого замысла. Только суть «гениальной ошибки Петра» поэты видят по-разному. В «Медном всаднике» была поставлена проблема «маленького человека»: бедный Евгений преследовался всадником – символом государственной мощи. У В. Маяковского сам император становится «маленьким человеком» – «узником, закованным в собственном городе» [Там же]. Он – жертва людской пошлости, способной загубить любую гениальную идею. Это уже не грозный властитель, кумир на бронзовом коне, а стыдливый неудачливый правитель, убегающий от позора вместе с лошадью и змеей. Р.Г. Назиров в статье «Сюжет об ожившей статуе» считает, что «Последняя петербургская сказка» – «это не просто пародия на поэму Пушкина, а сатира на деляческую суету и буржуазный снобизм невской столицы» [Назиров 1991: 34]. В то же время, исследователь полагает, что в стихотворении можно увидеть «горькоироническое закрытие всей традиции» пушкинского сюжета, недаром В. Маяковский нарекает стихотворение «Последней петербургской сказкой». Еще большей культурной трансформации подвергает рассматриваемое урочище В. Хлебников в поэме «Журавль». Пушкинский сюжет здесь едва узнаваем: «Но что же? Скачет вдоль реки, в каком-то вихре, железный, кисти руки подобный, крюк, стоя над волнами, когда они стихли, он походил на подарок на память костяку рук!» [Хлебников 1986: 189]. Кубистическое описание отдаленно напоминает ожившую статую Петра Великого. Картину оживления памятника Хлебников рисует с помощью элементов футуристической поэтики: фигура всадника предстает мозаичной, словно собранной из деталей большого механизма. Перед нами современный мир, хаотичный, машинный, и от этого еще более трагичный. Велимир Хлебников наделяет Петра демоническими свойствами, перед которыми «человечество и все иное лишь пустяк» [Там же]. Статуя не просто оживает, но и становится опасной для людей: «Из желез и меди над городом восстал, грозя» [Там же]. Если в пушкинском сюжете памятник грозил смертью одному человеку – бедному Евгению, то здесь под угрозой оказывается все человечество. Медный всадник становится всадником Апокалипсиса. Переосмысляя центральный петербургский миф, получивший законченное художественное воплощение в поэме А.Пушкина, футуристы предлагают свою, современную трактовку традиционных эсхатологических Раздел 2. Проблемы литературного диалога 189 мотивов. Победа стихии над культурой видится им сквозь призму революционных событий, где революция выступает в роли уничтожающей стихии, разрушительной и в то же время созидательной, обновляющей мировой порядок. Обэриуты, продолжая пушкинскую традицию, обращаются к литературной памяти урочища, наполняя страницы Петербургского текста русской литературы новыми коннотациями. В произведениях Н. Заболоцкого встречаются прямые аллюзии к поэме А. Пушкина. Так, в стихотворении «Детство Лутони» поэт обращается к облику ожившего монумента. Захарка схож с образом Медного всадника: «Кто тут ходит весь чугунный, Кто тут бродит возле нас? Велики его ладони, тяжелы его шаги» [Заболоцкий 1983: 404]. Привлекает внимание материал, из которого изготовлен памятник. Вслед за Маяковским («Пятый Интернационал») Заболоцкий называет памятник чугунным, хотя на самом деле монумент был изготовлен из бронзы. Поэты избирают в качестве материала чугун, придавая образу Медного всадника большую тяжеловесность и грубость. Звук чугунных речей («Загрохотали – чугуннобуково ядра выпадающих пудовых словес…» [Маяковский 1957: 4, 306]) и чугунных шагов («тяжелы его шаги» [Заболоцкий 1983: 404]) призван передать впечатление от нечеловеческого давления власти. Н. Заболоцкий добавляет к звуковой палитре стихотворения трагический фон: «люди воют, дети плачут, царь танцует, как дитя» [Там же]. В результате возникает безумный и демонический образ правителя, держащего в страхе весь город. В позднем творчестве Н. Заболоцкий вновь возвращается к теме Медного всадника. В новых исторических обстоятельствах, связанных с переименованием Петербурга в Ленинград, меняется образ кумира: Петра I заменяет Ленин: «И Ленин смотрит в глубь седых степей, и думою чело его объято…» [Там же: 408]. Петербургская история начинается заново, актуализируя мотив пограничья города, выражающегося в двойной топонимике Петербурга – Ленинграда. В творчестве Д. Хармса сюжет «Медного всадника» А. Пушкина преломляется в «Комедии города Петербурга». Слова Петра I, «великого царя»: «Тогда я город выстроил на Финском побережье, сказал столица будет тут» [Хармс 1997: 191] – демонстративно отсылают нас к строкам поэмы: «Здесь будет город заложен». Проблема «маленького человека» у Хармса реализуется иначе, чем у Пушкина: «маленьким человеком» становится Николай II – последний русский царь: «Брожу ли я у храма ль у дворца ль/ мне все мерещится скакун на камне диком!/ Ты Петр памятник бесчувственный ты царь!!!» [Там же: 192]. У А. Пушкина империя несет гибель отдельному человеку, у Д. Хармса – погибает сама. В «Медном всаднике» грозившая городу разбушевавшаяся водная стихия отступает: «в порядок прежний всё вошло». В «Комедии города Петербурга» столица, 190 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 символ имперской России исчезает: «О Петр где твоя Россия? Где город твой, где бледный Петербург?» [Там же: 194], а на смену ему приходит чтото среднее между Ленинградом и Петербургом – Летербург – город мертвых. Д. Хармс воссоздает пушкинский сюжет, адаптируя его для переломного момента петербургской истории – переименования Петербурга в Ленинград. Образ Петра, воплощенный в произведениях с помощью приема оживления статуи – ядро литературного урочища Медный всадник. Пушкинская поэма, как неиссякаемый источник, питает многие поколения авторов своими идеями, образами, мотивами. Диапазон интерпретаций определяется тем, как отдельный автор трактует петербургскую идею. История литературного урочища Медный всадник многопланова и одновременно целостна. Единство истории создает личность Петра Великого. Поэты Серебряного века чувствовали близость своей эпохи к Петровской, революционной, противоречивой, переходной. Сквозь призму петербургской истории, писатели пытались взглянуть на свое настоящее, требующее ответов на вопросы времени. Литературное урочище Медный всадник является сложным переплетением множества разнородных петербургских кодов, дискурсов и голосов. История урочища в литературе Серебряного века наглядно показывает, как накладывается отпечаток литературной школы на восприятие урочища, его художественное воплощение, как аксиология писателя меняет доминанты урочища, выдвигая пространственный, культурный или природный пласт на первый план. Литература Абашев В. Пермь как текст. Пермь в русской культуре и литературе XX в. Пермь, 2000. Анненский И. Стихотворения и трагедии. Л., 1990. Ахматова А. Сочинения: в 2 т. Т. 1. М., 1990. Белый А. Сочинения: в 2 т. Т. 2. М., 1990. Блок А. Записные книжки 1901-1920. М., 1965. Блок А. Собр. соч.: в 8 т. Т. 2. М.; Л., 1960. Брюсов В. Избранные сочинения. М., 1980. Буровский А. Локусы Петербурга [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.lihachev.ru/pic/site/files/lihcht/2008/07_sek_7/11_burovskij.pdf. Загл. с экрана. Дата обращения: 27.01.2012. Вагинов К. Козлиная песнь. Романы. Стихотворения и поэмы. М., 2008. Даль В. Толковый словарь великорусского языка: в 4 т. Т. 4. М., 1980. Заболоцкий Н. Собр. соч.: в 3 т. Т. 1. М., 1983. Кихней Л., Шмидт Н. Городской текст поздней Ахматовой как завершение петербургского мифа [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.akhmatova.org/readings/krym/sbornik_6/kihnej_shmidt2.htm. Загл. с экрана. Дата обращения: 27.01.2012. Лотман Ю. Замысел стихотворения о последнем дне Помпеи // Лотман Ю.М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки. 1960-1990. "Евгений Онегин": Комментарий. СПб., 1995. Мандельштам О. Собр. соч.: в 4 т. Т. 1. М., 1993. Мандельштам О. Утро Акмеизма // Мандельштам О. Слово и культура. М., 1987. Раздел 2. Проблемы литературного диалога 191 Маяковский В. Собр. соч.: в 13 т. Т. 1, 4. М., 1955, 1957. Назиров Р. Сюжет об ожившей статуе // Фольклор народов России. Фольклор и литература. Общее и особенное в фольклоре разных народов. Межвузовский научный сборник. Уфа, 1991. Петрунина Н., Фридлендер Г. Пушкин: Исследования и материалы: в 17 т. Т. 6. Л., 1969. Пушкин А. Полн. собр. соч.: в 10 т. Т. 4. М., 1963. Ремизов А. Крестовые сестры. М., 1989. Сурат И.З. Поэт и город. Петербургский сюжет Мандельштама // Сурат И.З. Мандельштам и Пушкин. М., 2009. Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 4. М., 1940. Томашевский Б. Пушкин: в 2 кн. Кн. 2. М.; Л., 1961. Топоров В. Аптекарский остров как городское урочище // Топоров В.Н. Петербургский текст. М., 2009. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 4. М., 1987. Хармс Д. Полное собрание сочинений: в 4 т. Т.2. СПб., 1997. Хлебников В. Творения. М., 1986. Е.Н. Котелкова (Саратов) Викторианские реминисценции в романе Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» Научный руководитель – доцент И.В. Кабанова Творчеству английского писателя Джона Фаулза посвящена обширная критическая литература, в которой преобладает мнение о Фаулзе как о постмодернисте. В произведениях писателя присутствуют экспериментальные формы, которые характерны для постмодернизма – интертекстуальность, ирония, игра с читателем, литературная саморефлексия. Эти черты ярко проявляются в ключевом романе Фаулза «Женщина французского лейтенанта» (1969), в котором ведущие английские и американские критики сразу отметили необычную многоплановость повествования, прочную связь с литературной традицией, глубокий философский подтекст [Тимофеев 1990: 133]. Для начала – несколько слов о сюжете произведения. Действие разворачивается в приморском городке на юго-западе Англии в 1867 г. Основу сюжета составляет история любви образцового викторианского джентльмена Чарльза Смитсона и бывшей гувернантки Сары Вудраф, которую в городе считают падшей женщиной, некогда соблазненной и брошенной французским лейтенантом. Но в действительности героиня сознательно оговаривает себя и становится отверженной, бросая вызов нормам викторианской эпохи и утверждая свое право на свободу в жизни и любви. Из-за любви к Саре Чарльз порывает с невестой, благопристойной викторианской барышней Эрнестиной, и сам становится изгоем в обществе, но в тоже время начинает постепенно освобождаться от его условностей и предрассудков, обретать свободу. Сара до 192 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 конца остается загадкой для Чарльза и для читателя, в финале романа она отказывается от счастливого брака и находит свое место в среде художниковпрерафаэлитов, а Чарльз в одиночку продолжает свой путь к становлению и достижению внутренней свободы. В критике по мере становления подхода «нового историзма» и формирования концепции постмодернизма на продолжении 1970-90-х гг. стали рассматривать «Женщину французского лейтенанта» как новую, постмодернистскую модель английского исторического романа. В постмодернистском представлении история сближается с литературой, предстает в качестве нарратива, одного из множества возможных рассказов о прошлом. Одни и те же исторические события могут иметь множество различных интерпретаций, меняющихся в зависимости от рассказчиков, которые излагают эти события, от поколений, которые их осмысливают. Многие британские постмодернисты – П. Акройд, А. Байетт, Д. Лодж – часто обращаются к викторианской эпохе – «золотому веку», с которым связаны представления о мировом господстве Великобритании, социальной стабильности, великих научных открытиях и блестящих образцах английской литературы. Они стремятся одновременно реконструировать и деконструировать викторианский роман, пересмотреть и переосмыслить свое отношение к эпохе и ее литературной традиции [Толстых 2003: 12]. Викторианский интертекст реализуется в этих романах посредством стандартных приемов: стилизаций, пародий, реминисценций. Нашим предметом исследования будут реминисценции. Реминисценции, по определению В.Е. Хализева, это – «присутствующие в художественных текстах «отсылки» к предшествующим литературным фактам; отдельным произведениям или их группам, напоминания о них, … образы литературы в литературе» [Хализев 1999: 236]. «Женщина французского лейтенанта» дает образец игры викторианскими реминисценциями для создания колорита эпохи; большинство содержащихся в романе литературных параллелей, скрытых и явных цитат на уровне сюжетных ситуаций, отдельных персонажей, авторской позиции уже выявлены критиками романа, писавшими об отношении Фаулза к Джейн Остен, Диккенсу и Теккерею. Однако нет работ, специально посвященных такому виду явных реминисценций, как эпиграфы в романе. Они и станут предметом нашего анализа. Эпиграфы – очень частый, но необязательный компонент викторианского романа. В целом в литературе ХХ в. наличие эпиграфов к главам произведения как бы отсылает читателя к традиции классического романа, где главам, помимо эпиграфов, могло предшествовать краткое изложение содержания главы. Эпиграф – мощное средство структуризации, упорядочивания текста, средство направить читательское восприятие в нужное автору русло. «Женщина французского лейтенанта» состоит из шестидесяти одной короткой главы, причем в ней неравномерно чередуются главы сюжетные и Раздел 2. Проблемы литературного диалога 193 эссеистические. Семнадцати главам романа предпосланы одновременно два эпиграфа. Фаулз комбинирует эпиграфы, заимствованные из широкого круга английских писателей и поэтов XIX в. с эпиграфами из викторианских документов, газетной рекламы, из всех основных трудов Карла Маркса, из Дарвина, из кардинала Ньюмена, из работ современных историков, и не только викторианства, вплоть до книг об убийстве президента Кеннеди и работ об устройстве Вселенной. Столкновение в этих эпиграфах разнородного и разностилевого материала обеспечивает читателю возможность по крайней мире двойственного прочтения текста, такие комбинированные эпиграфы становятся способом, которым автор придает тексту многозначность. Остальным главам предпосланы традиционные единичные эпиграфы. В них могут стоять строки из фольклорных песен, приблизительно сходный круг документальных источников, но в подавляющем своем большинстве это эпиграфы, заимствованные из викторианской поэзии. Круг поэтов, из которых взяты эпиграфы, точно отражает прежде всего литературные вкусы Фаулза и в меньшей степени – викторианскую поэтическую иерархию. Чаще всего фигурируют эпиграфы из Теннисона, самого признанного, обласканного и самого трагического поэта эпохи – всего 19 эпиграфов, причем все они взяты всего из двух его поэм – «Мод» (11 эпиграфов) и «In Memoriam» (7 эпиграфов). Почти в два раза реже цитируются Артур Хью Клаф и Мэтью Арнольд (по 10 эпиграфов из каждого), на следующем месте – ранняя поэзия Томаса Харди (7 эпиграфов). Кроме того, три прозаических эпиграфов взяты из романа Д. Остен «Доводы рассудка», два – из разных произведений Л.Кэррола, один поэтический – из К.Нортон. Нам хотелось бы подробнее остановиться на стихотворных эпиграфах. Некоторые из них поданы с иронией, которая отражает господство ханжества и лицемерия в обществе: цитаты из религиозных стихотворений, восхваляющие мораль и благочестие, предваряют главы, рассказывающие о том, как эти принципы выполнялись на деле «благопристойными» героями романа – Эрнестиной и, в особенности, миссис Поултни – деспотичной вдовой, у которой служит Сара. Например, отрывок из произведения религиозно-нравственного содержания – поэмы Каролины Нортон «Хозяйка замка Лагарэ» – «бестселлера 1860-х гг.» [Фаулз 1990: 122. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках], по выражению Фаулза, подается в начале главы, повествующей о «благочестивой» миссис Поултни, одержимой идеей спасения своей души. Блаженны те, кто совершить успел На этом свете много добрых дел; И пусть их души в вечность отлетели – Им там зачтутся их благие цели [35]. Эти пафосные строки воспевают основные ценности эпохи: 194 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 добродетельную жизнь и райское блаженство как награду за нее. Далее в главе иронически раскрывается истинная сущность этих идеалов: стремление к нравственности оборачивается лицемерием и тиранией по отношению к другим людям, а забота о душе перерастает в настоящую манию. Все эти качества находят отражение в гротескном образе миссис Поултни. При описании ее викторианских «добродетелей» Фаулз часто использует финансовые и юридические термины: в этом рациональном мире, где правят условности, добрые дела являются своего рода сделкой с небесами, выгодным вложение капитала. «Миссис Поултни… все чаще мучительно обдумывала жуткую математическую задачу: как господь подсчитывает благотворительность – по тому, сколько человек пожертвовал, или по тому, сколько он мог бы пожертвовать?» [39], «…миссис Поултни видела, как на ее текущий счет в небесах записывают мелом соответственное число спасенных душ» [75]. Само произведение Каролины Нортон «Хозяйка замка Лагарэ» также упоминается в тексте; Фаулз рассказывает о его авторе, поэтессе, жизнь которой во многом отличалась от воспетых в ее стихотворениях идеалов: она была возлюбленной высокопоставленного человека и, кроме того, «пламенной феминисткой и вольнодумкой» [123]. Такое противоречие между идеалами и реальной жизнью отражает двойственность викторианского мышления, а также разрушает стандартное представление о викторианцах как о скучных рабах благопристойности и морали, делает их более близкими и понятными, более человечными в глазах читателя ХХ в. Большой интерес представляют эпиграфы из поэмы лорда Альфреда Теннисона «In Memoriam» (1850). Это произведение, проникнутое чувством одиночества и скорби от потери близкого друга поэта, призывает помнить о смерти и о том ответе за свою жизнь, который человеку придется держать пред Богом. …И смогут избранные те, Достигнув смертного предела, Поправ ногой земное тело, Подняться к высшей правоте [355]. Такие эпиграфы в «Женщине французского лейтенанта» часто предваряют авторские размышления о мировоззрении викторианцев, роли христианской религии в их жизни. Обращение к самой глубокой лирической поэме эпохи способствуют раскрытию трагедии викторианского человека, разрывающегося между земными и духовными стремлениями, желанием жить и любить и постоянными мыслями о раскаянии, смерти и будущем божественном суде. Подобные мысли преследуют и «викторианского» героя Чарльза, несмотря на его передовые взгляды. Постепенное освобождение от них приводит его к осмыслению истинной сущности христианства, которая, с точки зрения Фаулза, заключается в изменении и улучшении этого мира. Раздел 2. Проблемы литературного диалога 195 «…постараться изменить мир, во имя которого Спаситель принял смерть на кресте; сделать так, чтобы он смог предстать всем живущим на земле людям, мужчинам и женщинам, не с искаженным предсмертной мукой лицом, а с умиротворенной улыбкой, торжествуя вместе с ними победу, совершенную ими и совершившуюся в них самих» [366]. Тема одиночества, тоски, разочарования в любви раскрывается во многих стихотворных эпиграфах к главам романа; их печаль и лиризм контрастируют с общим ироническим тоном повествования. Многие из таких эпиграфов предваряют именно те главы, в которых появляется Сара или что-то рассказывается о ней. Например, первая глава открывается строчкой из стихотворения «Загадка» (1917) Томаса Харди. Глядя в пенную воду, Заворожено, одна, Дни напролет у моря Молча стояла она, В погоду и в непогоду, С вечной печалью во взоре, Словно найти свободу Чаяла в синем просторе, Морю навеки верна [3]. Мотивы загадочности, одиночества, изгойства постоянно сопутствуют героине, и в то же время они связаны с теми ключевыми вопросами, которые постепенно постигает «викторианский» герой Чарльз в процессе своего становления: человек, отстаивающий свою внутреннюю свободу, неизбежно оказывается в одиночестве, страдает от непонимания окружающих, разочаровывается в мире и в своих прежних идеалах. Любовные стихотворения викторианских поэтов, фигурирующие в качестве эпиграфов к главам романа, говорят в основном о трагической любви, невозможности полного счастья; в некоторых из них присутствует намек на чувственную любовь, завуалированный и скрытый, как и положено в викторианскую эпоху, но все же ощутимый. Многие эпиграфы отражают трагическое противоречие между плотской и «идеальной» любовью в сознании викторианцев, как это сказано, например, в этой строке из Теннисона: Беги, оставь в лесной тиши Хмельной угар, сатиров блуд; Восстань, освободись от пут – И зверя в чреслах задуши [314]. Эта тема вызывает пристальный интерес Фаулза; в его романе любовь представляет собой не бестелесный идеал, а гармоничное сочетание духовного и физического влечения. Понимая, что для викторианских писателей было невозможно говорить о любви во всей ее полноте, автор восхищается теми из них, кому удавалось, несмотря на условности и запреты эпохи, выражать в своих произведениях глубокие и страстные чувства, 196 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 чувства живых людей из плоти и крови. Налагаемые запреты с одной стороны ограничивали писателей, но с другой – способствовали творческому поиску, представляли любовь тайной, которую великие поэты могли лишь слегка приоткрыть, как, например, в этом четверостишии Клафа: Тебя, любовь моя, сокрыть хочу от света; О знанье тайное – дороже нет секрета! Пусть то, что связывает нас, Ничей чужой не видит глаз [251]. Таким образом, в числе других реминисценций Фаулз в своем постмодернистском романе «Женщина французского лейтенанта» использует такую конвенцию романа XIX в., как эпиграф, для воссоздания формы викторианского романа. Круг проанализированных источников, откуда автор заимствует эпиграфы, выдает его личные вкусы и глубокое знание викторианской поэзии. Функция эпиграфов – с одной стороны, традиционная – сформулировать главную тему, излюбленную авторскую мысль главы, с другой стороны, викторианские эпиграфы в применении к викторианству дают иронический эффект, эффект деконструкции, сходный с общей авторской стратегией на обнажение механизмов викторианского романа в «Женщине французского лейтенанта». Литература Fowles J. The French Lieutenant’s Woman. London, 2004. Palmer W. The Fiction of John Fowles: Tradition, Art, and the Loneliness of Selfhood. University of Missouri Press, 1974. Ильин И.П. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996. Мостобай Т.Ф. «Женщина французского лейтенанта» Дж. Фаулза как первый английский историографический метароман // Вестник Полоцкого гос. ун-та. Сер. А. Гуманитарные науки. 2010. №1. Райнеке Ю.С. Исторический роман постмодернизма и традиции жанра (Великобритания, Германия, Австрия). Дис. канд. филолог. наук. М., 2002. Саруханян А.П., Свердлов М.И. Английская литература от XIX в. к XX, от XX к XIX: проблема взаимодействия литературных эпох. М., 2009. Тимофеев В.Г. О том, как читатель входит в мир романа Дж. Фаулза «Подруга французского лейтенанта» (К проблеме «художественный мир») // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1990. Вып. 898. Толстых О.А. Английский постмодернистский роман конца XX в. и викторианская литература: интертекстуальный диалог: на материале романов А.С. Байетт и Д. Лоджа. Автореф. дисс. к. филол. наук. Екатеринбург, 2003. Фаулз Дж. Подруга французского лейтенанта / пер. с англ. М. Беккер и И. Комаровой. М., 1990. Хализев В.Е. Теория литературы. М., 1999. Раздел 2. Проблемы литературного диалога 197 П.Г. Елистратова (Саратов) Подтекст пьес А. Арбузова как продолжение традиции А.П. Чехова и реализация его на сцене Научный руководитель – профессор М.Б. Борисова В предстоящей статье речь пойдет об особенностях диалогической природе драматургического текста, а именно о подтексте, который представляет собой фиктивную реальность, так или иначе отражающую один из «возможных» миров в предлагаемых обстоятельствах. В фокусе внимания находятся способы реализации подтекста драматургии Арбузова, для которых характерно особое понимание театральной сущности и реализация подтекста на сцене. В изученных определениях текста прежде всего подчеркивается, что текст – это структурированное единство, что оно членимо, то есть состоит из определенных единиц, и что в соответствии с целями коммуникации эти единицы служат для передачи законченного содержания. Выделяются такие категории текста, как членимость, связность, антропоцентричность, локально-темпоральная отнесенность, ретроспекция, проспекция, гетерогенная многоканальная информативность, системность, целостность, модальность, а для художественных текстов – концептуальность (работы И.Р. Гальперина, И.В. Арнольд, В.А. Кухаренко, Е.В. Шелестюк) и других исследователей). Текст обладает структурно-семантическим, композиционно-стилистическим и функционально-прагматическим единством, выполняет коммуникативную функцию, может быть письменным и устным. Ведущей текстовой категорией является информативность, а для понимания текста необходимы как сведения, содержащиеся непосредственно в тексте, так и фоновые и иные знания. Подтекст неразрывно связан с композицией текста, сюжетом произведения, так как он представляет собой макроконтекстуальное явление. Проблема подтекста связана с проблемой композиционного оформления произведения и требует выявления сильных позиций текста: заглавие, начало и конец текста. Заглавие направляет интерпретатора по пути декодирования имплицитной информации. Сегменты, которые в наибольшей степени нагружены подтекстом, связаны с заглавием и между собой прежде всего путем лексического повтора. Таким образом, подтекст служит для обеспечения целостности текста, то есть является системой связи между отдельными его фрагментами. Основными функциями подтекста являются коммуникативная и суггестивная, а также функция обеспечения целостности дискурса (текстоорганизующая), ведь подтекст является основой смыслообразования, устанавливающей связь между содержанием и смыслом. Подтекст сходен с импликацией: в понимании, например, И.В. Арнольд, разграничение между ними проводится только на основании критерия масштабности (соотнесенность подтекста с целым 198 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 произведением, а импликации – с отдельным эпизодом). Объединяет же эти два явления их способность обеспечивать приращение смысла единиц высказывания, что является их наиболее значимой характеристикой. В связи с этим в данной работе не проводится разграничения терминов подтекст, импликация и имплицитная информация, а утверждается, что в смысловой структуре текста присутствуют микроподтексты и макроподтекст, взаимодействующие между собой и взаимообуславливающие друг друга. Подтекст необходимо отличать от пресуппозиции (логического условия истинности высказывания), импликационала (понятия лексической семантики), смыслового эллипсиса (однозначно восстанавливаемого элемента высказывания). Отдельно рассматривается понятие подводного течения, относящееся к сценическому тексту и определяющее особенности театральной речи. Подтекст имеет материальную основу, а повтор часто выступает средством его создания. Вместе с тем неверно было бы называть подтекст повтором или отождествлять их: повтор – это лишь одно из средств создания подтекста, а не его суть. В литературе перечисляется множество средств создания подтекста, разнообразных по форме и по содержанию: неологизмы, устаревшие слова, варваризмы, лексический повтор, противопоставление, нестандартное инициальное употребление языковых единиц (определенного артикля, личных и указательных местоимений), специфическая организация диалога, имплицирующая деталь, композиционные приемы (связь сильных позиций текста посредством смысловой константы, разные виды рамок, повторы ситуаций, создание лейтмотивов), стилистические приемы, прием обманутого ожидания, парцелляция, инверсия, ритмизация прозы, со положение несовместимых или избыточных лингвистических единиц, аллюзии и так далее [Блохинская 2008; Борисова 2008; Большакова 2008; Брудный 2008; Голякова 2006; Муравьева 2005; Муратов 2001]. С драматической точки зрения большинство пьес Арбузова – хроники, обладающие свойственной этой форме историчностью и вместе с тем страдающие, как мы увидим, всеми характерными для нее недостатками. Жизнь молодых арбузовских героев овеяна и романтикой странствий. И это верно отражает биографические черты поколения первооткрывателей и первосозидателей. Художественные особенности арбузовских пьес, их романтический колорит, их хроникальное построение не случайны и определены главной проблемой, занимающей Арбузова как писателя. Взаимоотношения и диалоги действующих лиц строятся на подтексте, эмоциональном смысле, который неадекватен тексту. Казалось бы, простые и незамысловатые реплики на самом деле выстроены в сложную стилистическую систему тропов, инверсий, риторических вопросов, повторов и т.д. Подтекст – тот комплекс мыслей и чувств, который скрыт под словами текста. Средствами обнажения Подтекст могут быть Раздел 2. Проблемы литературного диалога 199 намекающие реплики (нередко повторяющиеся как лейтмотив), различные качества звучания речи (интонация, пауза и т.д.), свидетельствующие о «подводном» течении действия. Лейтмотив тоже своего рода выражение подтекста, так как он обрастает ассоциациями и обретает особую идейную, психологическую или символическую углублённость. Время является одним из героев пьес «Мой бедный Марат» и «Счастливые дни несчастливого человека». Поскольку главные герои пьес Арбузова проходят свой путь, подчиняясь голосу своей природы, то у времени в его пьесах особая функция: оно не подчиняет героев и не формирует их, оно как бы встречается с ними как действующее лицо, и от этой встречи определенным образом зависит последующая жизнь персонажа – не целиком и полностью (природа всегда берет свое), но зависит. Детали, реалии быта существовали как приметы времени, а не как обстоятельства, влияющие на жизнь героев. Итак, правда Арбузова – в общечеловеческих натуральных характерах. Литература Блохинская Л.О. К проблеме моделированного подтекста // Вестник СамГУ. 2008. Борисова М.Б. Типы подтекста в жанре драмы.// Вестник литературного института им. А.М. Горького. 2008. № 2. Большакова Л.С. О содержании понятия «поликодовый текст» // Вестник СамГУ. 2008. Брудный А.А. Подтекст и элементы внетекстовых знаковых структур // Смысловое восприятие речевого сообщения (в условиях массовой коммуникации). М., 1976. Голякова Л.А. Онтология подтекста и его объективация в художественном произведении: автореф. дис. … д. филол. н. Пермь, 2006. Муравьева Н.В. Подводное течение подтекста // Русская речь. 2005. № 5. Муратов А.Б. О «подводном течении» и «психологическом подтексте» в пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2: История, языкознание, литературоведение. 2001. Вып. 4. П.С. Артемьева (Саратов) Полифонические особенности пьесы D.H. Hwang «M. Butterfly» Научный руководитель – доцент И.А. Банникова Музыка и слово, обращённые друг к другу, образуют поле взаимного притяжения, порождающего два мощных течения понятий и образов: от слова к музыке и от музыки к слову. А. Махов (2005) В современном постмодернистском мире, когда классические виды и жанры искусства претерпевают всевозможные трансформации, наиболее актуальным представляется рассмотрение особенностей переплетения мира художественного произведения и музыки с позиции полифонического звучания музыкальной и литературно-художественной реальности. 200 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Понятие полифонии ввёл в науку о литературе М.М. Бахтин. «Только то, что может быть осмысленно дано одновременно, что может быть осмысленно связанно между собой в едином времени – только то существенно и входит в мир…» [Бахтин 1979: 34]. Согласно Г.Л. Головинскому, «Полифония – одновременное звучание нескольких мелодий» [Головинский 1975: 99]. Многие века музыка была лишь составной частью театрального действия, ритуального обряда или пышного празднества. Человек, создавая музыку, вкладывает в неё свои чувства и помыслы, воспринимая же её, человек находит в музыке отзвук на всё то, что его трогает и волнует. Душевный мир, мир чувств, а порой и чувственных ощущений становится в ней основным «предметом» отражения. «В основе оперы «Чио-Чио-сан»/«Мадам Баттерфляй» лежит новелла американского писателя Джона Л. Лонга, переработанная Д. Беласко в драму» [Абрамовский 1970: 185]. Увидев пьесу во время своего пребывания в Лондоне, Пуччини был взволнован её жизненной правдивостью, так появилась опера. Таким образом, мы видим, что вначале была проза, т.е. новелла, из новеллы родилась драма, следующее превращение – это опера, в её воплощение композитору удалось не только сохранить, но и углубить содержание литературного первоисточника, а под влиянием этого шедевра Пуччини появилась пьеса Д. Г. Хвана «М. Баттерфляй». В основе данной работы лежит анализ пьесы Д.Г. Хвана, опирающийся на словесное воплощение пьесы в постановочном варианте. В авторских ссылках упомянуто то, какая музыка должна звучать при сценической постановке произведения. Музыкальное произведение вводится в пьесу через музыкальные аллюзии, данные автором в ремарках с точным указанием на соответствующую тему оперы. Рождающиеся музыкальные ассоциации углубляют психологический план содержания пьесы. В данной статье мы сосредоточимся на отношении главного героя Галлимара к происходящим событиям, попытаемся рассмотреть сюжет сквозь призму его восприятия и чувства. Пьеса «M. Butterfly» Д. Г. Хвана открывается аккордами отрывков оперы «Чио-Чио-сан»/ «Мадам Баттерфляй», ударный звон музыки востока которых плавно растворяется в нотах западного мотива и этот флёр слегка рассыпаясь делает видным главного героя Рене Галлимара. Буквально с первых строк начинают накладываться друг на друга два вида реальности «литературно-художественная реальность» (Лотман Ю. Структура художественного текста) и «музыкальная реальность» (Голубева Н.А. Человек и музыкальная реальность в философии). Сцена – тюремная камера, где по законам логики не возможно увидеть танцующую в традиционном китайском одеянии Сонг – «Баттерфляй», но сами звуки оперы и тихие, зовущие, полные мечты, которым так и не будет суждено сбыться, слова Рене «Butterfly, Butterfly…» [Hwang 1988: 7. Далее Раздел 2. Проблемы литературного диалога 201 цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках] конструируют этот образ в нашем сознании. Образ вышедший на звуках музыки и сливший две реальности воедино. Своё восхищение оперой Пуччини, оперой, которая «that is now beloved throughout the Western world» [10] – «сейчас любима в западном мире» (Здесь и далее перевод осуществлен мной. – П.А.), главный герой не пытается скрыть, он знакомит нас с ней, выделяя тронувшие его до глубины души фрагменты. Но говорит ли он сам… нет… сцену наполняет музыка оперы того самого момента: разговора Пинкертона с Шарплесом и вновь начинают вырисовываться образы и герои, словно вырываясь из канвы музыки, незримое присутствие их чувствуется зрителем и читателем, и, казалось бы, не подхвати Галлимар слов Пинкертона, Пинкертон сам бы кристаллизовался в сознание читателя, и, тем самым, музыкальная реальность, подхватив мотив, повлекла бы за собой, перекрывая литературно-художественную реальность. И, как соединились в одновременном звучании мелодии разных историй, так соединились в едином смысловом пространстве и образы, и на какое-то мгновение мы видим, что Галлимар – это Пинкертон, а Марк – Шарплес. И лишь словами «We now return to my version of Madame Butterfly» [13] – «Мы сейчас возвращаемся к моей версии Мадам Баттерфляй» Галлимар отталкивает ноты музыки и мы слышим уже иное повествование о Баттерфляй, обрамленное замечаниями героя «In real life, women…. ….don’t we who are men sigh with hope…» [13] – «в реальной жизни женщины…. Но разве мы мужчины не вздыхаем с надеждой» и аккомпанируемое тихой музыкой событий ушедших в далёкое прошлое и ярко отражённых оперой Пуччини. Музыка здесь уже течёт параллельно, не врываясь в повествование звуками нот в звуки слов, не накрывая их тенью, не смешивая, а лишь визуализируя образы, о которых идёт речь, давая им яркие краски. Так они начинают идти рука об руку: художественный сюжет и музыка оперы, взаимодополняя друг друга и придавая иные оттенки звучания. Музыка – как стихия эмоций, возникает в самом произведении, изнутри его, таким образом, «Чио-Чиосан»/ «Мадам Баттерфляй» наполнена практически каждая сцена, даже там где о ней не упоминают, мы видим её. В качестве примера можно упомянуть сцену, где Галлимар сообщает жене, что на приёме у посла показывали отрывки из оперы Баттерфляй. Жена, словно задумчиво, повторяет: «Madame Butterfly! Then I should have come. (She begins humming, floating around the room as if dragging long kimono sleeves.)» [19] – «Мадам Баттерфляй! Тогда мне следовало бы прийти. (Она начинает, тихо напевая, плыть по комнате, словно бы взмахивая рукавами кимоно)». Хельга всего лишь начинает напевать мотив оперы, но перед нами вновь вырисовывается яркий, пропитанный восточным колоритом образ. Особое внимание обращает на себя то, что (за исключением одной сцены, где на приёме у посла Сонг под аккомпанемент фортепьяно 202 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 исполняет сцену смерти Баттерфляй) музыка звучит не непосредственно в исполнении рояля или оркестра, что могло бы придать чувство единовременности повествования Галлимара и звучания сюжета оперы, а опосредованно, в исполнении магнитофонной кассеты. Эта, казалось бы, не заметная деталь, разводит их по разные стороны, навсегда оставляя сюжет Баттерфляй в прошлом, неизменном, устойчивом, а Рене в настоящем и лишь великолепное исполнение Сонг роли Баттерфляй, выхватывает этот образ из прошлого, смешивает с настоящим произведения и живая музыка вдыхает в него ту реальность, которая необходима образу, чтобы перейти на мгновение из далёкого прошлого в непосредственную среду повествования и стать осязаемым. Вышедший из музыки образ, наполняет собой сюжетную линию самого героя, сливается с ним и, проассоциировавшись единожды с Сонг, заставляет героя поверить, что она и есть его Баттерфляй. Образ, возникший из удивительного слияния актёрского мастерства и музыки, на стыке двух реальностей, остаётся живым для Галлимара и воплощённым в «актрисе» пекинской оперы. Так музыкальная реальность, нахлынув на сюжет, меняет его и Сонг становится Баттерфляй, то есть женщиной, но если обратиться к культуре Китая, то мы видим, что в пекинской опере все женские роли исполняют мужчины. Образ, вырвавшийся из музыки и воплотившийся для Галлимара в Сонг, становится в дальнейшем для Сонга объектом игры в Баттерфляй с целью политического шпионажа и одновременно объектом любви Галлимара, то есть, как бы раздваивается, что не входит в истинные корни экзотического, восточного подтекста образа, это и приводит к его падению. И как осколки разбитого зеркала образ распадается на глазах у Галлимара в сцене суда, когда герой узнаёт что Сонг мужчина – политический шпион Китая. Так, на примере исследуемого произведения мы видим, как музыкальная и литературно-художественная реальность взаимодействуют друг с другом, находясь в едином музыкально – смысловом пространстве, и все их перипетии, параллельные движения и борьба к изменению сливаются в едином многоголосии полифонической структуры. Таким образом, в ходе исследования полифонических особенностей пьесы D.H. Hwang «M. Butterfly» установлено, что диалоги театральной пьесы представляют собой не только одновременную данность звучания всех голосов, но именно в пределах этой «сцены» существует одновременность музыкально – звуковая или одновременность смысловая, т. е. наблюдая за развитием действия в пьесе, мы пребываем в едином музыкально – смысловом пространстве, собранных в этом произведении из разных времён. Литература Hwang D.H. M. Butterfly. N.Y., 1988. Абрамовский Г., Арановский М. и др. 100 опер. История создания. Сюжет. Музыка. Л., 1970. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. Раздел 2. Проблемы литературного диалога 203 Головинский Г.Л., Ройтерштейн М. и др. Книга о музыке. М., 1975. Махов А. Музыка слова: из истории одной фикции // Вопросы литературы. 2005. Сентябрь – октябрь. Е.В. Голикова (Саратов) Мемуарные романы или романные мемуары: В.П. Катаев «Алмазный мой венец» и В.П. Аксёнов «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках» Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова Основным предметом моего исследовательского внимания является последний оконченный роман Василия Павловича Аксёнова «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках». Он вышел в свет в 2009 г., но ажиотаж возник гораздо раньше: издатели придумали хитрый рекламный ход – публиковали наиболее пикантные отрывки вместе с фотографиями в журнале «Коллекция. Караван историй». Роман приняли «на ура» и читатели, и критики, отзывы и тех и других носили одинаково восторженный характер, за исключением нескольких язвительных рецензий в блогах. Повесть Валентина Катаева «Алмазный мой венец» была опубликована почти на 30 лет раньше, в 1978 г. Советские критики неоднозначно встретили «исповедь большого мастера», о чём можно судить по публикациям журнала «Дружба народов» за 1979 г. В одной из статей, «Не святой колодец», в частности говорилось: «На удивление постоянное, первое и нескрываемое движение героя «Алмазного венца» – встать рядом, сесть рядом [со своими великими умершими друзьями]» [Крымова 1979: 234]. Но статья из этого же номера с заголовком «С высокой и холодной любовью» представляет другую точку зрения: «Катаев, бесспорно, утвердил право не быть сладко-провинциально-сентиментальным и деликатным, говорить о любимом словами простыми и грубыми, сочетая в его одухотворении непочтительность с высокой и холодной любовью» [Книпович 1979: 250]. Аксёновская «эпитафия шестидесятникам» вызвала в умах читателей и критиков такие же суждения и вопросы, а именно: как определить жанр такого романа? Можно ли назвать его мемуарами или же это скорее художественное произведение, и вымысел там играет ведущую роль? Примечательно, что сам Аксёнов, по воспоминаниям современников, всегда «решительно и жёстко» отвергал призывы выступить в жанре мемуаров: «С нарастанием числа лет я всё больше получаю приглашений от издателей перейти на жанр воспоминаний. Многие говорят, что это модно, многие гарантируют успех на рынке […] Для меня литература – это и есть ностальгия […]. Любая страница художественного текста – это попытка 204 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 удержать или вернуть пролетающее и ускользающее мгновение. С этой точки зрения смешно ждать от автора двадцати пяти романов ещё какой-то дополнительной ностальгии. Лучше уж я увеличу число романов, пока могу» [Есипов 2010: 11]. Или вот ещё: «Я всегда испытывал недоверие к мемуарному жанру. Неизбежны провалы и неточности, которые, в конце концов, могут привести – и чаще всего приводят – к вранью» [Аксёнов 2009: 5]. Так вот, чтобы избежать этого вранья, Василий Аксёнов создал так называемый «мемуарный роман», который, «несмотря на близость к реальным людям и событиям создаёт достаточно условную среду и отчасти условные характеры, то есть художественную правду, которую не опровергнешь» [Аксёнов 2009: 6]. Какая она, «художественная правда» в исполнении Василия Аксёнова? Может, она в романе представлена лишь фотографиями, с которых на нас смотрят реальные Ахмадулина, Вознесенский, Высоцкий? «Таинственная страсть» разделена автором на две «книги», каждая из которых, в свою очередь, дробится на маленькие главки, с указанием года и места действия описанных в этой главке событий. Иногда указывается не только год, но даже и точное число, например: «1968, ночь с 20 21 августа. Акция». И в то же время в «Авторском предисловии» Аксёнова к роману читаем: «Не вполне уверен в хронологической точности событий романа, а также в графической схожести портретов и в полной психологической близости героев и прототипов» [Аксёнов 2009: 5]. Кстати о героях и прототипах. Автор в том же «Предисловии» писал: «…я отдавал себе отчёт, что возникнут не клоны, не копии, а художественные воплощения, более или менее близкие к оригиналам» [Аксёнов 2009: 7]. Если Валентин Катаев, по выражению Аксёнова, «отгородился от мемуарного жанра условными кличками: «Скворец», «Соловей»,...» [Аксёнов 2009: 7], то сам Василий Павлович подбирал для каждого героя совершенно уникальное имя, не кличку, а именно имя, чаще всего основанное на созвучии: Ян Тушинский (Евгений Евтушенко) или детском прозвище: Кукуш Октава (Булат Окуджава). Интересно, что у некоторых персонажей в романе может быть сразу два имени: например, писатель Юрий Нагибин выступает в романе под именами Горожанинов и Аврелов, художник Илларион Голицын одновременно Илларион Голенищев и Филларион Фофанофф. Конечно, трудно представить, чтобы в реальной жизни кого-то звали Кукушем или Фоской, но зато «прототипы» и «идейные вдохновители» героев романа становятся очевидными читателю. Становятся «живыми масками», несущими черты лиц друзей и любимых. Основные претензии критиков были обращены к «актёрскому составу» «Романа о шестидесятниках». Говорилось, что катаевские варианты имён намного удачнее, что, показывая «изнанку» писательского быта, Аксёнов поступает, по меньшей мере, не совсем порядочно по Раздел 2. Проблемы литературного диалога 205 отношению к ныне живущим и мирно почившим своим современникам. В этом вопросе мне близко мнение Дмитрия Быкова, который пишет: «Думаю, что в тайне Аксёнов и рассчитывал на посмертную публикацию – не потому, что боялся рассориться с живыми, ссориться там не за что, а потому, что хотел их утешить этой книгой» [Быков 2010: 6]. Действительно, книга предстаёт как послание своим друзьям в лёгкой, незатейливой форме, где стали возможны и сумасбродные коктебельские восторги и забавные, совсем не обидные прозвища. Это – роман-код, роман-ключ. Повесть Валентина Катаева подвергалась нападкам критиков за стремление автора дать «портреты писателей "в туфлях и в халате"», которые «чаще всего потакают обывательским вкусам» [Котова, Лекманов 2004]. Тем более что живые на тот момент современники Катаева всячески подтверждали, что события и люди, описываемые в «Венце», не имеют ничего общего с реальностью. Гневным отзывам современников вторили не менее гневные отзывы критиков, упрекавших автора в безнравственности метафор, которые он применяет в описании своих героев. Ещё в «Траве забвения», описывая вдову Ивана Бунина, Веру Николаевну Муромцеву, Катаев писал, что белый цвет, доминирующий в её облике, напоминает «цвет белой мыши с красными глазами». Всё с той же «холодной любовью» описывает он и героев «Алмазного венца», которые выходят из-под его пера чем-то похожие на персонажей гоголевского «Вия»: «верблюжья головка с несколько раздражённой кошачьей улыбкой», «профиль красивого мертвеца» и так далее. Подавляющее большинство поэтов шепелявит, и читает свои стихи кто «с акмеистическими завываниями», кто «рыча и брызгая слюной». Вполне очевидно, что у авторов «Таинственной страсти» и «Алмазного венца» были, скорее всего, принципиально разные творческие задачи. Если Валентин Катаев на протяжении всего романа старается вписать себя в ту творческую атмосферу наравне со своими великими современниками, то Василий Аксёнов ведёт повествование даже не от своего лица. В текст он «делегирует» своего двойника, «живую маску» – Ваксона, который действует от имени автора. Следовательно, можно утверждать, что в роман «Таинственная страсть» представляет собой совершенно иной жанр, родившийся на стыке мемуаров и художественного романа – мемуарный роман. Его основные черты можно первоначально определить так: 1. За масками персонажей скрываются реальные, чаще всего хорошо узнаваемые личности; 2. Хронотоп имеет много общего с «действительным» временем, но представляет собой как будто постановочную фотографию: мы видим реальных людей на фоне реальных пейзажей, но действуют они по задумке автора, несколько отклоняясь от действительных жизненных траекторий. Автор здесь позволяет себе пофантазировать на тему «А что было бы, если…». 206 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Таким образом, проведённое мною исследование-сопоставление подтверждает заявленную ещё в предисловии позицию самого Василия Аксёнова: «Автор лишь смеет сказать, что он вовсе не старался прикрыться этими живыми масками от возможных нападок, а только лишь норовил расширить границы жанра. Дать больше воздуха. Прибавить прыти в походку. Напомнить нашему Зеленоглазому, какими мы были или могли быть» [Аксёнов 2009: 8]. Литература Аксёнов В.П. Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках. М., 2009. Быков Д. Предисловие к роману Василия Аксёнова // Аксёнов В.П. Ленд-лизовские. Lend-leasing. М., 2010. Есипов В. Последний старт Аксёнова // Аксёнов В.П. Ленд-лизовские. Lend-leasing. М., 2010. Книпович Е. С высокой и холодной любовью // Дружба народов. 1979. №9. Котова М., Лекманов О. Плешивый щёголь. Из комментария к памфлетному мемуарному роману В. Катаева «Алмазный мой венец» // Вопросы литературы. 2004. №2. Крымова Н. Не святой колодец // Дружба народов. 1979. №9. Раздел 3 Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция В.Н. Силантьева (Астрахань) К вопросу о разграничении понятий интертекстуальность и прецедентность Научный руководитель – профессор О.Н. Паршина Термин «интертекстуальность» был введен в 1967 г. теоретиком постструктурализма Юлией Кристевой для обозначения общего свойства текстов, выражающегося в наличии между ними связей, благодаря которым тексты (или их части) могут многими разнообразными способами явно или неявно ссылаться друг на друга. Ю. Кристева осмыслила и переосмыслила диалогическую теорию М.М. Бахтина, исходный тезис которой таков: «Слово по своей природе диалогично», «диалогическое общение и есть подлинная сфера жизни языка» [Бахтин 2002: 205]. Следуя за М.М. Бахтиным, Ю. Кристева считает диалогизм принципом любого высказывания [Кристева 2000: 438] и указывает на то, что 1) литературное высказывание должно рассматриваться как диалог различных видов письма – самого писателя, получателя и письма, образованного определенным культурным контекстом; 2) сам акт возникновения интертекста является результатом чтения-письма («всякое слово [текст] есть такое пересечение двух слов [текстов], где можно прочесть по меньшей мере еще одно слово [текст]») [Кристева 2000: 458]; 3) необходимо учитывать динамический аспект интертекста, поскольку интертекстовая структура «не наличествует, а вырабатывается по отношению к другой структуре» [Кристева 2000: 429]. М.А. Кронгауз конкретизирует определение этого важного критерия текста: «Он означает наличие определенных формальных и семантических отношений между данным текстом и другими текстами». Данный критерий важен, по мнению исследователя, поскольку «обеспечивает возможность объединения текстов в тексты и даже просто возможность продолжения 208 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 текста» [Кронгауз 2001: 264]. Интертекстуальность в линвистике имеет целый ряд соотносительных с этим феноменом терминов: «текст в тексте» (Ю.М. Лотман), «цитация» (Е.А. Земская), «межтекстовые связи» (А.И. Горшков), «текстовые реминисценции» (А.Е. Супрун), «чужое слово» (М.М. Бахтин). А.И. Горшков определяет межтекстовые связи как «содержащиеся в том или ином конкретном тексте выраженные с помощью определенных словесных приемов отсылки к другому конкретному тексту (или к другим конкретным текстам)» [Горшков 2001: 72]. И, как отмечает Ю.М. Лотман, «возникающая при этом в тексте смысловая игра, скольжение между структурными упорядоченностями разного рода придает тексту большие смысловые возможности, чем те, которыми располагает любой текст, взятый в отдельности». Следовательно, исходный текст является «не пассивным вместилищем, носителем извне вложенного в него содержания, а генератором» [Лотман 1992: 152]. Н.И. Клушина указывает на то, что интертекстуальность как стилеобразующая черта создает вертикальный контекст, усложняющий речевое произведение журналиста [Клушина 2003: 285]. Ее мнение является подтверждением мысли Е.А. Земской о том, что «включенный текст служит целям языковой игры разного рода: способствует поэтизации текста, создает поэтический намек, подтекст, рождает загадку, создает ироническое, саркастическое, гротескное трагическое или иное звучание. Способствует иерархизации смысла иносказания – политического, поэтического, философского или какого-либо иного» [Земская 1996: 167]. По мнению И.Е. Дементьевой, интертекстуальность свойственна любому тексту. Это означает, что отправитель текста как осознанно, так и бессознательно ориентируется на определенные тексты, используя известные ему текстовые модели [Дементьева]. Приведем еще два определения понятия «интертекстуальность»: «Под интертекстуальностью понимается включение в текст либо целых других текстов с иным субъектом речи, либо их фрагментов в виде маркированных или немаркированных, преобразованных или неизменных цитат, аллюзий или реминисценций» [Арнольд 1999: 346]. «Многомерная связь отдельного текста с другими текстами по линии содержания жанрово-стилистических особенностей, структуры, формальнознакового выражения» [Михайлова 1999: 10]. Несмотря на многообразие трактовок термина «интертекстуальность», во всех толкованиях присутствует нечто общее: интертекстуальное отношение представляет собой одновременно и конструкцию «текст в тексте», и конструкцию «текст о тексте». Интертекстуальные включения благодаря контакту «своего» и «чужого» создают условия для сущностных (как смысловых, так и структурных) трансформаций текста. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 209 Таким образом, «текст в тексте» – это не просто элемент эрудиции автора или чисто внешнее украшение. «Текст в тексте» способен подчеркнуть или проявить доминантные смыслы основного текста, открыть иной смысл, рожденный в результате наложения смыслов, а также создать разные уровни восприятия текста в целом. Интертекстуальность успешна при условии, что фоновые знания адресата пересекаются с фоновыми знаниями адресанта. Тогда и возникает эффект узнавания закодированного смысла [Клушина 2003: 285]. И здесь понятие интертекстуальности перекликается с понятием прецедентности текста. Следует отметить, что во многих лингвистических работах, посвященных исследованию интертекстуальности и прецедентности, эти понятия не только сближаются, но нередко и отождествляются. Например, А.М. Мелерович и М.А. Фокина указывают на то, что «по основным признакам тождественным интертексту является понятие прецедентных текстов … В зависимости от особенностей их использования прецедентные тексты (интертексты) могут выполнять разнообразные функции» [Мелерович, Фокина 2003: 55]. Е.А. Сандрикова в своей работе «Обучение иностранных студентов пониманию прецедентных высказываний при чтении российской прессы» пишет: «… Этот подход особенно значим при рассмотрении явления интертекстуальности или прецедентности в иностранной аудитории» [Сандрикова 2001: 14]. Таким образом, подмена одного из рассматриваемых понятий другим приводит к неоправданному приравниванию терминов, обозначающих разные явления. Говоря о соотношении теории интертекстуальности и концепции прецедентности, В.В. Красных отмечает, что существенное различие между этими учениями заключается в объекте исследования: теория интертекстуальности «анализирует художественный текст», а объектом внимания концепции прецедентности «являются тексты речевые, спонтанные, импровизационные», т.е. тексты, порождаемые в процессе непосредственной коммуникации. Именно поэтому, уточняет В.В. Красных, при анализе последних нецелесообразно использовать «теорию интертекстуальности, которая выросла из анализа художественного текста» и не даст ожидаемых результатов [Красных 2003: 228]. Мысль о том, что, несмотря на постепенное расширение границ интертекстуальных исследований, теория интертекстуальности складывалась главным образом в ходе изучения интертекстуальных связей в текстах художественного дискурса, подтверждается Н. Пьеге-Гро, которая рассматривает интертекстуальность как одно из важнейших литературнокритических понятий [Пьеге-Гро 2008: 43]. Если отталкиваться непосредственно от определений интертекста и 210 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 прецедентного текста, которые были сформулированы основоположниками этих двух теорий, то становится совершенно ясно, что данные понятия невозможно отождествлять. Термин «интертекстуальность» появился на 10 лет раньше, чем «прецедентность», и в его определении речь идет о пересечении по меньшей мере двух любых текстов: «… любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст есть продукт впитывания и трансформации какого-нибудь другого текста» [Кристева 2000: 429]. В классическом определении прецедентных текстов Ю.Н. Караулова указывается на то, что не всякий текст может считаться прецедентным, а только «значимый для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях» [Караулов 2005: 216]. Интертекстуальность, по Ю. Кристевой, предстает как обозначение общего свойства текстов, поэтому вполне справедливо говорить о том, что ассоциации, которые возникают у автора в процессе порождения текста, связаны со всем многообразием известных автору текстов. А возможность причисления текста к прецедентным напрямую зависит от наличия у этого текста сверхличностного характера, т.е. он должен быть хорошо известен и окружению языковой личности, включая ее предшественников и современников, и обращение к нему должно возобновляться неоднократно в дискурсе данной языковой личности [Караулов 2005: 216]. Интертектуальность – понятие более широкое, чем прецедентность. Бесспорно, прецедентные тексты, внедряясь в исходный, становятся материальными знаками интертекстуальности. Но утверждать обратное нельзя. И мы согласны с мнением Н.А. Кудриной, которая считает, что интертекстуальность не всегда создается только при помощи обращения к прецедентным текстам [Кудрина 2005: 5]. Самим собой напрашивается вопрос: почему лингвисты очень часто смешивают эти два рассматриваемых понятия? Причина, на наш взгляд, кроется в том, что многие исследования проводятся на достаточно разнородном материале: от пословиц и поговорок до официальных документов. И исследователь зачастую в тему исследования выводит наиболее популярное в научном обиходе на тот момент понятие. Так, например, во многих работах используется термин «прецедентное высказывание», введенное в научный оборот В.Г. Костомаровым и Н.Д. Бурвиковой. При этом данным термином обозначаются все рассматриваемые в исследованиях единицы: пословицы, поговорки, крылатые слова, выражения, афоризмы, фразеологизмы и т.п. Отождествление понятий прецедентности и интертекстуальности может привести к нежелательному терминологическому смешению. Так, статья Н.В. Иноземцевой, в которой рассматриваются прецедентные высказывания, встречающиеся в заголовках англоязычных статей, называется «Прецедентность и интертекстуальность как маркеры англоязычного научно-методического дискурса». Уже в названии статьи Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 211 обнаруживается полное отсутствие разграничения автором этих терминов. Это подтверждается и мыслью автора о том, что «основным маркером интертекстуальности является прецедентный феномен» [Иноземцева 2010: 167]. Таким образом, автор противоречит самому себе: что / чьим маркером является? Также автор неправильно толкует понятие «прецедентное имя» и не разводит его с понятием «прецедентный текст»: «… понятие прецедентности целесообразно расширить за счет включения в это понятие, помимо последовательностей языковых единиц, также и отдельные лексические единицы, являющиеся национально-культурными знаками. Такие единицы можно назвать прецедентными именами. Прецедентные тексты вместе с прецедентными именами получат наименование прецедентных языковых единиц» [Там же 2010: 167]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что рассмотренные нами понятия являются важными и перспективными. Отношения между явлениями, обозначаемыми этими понятиями, не просты, и поэтому не поддаются однозначной интерпретации. Интертекст является «средой бытования» прецедентных единиц [Кудрина 2005: 10]. Только благодаря постоянно возобновляемым апелляциям к прецедентным единицам интертекст и получает свой статус. Но неразграничение понятий «интертекстуальность» и «прецедентность», неправильное понимание данных терминов приводит к терминологической путанице и, в конечном итоге, «ненаучности» исследования. Литература Арнольд И.В. Семантика. Интертекстуальность: Сборник статей / науч. ред. Бухаркин. СПб., 1999. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского // Бахтин М. М. Собр. соч.: в 7 т. Т. 6. М., 2002. Горшков А.И. Русская стилистика. М., 2001. Дементьева И.Е. Интертекстуальность и устойчивые элементы текста [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://frgf.utmn.ru/last/No9/text16.htm. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Земская Е.А. Цитация и виды ее трансформации в заголовках современных газет // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. М., 1996. Иноземцева Н.В. Прецедентность и интертекстуальность как маркеры англоязычного научно-методического дискурса (на материале англоязычных статей по методической проблематике) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2010. Т. 12. №3. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 6-е. М., 2005. Клушина Н.И. Общие особенности публицистического стиля // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. М., 2001. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? М., 2003. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман // Французская семиотика: от структурализма к постструктурализму / Пер. с франц., сост., вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 2000. Кронгауз М.А. Семантика : Учебник для вузов. М., 2001. Кудрина Н.А. Интертекстуальность и прецедентность: к вопросу о разграничении понятий // Вестник ТГУ. Вып. 4 (40). 2005. 212 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Лотман Ю.М. Текст в тексте // Избранные статьи: В 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин, 1992. Мелерович А.М., Фокина М.А. К вопросу об онтологической сущности и функциях интертекста в художественном дискурсе // Интертекст в художественном и публицистическом дискурсе: сборник докладов международной научной конференции. Магнитогорск, 2003. Михайлова Е.В. Интертекстуальность в научном дискурсе (на материале статей): Автореф. дис. … к. филол. н. Волгоград, 1999. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности: Пер. с фр. / Общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М., 2008. Сандрикова Е.А. Обучение иностранных студентов пониманию прецедентных высказываний при чтении российской прессы (На примере газетных заголовков): Дис. ... канд. пед. наук. СПб., 2005. О.А. Сафонова (Саратов) Образ автора в поэтическом тексте и его переводах Научный руководитель – доцент Ю.Е. Мурзаева Многие ученые обращают внимание на то, что в основе любого описания действительности, в том числе и художественного текста, лежит мироощущение его автора. В свою очередь этому мироощущению соответствует набор психологических особенностей, отраженных в тексте в виде определенных семантических компонентов, формирующих эмоционально-смысловую доминанту художественного текста. Таким образом, анализируя текст, можно получить представление об особенностях его автора [Белянин 1998: 123]. Лингвистический анализ дает основание не только для воссоздания художественной картины мира писателя. Поскольку художественная речь в тексте поэтического произведения – это речь автора или лирического героя, и в ней отражается и выражается познаваемый ими мир, постольку мы можем говорить об отраженных, воссозданных в нем индивидуальных картинах мира – автора и его героя. Но отношения между автором и лирическими героями стихотворения, с точки зрения способов выражения картин мира, опосредованные. В конечном счете, все в тексте произведения выражает картину мира, представленную в творческом сознании автора [Поповская 2006: 87-88]. Художественная картина мира создается не только путем использования категориального аппарата и языковых средств, но и в результате употребления художественных, изобразительно- выразительных языковых средств, признаваемых таковыми на фоне нейтральных, свободных от художественности языковых единиц. [Поповская 2006:95]. Результатом языкового выражения художественной картины мира является образ автора в произведении. Согласно утверждению В.В. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 213 Виноградова, «Образ автора – это образ, складывающийся или созданный из основных черт творчества поэта. Он воплощает в себе иногда также и элементы художественно преобразованной его биографии» [Виноградов 1971: 113]. В более поздних трудах учёный характеризует образ автора как «индивидуальную словесно-речевую структуру, пронизывающую строй художественного произведения и определяющую взаимосвязь и взаимодействие всех его элементов» [Там же: 152]. В.Б. Катаев в статье «К постановке проблемы образа автора» сделал важное замечание: «Видеть возможность только лингвистического описания образа автора было бы неверно. Человеческая сущность автора сказывается в элементах, которые, будучи выражены через язык, языковыми не являются» [Катаев 1966: 120]. Это замечание оказалось достаточно важным. Конечно, образ автора следует искать «в принципах и законах словесно-художественного построения» (по В.В. Виноградову), но образ автора, как и глубинный смысл произведения, больше воспринимается, угадывается, воспроизводится, чем читается в материально представленных словесных знаках (разное прочтение художественного произведения разными людьми, в разные эпохи). Сложность художественного, а особенно поэтического перевода заключается в том, что традиционно перевод художественного текста считается несамостоятельной речевой деятельностью, однако его мотивированность оригиналом представляется лишь частичной, так как переводной текст может содержать эмоционально-смысловую доминанту, отличную от оригинальной и соответствующую скорее личностным особенностям переводчика, нежели автора. К тому же представляется необходимым привести точку зрения, представленную в статье О.Улична, который пишет: «адекватный перевод создается в результате действия не только объективных факторов (развитого поэтического языка и художественного метода), но и субъективных, индивидуальных факторов – отношения переводчика к автору и его творчеству, психологического типа переводчика, его одаренности и опыта». [Улична 1975: 299] Кроме таланта и опыта переводчику необходима способность проникать в произведение, а образ его автора. Для практического подтверждения данного тезиса можно рассматривать стихотворения разных авторов, но посвященных одной теме. Например, британского поэта Филиппа Ларкина, которого в России переводили не часто, и американца Роберта Фроста, чьими переводами на русский язык занимались самые блестящие переводчики. Однако, поскольку рамки статьи не позволяют рассмотреть во всех подробностях особенности образы автора и сравнить их, остановимся на стихотворении Ларкина «Continuing to Live». 214 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Continuing to live - that is, repeat A habit formed to get necessaries Is nearly always losing, or going without. It varies. This loss of interest, hair, and enterprise Ah, if the game were poker, yes, You might discard them, draw a full house! But it's chess. And once you have walked the length of your mind, what You command is clear as a lading-list. Anything else must not, for you, be thought To exist. And what's the profit? Only that, in time, We half-identify the blind impress All our behavings bear, may trace it home. But to confess, On that green evening when our death begins, Just what it was, is hardly satisfying, Since it applied only to one man once, And that one dying. Чтобы оценить место конкретного стихотворения во всем творчестве автора, необходимо, прежде всего, изучить все творчество поэта, чтобы выявить типичные черты, однако необходимо понимать, что типичные черты творчества не должны довлеть над переводом одного конкретного стихотворения. Творчество Филипа Ларкина многими критиками характеризуется как экспрессивное, ироничное, даже саркастичное, выражающее пессимистические и мрачные взгляды на жизнь. Основной чертой часто называют скептицизм по отношению к жизни. В стихотворении доминирует одна тема: закат человеческой жизни, одиночество перед смертью. Характерной чертой этих стихотворений является будничная, сдержанная интонация. Однако все авторы по-разному преподносят эту тему, и в выяснении способов реализации творческого замысла, то есть выражения воли автора, и заключается наш интерес. Замечательна логически законченная структура стихотворения: начинаясь с жизни, заканчивается смертью. Налицо линейная композиция стихотворения, выливающаяся, однако, в противопоставление жизни и смерти. Таким образом, доминантой этого стихотворения является логическое развитие мысли через цепь противоречивых образов. Первый образ, который появляется в самом начале и продолжается, развиваясь, во второй строфе – образ игры. Сначала, видимо, покер. И даже есть рецепт жизненного счастья: фулхауз. Да и кстати, покер вообще – это метафора жизни как череды непредсказуемых событий. И вот, вдруг, оказывается, что жизнь – это не покер, а шахматы. Очевидно, что шахматы в данном случае контекстуальный антоним покера. Ведь если покер – игра случая, то Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 215 шахматная партия – это логическая задача. Еще одной специфической особенностью стихотворения является использование в каждой строфе слов, имеющих характерно бытовой, приземленный оттенок. Necessaries, hair, and enterprise, poker, chess, ladinglist, blind impress – все эти слова создают атмосферу, казалось бы, обыденную. Так автор добивается снижения философского пафоса, сознательно гася патетику. Однако неотвратимость трагического конца и одиночество перед смертью подчеркиваются повторением слова one в последней строфе. Образ автора предстает перед нами в хладнокровном, ироничном отношении к смерти. Нет возвышенно-поэтических образов, нет рассуждений о душе. Есть только быт, который однажды заканчивается по воле случая. Автор критичен по отношению к человеческой жизни, критичен и к себе, и к своему читателю. Ларкин – поэт традиционно лиричный, широко использующий яркую эвфонию, образы. Однако данное стихотворение – подчеркнуто-немузыкальное, жесткое, лишенное возвышенных образов. На основе выделенных в кратком стилистическом анализе доминантных средств, создающих образ автора в произведении, мы попытались дать собственный перевод стихотворения, не переводимого ранее на русский язык. Жить – значит повторять по кругу Привычку получать, что пожелаешь. Смиришься или выйдешь из игры? Не угадаешь. Теряешь интерес, и волосы, и хватку. Не страшно, в покере важнее фарт. Рискнул – и на руки идет фулхауз. Но дальше – шах и мат. И раз уж ты до дна сознания достал, теперь Ты все свое добро задекларируй. Придерживайся списка, все, чего там нет Ты игнорируй. И в чем же выгода? Всего лишь в том, что нам Удастся полуопознать неясные следы От всех поступков наших. Знал ли ты, Что ранним вечером начнется наша смерть. И все, что было, вряд ли так уж важно. Для всех, кроме тебя. А ты существовал Всего однажды. (Пер. Ольги Сафоновой) Литература Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста. М., 1988. Виноградов В.В. О теории художественной речи. М., 1971. Катаев В.Б. К постановке проблемы образа автора. М., 1966. Поповская Л.В. Лингвистический анализ художественного текста в вузе. Ростов н/Д, 2006. 216 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Улична О. О переводчике, поэте и…критике // Мастерство перевода 1974. М., 1975. Вып. 10. Чернухина И.Я. Общие особенности поэтического текста. Воронеж, 1987. О.Р. Жуков (Саратов) Иоганн Кристоф Готшед: эпигон или новатор. Дискуссия о немецком просветителе в отечественном и зарубежном литературоведении Научный руководитель – доцент О.В. Козонкова Иоганн Кристоф Готшед (1700–1766) вошёл в историю немецкой литературы как значительный литературный критик и драматург. Он внёс существенный вклад в дело развития и формирования немецкого литературного языка. Благодаря его деятельности немецкая литература усвоила опыт французского классицизма. Кроме того, И.К. Готшед активно выступал за распространение философских идей Просвещения в немецком обществе и их популяризацию в художественных произведениях, указав путь последующим немецким литераторам. И.К. Готшед был разносторонним человеком, что отмечается многими немецкими исследователями с большой похвалой. Современное зарубежное литературоведение старается разрушить устоявшиеся стереотипы об И.К. Готшеде, которые предшествующая критика в течение двухсот лет со дня смерти просветителя создала в огромном количестве. Современные немецкие исследователи предпочитают уделять внимание фактам, а не судить об И. К. Готшеде сквозь призму мнений своих великих предшественников: Г.Э. Лессинга, И.-В. Гёте и Г. Гейне. А факты говорят о том, что основные труды И. К. Готшеда «Опыт критической поэтики для немцев» (1730) и «Немецкая грамматика» (1748) сделали его родоначальником немецкой литературной критики и оказали исключительное влияние на формирование норм единого немецкого литературного языка. Большое значение в глазах современных исследователей имеют и его реформы в области драматургии. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что лучшая драма Готшеда «Умирающий Катон» (1731–1732) в течение четверти века была эталоном для молодого поколения немецких драматургов. Такое мнение о Готшеде получило распространение в немецкой науке лишь начиная со второй половины XX в. При этом необходимо учитывать и зависимость точки зрения на данного автора от региональной принадлежности исследователей. И.К. Готшед был представителем протестантского просвещения в Германии. До сих пор есть прецеденты недопонимания между исследователями преимущественно протестантских северных и центральных областей Германии и католической южной Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 217 Германии, главным образом, Баварии. В частности, баварские исследователи по-прежнему предпочитают подчёркивать недостатки творчества И.К. Готшеда, такие как: рассудочность, логичность и скудность художественных средств. Но и они признают несомненную важность деятельности И.К. Готшеда для последующего взлёта немецкой литературы во второй половине XVIII в. Таким образом, современные исследователи Германии постепенно преодолевают негативные стереотипы о деятельности Готшеда, господствовавшие в немецкой критике и литературоведении с середины XVIII в. по середину XX в. Их основу заложил младший современник и ученик И.К. Готшеда Г.Э. Лессинг, еще при жизни учителя в 1759 г. опубликовавший в своем журнале «Письма, касающиеся немецкой литературы» ряд критических статей, где подверг творчество И.К. Готшеда уничтожающей критике. Г.Э. Лессинг ввёл в немецкую критику большинство штампов, от которых в дальнейшем так сильно пострадала репутация И.К. Готшеда (здесь и далее перевод осуществлен мной – О.Ж.) [Lessing 1759: 139]. Г.Э. Лессинг сосредоточил весь фокус своей критики лишь на одном направлении разнообразной деятельности И. К. Готшеда, а именно: на его драматургии и на его поэтике. Хлёсткие замечания Г. Э. Лессинга были больше эффектны, хотя доля истины в них несомненно была. Лессинг, обвинив И.К. Готшеда в том, что он «при помощи клея и ножниц» смастерил своего «Катона», использовав материал одноимённой трагедии французского автора Дешама и материал одноимённой трагедии английского автора Р. Стила, первым поставил на репутации И.К. Готшеда клеймо эпигона, графомана и лишённого всякого чувства узколобого рационалиста в литературе. Но помимо этого Г.Э. Лессинг обвинил И.К. Готшеда в «рабском преклонении» перед драматургией французского классицизма, которая не отвечала немецкому духу». Как будто подражание английской драматургии и культ У. Шекспира смогли бы лучше отразить «немецкий дух»? И.-В. Гёте упомянул об И.К. Готшеде в своих художественных мемуарах «Поэзия и правда» (1810). Они были написаны уже в эпоху романтизма. И.-В. Гёте, повествуя о своём жизненном пути, попутно рассуждал о немецкой литературе прошедших лет. И он также не преминул оставить довольно колкое замечание в адрес своего учителя времён своих лет, проведённых в Лейпцигском университете. Его замечания были более взвешены, чем замечания Г.Э. Лессинга. Однако И.-В. Гёте также рассуждает лишь о творчестве И.К. Готшеда, не рассматривая других аспектов его разносторонней деятельности. Кроме того он стремится, как и Г.Э. Лессинг, сделать акцент на недостатках, стараясь не замечать положительные стороны в том числе и деятельности И.К. Готшеда как писателя и как создателя первой поэтики для немецкой литературы той 218 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 эпохи: «Не могу обойти молчанием ещё одну тогдашнюю выдумку, на первый взгляд достаточно глубокомысленную, но по сути смехотворную. Немцы понабрались богатейших исторических сведений обо всех родах поэзии, в которых преуспели разные нации. Готшеду удалось сколотить в своей «Критической поэтике» целую систему полок и полочек, и заодно доказать, что и немцы уже успели заполнить эти полки образцовыми произведениями» [Гёте 1976: 230]. Г. Гейне, уже следуя традиции, созданной Г.Э. Лессингом и И.-В. Гёте закрепил эти печальные для репутации И.К. Готшеда штампы. В своём сочинении «Романтическая школа», написанном в 20–х гг. XIX в., он назвал И.К. Готшеда «знаменитейшим верховным жрецом и пресловутым париком с косицей» литературного течения французского классицизма в Германии. А Г.Э. Лессинга Г. Гейне удостоил почётного звания «освободителя немецкой литературы». Г. Гейне закрепил штампы на репутации И.К. Готшеда. Он ввёл в свою очередь ещё одно существенное для истории немецкой литературы клише. Он впервые вывел оппозицию «Готшед – Лессинг», как образец противопоставления бездарного графомана и подлинного таланта [Гейне 1958: 154]. Только в середине XIX в., в 1848 г., в Лейпциге, ставшем в своё время благодаря И.К. Готшеду одним из центров немецкого протестантского просвещения, вышла книга Т.В. Данцеля «Готшед и его время». Т.В. Данцель первым высказал мысль о том, что без И.К. Готшеда трудно было бы представить классическую немецкую литературу, потому что именно он стал её первым представителем. По мнению ученого, именно этот автор вывел немецкую литературу из её провинциальной неизвестности на европейскую арену, пусть даже и путем излишнего поклонения принципам французского классицизма и пренебрежения традицией национальной литературы. К сожалению, подобные исследования были, скорее, исключением. Литературоведение и критика второй половины XIX в. были политически ангажированы. Исследователей больше интересовала личность И.К. Готшеда, его принадлежность левым или правым кругам. Творчеству и просветительской деятельности литератора уделялось мало внимания. Особенно резкие суждения высказывались на рубеже XIX–XX вв. и в период между двумя мировыми войнами. Часть исследователей упрекала Готшеда за чрезмерный сервилизм перед сильными мира сего и за отсутствие ярко выраженного сочувствия общественно-политическим потребностям социума, а часть пыталась представить его как идеального «верноподданного» писателя, что не соответствует действительности. К наиболее влиятельным представителям левого направления в литературных кругах Германии рубежа веков принадлежал Ф. Меринг. В 90 гг. XIX в. им был написан труд «Легенда о Лессинге». Нельзя утверждать, что Ф. Меринг стремился продолжить традицию немецкой литературы в отношении И.К. Готшеда. Он даже указал на ряд значительных достоинств Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 219 И.К. Готшеда, в частности на его неутомимое трудолюбие, а также на то, что он был учителем Г. Э. Лессинга и целой плеяды немецких литераторов той эпохи. Ф. Меринг даже заметил, что без И. К. Готшеда не было бы Г.Э. Лессинга. В своих суждениях он также опирался на труд Т.В. Данцеля. Однако политическая ангажированность рассуждений Ф. Меринга, резко проступая в его суждениях, позволяет сделать вывод о том, что он больше предпочитал рассуждать о политике, чем о литературе. Это ни в коем случае не ставится ему в упрёк, поскольку это в некоторой степени справедливо. К тому же в то время это было в духе времени. Вот несколько цитат из работы Ф. Меринга. В первой из них он говорит о том, как важен был для творчества Г.Э. Лессинга художественный опыт И.К. Готшеда: «С другой стороны, тогда становится более понятным и то, почему более ясный классовый инстинкт Лессинга повёл его… по стопам Готшеда. Это звучит парадоксом, ибо буржуазная история литературы лишь о немногих событиях рассказывает с таким пафосом, с каким она говорит о казни, учинённой Лессингом над Готшедом. Однако по крайней мере Данцель ответил на это прекрасным сравнением: по его словам, Лессинг проглядел заслуги Готшеда именно потому, «что он целиком основывался на нём и жил им, подобно тому как потребовалось очень долгое время, чтобы естественная наука решила серьёзно и основательно исследовать тот воздух, которым мы дышим» [Меринг 1985: 334]. Тем не менее, Ф. Меринг сбалансировал такое лестное замечание о значении И.К. Готшеда следующими утверждениями. Они как раз и представляют собой штампы, наложенные уже Ф. Мерингом: «Лессинг не только следовал за Готшедом, но и намного опередил его, поскольку он, стоя на буржуазных позициях, вёл беспощадную борьбу с придворными, лакейскими, рабскими элементами готшедовской деятельности и готшедовских теорий. Лессинг жестоко разносил "великого дурака" за то, что тот нёс знамя княжеского деспотизма» [Там же]. Среди литературоведов и исследователей с ярко выраженными правыми радикальными взглядами следует отметить О. Райхеля. В 1912 г. в Берлине вышла его двухтомная монография об И.К. Готшеде. В ней О. Райхель оправдал и избавил имя И.К. Готшеда от многих клише. Но подобно Ф. Мерингу он также внёс много политического элемента в свои рассуждения. Только О. Райхель рассуждал с точностью до наоборот. Он объявил Готшеда «идеальным верноподданным писателем» и образцом для подражания писателей эпохи кайзера Вильгельма. Впоследствии, в Германии 20–х гг. XX в., это дало повод позиционировать И.К. Готшеда в свете шовинизма, как писателя, сочувствующего националистическим настроениям [Wehr 1971: 6]. В России творчеству И.К. Готшеда уделялось и уделяется сравнительно мало внимания. Первым из отечественных критиков на И.К. Готшеда обратил 220 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 внимание Н.Г. Чернышевский. В своём обширном труде «Лессинг. Его время, жизнь и деятельность» (1856 – 1857) Н.Г. Чернышевский ставил своей целью дать комплексное представление о литературе XVIII в. в Германии, причем картина раннего просвещения получилась безрадостной и односторонней, вполне соответствовавшей господствующим тогда стереотипам. О литературе начала XVIII в. Н.Г. Чернышевский пишет следующее: «Сама по себе немецкая литература до Лессинга представляет очень мало интереса как явление тунеядное и бездарное». Личность и деятельность И.К. Готшеда подвергаются исключительно резкой критике: «Единственной целью его деятельности был личный интерес, и только для увеличения своей славы и власти он старался пробудить участие к немецкой литературе в публике. Вкус публики был так груб, невежество её так велико, что сочинения Готшеда, человека хитрого, но лишённого литературных талантов, и клиентов его, людей большей частью совершенно бездарных, удовлетворяли общему требованию» [Чернышевский 1948: 47]. Авторитет Н.Г. Чернышевского для русской критики был неизменно высок, его мнения были зачастую определяющими для последующих поколений. Отчасти этим можно объяснить недостаток интереса российских литературоведов к деятельности и творчеству И.К. Готшеда. Из отечественных исследователей XX в. следует упомянуть В.М. Жирмунского и Б.Я. Геймана. В.М. Жирмунский упоминает о творчестве И.К. Готшеда в небольшой статье, посвящённой раннему немецкому просвещению, которая затем вошла в посмертно изданный труд «Очерки по истории классической немецкой литературы» (1971). Наш выдающийся германист стремится дать полную картину жизни и деятельности Готшеда, не ограничиваясь каким – либо одним аспектом его деятельности и творчества и не акцентируя недостатки. Однако, так как эта работа была написана в 20 гг. XX в., ученому все-таки пришлось сделать некоторую уступку официальной идеологии и упомянуть, что И. К. Готшед в своём творчестве он «не учитывал интереса широких народных масс» [Жирмунский 1971: 179]. Б.Я. Гейману принадлежит небольшая литературно – критическая статья о деятельности и творчестве И.К. Готшеда, опубликованная в 1964 г. Б.Я. Гейман пишет о вкладе немецкого просветителя в дело развития немецкого языка и литературы достаточно беспристрастно. Тем не менее, его работа содержит некоторые из привычных штампов. Б.Я. Гейман опирается на мнение Ф. Меринга и критикует И.К. Готшеда за ограниченность, педантизм и «рабское подражание» французскому классицизму [Гейман 1964: 62]. Современные российские исследователи в основном уделяют внимание заслугам Готшеда в области лингвистики. Литературоведы опираются на мнение, сформулированное в статьях В.М. Жирмунского и Б.Я. Геймана. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 221 Основополагающего труда о художественном творчестве Готшеда, его просветительской, издательской и публицистической деятельности, о значении его личности и деятельности для распространения просветительских идей в Германии и формирования немецкой литературы в России пока еще не создано, что делает необходимым восполнить этот пробел и отдать должное одной из ключевых фигур раннего немецкого просвещения. Литература Lessing G.E. Briefe, die Neuste Literatur betreffend. Siebzehnter Brief // Meisterwerke der deutschen Literaturkritik. Bd. 1. Aufklaerung. Klassik. Romantik. Berlin, 1956. Wehr M. Johann Christoph Gottsched und die deutsche Fruehaufklaerung // Johann Christoph Gottsched. Reden. Vorreden. Schriften. Leipzig, 1971. Гейман Б.Я. Готшед // История немецкой литературы: В 4 т. Т. 2. М., 1964. Гейне Г. Романтическая школа // Гейне Г. Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1958. Гёте И.-В. Поэзия и правда // Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. М., 1976. Жирмунский В.М. Раннее немецкое просвещение // Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л., 1972. Меринг Ф. Избранные труды по эстетике: В 2 т. Т. 1. Легенда о Лессинге. М., 1985. Чернышевский Н.Г. Лессинг. Его время, жизнь и творчество // Чернышевский Н.Г. Полн. собр. соч.: В 15 т. Т. 4. М., 1948. А.О. Москаева (Самара) Особенности литературной критики Ап. Григорьева конца 1850-х годов Научный руководитель – профессор В.Ш. Кривонос Аполлон Григорьев – один из ярких деятелей русской культуры XIX в., создатель своеобразной критической системы, которую он назвал «органическая критика». Роль Григорьева в истории русской эстетической мысли весьма значительна, хотя долгие годы она не была оценена по достоинству. А.И. Журавлева [Журавлева 1980: 7] выделяет три основных этапа в творческом пути Григорьева-критика. 1840-е гг. – период увлечения утопическим христианским социализмом и масонством; 1850-1858 гг. – период участия в – так называемой – «молодой редакции» «Москвитянина». Б.Ф. Егоров [Егоров 2000] и С.Н. Носов [Носов 1990] называют его «москвитяниским», в это время Григорьев обращается к народности и «исторической критике», но постепенно начинает вырабатывать принципы «органической критики». Последний период – «послемосквитяниский» с 1858 г., Б.Ф. Егоров говорит о нём, как о «вершине критического творчества» [Егоров 2000: 195] Ап. Григорьева. 1850-е гг. являются переломными в творчестве Ап. Григорьева. Они, с одной стороны, охватывают весь «москвитянинский» период, когда Григорьев публикуется в «Москвитянине» и является приверженцем 222 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «исторической критики». С другой – конец 1850-х гг. выпадает на «поиски своего журнала», когда Григорьев сменил несколько изданий: «Русское слово», «Современник», «Библиотека для чтения», «Русский мир», «Светоч», но самое главное – в этот период он окончательно формулирует свою программу. Если в «Москвитянине» его метод, по словам С.Н. Носова [Носов 1990: 88], лишь созревал, то в вышеперечисленных журналах выходит ряд статей, где уже четко изложены принципы его «органической критики». Анализ такого сравнительно небольшого периода позволяет выявить особенности критических статей Григорьева, в которых автор переосмысляет метод «исторической критики», которого он, по словам В.В. Тихомирова [Тихомиров 2003: 21], придерживался в «москвитянинский» период, и впервые открыто «заявляет» концепцию «органической критики». К 1855 г. Ап. Григорьев еще являлся руководителем «молодой редакции» «Москвитянина», но постепенно его деятельность в этом издании сходила на нет. К середине пятидесятых годов Григорьев уже был известным критиком и поэтом, и многие из новых журналов готовы были сотрудничать с Ап. Григорьевым. В 1858 г. в толстом журнале «Библиотека для чтения», возглавляемом тогда А.В. Дружининым, выходит статья «Критический взгляд на основы, значения и приемы критики искусства» [Григорьев 1986: 31-69]. Данная статья является программной, в которой он впервые подробно объясняет законы органической критики. Здесь Григорьев говорит о неприемлемости принципов эстетической и исторической критики, которые являются сугубо теоретическими, и основываются лишь на рассудочных наблюдениях. Для понимания и анализа, считает Григорьев, важны не только логика, но и душа, сердечность. Главный смысл критики – защита в искусстве «мысли сердечной», то есть произведений, органически соединяющих мысль и душу, ум и сердце художника, а также борьба с «мыслью головной», с заданными, «сочиненными по схеме» произведениями. Критик должен стремиться к широкому обозрению художественных и жизненных фактов в их сложных взаимосвязях. Впоследствии Григорьев будет дальше развивать эти идеи в статье «Несколько слов о законах и терминах органической критики» [Григорьев 1980: 117-133], где особое внимание уделит терминам органической критики». В конце 1858 г. Ап. Григорьев становиться соредактором журнала «Русское слово», он ведет раздел критики и публицистики. Наиболее значимые критические статьи Григорьева в этом журнале – «Взгляд на русскую литературу после смерти Пушкина» (в двух частях) [Григорьев 1986: 70-143], «И.С. Тургенев и его деятельность, по поводу романа «Дворянское гнездо» (в четырех частях) [Григорьев 1986: 144-228] и «Несколько слов о законах и терминах органической критики. В статье «Взгляд на русскую литературу после смерти Пушкина» изложены взгляды Ап. Григорьева на русскую литературу первой половины Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 223 XIX в., включая творчество самого Пушкина. Период, рассматриваемый в статье, гораздо шире, чем указан в заглавии. Именно здесь встречается знаменитая фраза «Пушкин – наше все» [Григорьев 1986: 78], которая стала широко употребительной. Б.Ф. Егоров в своем научном труде упоминает, что «Григорьев использовал одну фразу Белинского» [Егоров 2000: 166], который в своей статье «Взгляд на русскую литературу 1846 г.» говорит: «То ли дело земля! – на ней нам и светло, и тепло, на ней все наше…» [Белинский 1948: 669]. Григорьев вложил во фразу «все наше» значение «русское», «народное», «национальное». Именно таким видел Григорьев Пушкина, от которого ведется отсчет всех последующих явлений русской литературы. Современная литература, как считал Григорьев, лишь «наполнение красками» того, что было выявлено в творчестве Пушкина. Он отводит Пушкину роль не только родоначальника национальной литературы, но и ее идеала. Статья «И.С. Тургенев и его деятельность, по поводу романа «Дворянское гнездо», с одной стороны, стала первым серьезным откликом на появление в печати романа и поставила вопрос о месте этого произведения в творчестве Тургенева. С другой – носит очень личный характер, раскрывает многое в заветных убеждениях Ап. Григорьева. Тургенев для Григорьева – художник, в творчестве которого символизировалось все современное, достижения и ошибки эпохи, ее искания и стремления. В статье он сочувствует Тургеневу, его раздвоенности между западными идеалами и любовью к русской душе. Автор считает особенностями тургеневской манеры поэтичность, возвышенность, стремление к идеалу. Еще одной значимой литературно-критической работой Григорьева является статья «После «Грозы» Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу» [Григорьев 1986: 229-245], опубликованная в 1860 г. в журнале «Русский мир». Жанр статьи-письма в этот период особенно привлекает Григорьева. Здесь он говорит о драматургии в целом и формулирует свое понимание народности. Также в этой статье Григорьев рассуждает о соотношении национального и народного. В конце 1860 г. Аполлон Григорьев сближается с редакцией нового петербургского ежемесячного журнала «Светоч», где были напечатаны две программные статьи: «Искусство и нравственность. Новые Grübeleien по поводу старого вопроса» [Григорьев 1986: 262-276] и «Реализм и идеализм в нашей литературе (По поводу нового издания сочинений А.Ф. Писемского и И.С. Тургенева)» [Григорьев 1986: 277-294]. В этих статьях решались важные литературоведческие вопросы. Критик рассматривает соотношение художественного и нравственного, развивая идеи Белинского. Григорьев решает вопрос о реализме, выделяя признаки «реализма» и «идеализма». Григорьев считает, что идеализм кончился со смертью Дж. Байрона, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова. В случае если содержания идеализма соединялось с «реализмом формы», возникали 224 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 настоящие художественные произведения, к таким Григорьев относил роман Тургенева «Дворянское гнездо». Что касается стилистических особенностей критики Ап. Григорьева конца 1850-х гг., то в этот период особенности метода «органической критики» проявляются в его материалах на разных уровнях, начиная от содержания и заканчивая лексическим строением. Образцом реализации метода В.В. Тихомиров [Тихомиров 2003: 21] называет следующие статьи: «После "Грозы"…», «Взгляд на русскую литературу…» и «И.С. Тургенев и его деятельность». С одной стороны, здесь присутствует особый анализ литературных произведений, соответствующий философским принципам органической критики. С другой – их строение и стилистические особенности также подчинены методу Григорьева. Фактически это три первые литературно-публицистические статьи автора вышедшие уже после отказа Григорьева от «исторической критики». Одна из самых главных особенностей материалов Ап. Григорьева – это масштабность критического анализа. Критик никогда не ограничивается разбором одного произведения. Григорьев не рассматривает ни одного автора, ни один текст в отрыве от реальности. Наоборот, для Григорьева характерен анализ какого-либо явления в контексте эпохи, с точки зрения национальных особенностей, исторического опыта, в связи с другими работами данного автора, и по отношению к другим писателям. Так, «Взгляд на русскую литературу…» он начинает с разбора статьи В.Г. Белинского «Литературные мечтания», отмечая ее значение, затем долго рассуждает о роли Белинского и затем приступает к подробному разбору литературного наследия Пушкина. Еще одна особенность, которая примыкает к масштабности изложения, это «стихийность повествования». Как пишет А.Я. Альтшуллер [Альтшуллер 1976: 42], свои статьи Григорьев писал без плана, что приводило часто к некоторой хаотичности, несоразмерности частей и неожиданному обрыву мыслей. Сам Григорьев говорил о своей манере повествования: «говорить же о них буду по обычаю, так как Бог на душу положит, не держась строго установленных гранок» [Григорьев 1864: 223]. Действительно, в своих статьях Ап. Григорьев не придерживается строгой сюжетной линии. У него возможны переходы от одной темы к другой и обширные отступления. Но «стихийность» статей Григорьева не означает сумбур его размышлений. Каждый переход, каждое отступление обусловлено органическим перетеканием одной мысли в другую. Каждая новая тема, затронутая Григорьевым не подвешена в воздухе, она либо доказывает предыдущую, либо является вводной для последующей мысли. Так в первой части статьи «Взгляд на русскую литературу…» Григорьев начинает разбирать тип Белкина, но неожиданно переключается на Онегина, а после и вовсе на «искания натуры» самого Пушкина, а затем вновь возвращается к образу Белкина. Эти довольно обширные Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 225 рассуждения являются своеобразным вводом в анализ типа Белкина, без которого автор не может представить понимание этого образа. В статье «И.С. Тургенев и его деятельность…», разбирая образ Лаврецкого, периодически обращается к произведениям Писемского и с помощью сопоставления образов персонажей выводит тип Лаврецкого. В начале статьи «После «Грозы» Островского» есть «небольшое, чисто личное отступление», которое скорее следует назвать «вступлением», в нем критик говорит о стиле своего изложения. Но это вовсе не попытка критика оправдаться в стихийности своей мысли. Данное отступление открывает довольно обширный и сложный анализ произведений Островского, и тем самым подготавливает читателя к нему. У Григорьева довольно много различных отступлений. Все они имеют разный характер: эстетические, философские, лирические. Лирические вставки создают особенную атмосферу статей Григорьева. Они носят глубоко личный, даже, можно сказать, интимный характер, который задает тон всей публикации. Например, начиная разговор о Гоголе, Григорьев так говорит о ранних произведениях автора: «еще юношеские, свежие вдохновения поэта, светлые: все в них ясно и весело… Над ним [Гоголем] как будто еще развернулось синим шатром его родное небо, он еще вдыхает благоухание черемух своей Украины» [Григорьев 1986: 101]. В этом фрагменте критик будто доверяет читателю свои сокровенные мысли об авторе. Это тоже является особенностью критики Ап. Григорьева. Григорьев сам бы назвал эту черту своей критики «душевностью». С помощью подобных лирических отступлений Ап. Григорьев превращает свои статьи в доверительные беседы с читателями, наполняет их душевностью, тем, что сам ценил в литературных произведениях. Можно назвать еще несколько приемов, которые создают атмосферу доверия и, в целом, неповторимый стиль автора. Во-первых, это сильная эмоциональность статей. Авторская оценка в статьях Ап. Григорьева часто представляет собой риторические вопросы или восклицания. Например, «Один немец, кажется, Шмидт, написал целых две книги о значении романтизма – боже великий!» [Григорьев 1986: 114], «Странные факты! но не скажу: горестные факты» [Григорьев 1986: 245] (о восприятии «Грозы» критиками). Ап. Григорьев не просто анализирует произведения, а ведет своеобразный диалог с читателем, обращается к нему. Например: «…стоит только приравнять дух его поэзии к духу поэзии Шиллера, которого, между нами будет сказано, нет уже в наше время возможности читать…» [Григорьев 1986: 119], «Помните ли вы, мои читатели, место в отрывках главы, не вошедшие в поэму об Онегине…» [Григорьев 1986: 88]. Необходимо также отметить, что в статье «Взгляд на русскую литературу…» автор выражает свое «я» через общую оценку литературных явлений, характер публикации, используемую лексику. Лишь иногда 226 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 личное местоимение «я» автор использует для пояснений и уточнений. Например: «Я говорю чувство, а не взгляд – ибо в них все было чувство» [Григорьев 1986: 7], «Разумеется, что я говорю это не о романах Загостина, не о романах Полевого…» [Григорьев 1986: 112]. Для анализа Григорьев использует местоимение «мы». В более поздней статье о Тургеневе местоимение «я» встречается гораздо чаще, Григорьев уже не боится напрямую обозначать свою точку зрения напрямую: «Я думаю, что хуже того, что я говорю о произведении одного из любимых моих современных писателей» [Григорьев 1986: 145]. Статья «После "Грозы" Островского. Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу» стала самой яркой по эмоциональности и по выражению авторского «я». Сам жанр письма обуславливает подобный подход, здесь критика ничто не удерживает от использования фраз подобных: «Для меня лично, человека в народ верующего давно…» [Григорьев 1986: 229], «когда я с судорожным хохотом читал статью г. Пальховского» [Григорьев 1986: 235] и т.д. Следующая особенность характерна не только для критики Ап. Григорьева, но и для всех критиков его времени. Высокая публицистичность критических статей была обусловлена тем, что в XIX в. четкого отделения публицистики от критики не было. Критическая мысль не жила сама по себе, здесь был важен окружающий ее мир, общественная обстановка. У Ап. Григорьева критика не просто публицистична, в своих статьях он соединяет и критику, и эстетику, и публицистику. Масштабность анализа, стихийность рассуждений, интимный характер, высокая эмоциональность, соединение критики, эстетики и публицистики делают статьи Ап. Григорьева особым явлением в критическом и литературном наследии XIX в. Даже несмотря на то, что в конце 1850-х гг. метод «органической критики» был только сформирован, все статьи этого периода полностью подчиняются его философии. Именно метод «органической критики» Григорьева во многом обусловливает особенности критических статей. Литература Альтшуллер А.Я. А.А Григорьев // Очерки истории театральной критики: Вторая половина XIX в. Л., 1976. Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1846 г. // Белинский В.Г. Соч.: в 3 т. Т. 3. М., 1948. Григорьев А.А. Искусство и нравственность. М., 1986. Григорьев А.А. Русский театр в Петербурге. Длинные, но печальные рассуждения о нашей драматургии и о наших драматургах с воздаянием чести и хвалы каждому по заслугам // Эпоха. 1864. № 3. Григорьев А.А. Эстетика и критика. М., 1980. Егоров Б.Ф. Аполлон Григорьев. М., 2000. Журавлева А. «Органическая критика» Аполлона Григорьева // Григорьев А. Эстетика и критика. М., 1980. Носов С.Н. Аполлон Григорьев. М., 1990. Тихомиров В.В. А.А. Григорьев и его органическая критика // Литература в школе. 2003. № 8. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 227 Д.Н. Целовальникова (Саратов) Эмблема или символ? К проблеме номинации жанра некоторых фрагментов «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского Научный руководитель – доцент В.В. Смирнова По мнению некоторых современных исследователей, эмблематика занимает важное место в творческой лаборатории Достоевского. В «Дневнике писателя» есть три воспоминания Достоевского, которые стали неким символом, «эмблемой» по словам самого писателя, и определили отношение Достоевского к событиям всей его последующей жизни: воспоминание о фельдъегере, нещадно бившем ямщика, о тарантуле во Флоренции и Семипалатинске, о барышне-библиотекаре, объявившей Теккерея «вздором». Жанровое определение этих трех фрагментов затруднено, поскольку Достоевский определяет их в разных местах поразному, что свидетельствует о неудовлетворенности писателя данным им самим определением и делает необходимой задачу «более точной жанровой номинации» [Бакирова 2009: 100]. Так, «Фельдъегеря» Достоевский называет в разных местах и «анекдотом», и «одним действительным происшествием», и «отвратительной картинкой» и «эмблемой»; одно воспоминание о тарантуле в «Piccola bestia» Достоевский называет «маленький старый анекдот», а другое – просто «один случай»; случай с барышней-библиотекарем сначала предстает как «один маленький и старинный анекдот», а затем «как сравнение, как аполог, даже почти как эмблема». Мы же свою очередь, полагаем, что если рассматривать данные эпизоды как воспоминания писателя, каковыми они и являются, то задача определения их жанровой принадлежности становится вполне разрешимой, при всей ее кажущейся сложности. В.В. Борисова, рассматривая «Дневник писателя» как «художественную публицистику» Достоевского, считает, что «следование эмблематической традиции не обернулось у него воспроизведением только готовых эмблем, а вылилось в творческое применение эмблематических принципов изображения мира и человека» [Борисова 2002: 21]. Отмечая «откровенную дидактичность» Достоевского, исследователь приходит к довольно неоднозначному выводу, что Достоевскому присуще эмблематическое мышление и подобные «рассказы-воспоминания» «наделены особыми, неповествовательными функциями, которые сродни стоп-кадру в кино или картинке в старинной эмблеме» [Там же: 22]. При этом и автор, и читатель «Дневника писателя» становятся зрителями, а эмблематика – способом осмысления текущей действительности, результатом сопряжения «натуры», живого факта с текущей идеей. Однако если рассматривать указанные фрагменты с точки зрения их принадлежности к мемуарному жанру, то «эмблема» предстает уже не как 228 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 нечто «сродни стоп-кадру в кино», а скорее как результат анализа, работы мысли мемуариста, высокой степени типизации, стремящейся порой к символизации, то есть условному выражению сущности явления с определённой точки зрения. При рассмотрении этих трех фрагментов мы полагаем, что речь идет скорее о символе, чем об эмблеме, поскольку эмблема есть условное изображение идеи в рисунке и пластике, которому присвоен тот или другой смысл. От аллегории эмблема отличается тем, что она возможна только в пластических искусствах, от символа – тем, что смысл её иносказания установлен и не подлежит толкованиям. Под «эмблемой» сам писатель понимает признак, который характеризует эпоху, тип, доведенный до высшей степени обобщения и типизации. В этом определение «эмблемы», или знака эпохи, данное Достоевским указанным трем воспоминаниям, которые в его восприятии являются наиболее ярким выражением типического, концентратом эпохи, соприкасается с современной семиотикой и ее определением символа. Следует учитывать, что понятие символа в литературе и в искусстве является одним из самых туманных и противоречивых. Этот термин часто употребляется даже в самом обыкновенном бытовом смысле, когда вообще хотят сказать, что нечто одно указывает на нечто другое, то есть употребляют термин «символ» просто в смысле «знак». Почти все путают термин «символ» с такими терминами, как «аллегория», «эмблема», «персонификация», «тип», «миф» и т. д. Однако «всякий символ есть живое отражение действительности, подвергающееся той или иной мыслительной обработке, в результате чего он становится острейшим орудием переделывания самой действительности» [Лосев 1995: 14]. Впрочем, понятие символа также представляется не вполне уместным применительно к данным трем фрагментам, поскольку символ всегда предполагает некую дистанцированность означающего от означаемого. Некоторые исследователи даже полагают, что символ по своему непосредственному содержанию не имеет никакой связи с означаемым содержанием, вследствие чего «смысловые потенции символа всегда шире их данной реализации: связи, в которые вступает символ с помощью своего выражения с тем или иным семантическим окружением, не исчерпывают всех его смысловых валентностей» [Лотман 1992: 193]. Особенность же творческого метода Достоевского, его художественного и идейнофилософского мышления заключалась в стремлении видеть в отдельном факте текущей действительности глубинный символический смысл. Поэтому в данной работе мы будем использовать понятие «символический образ», поскольку термин «символ» в большей степени относится к математике и логике, и не вполне подходит для описания художественного творчества. Теперь мы попробуем рассмотреть три указанных фрагмента с точки зрения их принадлежности к мемуарному жанру, что позволит определить Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 229 механизм превращения факта собственного прошлого писателя в символический образ. Взаимосвязь рассматриваемых тем и поднимаемых в «Дневнике писателя» вопросов была отмечена многими отечественными исследователями. Так, в январском выпуске «Дневника писателя» за 1876 г. Достоевский рассматривает вроде бы несвязанные между собой явления общественной и культурной жизни России 1870-х гг., а также типические психологические черты русского общества. На первый взгляд несходные между собой и разрозненные явления общественно-культурной жизни России, по мысли писателя, являются грозными симптомами общего социального неблагополучия. Воспоминанию Достоевского о фельдъегерской тройке в третьей главе январского выпуска предшествует размышление о причинах общественного резонанса, вызванного десятилетним юбилеем Российского Общества покровительства животным, для которого «не одни же ведь собачки и лошадки так дороги <…> а и человек, русский человек, которого надо образить и очеловечить, чему Общество покровительства животным, без сомнения, может способствовать» [Достоевский 1981: 26. Далее цитируется это издание, страницы указываются в квадратных скобках]. Писатель говорит о том, что дети, будущее России и человечества, постоянно становятся свидетелями жестокого обращения с животными, которое воспринимается нынешним обществом как норма (битье лошади по глазам, ужасные условия, в которых везут на бойню телят). Несмотря на случайности и перегибы в деятельности Общества, Достоевский считает его цель «вековечнее временной случайности», поскольку главной целью являются «не столько скоты, сколько люди, огрубевшие, негуманные, полуварвары, ждущие света» [26-27]. Чтобы сделать свою мысль более отчетливой и наглядной, писатель приводит «один анекдот», «одно действительное происшествие», свидетелем которому был он сам. В отличие от упомянутого выше случая с телятами, который, несмотря на использование прошедшего времени, принадлежит к плану настоящего времени и поэтому не является мемуаром, эпизод из юности писателя обладает всеми признаками мемуарного жанра. Его отличает наличие значительной временной дистанции и ретроспективность, фактографичность изложения (упомянуты все подробности события: указано точное время и даже погода, место, участники события описаны подробно), свойственная Достоевскому яркость изображения врезавшейся в память сцены и высокая степень обобщения и типизации в освещении важного для него события. Долгое весеннее путешествие из Петербурга в Москву на лошадях, длившееся почти неделю, двух наивных, романтически настроенных юношей, один из которых писал стихи (старший брат Михаил), а другой (сам Достоевский) сочинял роман из венецианской жизни, служит тем 230 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 фоном, на котором и происходит такое обыденное, но отвратительное в своей жестокости и спокойном приятии окружающими событие. Юный Достоевский стоял у окна, мечтая с братом о том, как они по прибытии в Петербург пойдут на место поединка, а потом в бывшую квартиру умершего за несколько месяцев до того Пушкина, и увидел врезавшуюся в его память навсегда сцену. Писатель в мельчайших подробностях описывает внешность подъехавшего фельдъегеря и его мундир, причем описание мундира предшествует описанию внешности «высокого, чрезвычайно плотного детины с багровым лицом» [28]. О вскочившем на облучок ямщике писатель говорит совсем немного, только примерно обозначая его возраст и упоминая его красную рубаху. Далее писатель подробно описывает процесс беспричинного битья ямщика фельдъегерем, следствием которого было то, что «разумеется, ямщик, едва державшийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись как угорелые» [28]. Воспоминания писателя перемежаются объяснениями извозчика, который вез их с братом. Сначала он замечает, что «такой фельдъегерь на каждой станции выпивает по рюмке, без того не выдержал бы “такой мукиˮ», а потом, после отъезда тройки, добавляет, что и почти все фельдъегери так ездят, особенно этот, которого все давно знают, что он «выпив водки и вскочив в тележку, начинает всегда с битья» [28] безо всякой вины, а просто со скуки или чтобы все на него удивлялись. Эти объяснения ямщика с одной стороны, помогают в свое время молодому Достоевскому понять увиденную сцену, с другой – объяснить ее своим читателям много лет спустя и показать следствия бесцельной и бессмысленной жестокости. Из последующего комментария самого писателя к этому эпизоду, называемому им теперь «отвратительной картинкой», проясняется слишком одностороннее восприятие молодым Достоевским русской действительности 1830–40-х гг., поскольку то «многое позорное и жестокое в русском народе», внезапно открывшееся и отчетливо запомнившееся наивному юноше, впоследствии жестоко поплатившемуся за свои заблуждения, стало для него символом определяющего и уродующего влияния «среды». Одностороннее понимание этого символического образа юношей, почти ребенком, вполне очевидно: «Картинка эта являлась, так сказать, как эмблема, как нечто чрезвычайно наглядно выставляющее связь причины с ее последствием. Тут каждый удар по скоту, так сказать, сам собою выскакивал из каждого удара по человеку» [29]. Современное восприятие писателя довольно сильно отличается от прежнего, поскольку теперь он видит другие причины и формы этого неотразимо стоящего над человеческой волей явления: фельдъегеря заменяет «зелено-вино», которое также «скотинит и Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 231 зверит человека, ожесточает его и отвлекает от светлых мыслей, тупит его перед всякой доброй пропагандой» [28]. Остальная часть главки посвящена все той же проблеме «среды», поднятой еще в «Дневнике писателя» 1873 г., и выходу из создавшейся ситуации с помощью деятельности таких организаций, как упомянутое Общество. Данное воспоминание построено на контрасте между мировосприятием и надеждами на будущее невинных, романтически настроенных юношей, почти детей, с ужасным зрелищем звериной жестокости человека к человеку и, в свою очередь, человека к животному. Однако этот контраст не является нарочито художественным приемом, поскольку данная сцена навсегда врезалась в память Достоевского именно благодаря антиномичности детского восприятия мира и жестокой реальности повседневного зверства. Следствием этого эпизода стал резкий резонанс, который определил все последующее отношение писателя к проблеме простого русского человека, которого «надо образить и очеловечить». Тема детей и среды пересекаются в сознании писателя, он наглядно показывает их взаимное влияние друг на друга и возможные последствия. Ярким примером такого последствия является реализация символического образа избиваемой лошади в «Преступлении и наказании», где проблемой «среды» оправдывается еще более отвратительное и ужасное в своей беспричинности преступление – убийство. Этот образ получает дальнейшее развитие в статье «Одно слово по поводу моей биографии» январского выпуска «Дневника» 1876 г., где Достоевский ведет полемику с В. Зотовым, вспоминая свое пребывание на каторге в связи с делом петрашевцев. Еще одно воспоминание писателя из сентябрьского выпуска «Дневника писателя» 1876 г., которое сам он называет «маленьким старым анекдотом», также становится символическим образом, однако в отличие от предыдущего воспоминания о фельдъегере, определившем все последующее восприятие Достоевским русской действительности, воспоминание о тарантуле, напротив, в свете новых событий получает новое звучание и новый смысл. Достоевский вспоминает две встречи с тарантулом, два события с разной временной дистанцией: сначала случай, произошедший с ним и его женой семь лет назад во Флоренции, затем случай в Семипалатинске, за пятнадцать лет до Флоренции. Оба воспоминания отличает фактографичность и ретроспективность изложения событий, однако первое воспоминание гораздо более подробно и пространно, в отличие от второго, которое лишь призвано подчеркнуть серьезность опасности и соединить европейский период жизни писателя с сибирским, провести связь между Европой и Россией. Писатель вспоминает, как однажды в его квартире, которую он снимал от хозяев, случился переполох – в нее ворвались служанки и 232 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 хозяйка дома с криками, что в дом забрался тарантул, «piccola bestia», которого надо обязательно найти и уничтожить, поскольку укус его очень опасен. Достоевский подробно описывает предпринятые для обнаружения тарантула меры, которые, однако, ни к чему не привели, несмотря на всеобщие усилия, и то чувство, с которым ему пришлось засыпать, понимая, что опасность где-то совсем рядом. Этот мемуарный фрагмент включает в себя и второе воспоминание, которое по большей части является просто упоминанием одного известного писателю случая «в Семипалатинске, ровно за пятнадцать лет до Флоренции, когда от укушения тарантула умер один линейный казак, несмотря на лечение» [106]. Далее писатель кратко описывает течение болезни и замечает, что в Италии, где столько лекарей, «может быть, и еще легче обходится дело», поэтому особых причин для беспокойства вроде не должно было быть. Однако ни попытки развеселиться, ни осознание незначительности опасности не позволяют писателю заснуть спокойно, поскольку события дня находят отражение в его снах, которые были «решительно нехорошие. Тарантул не снился вовсе, но снилось что-то другое, пренеприятное, тяжелое, кошмарное, с частыми пробуждениями» [107]. Подобные же чувства возникают у писателя в связи с Восточным вопросом, под впечатлением от которого ему и вспоминается пресловутая «piccola bestia», которую он даже выносит в название статьи и, более того, возводит этот образ до символа всего Балканского конфликта и его последствий: «Мне кажется вот что: с Восточным вопросом забежала в Европу какая-то piccola bestia и мешает успокоиться всем добрым людям, всем любящим мир, человечество, процветание его, всем – жаждущим той светлой минуты, в которую кончится наконец-то хоть эта первоначальная, грубая рознь народов» [107]. Далее писатель описывает горячку, вызванную укусом тарантула, следствием которого является сумятица и «какое-то всеобщее безумие», в результате которого «все в Европе сейчас же как будто перестают понимать друг друга как при Вавилонской башне; даже всякий про себя перестает понимать, чего хочет» [107]. В результате вся Европа видит врага в России, упорно считая, что «вредный гад каждый раз выбегает оттуда», при том, что в России происходит обратный процесс: все сразу начинают понимать друг друга, отчетливо видя источник опасности и объединяются против общего врага, «всех немедленно единит прекрасное и великодушное чувство бескорыстной и великодушной помощи распинаемым на кресте своим братьям» [107]. На протяжении всей статьи Достоевский подводит читателя к выводу, что «piccola bestia» – всего лишь идея, а не лицо, поскольку врагом и «пакостной тварью» является не какой-либо деятель, отдельно взятая личность, а само явление, когда люди, подвергшись горячке, впадают в безумие и перестают понимать друг друга. Таким образом, яркое, запоминающиеся событие прошлого, которое Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 233 произвело на писателя чувство чрезвычайно неприятное в силу своей опасности и некоей неотвратимости, вспоминается Достоевскому под воздействием современных ему событий общественно-политической жизни Европы и России и возводится им до символического образа. Связь событий и времен осуществляется через перенос аналогичных чувств с явления частной жизни на событие общеевропейского значения. Еще одно воспоминание, которое обретает для писателя статус символического образа – воспоминание о барышне-библиотекаре, приведенное в статье «Несколько заметок о простоте и упрощенности» в первой главе октябрьского выпуска «Дневника писателя» за 1876 г. Понятие «простоты» писатель проносит через весь октябрьский выпуск, освещая и рассматривая его с разных сторон: применительно к судебному процессу крестьянки Корниловой, выбросившей свою маленькую падчерицу из окна, по отношению к «нигилистке» 1860-х гг., объявившей Теккерея вздором, а также к распространению самоубийств в современном обществе как способа решения проблем этого общества и как выражение особенностей жизни разных его слоев. Новый фазис Восточного вопроса и необходимость для народа и общества «лучших людей», способных им нравственно руководить, особенно в связи с ростом власти в России «золотого мешка» и усиления власти капитала, заканчивают и логически завершают эту центральную для всего октябрьского выпуска тему. Воспоминание писателя о барышне, которую он повстречал в библиотеке на Мещанской улице тринадцать лет назад, в начале статьи обозначается как «один маленький и старинный анекдот», произошедший с самим автором. Достоевский подробно вспоминает все обстоятельства той встречи, включая время, место и даже прямую речь и мимику обоих собеседников. «Строгий вид» барышни в сочетании с «невыносимым презрением», совершенно незаслуженным писателем, а особенно в сочетании со многими другими подобными явлениями, которых было много, по замечанию Достоевского, в начале 1860-х гг., произвели на него неизгладимое впечатление. Для данного воспоминания, помимо фактографичности и ретроспективности, характерна также и высокая степень типизации, благодаря которой целая череда таких случившихся «вдруг» явлений обретает некую закономерность. Объявляя Теккерея «вздором», барышня-библиотекарь добавляет, что «нынче прежнее время прошло, нынче разумный спрос…» [142] и остается вполне довольна своей отповедью наивному читателю. Достоевского поразила тогда простота ее взгляда и именно тогда он «задумался о простоте вообще и об нашей русской стремительности к обобщению, в частности» [142]. В полемической манере Достоевский размышляет о частности этого случая, на которую мог бы указать любой читатель или критик, о необразованности или небольшом уме той барышни, которая «наверно только это и умела сказать, то есть об «разумном спросе» и об 234 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Теккерее, да и то с чужого голоса» [142]. Однако для писателя этот эпизод, напротив, остался в памяти «как сравнение, как аполог, даже почти как эмблема», а иначе говоря, как тревожный симптом, который свидетельствует о начале сильной реакции народному движению, стремящейся упростить взгляд на Россию и свести на нет все попытки движения и прогресса. Рассмотренные нами мемуарные фрагменты построены по одному общему принципу: яркое, запоминающееся событие из прошлого писателя подвергается высокой степени типизации и становится символическим образом, который либо определяет последующий взгляд писателя на русскую действительность (фельдъегерь), либо наоборот раскрывает события настоящего посредством переноса аналогичных чувств с явления частной жизни на событие общеевропейского значения (тарантул), либо же случайное, хотя и типичное явление обнаруживает некую закономерность и становится одним из симптомов происходящих в русском обществе процессов (барышня-библиотекарь). При этом функция данных мемуарных фрагментов, повторяющих темы выпуска и позволяющих читателю переосмыслить рассматриваемые в «Дневнике писателя» темы, является по большей части иллюстративной, а обращение писателя к собственному опыту позволяет подчеркнуть универсальность его переживаний и способствует более сильному эмоциональному вовлечению читателя. Литература Бакирова Л.Р. Жанровая специфика и типология малой прозы «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского // Филология и человек. 2009. № 2. Борисова В.В. Эмблематика Достоевского // Литературоведческий журнал. 2002. № 16. Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 23. М., 1981. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1995. Лотман Ю.М. Символ в системе культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1.Таллин, 1992. Е.В. Веденеева (Саратов) Н.А. Лейкин конца 1860-х гг.: «картины из купеческого быта» Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова Николай Александрович Лейкин (1841-1906) – плодовитый литератор второй половины XIX в. Однако современному читателю он известен только как юморист, как правило – в связи с А. Чеховым, вошедшим в литературу в бытность Н. Лейкина, когда тот редактировал и издавал журнал «Осколки», самое популярное юмористическое издание 1880-х гг. Творчество этого очеркиста, рассказчика, романиста, комедиографа до сих пор монографически не изучено. Очень многое в изначальных литературных предпочтениях Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 235 Н. Лейкина шло от знакомого с детства быта, потому что он родился в старинной, хотя и обедневшей купеческой семье. Первыми его произведениями, посвященными художественному воссозданию домашней жизни купцов, стали романы «Апраксинцы» (1863) и «Биржевые артельщики» (1864), опубликованные на страницах «Библиотеки для чтения» и «Современника». К купечеству Н. Лейкин обращался на протяжении всей творческой жизни и в разных жанрах, от юморесок до повестей и романов последних лет («В ожидании наследства» 1889 г.; «Актеры-любители» 1891 г., «Сусальные звезды» 1898 г.). В конце 1860-х гг. Н. Лейкин пишет «картины» из купеческого быта, «сценки» – таков подзаголовок его шуточных пьес и коротких комедий, написанных для театра, – «Рукобитье», «Ряженые», а также «Привыкать надо!!!», «Медаль» и других. Открывателем жизни купеческого сословия в литературе признан А.Н. Островский. Его пьесы о купцах появились на двадцать лет раньше лейкинских. Жанровое обозначение у более десяти из тех, что созданы до Н. Лейкина, – «картины», например: «Семейная картина» (1846-1847), «Утро молодого человека» (Сцены) (1850); «Праздничный сон до обеда» (Картины из московской жизни) (1857); «Шутники» (Картины московской жизни) (1864). Н. Лейкин шел проторенным путем и мог навлечь на себя упреки в подражательстве, но, на наш взгляд, доподлинное знание материала «изнутри» позволило ему проявить творческую самостоятельность. Заметим, что одновременно с Н. Лейкиным к купеческой тематике обращался Дмитрий Иванович Стахеев, выходец из старинного купеческого рода «хозяев» Елабуги. Д. Стахеев сочинял пьесы о купцах тоже в 1860-е гг., но он отстаивал свой взгляд на купеческое сословие: «Отдавая дань таланту Островского, я, тем не менее скажу, что он в своих пьесах по преимуществу старается показать только одну строну купеческого быта, где всего ярче видно невежество, самоуправство, и не дает нам почти никакого понятия о купце как о человеке, не заглядывает в его внутренний духовный мир <…> Я убежден, что в каждом человеке, каков бы он ни был, есть непременно та искра божественного огня, которая долго, долго может тлеть на дне его души» [Стахеев 1992: 18]. Остановимся на лейкинских «картинах» «Рукобитье» и «Ряженые», которые, очевидно, представляют собой дилогию. Сюжет и той, и другой части прост, локален, касается одного момента – сватовства. Как известно, «матримониальный сюжет – основной в большинстве романов и повестей Н. Лейкина из купеческого быта» [Тихомиров 1990: 404], примета его комедийных опытов. В списке действующих лиц первой «картины» даны точные, запоминающиеся, колоритные характеристики героев. Вот перед нами Василий Прохорыч Шибалов, «купец с клинистой русой бородой, на вид, что говорится, «мозглявый», но в сущности мужик хитрый, лет сорока пяти» 236 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 [Лейкин 1895: 4]. Анфиса Михайловна – «его вторая жена, лет двадцати шести; полная, здоровая, румяная, совершенная противоположность мужа». Глашенька – «дочь его от первого брака, бойкая девушка, училась немного в пансионе, знает несколько французских слов, бренчит на фортепьяно, и когда тятенька весел, поет ему русские песни». Как видим, это милая, но весьма недалекая девица, а отец её, «мозглявый», то есть хилый мужичишко, имеет такую молодую красавицу жену, почти ровесницу собственной дочери. Не денежная ли сила «хитрого мужика» – причина столь бросающегося в глаза неравенство в браке? Далее идут Панфил Яковлевич Суриков, «подрядчик, стройный мужчина лет пятидесяти, ходит по-русски (т. е. носит исконно русскую одежду. – Е.В.), борода и волосы с проседью, голос грубый и обрывистый». Читатель как будто вживую видит властного, уверенного в себе, резкого человека. А следом – его сын Гаврило, «с претензией на франтовство, размашистые манеры, при отце овца-овцой». И замыкают этот живописный ряд Степан Яковлевич – «младший брат Панфила Яковлевича, лет под тридцать, тоже подрядчик, любит кутнуть» и Ивановна, которая, как и положено свахе, «нахайливая женщина, не стесняется никаким выражением» [Лейкин 1895: 4]. В основе «Рукобитья» – простая история: богатый купец-подрядчик Василий Прохорович Шибалов выдает замуж дочь Глашеньку. К нему в дом приходит сваха Ивановна «мастак» в своем деле: нашла не только Глашеньке жениха, но и налаживает знакомство между Анфисой Михайловной, молодой женой Шибалова, и неким купчиком-приказчиком из Гостиного двора. Затем в дом являются сваты: отец жениха, «сам» Панфил Яковлевич Суриков с братом Степаном и сыном Гаврилой. После обстоятельной беседы о торговых делах (что характерно — не о детях, которых хотят поженить, не об их истинных или мнимых достоинствах) отцы приходят к согласию, «ударяют по рукам». То, что предшествует «рукобитью», представлено Н. Лейкиным фактографически точно: приход свахи в дом, ее разговор с Анфисой (тут она пользуется возможностью, пока хозяин спит, и передает ей записку), затем разговор отцов – и дело решено. Таким образом, первая «картина» состоит их двух частей. Н. Лейкин раскрывает в «картине» привычный обиход купеческой жизни. Жены и дочери полностью подчинены мужьям и отцам, без них не смеют выйти из дома, мечтают о свободе и развлечениях. Мы видим, что Анфисе в этом доме живется трудно, невесело, видим самодурство купца, и становится понятно, что она бесправна, ей недостает воли при муже-деспоте, поэтому она и спешит соблазниться приглашением приказчика на свидание. Суровы нравы хозяев купеческого «царства», а его обитателей – на терпении или обмане построены. «Весь день-деньской сидишь, сидишь дома, даже одурь возьмет, только и радости, что в окошко посмотришь… В театр только на святках да на масленой и ходим да и то насилу допросишься», – Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 237 сетует Анфиса Михайловна. В этой среде есть только покорное повиновение с одной стороны и хозяйское, самоуправное отношение – с другой. Мужья не уважают жен: «Что с бабой толковать!» или: «Ступай … сам знаю, когда домой пора, захочу, так вас до завтрашнего дня тут проморю», – так высказывается Шибалов [Лейкин 1895: 10]. Оттого-то и назревает измена в его доме, о чём он даже не предполагает. Но и мужья не прочь повеселиться без жен. Брат Сурикова Степан похваляется: «А у меня жена важная! Ей все равно, никогда от нее слова не услышишь, … уж такой у нее характер, только разве заплачет и скажет: Бог с тобой… Известно, дело грешное, иногда и во хмелю домой придешь, никогда ни слова… За то ее и чествую: обнову за обновой дарю… "Ничего, говорит, мне не нужно". Золото, а не жена» [Лейкин 1895: 22]. Видимо, так суждено поступать и Глашеньке: став купеческой женой, она или втихомолку будет бегать к любовнику, как готова к этому Анфиса, или будет плакать и молчать. Дядюшка Степан Яковлевич с племянником Гаврилой – большие любители кутежей. Гаврило, от недалекого ума, расхвастался перед невестой, сразу развернулся, как говорится, во всей красе: «Пришлось мне раз по делам в Москву съездить. Поехал я с дядей, он тогда еще и женат не был; он ведь теперь и до гулянки-то лих. Уж и задали мы с ним трезвону… Уж откровенно скажу, знатно кутнули». Отвечая на вопрос невесты, «для чего же <…> так кутили?», простодушно признался: «Да так, с радости, что на волю вырвался. Ведь эдакий случай в десять лет раз удается…»[Лейкин 1895: 25]. Понятно, что Гаврило – пустой малый, к делу не приучен, задавлен отцом, радость в жизни видит только в таких редких отчаянных загулах. Собственно говоря, и женится он без большой охоты, скорее из желания обрести самостоятельность, оторваться от властного отца. Это ему и дядя советует: «Женишься, так вольготнее будет, человеком будешь, а то ведь брат тебя и за человека не считает» [Лейкин 1895: 27]. Невеста вроде бы понравилась Гавриле, но не то чтобы сама по себе, а потому что она «на Парашу цыганку смахивает» [Лейкин 1895: 27]. Гаврилу и Глашеньку оставляют наедине, но им попросту не о чем разговаривать, и откуда взяться чувствам? Рукобитье – просто выгодная сделка для отцов-хозяев. Правда, матримониальный сюжет в первой «картине» присутствует номинально, чисто внешне. Купеческая хватка и деловитость лишает его подлинного предназначения, красоты, тайны. Красноречивы финальные реплики отцов: «Вот мы с Панфилом Яковлевичем решили повенчать Глафиру с Гаврилой Панфилычем. Любите да жалуйте...» и «Ну, Гаврюха, целуй невесту!» [Лейкин 1895: 29]. Герои «Рукобитья» Гаврила Суриков и его отец Панфил Яковлевич переходят в следующую «картину» – «Ряженые». Как узнаем из текста, дело с Шибаловыми разладилось, причём, казалось бы, из-за пустяка: в 238 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 приданое давали фортепьяно, а Суриков хотел непременно рояль. Свадьба не состоялась из-за самодурства властного главы семейства. Гаврило жалуется: «Нешто мне радостно? У меня тятенька уже вот где сидит. (Показывает на шею). Хоть бы с этой женитьбой! Срамота одна. Ведь он меня одними смотринами смучил! Прошлый раз с Шибаловыми совсем дело обделал; рукобитье было и невеста мне нравилась; женихом я к ним с неделю ходил, и вдруг шабаш-малина, повздорил папенька…переругался со всеми…» [Лейкин 1895: 36]. Тип сюжета в «Ряженых» уже знаком по первой «картине», эта могла бы называться так же, «Рукобитьем». В «Ряженых» тоже две части: первая – в комнате молодцев, где сын хозяина, как и его работники, едва ли не под замком, в полной зависимости от отца, вторая – в доме купца Козина, на его именинах. Интрига заключается в неожиданной встрече Гаврилы с отцом у Козиных. В экспозиции «Ряженых» Гаврило, запертый отцом, в компании молодцев-работников сидит дома и пытается развеять скуку, но все быстро надоедает. И вот радость – письмо от знакомой девицы Прасковьи Селиверстовны Козиной с приглашением прийти в гости. Надо что-то делать! Видно, что Гаврила к ней неравнодушен: «А славная она, брат, девушка, эта Пашенька. Взглянет, так по сердцу словно бархатом…Я с ней на свадьбе у Брындина познакомился. Кадриль танцовал, разговаривал. И ведь разговорчивая какая! От иной слова не добьешься, а эта ничего… Вот бы на этой – так хоть сейчас женился» [Лейкин 1895: 39]. Гаврило вместе с приятелем Васей, подавшим идею отправиться в гости в карнавальных костюмах, в которых их никто не узнает, воровски сбегает из дома ради встречи с Пашенькой. Покидает дом, внутренне дрожа, потому что делает это без разрешения отца. Тот сам куда-то уехал: стоят праздничные дни Святок. А спросить у матери сын считает недостаточным: «Маменька у нас ничего не решает!» [Лейкин 1895: 43]. Как выясняется, Панфил Яковлевич не оставляет попыток женить сына, и невестку подбирает так, чтобы семья её по статусу соответствовала его семье, точнее, состояние, богатство её отца оказались «подходящими» его капиталам. В разговоре с Козиным, к которому он попал случайно, поскольку тот – купец небольшой руки, кичится: «Да вот все невесты для него подходящей найти не могу. И есть, да все мне не по нраву. То отец сквалыжник, то так в приданом не сойдемся. Ежели … не найду ему подходящей невесты, так просто на зло же женю его на какой-нибудь бесприданнице. По крайности та, видевши свою судьбу, будет за меня Бога молить» [Лейкин 1895: 53]. В этих беззастенчивых словах – подлинное купеческое нутро, взбалмошное, упрямое, нетерпимое к чужому мнению, одним словом – самодурное. Во втором отделении «Ряженых» собравшиеся гости отмечают именины хозяина. Кстати заметим, что представление автором Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 239 действующих лиц оказывается здесь крайне скудным. Гости, под стать имениннику, тоже незнатного пошиба: фельдшер Севастьян Ферапонтыч, писец из квартала Соскин и другие. Они разговаривают о делах, дают друг другу житейские советы, рассказывают байки и небылицы, как, например, фельдшер, несущий чушь о живой лягушке, снятой с мозга пациента. Главная тема в разговоре Козина и его важного гостя, присутствием которого здесь гордятся, – необходимость устроить жизнь детей. У Козина дочь на выданье, что сразу подмечает Суриков, и из сумасбродства тут же решает посватать за нее Гаврилу. И это несмотря на то, что приходит в ярость, неожиданно узнав в ряженых сына и работника. Так показана развязка «картины». Купцы в лейкинском изображении узнаваемы и вместе с тем индивидуально различимы. Так, например, Козин о женихе для дочерибесприданницы, зная, что «за ней денег нет», рассуждает очень здраво и с достоинством: «Где уж нам богатого… Нам бы хоть мало-маля со средствами, да чтоб человек хороший был» [Лейкин 1895: 54]. Он, в противоположность Сурикову, интересуется не кошельком жениха, а его добрым нравом и именем. История в «Ряженых» заканчивается желанным для Гаврилы и Пашеньки сговором. Этому будет способствовать счастливый случай, когда Гаврило и Панфил Яковлевич оказываются в гостях в одном и том же доме, не зная об этом. Н. Лейкин делает сюжет занимательным, и все складывается по пословице: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Одна и та же ситуация в обеих «картинах» показана по-разному, хотя имеет одинаковое отношение к отцу и сыну Суриковым. Характерологические черты купечества Н. Лейкин преподносит читателю с удовольствием, со знанием дела. Купцы далеки от всего, что приносит барыши: от искусства – «Сидит он (Шибалов. – Е.В.) в ложе (в театре. – Е.В.) да зевает вслух», – замечает Анфиса Михайловна [Лейкин 1895: 9]; от образования – «А мы так и без арифметики прожили. …Деньги счесть можем, да и есть, что счесть» [Лейкин 1895: 52]. Но эти темные люди просто мастера по части налаживания деловых контактов. У них есть свод неписаных правил: как, когда, с кем выпить, по какому поводу и что это может дать. Н. Лейкин устами своих героев дает представление читателю, как составляются купеческие капиталы. Науку обхождения с себе подобными дельцами преподает купец Суриков: «Ну, известно, тут человека знать нужно: с гулящим по трактирам хороводишься, скопидому чистоганом в руку суешь, а есть такие выжиги, что он у тебя и брюхомто возьмет, да и в руку-то ему сунь» [Лейкин 1895: 20-21]. Сурикову вторит Шибалов: «Выпьет он, на сердце-то у него и сделается масло, а ты ему тем временем горы золотые сулишь, цены сказываешь: ну, он умилится и даст лишнюю копейку нажить» [Лейкин 1895: 20-21]. Оттого-то, видимо, и не надеется Панфил Яковлевич на сына, потому что тот «обращения с 240 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 ними не понимает» [Лейкин 1895: 20-21]. В «картинах» действует сквозной мотив лжи, вранья. Врут все: купцы, чтобы заполучить богатого покупателя, по принципу «не обманешь – не продашь», врет сваха, приукрашивая достоинства кандидатов в женихи, врут друг другу мужья и жены, преследуя каждый свою цель, глупо врет фельдшер на именинах в своем рассказе про лягушку и т.д. Это или обман в поисках барыша, или бессмысленное вранье по привычке, от невежества, наконец, для самоутверждения. Итак, комедийные «картины» Н. Лейкина из купеческого быта действительно во многом напоминают пьесы А. Островского соответствующей тематики, в том числе и с жанровой стороны. Уже отмечено: в ранних комедийных произведениях Н. Лейкина «легко различимы черты, усвоенные впоследствии жанром комической сценки и закрепленные в нем. По законам сценки построены практически все главы повестей и романов Лейкина, единство которых держится только общностью героев и сюжетной ситуации» [Тихомиров 1990: 405]. Но, исходя даже из небольшого по объему материала, рискнем предположить, что в «картинах» Н. Лейкина есть нечто самобытное, что проявляется прежде всего в матримониальном сюжете – представление частной жизни, не выходящей за пределы домашнего круга и не предполагающей социально-нравственного контекста. Литература Лейкин Н.А. Рукобитье. СПб., 1895. Лейкин Н.А. Ряженые. СПб., 1895. Стахеев Д.И. Духа не угашайте. Избранные произведения. Казань, 1992. Тихомиров С.В. Лейкин, Николай Александрович // Русские Биобиблиографический cловарь: в 2 ч. Ч. 1. М., 1990. писатели. Д.С. Новиков (Саратов) Музыкальный мир Всеволода Гаршина Научный руководитель – доцент Г.Ф. Самосюк В предлагаемой работе мы исследуем музыкальный мир Всеволода Гаршина, а также круг его музыкальных пристрастий, вкусов. Музыкальные интересы Гаршина до сих пор не привлекали специального внимания исследователей. И здесь нужно сказать об огромной роли Ю.Г. Оксмана в публикации в 1934 г. писем Всеволода Гаршина, в том числе и эпистолярий юношеской поры, когда еще только формировались его интересы и пристрастия, когда складывались нравственно-психологические основы его мировосприятия и миропонимания. Именно в них в первую очередь и проявлялись его симпатии к тем или иным музыкантам и их Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 241 произведениям, формировались их оценки. Известно, что В.М. Гаршин (1855–1888) был близко знаком с некоторыми композиторами и музыкантами своего времени, часто посещал оперу, а также в компании друзей и знакомых слушал музыку, которая помогала ему слышать мир таким, каким ее слышит человек музыкальный. Гаршин хорошо знал и любил русскую и европейскую музыку, еще в юности писатель с компанией студентов Горного института, где он учился, при всякой возможности посещал оперные театры и концерты и с наслаждением слушал музыку или смотрел спектакль. Особенно на него действовала музыка. Она доводила его иногда до нервного исступления. Почему же именно музыка оказывала такое эмоциональное воздействие? Попробуем разобраться в этом. Во время каникул Гаршин познакомился в Старобельске с молоденькой девушкой, Раисой Всеволодовной Александровой. Это была миловидная сентиментальная провинциальная барышня, хорошая музыкантша. Между молодыми людьми завязалась трогательная и нежная переписка. Вот что он писал Раисе Всеволодовне в письме от 27 ноября 1875 года: «Весьма рад, что наконец вы с Глинкой познакомились; жаль только, что «Руслана» не играете. Это еще лучше «Жизни за царя». Мы, т.е. наша компания, состоящая из восьми-девяти человек, ходим в театр еженедельно, с примерной аккуратностью. Я здесь (в Петербурге) семь недель, и был в опере тоже семь раз: «Фауст», «Жизнь за царя», «Руслан», «Гугеноты», «Тангайзер», «Русалка». Последнюю оперу видел в первый раз, и она мне очень понравилась. Был раз на репетиции симфонического собрания и слушал симфонию Листа – DivinaGomedia, т.е. «Божественная комедия». Впечатление страшное. Первые аккорды, действительно, переносят вас прямо в ад. Ах, милейшая музыкантша, зачем вы не слышите настоящего хорошего оркестра! Что бы вы сказали! Никакой рояль, даже если и вы на нем играете, не может мне заменить несравненного Направника со аггелами его…»[Гаршин 1934: 56]. Что же так потрясло и впечатлило Гаршина в симфонии Листа? Дантовская тема занимала воображение Листа на протяжении многих лет и, несомненно, была его любимой темой. Вероятно, первоначальный план Листа – следовать в архитектонике Данте-симфонии трехчастному строению «Божественной комедии» Данте (первая часть – «Ад», вторая часть – «Чистилище», третья – «Рай») – был бы вполне логичным, но Вагнер отговорил его писать третью часть. По словам автора предисловия к музыкальным записям произведений Ф. Листа, «две части «Данте-симфонии» написаны не только рукой зрелого мастера, но и рукой вдохновенного музыканта-поэта. В первой с поразительной силой воссоздан обобщенный образ дантовского ада. Начало (зловещая звучность тромбонов, суровый характер унисонной мелодии) великолепно передает мрачное величие устрашающих слов, написанных на 242 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 вратах ада. Еще более грозное впечатление создают вступающие вслед за тем трубы и валторны, которые звучат с поистине жуткой угрозой» [буклет CD]. По-видимому, на Гаршина особое влияние оказали вступительные аккорды первой части, которые начинаются с соло духовых инструментов, а затем после барабана и короткой паузы вступает весь оркестр. По сведениям, взятым из «Свободной энциклопедии» (Википедия), «согласно тому, как Данте описывает свои впечатления, музыкальные звуки как бы создают движение к воротам Ада: "Оставь надежду всяк сюда входящий". Эту фразу сопровождает жесткая, мрачная, бушующая, беспокойная музыка. После прохода через ворота Ада звучит первая тема». В этом месте слышны струнные инструменты. Мелодия постепенного падения вниз создает ощущение неотвратимости [Википедия]. На наш взгляд, Гаршин, с его тонкой психологией восприятия и особым душевным настроем, а также высокой эмоциональностью, слушая музыку оркестра на репетиции, создавал в своем воображении соответствующие образы. Следующие эпизоды жизни Гаршина, так или иначе, тоже связаны с музыкальной темой. В письме матери Е.С. Гаршиной от 15.12.1875 г. писатель восхищается игрой пианиста Вячеслава Латкина: «Недавно был с Володей у его двоюродного брата, Вячеслава Латкина, любимого ученика Балакирева. Вот играет-то! Мы пришли к нему часов в восемь, и он до половины первого не отходил от рояля; сыграл нам всего "Руслана", кроме увертюры, "Фауста" больше половины да еще концерт Листа» [Гаршин 1934: 46], (вполне возможно, что это был первый концерт для фортепиано с оркестром – Д.Н). В следующем письме матери Гаршин, пораженный игрой пианиста, даже хочет брать у него уроки: «В театре больше не был. Зато теперь полная возможность слушать хорошую фортепианную музыку; посещаю Вячеслава Латкина по субботам. В прошлый раз замучил меня "Ратклифом". Если бы была возможность где-нибудь пользоваться инструментом, стал бы у него учиться: он ничего бы с меня не взял» [Гаршин 1934: 49]. Чем же так «замучил» Гаршина полюбившийся ему пианист Латкин? Под «Ратклифом» писатель имел в виду оперу «Вильям Ратклиф», которая была написана русским композитором Цезарем Антоновичем Кюи в 1869 г. по одноименной драматической балладе Г. Гейне в переводе А. Плещеева. Премьера состоялась в Петербурге, в Мариинском театре, 14 февраля 1869 г., под управлением Э. Направника. В основу оперы положена юношески незрелая драма Гейне, перегруженная ужасами и преступлениями. Действие происходит в XVII в. в Шотландии. Сюжет этой оперы, пересказанный А. Гозенпудом, сводится к следующему: Ратклиф, безнадежно влюбленный в дочь шотландского лорда Мак-Грегора, прекрасную Марию, убил в лесу, у Черного камня, двоих ее женихов. Свадьбу Марии с графом Дугласом прерывает появление разбойника Леслея, который приносит жениху вызов Ратклифа на поединок. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 243 Однако Ратклиф не обыкновенный убийца: его преследуют таинственные видения, и особенно упорно одно – призраки красавицы женщины и мужчины, в тоске простирающих друг к другу руки. В женщине он узнает Марию. Во время поединка у Черного камня победу одерживает Дуглас, но оставляет своего врага живым. В вое бури Ратклифу чудится насмешливый хохот ведьм. Охваченный безумием и жаждой мести, он бросается к замку Мак-Грегора. От своей кормилицы Мария узнает тайну: ее мать и отец Ратклифа любили друг друга и оба погибли. Подобная же участь должна постигнуть их детей. Появляется истекающий кровью Ратклиф, и Мария под впечатлением рассказа кормилицы чувствует, что в ней пробуждается то же чувство к Вильяму, которое испытывала ее мать к его отцу. Безумная кормилица, для того чтобы сбылось предначертание судьбы, побуждает Вильяма убить Марию. Вслед за этим убийством совершается второе: мстя за гибель отца, Ратклиф убивает Мак-Грегора и кончает с собой над трупом Марии. Призраки мужчины и женщины бросаются друг другу в объятия и исчезают. «Зловещий романтический колорит пьесы Гейне, сильные страсти, столкновение характеров, трагический финал, – считает Гозенпуд, – привлекли внимание Кюи» [Гозенпуд]. Можно думать, что эти же стороны произведения Гейне и характера его музыкального воплощения русским композитором оказали на впечатлительного юношу Всеволода сильное и яркое воздействие, «замучили» его. В октябре 1875 г. Гаршин напишет матери: «Были мы на "Руслане", в ложе (9 человек) и оттуда мы <…> с Вячеславом Латкиным направились к последнему на Пески, где до 6 ч. ночи он нам играл того же "Руслана". Встав на другой день в 10 ч., мы продолжали слушать, а они играть до 2 ч. дня. Благо день был в И-те пустой. На меня никогда так не действовала музыка; просто какое-то нервное расстройство» [Гаршин 1934: 50]. Такого рода глубокие эмоциональные переживания всегда сопровождали гаршинское восприятие музыкальных произведений и многих драматических явлений жизни. Нельзя не оставить без внимания письмо Гаршина матери от 5.03. 1876г. В нем автор писал об опере «Рогнеда» А.Н. Серова: «Был я в Большом театре в русской опере. На "Анджело" мы не попали, ибо Каменская не достала нашей компании ложу, но зато она достала ложу на "Рогнеду". Вы себе представить не можете, во что обратились русские певцы в хорошем зале! Это все какие-то феноменальные голоса. Оркестр тоже изменился совершенно. Solo на скрипке в Мариинском театре часто не замечаешь, так глухо звучит подлая зала, а здесь, в той сцене, когда Владимир видит сон, а Рогнеда с ножом в руке крадется к его постели за занавеску, скрипка Пиккеля, который должен выделывать здесь 244 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 божественные пассажи, так резко, сильно врезывается в память, что я вот четыре дня хожу, а в ушах все эти скрипичные звуки. И сама опера как хороша! Я вот в этом (учебном) году два раза ее слышал, да еще в прежнее время один раз, и еще бы пошел несколько. Мельников – Владимир – хоть картину пиши» [Гаршин 1934: 71]. Премьера этой оперы также состоялась в Петербурге, в Мариинском театре, 27 октября 1865 г., под управлением К. Лядова. В основе оперы — один из эпизодов истории Киевской Руси. Серов решил создать новый тип русской героико-исторической оперы. История Рогнеды, надо полагать, заимствована им из летописей и из думы Рылеева. Но исторические события послужили основой для создания произведения, приближающегося по типу к «большой опере» Мейербера. «Большая опера» по своему содержанию состоит из 5 актов и включает в себя также объёмную балетную (танцевальную) часть. У Мейербера это опера «Африканка» 1865 г. Сюжет оперы «Рогнеда» таков: Рогнеда, дочь полоцкого князя, похищенная киевским князем Владимиром, стала его женой. Побуждаемая фанатиком-жрецом Перуна и боясь торжества христианской веры, она решает убить мужа. Хочет отомстить Владимиру, похитившему его невесту, и молодой христианин, варяг Руальд. Но на охоте, видя грозящую князю опасность, он спасает врага ценой собственной жизни. Владимир, впервые соприкоснувшийся с христианином, потрясен. Попытка Рогнеды убить его терпит неудачу, и она осуждена на казнь. Просьба маленького сына, самопожертвование Руальда, призывы христиан пробуждают в душе князя милосердие [Гозенпуд]. В письме матери от 6 марта 1875 г. Гаршин вновь восторгается оперой: «В воскресенье 1-ой недели был в концерте в Мар. театре, в пользу Морозова (режиссера). Скажите Жоржу, (брату Гаршина – Д.Н.), что Каменская пела "Зашумело сине море" из "Рогнеды"; и как пела! Васильев – "Бороду-бородушку", Мельников – знаменитое "Abendsterne" из Тангейзера, Косоцкая – Grace, Грузинскую песню (Помазанского) и «Оделась туманами Сьерра Невада» (Даргомыжского). Все это он знает. Я пришел в самый неистовый восторг; махал двумя платками для выражения признательности Мельникову и Cº» [Гаршин 1934: 35-36]. Мы убедились, как часто посещал Всеволод Михайлович оперу и как по-разному, (но почти всегда страстно) он относился к этому музыкальному жанру. Одни оперы («Руслан») вызывали у него чуть ли не нервные расстройства, а другими («Вильям Ратклиф», «Рогнеда») он, напротив, восторгался. Оперу Ц.А. Кюи «Анджело» на бенефисе Мельникова после прослушивания он посчитал «новой» музыкой, современной, и конечно же был очень доволен ее прослушиванием. Об этом свидетельствует его письмо Е.С. Гаршиной в феврале 1876 г.: «В воскресенье были мы все на бенефисе Мельникова, слушали "Анджело". Опера, хотя и с "новою" музыкой, но мне Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 245 очень понравилась…» [Гаршин 1934: 63]. Уже будучи известным писателем, он продолжал свои «встречи» с музыкой. В письме брату Евгению Гаршину от 2 октября 1884 г. он сообщал, что «вчера <1октября> был с Давыдовым на 100-м представлении "Демона". Махал палкою Антон Рубинштейн» [Гаршин 1934: 347]. Из этого письма Гаршина можно заключить, что писатель был хорошо знаком с таким знаменитым виолончелистом, как К.Ю. Давыдов, а также предположить, что ему не весьма понравилось исполнение музыкального произведения под управлением Рубинштейна («махал палкою»). 19 октября 1884 г. в Петербурге на сцене Мариинского театра состоялась первая постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин». Скорей всего, Гаршин присутствовал на спектакле, и опера произвела на него, по-видимому, большое впечатление. Для него, человека крайне эмоционального, это могло оказаться сильным импульсом, чтобы искать встречи с композитором. Гаршин решает нанести ему визит. Этот поступок, несомненно, требовал от него больших душевных сил, поскольку с Чайковским он был не знаком, а всякая встреча со знаменитостями приносила ему большие волнения. Об этой встрече Гаршин никому никогда не писал. О ней мы узнаем по дневниковой записи, сделанной братом композитора, Модестом Ильичом, 30 октября 1884 г., что четырьмя днями раньше Гаршин посетил Чайковского, причем «вел себя очень курьезно, все осматривал и суетился» [Зайденшнур 1940: 327]. Можно думать, что такое поведение было связано с волнением от встречи с композитором. О визите Гаршина к Чайковскому свидетельствует и фотография, которую П.И. Чайковский отправил писателю с дарственной надписью: «В.М. Гаршину отъ будущего почитателя». Под портретом композитора – нотная строка и слова из арии Татьяны, ее письма к Онегину: «Я к вам пишу, чего ж Вам боле». И подпись: П. Чайковский» [В.М. Гаршин на рубеже веков 1999: 115]. По-видимому, Гаршин тоже не остался в долгу перед композитором, подарив ему свою книгу: Вс. Гаршин. Рассказ. СПб. 1882 – с надписью: «Петру Ильичу Чайковскому. Автор» [В.М.Гаршин на рубеже веков 1999: 117]. Однажды после проводов за границу на лечение поэта Семена Яковлевича Надсона Гаршин присутствовал на исполнении Шопеновской сонаты b-moll Антоном Рубинштейном. Вот как сам писатель отзывался об этом событии в письме Е.С. Гаршиной от 6.10.1884 г.: «Мне не хочется верить, что он<Надсон – Д.Н.> умрет. Как нарочно вечером у Давыдовых, после его проводов, Антон Григорьевич играл и так играл, как я никогда не слышал. Нарочно ли он это сделал или нет (он очень огорчался судьбою Надсона), но только он выбрал все траурные вещи и между прочим знаменитую Шопеновскую сонату B-moll с marchefunebre [Похоронный марш из третьей части сонаты]. У всех на глазах были слезы. Играл он как 246 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 бог» [Гаршин 1934: 347-348]. Очевидно, эта игра Рубинштейна произвела на Гаршина очень сильное впечатление. Он исполнял траурной марш из известной сонатыBmoll польского композитора Фредерика Шопена, которая считается одним из самых выдающихся произведений романтизма в музыке. Эта похожая на концентрат тоски, горя, безнадежности и грусти музыка, вошедшая в ритуал похорон многих народов, заставляет на миг сбросить с себя обыденную суету и задуматься о вечности и конечных судьбах людей. Таково было и настроение Гаршина. Похоронный марш был написан Фредериком Шопеном в 1837 г., он является составной (третьей из четырех) частью Сонаты для фортепиано № 2 си-бемоль минор, над которой композитор работал в 1837-1839 гг. Он оказался крайне символичным произведением в жизни самого Шопена: композитор написал эту часть большого произведения тогда, когда начали проявляться первые признаки болезни легких, от которой он умер двенадцать лет спустя. Гаршин, слушая Антона Рубинштейна, заранее переживал утрату своего друга, поэта С.Я. Надсона. Впервые о влиянии музыки на создание стихотворения в прозе «Когда он коснулся струн смычком» сказал Ю.Г. Оксман [Гаршин 1934: 507]. В статье «Встреча В.М. Гаршина с П.И. Чайковским», уточняется наблюдение Оксмана: стихотворение в прозе «Когда он коснулся струн смычком…» написано «под впечатлением игры К.Ю. Давыдова на музыкальном вечере, устроенным в пользу больного Надсона» [В.М. Гаршин на рубеже веков 1999: 116]. Это стихотворение посвящено игре на виолончели: «Когда он коснулся струн смычком, когда звуки виолончели вились, переплетались, росли и наполняли замершую залу, мне пришла в голову горькая и печальная мысль» [Гаршин 1955: 347]. «Страстные и печальные» звуки виолончели вызывают у Гаршина и горькие, и печальные мысли о судьбе его друга, хотя и остаются и надежда, и мечта о его выздоровлении. Когда виолончель смолкает, «бешеный плеск и вопль удовлетворенной толпы спугнули <эту>мечту». Итак, на основании исследованного материала нам удалось установить, что Гаршин проявлял интерес к таким произведениям музыкального искусства, которые в большинстве своем носили мрачный, беспокойный, суровый, нередко даже трагический характер (например «Данте-симфония» Ф. Листа). Иное настроение вызывали у него спокойные, умиротворенные, но все же грустные сочинения (траурный марш из Сонаты № 2 Ф. Шопена). Письма Гаршина матери и друзьям свидетельствовали о том, что музыка всегда очень остро воздействовала на эмоциональное состояние и юноши, и зрелого человека. Она доводила его порой до нервного расстройства, влияла на его отношение к жизни и окружающим его людям, навевала, определенные темы его творчества. Словом, музыка была для Гаршина всем: Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 247 и источником наслаждения, и «спутником» его психологического состояния, и темой для размышлений и оценок мира, и даже истоком его нравственных позиций и этических идеалов. Тема и образы, с которыми Гаршин соприкасался в юности, слушая те или иные музыкальные произведения, в дальнейшем нашли свое художественное поэтическое воплощение произведениях писателя, в которых он широко и плодотворно использовал различные звуки для характеристики героев, ситуаций, психологических состояний персонажей, природных явлений. Кроме того, глубокое знание музыки и многочисленных музыкальных инструментов позволило Гаршину ввести в тексты описание военных маршей и песен, сигналов тревог и выступлений в поход, колокольных звонов и других музыкальных сопровождений. Все это придавало его сочинениям достоверность и яркость описываемых явлений и событий и многозвучность мира. Литература Википедия. Свободная энциклопедия. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://en.wikipedia.org/wiki/Dante_Symphony. Загл. с экрана. Дата обращения: 25.03. 2011. В.М. Гаршин на рубеже веков. Междунар. сб.: в 3 т. / Сост. П. Генри, В.И. Порудоминский, М.М. Гиршман. Т.2. Oxford, 1999. Гаршин В.М. Сочинения. М.: Гослитиздат , 1955. Гаршин В.М. Полн собр. соч.: в 3 т. Т. 3. Письма / Ред., ст. и примеч. Ю.Г. Оксмана. М.; Л., 1934. Гозенпуд А. Вильям Ратклифф – опера Ц. Кюи. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.classic-music.ru/ratklif.html. Загл. с экрана. Дата обращения: 25.03. 2011. Гозенпуд А. Рогнеда – опера А. Серова. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.classicmusic.ru/rogneda.html. Загл. с экрана. Дата обращения: 25.03.2011. Зайденшнур Э., Кисилев В. Дни и годы П.И. Чайковского: Летопись жизни и творчества. Труды Дома-музея П.И. Чайковского в Клину. М. Л., 1940. Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский А. История русской музыки. Т. I, II. М., 1972, 1974. Лист Ф. Фауст-симфония/Данте-симфония/Прелюды/Прометей. 2CD (буклет). Похоронный марш Шопена – музыка последнего пути. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://blog.stela.ws/2011/02/pohoronnyiy-marsh-shopena-muzyika-posled/. Загл. с экрана. Дата обращения: 25.03. 2011. М.Е. Митасова (Саратов) А.И. Иванчин-Писарев о Н.К. Михайловском Научный руководитель – доцент Н.В. Новикова Создатели неонароднического журнала «Заветы» (1912–1914), В. Чернов и В. Миролюбов, открыли новое периодическое издание портретами А. Герцена и Н. Михайловского. Таким образом, взамен программного редакционного слова, они давали понять, кто является их идейными предшественниками. Постоянно обращаясь к наследию Н. Михайловского, в год десятой годовщины со дня его смерти заветовцы 248 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 публикуют объёмистую мемуарную статью Александра Ивановича ИванчинаПисарева (1849–1916) «Из воспоминаний о Н.К. Михайловском». Автор её – один из ведущих сотрудников ежемесячника, журналист с большим опытом пропагандистской работы, в недавнем прошлом – крупная фигура в революционном движении. Вместе с В. Фигнер (этому времени своей жизни А. Иванчин-Писарев посвятил обширное мемуарное полотно «Из воспоминаний о «хождении в народ». Книга увидела свет на страницах «Заветов» №№ 2, 3, 6, 9, 11, 12 за 1913 г.), другом которой оставался до конца жизни, А. Иванчин-Писарев создал народническую группу, близкую к «Земле и воле», и в 1879 г. примкнул к «Народной воле», став одним из редакторов и сотрудников её изданий. Впоследствии он заведовал материальной частью «Русского богатства», был секретарём редакции, помощником Н. Михайловского по отделу беллетристики. Совместной работе с Н. Михайловским в журнале «Народная воля» и посвящён фрагмент воспоминаний А. Иванчина-Писарева, опубликованный в «Заветах». Сотрудничество с крупным публицистом и теоретиком народничества оставило глубокий след в памяти А. Иванчина-Писарева. Он сближается с Н. Михайловским в сложную пору сомнений, после «провала» своей агитационной работы среди крестьян, который произошёл в конце марта 1879 г. и «сопровождался тяжёлым раздумьем: стоит ли продолжать деятельность в деревне в прежней форме, если, в условиях современности, её может прекратить сущий пустяк, как письмо из Петербурга с известиями об арестах» [Иванчин-Писарев 1914: 101]. А. ИванчинаПисарева начинает мучить вопрос о целесообразности народнического «хождения в народ». Именно Н. Михайловский помогает ему осознать, что этот способ борьбы за справедливость уже исчерпал себя, что «пора прекратить паломничество в деревню». «Займитесь организацией политической борьбы… Давайте вместе работать!..» [Иванчин-Писарев 1914: 105] – предлагает Н. Михайловский А. Иванчину-Писареву, внимательно его выслушав. Мотивация такого лестного предложения разворачивается тут же: мемуарист подчёркивает, что Н. Михайловский настойчиво объясняет ему «политические требования времени», характер «современных политических условий» [Иванчин-Писарев 1914: 104] и сообразуется при этом с его внутренними готовностями: «Людям вашего типа, умеющим отказываться от земных благ, давно пора подумать о политической борьбе…» [Иванчин-Писарев 1914: 104]. Отказавшись «от дальнейших попыток продолжать свои деревенские опыты» [Иванчин-Писарев 1914: 105], А. Иванчин-Писарев, с благословения старшего товарища, переключает усилия на решение насущных вопросов политического характера, примыкает «к товарищам, ставшим сторонниками политической программы» [Иванчин-Писарев 1914: 105]. Н. Михайловский своими дельными, своевременными советами в нужное русло направляет труды молодого коллеги, который гордится таким Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 249 наставником: «Мои сношения с Н. Михайловским всё более и более закреплялись» [Иванчин-Писарев 1914: 105]. Николай Константинович, как свидетельствует мемуарист, часто спрашивал, когда же появится планируемое тем печатное издание: «Ну что – скоро будет выходить газета?» [Иванчин-Писарев 1914: 105]. Очевидно, речь об этом шла и ранее. Н. Михайловский, как передаёт автор воспоминаний, с пониманием отнёсся к тому, что тот оказался на распутье, и подсказывал, как можно обратить эту ситуацию на пользу делу. Горячо убеждая и подбадривая более молодого товарища, он говорил: «Вероятно, повторяют зады больше теоретики, не пытавшиеся лично работать в деревне. Колебания, конечно, возможны и вполне естественны… В интересах молодежи, стоящей на распутье, вам необходимо в первом же номере будущей газеты выступить с описанием вашей деятельности в деревне. Она очень поучительна как иллюстрация условий, обращающих самое скромное начинание в пользу крестьян в политическое преступление с неизбежными последствиями его: шпионством, арестом и т.д.» [ИванчинПисарев 1914: 105]. В связи с этим нельзя не сказать об одной из самых заметных сторон рассматриваемых воспоминаний: Н. Михайловский у А. Иванчина-Писарева прежде всего говорящий. Это служит прекрасной характеристикой человеку, который воздействовал на людей словом, у которого слово никогда не расходилось с делом. Прямая речь, которую использует в своей статье А. Иванчин-Писарев, помогает читателю и почувствовать, и увидеть Н. Михайловского. Не прибегая к словесному портрету своего «героя», к описательным средствам, мемуарист добивается эффекта его присутствия благодаря впечатлениям, возникающим от речи. Её убедительность, напористость, зажигательность передают обаяние и притягательность натуры говорящего. Речь становится основным приёмом воссоздания характеристических черт человека, который ей блестяще владеет. Нельзя, разумеется, утверждать о единоличном влиянии Николая Константиновича Михайловского на А. Иванчина-Писарева и, как следствие, на создание журнала «Народная воля». Однако его авторитет, мнения и доводы сыграли, по всей вероятности, не последнюю роль в выборе А. Иванчиным-Писаревым пути, в утверждении идеи насущности специального периодического издания. Можно предположить, что Николай Константинович действительно увидел в искренне сомневающемся, ищущем коллеге подающего надежды журналиста. Последний был склонен верить опытному публицисту и мудрому человеку, хотя ему сложно было оставаться бесстрастным в то время, когда статьи столь лестно для начинающего автора прокомментированы «самим Н. Михайловским» – тем человеком, который знал толк в публицистике и умел работать в политическом журнале с таким же успехом, как и в художественном: «Для Н.К. Михайловского участие в революционном органе не представляло ни 250 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 малейшей трудности. Для ″Народной воли″ он писал статьи так же легко, как и для ″Отечественных записок″, не изменяя ни своего слога, ни обычной манеры убеждать читателя» [Иванчин-Писарев 1914: 110]. Большое место в воспоминаниях А. Иванчина-Писарева отводится Михайловскому как стороннику политической борьбы и создания Конституции в России. Это особая тема повествования в мемуарах. Нельзя забывать о том, что Николай Константинович Михайловский по праву считается одним из главных идеологов прогрессивного для того времени народнического движения. Как сообщает читателю сам автор мемуаров, «в отличие от прежних тенденций революционных изданий, Николай Константинович писал: «Вы не боитесь тюрьмы, каторги, виселицы… Но вы боитесь собственной мысли!» [Иванчин-Писарев 1914: 110]. Во втором номере журнала «Народная воля» было опубликовано письмо, подписанное псевдонимом «Гроньяр» (у Михайловского было несколько псевдонимов, и кроме приведенного, он писал под именами: Иван Непомнящий, Посторонний, Протасов, Профан) и датированное 2 ноября (21 октября) 1879 г. Это было первое письмо Николая Константиновича «с родины Руссо, чьё широкое сердце умело ненавидеть как политическое, так и экономическое рабство». Эту же тему Н. Михайловский продолжает во втором «Политическом письме социалиста» от 9 декабря 1879 г. (№ 3 «Народной воли»). В нем он броско, четко и образно объясняет свою политическую позицию относительно тех преобразований, которые грядут в стране: «Я – не убийца и не подстрекатель на убийства. Лично мне политическая борьба представляется в совсем иных формах. Я только логически объясняю положение людей, берущихся за кинжал и револьвер, и вижу, что они не могут довести собственную мысль до конца из-за предрассудка относительно политической свободы… Я вижу тебя, моя несчастная родина! Белая пелена снега лежит на твоих полях и лугах… Глухо, мертво. И вот начинает теплиться жизнь. Ярче, ярче разгорается благодатный огонь протеста. Эти люди умеют умирать и не хотят жить» [Иванчин-Писарев 1914: 112]. Автор воспоминаний почтительно, даже восторженно отзывается по поводу «Писем»: «В какую яркую и остроумную форму отливалась мысль этого большого человека, не встречая цензурных препятствий!» [ИванчинПисарев 1914: 112]. Цензура действительно была серьёзной помехой, для революционной печати – особенно, и требовались умение, опыт, чтобы обойти цензурные «рифы». Н. Михайловскому это удавалось. Обладая гибким умом, он знал, как выразить свою мысль так, чтобы, несмотря ни на что, донести главное. А. Иванчин-Писарев восхищался этой способностью Николая Константиновича и по достоинству оценил её в мемуарах. Автор воспоминаний подчёркивает и такие особенности личности Николая Константиновича, как его бесстрашие и привязанность к людям, с которыми связала его жизнь. Сильно рискуя, Н. Михайловский помогал Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 251 «Народной воле» тем, что публиковал в газете официальные материалы, обычно недоступные оглашению в легальной печати. «Для этой цели он пользовался своими "пятницами", приглашая на них "сведущих лиц" <…> Они так добросовестно относились к исполнению своих обязанностей, что пропускали "пятницы", если за неделю не могли собрать нужных сведений. Таково было влияние Н. К. Михайловского, внушавшее даже светским людям серьёзное отношение к делу» [Иванчин-Писарев 1914: 116]. Как публицист и общественно активная личность, А. ИванчинПисарев был сыном своего времени в самом полном смысле слова. Это важно отметить, потому что его публицистику затруднительно оценивать вне идеологии. Соответственно Н. Михайловский в его преподнесении дан как фигура на фоне своей эпохи. В этом закономерно проявляется историчность, объективная достоверность воспоминаний и высокая степень соотнесенности мемуарного рассказа с реальным временем и ситуацией в стране. А. Иванчин-Писарев выступает перед читателем в большей мере как историк и хроникёр, нежели как создатель поразительного образа. При прочтении статьи А. Иванчина-Писарева складывается очень цельный образ Н. Михайловского. К счастью, его манеру повествования о тех днях, когда они с Николаем Константиновичем работали в «Народной воле», отличает цепкий взгляд умного и внимательного человека, который сумел впоследствии выделить из их общения наиболее выпуклые, характерные черты учителя, единомышленника, соратника. Несомненным достоинством статьи А. Иванчина-Писарева является его умение воссоздать живой портрет Н. Михайловского не только как автора основополагающих трудов, публициста с борцовским характером, но и как человека с узнаваемыми личностными качествами. Литература Иванчин-Писарев А.И. Из воспоминаний о Н.К. Михайловском // Заветы. 1914. №1. М.А.Миронова (Саратов) Петербург Бориса Борисовича Глинского Научный руководитель – доцент И.А. Книгин Мертвый мир и языков, и людей… Б.Б.Глинский (Из летописи усадьбы Сергеевки) [Глинский 1894. № 10: 61] Вся жизнь известного публициста, критика и мемуариста рубежа XIX – XX вв. Бориса Борисовича Глинского (12(24).10.1860 – 1(14).12.1917) была неразрывно связана с Санкт–Петербургом. Сегодня известно очень мало о жизни этого автора. К сожалению, сохранилось мало свидетельств, 252 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 фактов, реалий, практически нет описания бытовых деталей. Только путем поиска фактов биографии, изучения деталей быта, городских мест, связанных с именем Глинского, мы можем восстановить летопись его жизни. Мы внимательно относимся к художественной детали в контексте произведения, но не менее внимательно необходимо относиться к исторической детали в контексте не только эпохи, но и жизни отдельного взятого представителя своего времени. Город в данном случае становится свидетелем жизни автора. Благодаря изучению культурологического аспекта воссоздается контекст ушедшей эпохи, помогающий лучше понять образ жизни и образ мысли публициста. Как же город связан с Борисом Борисовичем Глинским? «Мертвый мир и языков, и людей» [Глинский 1894. № 10: 61], – так говорит о Петербурге Глинский в своей автобиографической статье «Из летописи усадьбы Сергеевки». Его отношение к городу неоднозначно. Ассоциация же не случайна, она имеет двуплановую природу: реальную и символичную. Разъяснение мы находим здесь же. Очерк начинается с описания эпидемии холеры в северной столице: «Петербург пережил, наконец, "черные дни" в виде холеры, взявшей себе в текущем году особенно богатую дань с населения… Для нас, петербуржцев, всякие эпидемии привычны, наличность и последствие их не бросаются резко в глаза: мы так обжились с разными дифтеритами, оспами, скарлатинами, что даже грозная холера была страшна более по разговорам, по слуху о ней, нежели по видимости и осязаемости» [Глинский 1894. № 10: 57]. Холера в 1873 г. унесла 12% общего числа жителей. Эпидемия зверствовала целый год, но трагедии не ощущалось, поскольку души людей огрубели, и они разучились сочувствовать горю других. В газетах появлялись столбцы статистики «прибыло», «выздоровело», «умерло», «состоит». Цифры были ужасающими, но людей не трогали такие известия: «живые цифры» были во всяком случае неведомыми «мертвыми душами» [Глинский 1894. № 10: 57]. Для петербуржцев список умерших был безликим. Равнодушие горожан поражает и ужасает. «Мертвый мир и языков, и людей»: с одно стороны, город, переживший «черные дни», а с другой стороны, очерствевшие души петербуржцев. Образ северной столицы и ее жизни прочно вошел в художественный мир публициста: «Все разнообразие русской жизни, последнего двадцатилетия, так или иначе, запечатлено добросовестным фотографическим аппаратом Глинского» [Измайлов 1912. №2: 651]. Противопоставляется же миру Санкт-Петербурга мир усадеб и провинциальных городов: «Пронесется какая беда над тысячами городов, поместий, сел – вот где картина разрушения станет в полном освещении и покажет истинное значение "живых цифр"» [Глинский 1894. № 10: 58]. Мир усадеб был бесконечно мил и дорог Глинскому, может быть, потому, что в годовалом возрасте мальчика–сироту, из холодного и Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 253 негостеприимного Петербурга перевезли в имение Сергеевка (это название придумано автором. – М.М.). Это было поместье Мариных (можно предположить, что настоящее название имения – Марино или Мариновка, так как в очерке фамилия помещиков Сергеевы, а название имения – производное от фамилии хозяев, возможно, здесь использован тот же словообразовательный принцип или же типичное, популярное название). Именно с этим местом были связаны воспоминания о детстве, согревающие душу. Здесь Глинского любили и всегда ждали. Здесь он окреп и из вялого, бледного ребенка превратился в здорового и розового шалуна. В одиннадцать лет Глинский вновь возвращается в Петербург, воспитывается в доме сенатора А.Н. Салькова, поступает в третью петербургскую гимназию, называемую им бурсой, в которой «по всем правилам классической мудрости, калечили ум и сердце ребенка» [Глинский 1894. № 10: 60]. За разнообразные шалости Глинский часто попадал в карцер, лишался обеда. «Характерно, что протестантский дух, царивший в этой гимназии, позднее отозвался тем, что из ее питомцев вышел не один деятель русской революции» [Измайлов 1912. №2: 654]. Только после двух лет пребывания в бурсе ему разрешили отправиться в усадьбу, несмотря на то, что он не сдал на переводных экзаменах древние языки. Выучить предмет предстояло на каникулах, поэтому вместе с ним в Сергеевку отправляется студент-репетитор. В течение лета «только на уроках репетитора просыпается иногда необходимость пошевелить мозгами, чтобы составить замысловатое предложение с разными супинами, аористами и герундиями; в остальные часы дня жизнь проходит лениво, до тошноты сытно и в полной мере благодушно» [Глинский 1894. № 10: 73]. Летом 1873 г. публицист последний раз возвращается в родное гнездо на каникулы: «Кажется, конца не будет недельному пути, кажется, ямщик едет мучительно тихо, и я, забыв все и вся, готов на всем скаку выпрыгнуть из брички, чтобы ускорить свидание, объятия и поцелуи… Я весь живу настоящим и будущим; забыты и гнилые казенные пироги, и ломанная русская речь воспитателей-немцев, и бесконечный ряд единиц и двоек. Только сидящий рядом репетитор–студент удерживает мой восторг и порывы, невольно напоминая мне недавно покинутый мертвый мир и языков, и людей…» [Глинский 1894. № 10: 61] (Здесь раскрывается еще один план смысла данного авторского сравнения, Петербург, как место, где изучаются древние языки). В этот год именно здесь, в Сергеевке, ему предстояло пережить холерные «черные дни», которые воспринимались здесь как-то поособенному чутко, а утраты были как нигде ощутимы. Более Глинский никогда не был здесь. В 1880 г. «дворянское гнездо» было разгромлено, а старички – хозяева искали себе пристанище, и не имели возможности хоть как-нибудь пристроиться. «Больше двадцати лет уже прошло с того времени, много воды утекло, многое исчезло с земли. Нет уже более родной 254 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Сергеевки, нет ее милых владельцев – «одних уже нет, а те далече», и осталось только светлая и святая память о минувших днях юности» [Глинский 1894. № 10: 85]. Но лето подходило к концу и Глинскому предстояло вновь вернуться в нелюбимую им бурсу: «Надо было уже ехать на север в мертвый мир языков и людей, сдавать переэкзаменовки из латинского и греческого языков, знакомиться с новыми преподавателями и по всей вероятности, снова сидеть за шалости в карцере и оставаться без отпуска, «без обеда и завтрака». Довольно – «гулял ты немало, пора за работу, родной!» [Глинский 1894. № 10: 85] Но Борис Борисович Глинский заканчивал курс обучения уже не в третьей, а в пятой гимназии, а после поступил в Петербургский университет на историко-филологический факультет. Петербургский университет – одно из старейших учебных заведений России. Когда-то именно его закончили в разное время крупные деятели русской истории, культуры, литературы: О.Ф. Миллер, И.С. Тургенев, Н.Г. Чернышевский, А.А. Блок и многие другие. Глинский тоже на долгие годы связывает свою жизнь с университетом: устраивает земляческие кассы, различные студенческие общества, литературные вечера… Существует только несколько воспоминаний мемуариста о своих юношеских, студенческих годах. Яркий пример – это автобиографическая статья, посвященная организации похорон И.С. Тургенева всем студенческим сообществом петербургского университета, неофициальным лидером которого был наш герой в период власти в учебном заведении А.Н. Бекетова [БГ 1908. № 9: 931-941]. После окончания университета весной 1885 г. Глинский устраивается на службу в дворянский земельный банк в чине коллежского секретаря, но не прерывает связи со студенческой средой, «со своей alma mater по делам «общества вспомоществования студентам университета», работая здесь сначала в качестве неофициального секретаря общества, а затем и официально-выборного…» [Глинский 1906. № 6: 849]. Однако из-за ряда новых обязанностей Б.Б. Глинский постепенно отходит от студенческой среды, отдаляется от касс, которые теперь находились в руках И.М. Гревса и В.В Водовозова. Университет сыграл важную роль в жизни писателя, поскольку в 1887 г. он был арестован по подозрению в финансовой поддержке из земляческих студенческих касс покушения на Александра III. По этому делу проходили многие студенты, преподаватели и ректор Петербургского университета. После окончания университета Глинский в 1886 г. переезжает жить в меблированные комнаты по адресу дом №1 по Офицерской улице (сегодня улица Декабристов – М.М.), угол с Вознесенским проспектом (упоминание о более ранних местах жительства нам не известно – М.М.). Здесь Глинский, по его словам, проживал «холостым бобылем». Публицист, скорее всего, мог Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 255 проживать на 4-5 этажах доходного дома, так как, именно здесь проживала интеллигенция, «бобыльная» молодежь, только что закончившая университет. Заметим, что и Глинский занимал низкое социальное положение в этот период, будучи чиновником XI класса [Федосюк 2002: 95]. Необычен сам район, в котором снимает свои комнаты автор. «На запад от Вознесенского проспекта между реками Мойкой и Фонтанкой находится район, получивший в XVIII в. название Коломна» [Боброва… 2005, 2007: 2]. Первоначально здесь строились деревянные постройки. Здесь жили мелкие чиновники, ремесленники, торговцы. Жизнь района изменилась со строительством Большого, или Каменного театра. Район стал центром художественной жизни. В XIX в. здесь снимали квартиры М.И. Глинка, М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.Я. Истомина, Т.П. Карсавина, А.П. Павлова, М.М. Фокин, В.Е. Мейерхольд, В.Ф. Комиссаржевская, В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, М.Ю. Лермонтов, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. Бенуа и многие другие деятели литературы, культуры. Название улицы Офицерской в первую очередь же ассоциируется с именем А.А. Блока, который здесь тоже проживал, и где сегодня находится его музей-квартира (ул. Офицерская, дом №57 – М.М.). Здесь же «селились» многие известные литературные герои. «На Театральной площади в середине XIX в. был открыт Мариинский театр. В 1890-х гг. здесь разместилась Петербургская консерватория. На Офицерской улице находился в 1906-1909 гг. Драматический театр В.Ф. Комиссаржевской, в 1912 г. был открыт Луна-парк. На рубеже XIXXX вв. Коломна приобрела черты респектабельного района: были построены особняки членов императорской семьи и придворной знати» [Боброва… 2005, 2007: 2], но к этому времени Глинский уже проживает по другим адресам. Сюда же в 1886 г. пришел П.Я. Шевырев, один из организаторов покушения на Александра III. В 1887 г. Глинский переезжает на новую квартиру, но данный адрес не сохранился, зато сохранилось описание интерьера в сцене обыска в автобиографической статье «В тюремном заключении». Квартира состояла из нескольких комнат. В обстановке кабинета прежде всего обращают на себя внимание письменный стол и книжный шкаф. «Начинается длинная и скучная процедура отмыкания ящиков, вынимания оттуда разных писем, бумаг, документов» [Глинский 1906. №6: 857], а также выписок, брошюр, обрывков бумаги... Всего этого оказалось достаточно много, поскольку Глинский начал уже немного работать в «Историческом вестнике». Среди описанных предметов особо интересно упоминание визитных карточек Ореста Федоровича Миллера, что свидетельствует о том, что учитель доверяет ученику и разрешал рекомендоваться тому от своего имени. «Когда осмотр письменного стола закончился, пристав подходит к книжному шкафу...» [Глинский 1906. №6: 858] 256 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Здесь же мы находим описание комнаты, в которой обращает на себя внимание только дамский письменный стол, который не вызывает особого интереса у пристава. Наличие данного предмета мебели наталкивает на размышление: был ли Глинский женат, были ли у него дети? Дамский стол – предмет женского интерьера, но иногда такие вещи попадали в холостятский интерьер, как наследство от хозяина меблированных комнат, обстановка которых считалась универсальной для любого арендатора: будь то семья или только что вступающий в жизнь выпускник университета. Но важно упоминание самого Глинского о тех, с кем он прощается при аресте: «Я нервно бодр, даже весел, но не могу не сознаться про себя, что в мою жизнь, тихую и семейную, ворвалось что-то совсем ненужное, постороннее и досадное...» [Глинский 1906. №6: 858]. Напомним, что еще год назад, в рамках этого же очерка, он называет себя «холостым бобылем». Здесь же мы находим еще одно упоминание о семье: «...когда мое семейство переехало на дачу в Иеве, местечко на Балтийском побережье, в Эстляндии, я преисправно отправлялся туда на побывку каждую пятницу, накануне свободных от службы дней – субботы и воскресенья» [Глинский 1906. №6: 864] (дача, к слову сказать, – это тоже явление культурной жизни, которое появилось на рубеже XIX – XX вв. после разорения дворянских усадеб). Возможно, за этот год Б.Б. Глинский и женился. Сейчас же нас интересуют адреса, связанные с арестом Глинского. Первый адрес по данному делу – это угол Гороховой и Адмиралтейской улиц, где находилась приемная градоначальника. Здесь его впервые допрашивали. Сюда же являлись свидетели по делу: «Вот грузная фигура кривоглазого старшего дворника с Офицерской улицы, дом №1, где я более года жил в меблированных комнатах, вот молодое красноватое лицо не то писца, не то человека на посылках, в одном знакомом мне литературном семействе консервативного лагеря, вот еще лица, примелькавшиеся на улицах, в особенности на бойких углах столичного центра...» [Глинский 1906. №6: 859]. Список очень интересен, поскольку всех этих людей (кроме писца. – М.М.) опрашивали в первую очередь по самым разным уголовным, политическим делам. Бойкие торговцы частенько выступали в роли осведомителей, а в полномочия дворника всегда входила обязанность следить за порядком в доме и докладывать в ближайший участок о малейшем подозрении на нарушении порядка, при обысках именно они становились понятыми, как в данном случае. Под арестом Глинский пробыл до вечера, а вечером был отпущен, но с условием, что за ним будет установлена слежка. «По совести говоря, я не придавал этому серьезного значения, и если что меня беспокоило, то это вопрос о том, как отнесется и к моему аресту, и к моему делу мое банковское начальство, и как бы это не отразилось на моем служебном положении, а скрыть все от начальства я по долгу чиновной службы не имел права...» [Глинский 1906. №6: 863]. Во главе заведения тогда стоял Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 257 молодой деятель, ученик Н.Х. Бунге, некий г. К-в, «которому в те дни князь Мещерский в «Гражданине» создавал не по заслугам репутацию опасного либерала и гонителя дворянства....» [Глинский 1906. №6: 863]. Началась жизнь под надзором, которая в сущности не доставляла Глинскому никакого неудобства. Но приговор по делу все же был вынесен, спустя время. Публициста – «революционера» приговорили к 10 дням тюремного заключения. От подобного наказания Глинский даже опешил: «Точно мальчишку за шалость сажают на несколько дней в карцер на хлеб и воду, да еще по высочайшему повелению...» [Глинский 1906. № 6: 865]. Арест был весьма странен, поскольку автору даже разрешили явиться под арест на следующий день после традиционного студенческого обеда. Далее же описываются непосредственно «места заключения». Из местной части на Гороховой и Загородной улицах он попал в место первого своего заключения «под шары»: сюда доставляли обычно нетрезвых дворян, найденных в разных частях города. Преступник, да еще политический, было удивительное явление для данного места. Поселили его «в одиночную камеру с чистой постелью, уютной обстановкой...» [Глинский 1906. № 6: 868] Здесь Глинскому было разрешено многое: курить, читать книги, есть домашнюю пищу. Но заключенного перевозят в Выборгскую тюрьму, знаменитые «кресты», которые были построены по последнему слову тюремной техники: «В моем расположении оказалась комната шагов семь в длину и четыре в ширину, с одним высоко поставленным окном, из которого можно было глядеть, только взобравшись на прикрепленный к стене деревянный небольшой стол, что, однако, согласно тюремным правилам, строго возбранялось. К левой от входа в комнату стене была прикреплена подвесная койка с жидким на ней матрацом и такой же плоской подушкой (кровать на ночь опускалась, а на день запиралась на замок. – М.М.); покрывалом служило байковое одеяло. Между кроватью и входной дверью стояла так называемая «парашка» какого-то герметического устройства, дабы в комнате не распространялось зловонье. В углу возле окна, на уровне человеческого роста подвешена была полка, на которой помещались две оловянные тарелки, глубокая и мелкая, такая же ложка и кружка для воды. В другом углу так же подвешена была полка с кувшином для воды. Возле стола стоял деревянный передвижной табурет» [Глинский 1906. №6: 869]. Вот и все убранство комнаты. Здесь уже вольности не дозволялись. Единственное, что было разрешено, – чтение, но и оно не радовало. Примечательно и то, что Глинский, обещая приехать сдаться под арест на следующий день после традиционного студенческого обеда, говорит, что сменит фрак на арестантский халат – еще одна деталь быта той эпохи. Арестант должен был носить особый халат вместо светской одежды, на ноги, как правило, надевались легкие ботинки. Если арестованного переводили в разряд каторжан, то костюм, естественно, менялся. Глинский был освобожден 19 февраля 1887 г. С 1887 г. писатель начал постоянно сотрудничать в журнале 258 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «Исторический вестник», где проработал вплоть до его закрытия в 1914 г. С этим изданием связан значительный период жизни Б.Б. Глинского. Здесь его чествовали в связи с двадцатипятилетием литературной деятельности. Юбилей отмечался на улице Галерной, дом 33, в роскошной театральной зале Шебеко в 1912 г. «с особой торжественностью и редким единодушным сочувствием многочисленных сотоварищей, друзей, почитателей и видных представителей журналистики» [В.Е.Р. <В.Е.Рудаков> 1912. №3: 1064]. К слову сказать, на долю Глинского – редактора выпадет еще один юбилей – тридцатипятилетие журнала в 1915 г. Этому событию посвящены заметка «Тридцатипятилетие "Исторического вестника"» [Тридцатипятилетие «Исторического вестника» 1915. №1: 334-335] и очерк «Исторический вестник» за 35 лет» [Глинский 1915. №1: 180-207]. В 1914 г. публицист, будучи уже редактором журнала, переселяется по новому адресу – ул. Бассейная, дом 28 (С декабря 1918 г. это улица Некрасова, названная в честь классика русской литературы, который проживал в соседнем доходном доме; теперь здесь находится его музейквартира). [Суворин 1914.]. Улица получила свое название от двух искусственных Лиговских каналов – бассейнов, из которых вода по трубам поступала в Летний сад. За Глинским тогда был уже закреплен телефон (12932), что являлось значимой приметой известного и уважаемого человека. По своему редакторскому статусу он должен был проживать на третьем престижном этаже. Престижным этот этаж стал с введением в доходных домах лифта (сначала гидравлического, а с 1880-х гг. электрического), а под окнами стали ездить автомобили, грохот которых был менее слышан на высоте третьего этажа. «Согласно переписи 1890 г., большинство квартир в Петербурге (40 процентов) состояло из трех – пяти комнат (не считая кухни и передней), стоимостью от 500 до 1000 рублей в год; а еще 24,4 процента составляли квартиры из двух комнат, со средней ценой 30 рублей в год. Заработок же среднего семейного петербуржца превышал 100-125 рублей в месяц» [Юхнева 2003. №1: 128]. При аренде квартиры необходимо было обращать внимание на наличие в доме лифта и на систему отопления: входят ли дрова в плату за квартиру или нет. К концу XIX в. комнаты в квартирах доходных домов стали изолированными, мода на анфилады прошла. Поэтому ушли в прошлое передние, вестибюли, а в моде стал длинный коридор, в который выходили все комнаты. Как правило, в распоряжении средне состоятельного человека оказывались: гостиная, в которой часто располагалась и столовая, спальная (могла быть также и детская), кабинет, кухня… В интерьерах использовались недорогой паркет, крашенный краской, обои. В гостиной обязательно должен был располагаться музыкальный инструмент, всевозможные диваны, кресла, столики. Это предпоследний адрес, по которому проживал Глинский. Его мы можем найти только в популярном телефонном справочнике А.С. Суворина за 1914 г. Последним же его адресом считается ул. 2-я Рождественская, дом 19, Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 259 квартира 17 (Телефон 129-32), упоминание которого мы находим в воззвании общества «Самодеятельная Россия» и в заметке «Оштрафование его, как редактора» [Воззвание общества «Самодеятельная Россия» 1915. №4: 342; Оштрафование его, как редактора. 1915. №11: I] (обратим внимание на номер телефона. Адрес другой, а номер тот же. В начале XX в. номера телефона закреплялись не за адресом, как сегодня, а за конкретным человеком). В годы первой мировой войны писатель выступает с горячими призывами к согражданам вступать в ряды мирной армии. «Теперь германцы открыто напали на нас, но до войны они наводнили нашу страну шпионами, покрыли сетью своих колоний, а через свои торговые и фабричные предприятия переводили наши деньги к себе, обогащая Германию и разоряя Россию» [Воззвание общества «Самодеятельная Россия» 1915. № 4: 341]. Общество «Самодеятельная Россия» располагалось по Вознесенскому проспекту, дом №55. Освящение этих помещений произошло 8 марта 1915 года. П.В. Лавров – автор заметки «Избрание его председателем правления общества «Самодеятельная Россия» [Лавров 1915. №5: 701] – отмечает, что главная цель данного общества заключалась в том, чтобы освободить Россию от немецкого засилия в разных областях человеческой деятельности. «В правление нового общества выбраны были: Б.Б. Глинский (председатель), П.В. Лавров (делопроизводитель), Н.И. Тур, Н.П. Фомин, В.М. Шахов (секретарь), А.В. Скугаревский, Э.Э. Новицкий, В.В. Таюрский, кн. А.К. Мещерский, Н.А. Томилин, А.С. Жебелев, В.И. Никаноров, Г.П. Сацыперов, А.Л. Синягин. В совет избраны: Г.Г. Извеков (председательствующим), А.Н. Антипов, А.Н. Брянчанинов, Д.Н. Вергун, протаиерей Н.Г. Кедринский, акад. В.Е. Маковский, князь С.П. Мансырев, И.С. Терский, Н.Ф. Рахманинов, Е.С. Шумигорский, В.И. Харчев и др. Кроме того, на собрании оставлены комиссии торговопромышленная, земельная и финансово-кредитная и одобрена программа деятельности на текущий год» [Лавров 1915. №5: 701]. Выступления Глинского были настолько активны в эти годы, что цензура начинает относиться к «Историческому вестнику» с особым вниманием, в результате чего сначала сокращается тираж журнала, затем на редактора налагается штраф: «Председатель военно-цензурной Комиссии отношением от 10 октября с.г. за №5195 уведомил г. градоначальника, что главный начальник петроградского военного округа 9 сего октября приказал наложить на редактора журнала «Исторический вестник» титулярного советника Бориса Борисовича Глинского (жительствующего на 2-й Рождественской ул., д. 19) денежный штраф в размере пятисот рублей за помещение в №10 названного журнала статьи А.И. Кривощекова под названием «Легенды о войне» без представления таковой на предварительное рассмотрение военной цензуре» [Оштрафование его, как редактора. 1915. №11: I], а после журнал был и вовсе закрыт в августе 1917 г. Улица 2-я Рождественская, дом 19, квартира 17 – последний адрес 260 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Бориса Борисовича Глинского, где он, вероятно, умер. Найти этот дом сегодня очень трудно, потому что на рубеже веков в Петербурге насчитывалось пятнадцать Рождественских улиц. Часть из них были переименованы. Какая из них считалась тогда второй уже определить, к сожалению, невозможно. Важно еще одно упоминание, которое мы встречаем в заметке «Оштрафование его, как редактора». На 1915 г. Глинский уже дослужился до чина титулярного советника. По чиновничьей лестнице публицист продвинулся с XI к IX классу. Чин титулярного советника вовсе не мал, как кажется, читая художественные произведения этой эпохи, наоборот, он соответствует армейскому капитану, хотя и не давал право на личное дворянство. За носителем этого чина сохранялось дворянство при условии принадлежности к дворянскому роду. Многие титулярные советники оставались в таком чине всю жизнь, поэтому их часто неуважительно звали титулярами или титулярушками. Часто такие люди становились героями, «маленькими людьми» в произведениях современников. Но встречались среди них те, кто были вполне удовлетворены своим положением. Они не стремились к более высоким чинам, довольствуясь финансовым благополучием, если такое было, постоянным самоотверженным трудом. По сути, они являлись подлинными интеллигентами. Судя по тем условиям, в которых жил Б.Б. Глинский – квартира в доходном доме в одном из центральных районов Питера той эпохи, телефон, успешное ведение дел в продолжение длительного периода времени – чин титулярного советника не доставлял ему особого беспокойства. Борис Борисович Глинский умер в 1917 г. после последнего ареста. Похоронен он на Литераторских мостках Волкова кладбища. Могила по форме напоминает Ноев ковчег. Это традиционная форма петербургских захоронений. Горожане считали, что именно на таких лодках умершие переправляются в иной мир. Сверху на ковчег клалась мраморная белая таблица с обозначением имени умершего и годами его жизни, напоминающая чем-то подушку, лежащую в изголовье. К сожалению, сегодня практически забыто не только имя Глинского, заброшена и его могила. Обнаружить ее было очень сложно, поскольку почти стерлась надпись, вся могила заросла травой… Прежде, чем прочитать имя на таблице, ее необходимо отмыть. Единственный ориентир, по которому можно найти могилу писателя – захоронение А.А. Блока и его семьи, которое находится напротив. Попадая на Литераторские мостки Волкова кладбища, иначе начинаешь воспринимать актуальную проблему «забытых имен». Безумно жалко видеть то, как мы становимся Иванами родства не помнящими. Литература Аксенова Л. Круче золотого рудника: жизнь питерского доходного дома // Родина. 2006. №8. БГ [Б.Б.Глинский] Похороны И.С.Тургенева (Страничка из воспоминаний) // Исторический вестник. 1908. № 9. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 261 Боброва Е.Н., Дужая Е.В., Муратов А.М. Последний адрес А.А.Блока. СПб., 2005,2007. Бодрова Ю. Как во новой во конторе сидел писарь молодой: брачное поведение провинциального чиновничества первой половины XIX столетия // Родина. 2006. № 8. В.Е.Р. <В.Е.Рудаков> Чествование Глинского // Исторический вестник. 1912. № 3. Воззвание общества «Самодеятельная Россия» // Исторический вестник. 1915. № 4. Георгиев И.И., Иванова И.Н. и др. Санкт-Петербург: занимательные вопросы и ответы СПб., 2008. Глинский Б.Б. В тюремном заключении: отрывок воспоминаний // Исторический вестник. 1906. №6. Глинский Б.Б. Из летописи усадьбы Сергеевки // Исторический вестник. 1894. № 10 Глинский Б.Б. «Исторический вестник» за 35 лет // Исторический вестник. 1915. № 1. Измайлов А.А. Б.Б.Глинский // Исторический вестник. 1912. №2. Кобак А.В., Пирютко Ю.М. Исторические кладбища Санкт-Петербурга. М.; СПб., 2009. Кушниров М. Тюрьма в России больше, чем тюрьма // Родина. 2006. №8. Лавров П.В. Избрание его председателем правления общества «Самодеятельная Россия» // Исторический вестник. 1915. № 5. Оштрафование его, как редактора // Исторический вестник. 1915. № 11. Пирютко Ю. Плоды просвещения Железного века // Вокруг света. 2003. № 7. Пукинский Б.К. 1000 вопросов и ответов о Ленинграде. Л, 1974. Суворин А.С. Весь Петербург, 1914. Тридцатипятилетие «Исторического вестника» // Исторический вестник. 1915. № 1. Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта XIX в. 5-е изд. испр. М, 2002. Шубинский В. Город мертвых и город бессмертных: об эволюции образов Петербурга и Москвы в русской культуре XVIII – XX вв. // Новый мир. 2000. № 4. Юхнева Е. Дом для петербуржца // Родина. 2003. № 1. Юхнева Е. Дом для «старых русских»: Барская квартира сто лет назад // Родина. 2003. №10. Ю.С. Ромайкина (Саратов) Альманах как тип издания в русской литературе Научный руководитель – профессор А.А. Гапоненков Несмотря на то, что формально первым русским альманахом является сборник М.М. Хераскова «Российский Парнас» (1771), зачинателем моды на альманахи принято считать Н.М. Карамзина, выпустившего в 1794 г. литературный альманах «Аглая», а в 1796 г. – первую книгу «Аонид». Однако ни альманахи Н.М. Карамзина, ни предшествующие им сборники не отражали, как выразился Н.П. Смирнов-Сокольский, «биения пульса русской литературы и ее идеологических боев в XVIII в.» [СмирновСокольский 1965: 14]. С этой задачей вполне справлялись книги и журналы. Роль зачинателя первого «альманашного» периода принадлежала альманаху А.А. Бестужева и К.Ф. Рылеева «Полярная звезда» (1823-1825). В 30-е гг. XIX в. увлечение поэзией пошло на спад и резко повысился интерес к художественной прозе. Следовательно, «карманные» альманахи уступили место «толстым» журналам. Но вскоре периодические журналы попали под запрет. Этот факт способствовал появлению так называемого второго 262 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «альманашного» периода. Первым альманахом новой формы является сборник А.Ф. Смирдина «Новоселье» (1834 г., повторное обновленное и расширенное издание – 1845 г.). В последние годы царствования Николая I и первые годы правления Александра II периодическим изданиям разрешили касаться вопросов политики. Поэтому эпоха 60-х гг. XIX в. ознаменовалась бурным развитием периодических органов печати, что, соответственно, снизило значение и роль альманахов и литературных сборников. История повторилась, и ужесточение цензурных законов способствовало расцвету альманахов в конце XIX – начале XX в. Соответственно, можем выделить третий «альманашный» период, начавшийся с 1894 г., когда в свет вышел первый выпуск альманаха «Русские символисты», и закончившийся после революции 1917 г. В данной статье мы ограничились рассмотрением альманахов и литературных сборников дореволюционной России. Нет единого и универсального определения понятия литературного альманаха. В «Краткой литературной энциклопедии» читаем: «Альманах – сборник литературных произведений, часто объединенных по какому-либо признаку (тематическому, жанровому, идейно-художественному, областному и др.); как правило, выходит непериодически» [СмирновСокольский 1962: 173-174]. Это определение является неполным и не выявляет многих характеристик. Для создания более точного представления о сущности литературного альманаха рассмотрим некоторые проблемы, связанные с его описанием и классификацией, а также попытаемся выявить различия между ним и сборниками, журналами и газетами. Первую попытку составить библиографическое описание альманахов предпринял в 1893 г. граф Е. В. Путятин, приведя их заглавия и дату выхода в свет. Заголовок Е.В. Путятин считал одной из характеристик данного типа издания. Примечательно, что альманахи начала XX в. («Северные цветы», «Цветник Ор», «Белые ночи», «Шиповник») по наименованию созвучны с изданиями рубежа XVIII и XIX вв., а также со сборниками первого «альманашного периода» («Аглая», «Аониды», «Полярная звезда», «Северные цветы» А.А. Дельвига и О.М. Сомова). С.А. Венгеров в «Русских книгах» представил «Список альманахов и литературных сборников» с росписью содержания. Однако этот список оказался неполным. Более подробный перечень альманахов XVIII и XIX вв. составил Н.П. Смирнов-Сокольский, издавший в 1956 г. предварительный список, а в 1965 г. окончательный вариант «Русских литературных альманахов и сборников XVIII-XIX вв.» с пояснениями, историей возникновения, а в ряде случаев и с рассказами о цензурных преследованиях. Н.П. Смирнов-Сокольский, пренебрегая формальными признаками альманаха (например, фигурированием в названии сборника слова «альманах»), подходил к отбору материала индивидуально, «по их Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 263 (альманахов.– Ю.Р.) наполнению и по отчетливо выраженному намерению их соавторов, составителей и издателей дать читателю именно альманах или сборник» [Смирнов-Сокольский 1965: 9]. При подобном субъективном подходе исследователь так и не смог сформулировать четкие характерологические признаки альманаха как типа издания. В рецензии на библиографическое описание альманахов 1900-1927 гг., составленное О.Д. Голубевой и Н.П. Рогожиным, П.Н. Берков называл главным недочетом разногласие авторов в принципах отбора материала: можно ли причислить к альманахам сборники переводов произведений иностранных писателей, детские сборники, «замаскированные журналы»? [Берков 1959: 239-243] Из сказанного очевидно, что нельзя проводить практическую работу по созданию библиографии альманахов, не решив теоретические вопросы, касающиеся их жанровой сущности. Большинство исследователей, например, библиограф Николай Соловьев, С.А. Венгеров, отрицает возможность считать альманахами сборники одного автора и перепечатанных произведений. Однако некоторые книговеды, в частности, Н.П. Смирнов-Сокольский, опровергают данное мнение, полагая, что, если содержание сборника соответствует характеристикам издания данного типа, а по намерению не является собранием сочинений определенного писателя, то один человек может быть автором всего альманаха. Альманахи Серебряного века не являлись сборниками одного автора, в них печатались разные писатели, как правило, представляющие определенное литературное направление. Так, например, авторский состав сборников товарищества «Знание» (с 1904 по 1913г. вышло 40 книг) формировался писателями-реалистами (М. Горький, Л. Андреев, И. Бунин, В. Вересаев, Н. Гарин, С. Гусев-Оренбургский, А. Куприн, А. Серафимович, Скиталец, Н. Телешов, Е. Чириков, С. Юшкевич и др.). В символистских «Северных цветах» (выпускались издательством «Скорпион» в 1901, 1902, 1904, 1905 и 1911г.) печатались К. Бальмонт, З. Гиппиус, Н. Минский, Ф. Сологуб, К. Фофанов и др. Правда, для увеличения читательской аудитории в первый выпуск были привлечены А.П. Чехов и И.А. Бунин. Но данный факт не отрицает общую символистскую направленность альманаха. В альманахах издательства «Гриф» (1903, 1904, 1905, 1914) публиковались А. Белый, С. Соколов, В. Гофман, Н. Ярков, Н. Петровская, М. Дурнов. Как заметила О.Д. Голубева, «альманахи превратились в трибуны, с которых представители того или иного литературного направления, той или иной литературной группировки провозглашали свои эстетические, а через них и общественно-политические взгляды» [Голубева 1960: 302]. Здесь стоит говорить о принципах «кружковости», зародившихся еще в конце XVIII – начале XIX вв. Так, Е.И. Покусаев писал, что альманах 1810-1820-х гг. «отвечал скромным издательским потребностям того или 264 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 иного дружеского писательского кружка, литературного общества или литературного салона начала XIX в.» [Покусаев 1952: 8]. После 1906 г. выпуск альманаха все менее связывался с определенным литературным направлением. Так, например, в основе сборников издательства «Шиповник» (с 1907 по 1917 г. было издано 26 книг) лежал принцип эклектизма (по В. А. Келдышу), то есть соединения разнородных художественных элементов. В альманахе печатались писатели – реалисты и неореалисты (А. Серафимович, И. Бунин, С. Юшкевич, В. Муйжель, А. Чапыгин, А. Толстой, М. Пришвин) и авторы символистскомодернистского направления (А. Блок, В. Брюсов, А. Белый, К. Бальмонт, Г. Чулков, Ф. Сологуб, Н. Минский). Эклектизм «Шиповника» нельзя приравнивать к попыткам коммерческих альманашных изданий угнаться за модными веяниями современной беллетристики, но не стоит и отрицать данный фактор. Разными книговедами предпринимались попытки определить место альманаха в системе периодической печати с помощью выявления различий между альманахом и такими типами изданий, как сборник, газета и журнал. Практически все исследователи признают генетическую общность альманаха и литературного сборника. Например, С.А. Венгеров при составлении списка альманахов в конце XIX в. замечал: «Термин "альманах", бывший в большом употреблении в 20-х и 30-х гг. текущего столетия – эпоху особенного расцвета литературы альманахов – во второй половине века почти исчезает и заменяется словом "сборник". Но так как по существу такие литературные и научно-литературные сборники ничем не отличаются от альманахов, то мы и их поместили в настоящий перечень» [Венгеров 1897: 14]. Современные исследователи отмечают метонимический характер соотношения альманах/сборник, считая альманашный сборник «специализированной ипостасью альманаха, его основной типологической разновидностью» [Балашова 2009: 118]. Книговеды пытались разграничить журналы и альманахи. Н. Соловьев, С.А. Венгеров, П.Н. Берков полагали, что альманах можно считать отдельной книжкой журнала, выходящего в неопределенные сроки и в неопределенном количестве номеров. Переходный характер альманаха как типа издания подчеркивал Н.П. Смирнов-Сокольский, классифицировав некоторые издания как «полужурналы-полуальманахи» [СмирновСокольский 1959: 425-428]. В.Г. Белинский видел разницу между альманахами и периодическими изданиями не во внешних формах, а во внутреннем содержании: «...журнал должен быть чем-то живым и деятельным...» [Белинский 1954: 55]. Выпускающиеся периодически журналы злободневны, они призваны формировать общественное сознание, тогда как в альманахах публицистические и литературно-критические статьи вообще факультативны, а упор делается на художественное содержание издания. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 265 Историческими и политическими событиями в России объясняется отчетливо прослеживающаяся смена периодов популярности журнала и альманаха на протяжении XIX и в начале XX в. Также стоит отметить, что сама по себе организация альманаха была проще, чем организация журнала. Для издания сборников не требовалось наличия постоянного состава сотрудников и подписчиков, не нужно было придерживаться строгих сроков выхода в свет. Несмотря на склонность альманаха преобразовываться в журнал, существуют примеры трансформации журнала в альманах. Так, в начале XX в., чтобы избежать цензурных и административных репрессий, зачастую издатели придавали «неблагонадежным» журналам вид альманахов: не обозначались срок выхода, имя редактора и подписная цена. Сопоставление альманаха с газетой не имеет практического смысла, так как это явления принципиально разного характера. Различия между данными типами изданий очевидны как на жанрово-тематическом уровне, так и в функциональном плане (основное назначение газеты – информирование, альманах же выполняет, в основном, эстетическую функцию). Таким образом, типичным литературным альманахом можно назвать выходящий непериодически, не имеющий постоянного состава издателей и подписчиков, без обозначения сроков выхода в свет, имени редактора и подписной цены сборник, состоящий, в основном, из напечатанных впервые художественных произведений, как правило, разных авторов. В системе периодической печати альманах тождествен сборнику, противопоставлен газете и отчасти взаимозаменяем с журналом. Литература Балашова Ю.Б. Альманах в системе периодики (корреляция с основными типами периодической печати) // Известия Уральского гос. ун-та. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2009. Т. 67. №3. Белинский В.Г. Полн. собр.соч.: в 13 т. М., 1954. Т. 4. Берков П. О библиографиях литературно-художественных альманахов и сборников // Русская литература. 1959. № 2. Венгеров С.А. Русские книги: с библиогр. данными об авторах и переводчиках (1708– 1893). Т. 1. СПб, 1897. Голубева О.Д. Из истории издания русских альманахов начала ХХ века // Книга. Исследования и материалы. М., 1960. Вып. 3. Покусаев Е.И. Белинский и русская журналистика // Ученые записки Сарат. ун-та. Саратов, 1952. Т. 31, вып. фил.: сб. ст., посвящ. В. Г. Белинскому. Смирнов-Сокольский Н.П. Альманах // Краткая литературная энциклопедия. Т. 1. М., 1962. Смирнов-Сокольский Н.П. Рассказы о книгах. М., 1959. Смирнов-Сокольский Ник. Русские литературные альманахи и сборники XVIII – XIX вв. М., 1965. 266 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 А.Р. Муляева (Саратов) Литературная критика 1920-х гг. в осмыслении Вяч. Полонского Научный руководитель – профессор Е.Г. Елина Трудно переоценить ту роль, которую сыграла литературная критика 1920-х гг. в становлении советского государства. Являясь одним из важнейших средств пропаганды, литературная критика, однако, не была чемто цельным или, по крайней мере, однородным: каждый из участников литературного процесса, будь то группировка (ЛЕФ, РАПП, Перевал) или отдельный литературно-критический деятель (А.В. Луначарский, Л.Д. Троцкий, В.П. Полонский), отстаивал собственную идеологическую платформу. Таким образом, из диспутов между представителями различных литературно-критических группировок складывался единый «литературный фронт». Литературно-критический процесс эпохи 1920-х гг. всесторонне рассмотрен в работах: Г.А. Белой, Е.Г. Елиной, М.М. Голубкова, С.И. Шешукова, В.В. Эйдиновой и других. Литературная критика послеоктябрьских лет оказала беспрецедентное влияние на общественное сознание эпохи [подробнее Елина 1994]. На страницах литературно-критических журналов велось обсуждение наиболее сложных и острых вопросов времени. Едва ли не самым спорным был вопрос о самой литературной критике: ее задачах, целях и направлениях развития. Революционный пафос послеоктябрьской эпохи сообщал критике известную воинственность: она признавалась «одним из главных воспитательных орудий в руках партии» [Власть и художественная интеллигенция 1999: 156], а в критике непременно должен был «жить настоящий темпераментный боец» [Луначарский 1967: 330], который служит делу революции. Естественно, что литература этого времени складывалась под сильнейшим влиянием критических деятелей: «Вкусы читателей формировались под мощным прессом литературно-критических уложений» [Елина 1994: 31]. Пропорционально усилению роли критики в советской действительности возрастало внимание к ее создателям. В.П. Полонский представлял собой прекрасный образец критика 1920-х гг.: успешный редактор, талантливый, плодовитый журналист и критик, активный участник литературного процесса. Ему удалось не только сформулировать собственную методологию анализа художественных произведений, но и претворить ее в жизнь в своих работах. В текстах Полонского содержится превосходное исследование художественных произведений, а также исчерпывающий анализ литературно-критического процесса эпохи. Вяч. Полонский справедливо отмечал, что «никогда, быть может, критика не приобретала такого большого значения, как теперь» Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 267 [Полонский 1988: 367]. Предназначение литературной критики эпохи, по его мнению, состояло в том, чтобы служить развитию и совершенствованию советской литературы, которая, в свою очередь, оказывала непосредственное воздействие на общественное сознание масс. Перед критиками-коммунистами была поставлена масштабная задача – переоценить «старую литературу с новой точки зрения» [Полонский 1925: 65]. Помимо переоценки необходимо было проведение строгого отбора полезных для пролетарского читателя произведений, которые могли бы «поднимать культурно-художественный уровень масс, развивать их вкус, обогащать их знания, прививать культурные привычки, вызывать художественное творчество масс» [Полонский 1927: 228]. Критикам предстояла огромная работа по выявлению опасных (для читательского сознания и развития литературы) художественных текстов и освобождению литературы «от суррогатов, от псевдолитературы, от калек и убогих» [Полонский 1927: 214]. Однако для достижения заявленных целей критике предстояло преодолеть ряд существенных проблем: Полонский признавал, что критика 1920-х гг. находилась «в плену кружковых интересов», была «поверхностна, нередко малограмотна, бранчлива», вносила «в литературное движение склоку, сведение личных счетов, нередко инсинуации, дрязги, ненужную резкость» [Полонский 1929: 178]. В письме Горькому, датированном апрелем 1928 г., Полонский писал, что «советская критика сейчас в плачевном положении»: «она не пользуется никаким авторитетом» и «потеряла всякий кредит» [Новый мир. 1986. № 7: 212-213]. Причины низкого уровня критики Вяч. Полонский видел в отсутствии теоретически обоснованной и применимой на практике методологии – «отточенного, закаленного, крепкого оружия марксистской критики» [Полонский 1988: 368]. Вяч. Полонский не уставал повторять, что «марксистская критика не дана, а задана. Это значит: критику нашу надо строить, и мы – ее строители» [Полонский, 1988: 368]. Рекомендации партии должны были определить основные черты метода, а сами критики в спорах и обсуждениях – определить его формулировку. Полонский подчеркивал, что роль «строителей» в достижении задач литературной критики чрезвычайно высока: «критик по своей природе является тем представителем общества, функцией которого является идеологическую борьбу разжигать, доводить ее до высокого напряжения, ставить перед обществом основные вопросы, вовлекать в их обсуждение, выяснять их до тонкостей, защищать свою «правду», за которой стоит правда общественная, классовая, групповая. Критик – это орган классового, группового самосознания» [Полонский 1929: 178]. Однако дефицит квалифицированных кадров послереволюционных лет давал о себе знать. В своем дневнике Вяч. Полонский писал, что многие критики, претендующие на важную роль в создании облика советской 268 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 литературы, не имеют элементарного образования. Так например, Л.Л. Авербах заявлял: «а мы, знаете ли, не имели времени учиться. Я, например, кончил только три класса гимназии, Киршон – пять классов, – никто не окончил среднего учебного заведения» [Полонский 2008: 145]. Непрофессионализм и отсутствие необходимого культурного и образовательного уровня у критиков приводили к невыполнению первостепенных критических задач. В.П. Полонский отмечал, что главным пороком критики 1920-х гг. являлась ее необъективность: «Она нередко бранит несправедливо. Еще менее справедливо хвалит, частенько перехваливает и захваливает. Литература наша страдает не столько от критической придирчивости, сколько от некритического добродушия» [Полонский 1927: 214]. Среди «профессиональных» качеств современных ему критиков Полонский отмечал также несправедливость, лживость, неумение разделять личные и профессиональные суждения и т.д., тогда как необходимы были «пафос борьбы, молодая заносчивость, вера, переходящая в самоуверенность» [Полонский 1925: 48]. Промахи критики определили в корне неверное отношение к ней со стороны писателей: «если [критик] хвалит – хорош, друг, умница; если бранит – плох, враг, бездарь» [Полонский 1988: 55]. С точки зрения писателя, утверждал Полонский, задача критика «заключается в информации читателя о достоинствах новейших произведений, даже если они полны недостатков» [Полонский 1929: 179]. Для Вяч. Полонского же не существовало критики: «без такой способности искренне и открыто говорить в глаза что думаешь» [Новый мир 1986. № 7: 212]. По мнению Вяч. Полонского, задача критика состояла в том, чтобы «честно и открыто, нелицеприятно критиковать его промахи, указать на его ошибки» [Полонский 1930: 283-284]. Критик, не способный сделать это, наносит непоправимый вред советской литературе. В своей работе Полонский придерживался мнения, что злая, недружелюбная критика приносит литературе гораздо больше пользы, чем необъективная похвала, которая лишает писателя необходимости совершенствоваться в творчестве. Критик считал, что настоящую литературу должны создавать авторы, которые не боятся объективной мнения: «что выдержит – то хорошо, что разлетится в прах – туда ему и дорога!» [Полонский 1927: 214]. Одной из важнейших составляющих критической деятельности Полонский считал личную заинтересованность в собственном труде. Сам искренне ратовавший за новое советское искусства, он не мог простить своим коллегам равнодушное отношение к работе: «Ах, друзья мои, как было бы хорошо для нашей литературы, для нашего искусства, если бы у нас в жилах текла кровь погорячей, если бы у вас поменьше было беспристрастия, маски, за которой скрывается холодное или холодеющее сердце» [Полонский 1988: 46]. Называя критику «исканием истины», «борьбой за истину» [Новый мир 1931. № 10: 163], Полонский Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 269 подразумевал, что эту борьбу критики должны были вести и в своих рядах, в баталиях и дискуссиях создавая и совершенствуя методологию марксистской критики, которая позволила бы отвечать на запросы времени. Но создание и обсуждение идеологических платформ не должно подменять реальную критическую работу по формированию советской литературы: «Перед нами стоит сейчас задача создания не платформ о литературе, а самой литературы!» [Полонский 1923: 326]. Именно интересами литературы и искусства всегда руководствовался Вяч. Полонский в литературно-критической и редакторской деятельности. Критик прекрасно понимал, насколько существенен в этом большом деле вклад каждого из участников литературного процесса. В своих статьях он не просто обозначал недостатки современной критики, но намечал возможные пути решения существующих проблем. Суждения одного из самых авторитетных критиков эпохи 1920-х гг., безусловно, сохранили свою актуальность и сегодня. Его наследие, еще не изученное в полной мере, является бесценным источником знаний о сложном и противоречивом постреволюционном десятилетии и роли литературной критики и критиков в социокультурном контексте этой эпохи. Литература (Дискуссия в ВОСП По вопросам литературы) // Новый мир. 1931. кн. 10. Власть и художественная интеллигенция. Документы ЦК РКП(б) – ВКП (б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953. Под ред. А.Н. Яковлева. Cост. А.Н. Артизов, О.В. Наумов. М., 1999. Елина Е.Г. Литературная критика и общественное сознание Советской России 1920-х годов. Саратов. 1994. Луначарский А.В. Марксизм и литература // Собр.соч.: в 8 т. Т. 7. М., 1967. Новый мир. 1986. № 7. Полонский В.П. Графические искусства и культурная революция // Новый мир. 1927. кн. 12. Полонский В.П. Заметки о журналах // Печать и революция. 1923. кн. 5. Полонский В.П. Заметки о критике // Новый мир. 1929. кн. 11. Полонский В.П. К вопросу о наших литературных разногласиях. Критические заметки по поводу книги Г. Лелевича «На литературном посту» // Печать и революция. 1925. кн. 4. Полонский В.П. Критические заметки: О Бабеле // Новый мир. 1927. кн. 1. Полонский В.П. Моя борьба на литературном фронте // Новый Мир. 2008. № 5. Полонский В.П. О литературе. М., 1988. Полонский Вяч. Очерки современной литературы. М.; Л., 1930. 270 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 М.М. Соловьёва (Саратов) «Между империализмом и революцией»: зарубежные писатели в «Литературной газете» 1929-1934 гг. Научный руководитель – профессор Е.Г. Елина С самых первых лет существования советская власть принимала активное участие в мировом общекультурном процессе. Молодое советское государство участвовало в сельскохозяйственных выставках, налаживало торговые связи, показывало модные новинки кинематографа, популяризировало пролетарскую литературу. Не менее важным аспектом культурной политики нового государства была попытка вписать в идейно-политический контекст новой России творчество зарубежных писателей. В этой работе мы рассмотрим основные проблемы адаптации произведений зарубежных авторов в советском литературном процессе, взяв за основу своего исследования «Литературную газету» – орган Федерации Объединений Советских писателей. Мы берем во внимание материалы с 1929 по 1934 гг., так как считаем, что в современном литературоведении этому времени уделяется неоправданно меньше внимания, чем предыдущим и последующим десятилетиям. Между тем, рубеж десятилетий – время принципиально важное. Это переходный этап в развитии русской истории: именно в конце 1920-х гг. формируется государственная политика по отношению к искусству на ближайшие несколько десятков лет. Литература не является исключением – в 1930-х гг. внимание литераторов постепенно сосредотачивается вокруг окружающего писательского мира, формируется внутренняя литературная политика государства. Литературная критика также претерпевает некоторые изменения. По мнению современных ученых, в это время «вырабатывался такой подход к искусству слова, при котором оно становилось сферой идеологического воспитания и образования. Самобытность художественного мировидения во внимание не принималась: литературный текст был приравнен к тексту газетному, а литература становилась «частью общественного дела» в полном соответствии с идеологическими установками. Неискушенные читатели, критики-марксисты нередко осмысливали художественное творение как житейский пример, достойный или не достойный подражания» [История русской литературной критики 2002: 256]. Новая советская интеллигенция с большим вниманием относилась к зарубежным писателям. В начале 1920-х годов в стенах Московского Университета свои лекции по западноевропейской литературе читали Владимир Фриче и Анатолий Луначарский, главный кремлевский литературный критик Лев Троцкий в своих статьях не раз обращался к творчеству иностранных классиков и современников – Свифта, Сервантеса, Шницлера и Ибсена. В «Литературной энциклопедии», начавшей выходить Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 271 в это время, был опубликован целый ряд статей, посвященных представителям зарубежных культур. Однако стоит отметить, что авторы энциклопедии уделяли внимание в первую очередь именам прошлых лет и авторам ближнего зарубежья и Востока. (В первом томе за 1929 г. появляются статьи про абиссинскую литературу, армянских, грузинских, персидских поэтов и т.д.). В СССР организовывались заграничные командировки советских писателей. В связи с этим, мы можем вспомнить Илью Эренбурга, многие годы работающего во Франции, Михаила Кольцова, участника гражданской войны в Испании, Ильфа и Петрова, которых Советский Союз командировал в Соединенные Штаты Америки не когда-нибудь, а в трагически известном 1937 г. В конце 1920-х гг. интерес к зарубежной культуре со стороны правительства усиливается. В этом время советские литературоведы, разрабатывающие методы пролетарской критики, задумываются о принципах оценки иностранных произведений. В начале 1930-х гг. Луначарский приступает к разработке новаторского курса по истории западноевропейской критики, но не успевает воплотить свою идею в жизнь [Кафедра истории зарубежной литературы]. В это время власти начинают заботиться о качественном образовании для людей, имеющих отношение к Западу. В 1931 г. основывается ИФЛИ – Институт истории, философии и литературы, в котором особое внимание уделяет изучению зарубежных культур. По мнению некоторых современников, это был «элитарный вуз типа пушкинского лицея, созданный советской властью в тот момент, когда стало ясно, что нужны высокообразованные люди, чтобы иметь сношения с иностранными государствами» [Дорман 2010:111]. В 1927 г. в Советском Союзе организуется Международное объединение революционных писателей (прежде международное бюро революционной литературы) — организация, объединяющая пролетарские и революционные литературные силы всего мира [Литературная энциклопедия 1934: 85]. В состав МОРП входили писатели из Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Украины, Чехословакии, Латвии, Болгарии, Японии, Китая и Америки. В этом же году состоялась первая Международная конференция революционных писателей, на которой присутствовали, помимо местных писателей, иностранные, приглашенные на празднование 10-летия Октября (всего приблизительно 30 поэтов и писателей из 11 стран). В 1932 г. московский МОРП направил ирландскому писателю Джеймсу Джойсу анкету с вопросом: «Какое влияние на Вас как на писателя оказала Октябрьская Революция, и каково ее значение для Вашей литературной работы?». Письмо было подписано секретарём Союза Романовой. Джойс ответил через своего секретаря следующим письмом: 272 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «Милостивые государи, мистер Джойс просит меня поблагодарить вас за оказанную ему честь, вследствие которой он узнал с интересом, что в России в октябре 1917 г. случилась революция. По ближайшем рассмотрении, однако, он выяснил, что Октябрьская Революция случилась в ноябре указанного года. Из сведений, покуда им собранных, ему трудно оценить важность события, и он хотел бы только отметить, что, если судить по подписи вашего секретаря, изменения, видимо, не столь велики» [Знамя 1999: 202]. С 1933 г. при МОРПе начинает выходить толстый журнал, целиком и полностью посвященный культуре зарубежья – «Интернациональная литература» (сегодня – «Иностранная литература»). Можно утверждать, что до основания этого журнала единственным советским изданием, периодически публиковавшим произведения иностранных писателей, была «Литературная газета». «Литературная газета» – явление для общественной жизни конца 1920х–начала 1930-х гг. уникальное. Она отражает основные черты времени: противоречивость и непостоянство. Впервые за долгие годы в СССР выходит издание, не принадлежащее к определенному объединению, а, напротив, «…проводившее в области художественной литературы принцип свободного соревнования различных группировок и течений…» [ЛГ 1929: 22 апреля]. К тому же «Литературная газета» в отличие от журналов публикует информацию более злободневную и актуальную. Здесь публикуются «Вести с Запада», в которых читателям сообщают о присуждении Томасу Манну нобелевской премии или о конкурсе от итальянского издателя Мондадори на лучшую книгу [ЛГ 1929: 18 ноября]. Рядом с «Вестями» располагался небольшой подраздел «Sovetica» – эти новости посвящены судьбе российских книг на Западе. В нем рассказывается, например, о публикации в Америке романа Валентина Катаева «Растратчики» или книги «Революционные стихи Пушкина», вышедшей во Франции в переводе Валентина Париарха [ЛГ 1929: 18 ноября] и др. «Литературная газета», будучи трибуной для выступлений отечественных писателей, выполняет такую же функцию у зарубежных авторов. Здесь появляются естественно близкие советскому духу литераторысоциалисты, публикуются приветственные письма от «французского брата» Ромена Ролана («хочу, чтобы мое имя осталось написанным среди непоколебимых соратников новой России») [ЛГ 1929: 29 апреля], свои размышления о том, «какую бы я занял позицию в случае военного похода против СССР?», присылают пролетарские писатели Людвиг Турек, Анна Зегерс, Адам Шарер, а также «группа сюрреалистов», в числе которых находим Луи Арагона и Жоржа Садуль [ЛГ 1930: 30 июля]. Пролетарии часто обращаются к западным коллегам. Из открытого письма Кнуту Гамсуну, Герберту Уэльсу, Ромэну Ролану: «Как вы можете молчать, когда тринадцать лет, из года в год, из месяца в месяц ведется Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 273 бешенная кампания против Советского Союза?» [ЛГ 1930: 3 декабря] (Здесь и далее в тексте сохраняется авторская орфография и пунктуация). Создается впечатление, что западные писатели, разочарованные в либеральной политике и утомленные последствиями экономического кризиса, находят в «Литературной газете» отдушину для своих переживаний и выплескивают в своих открытых письмах накопившиеся эмоции: «У Америки никогда не было своего Брандеса, <…> своего Гете, – пишет в статье Синклер Льюис, – критикой у нас занялись завистливые старые девы, репортеры и прокисшие профессора» [ЛГ 1931: 19 января]. В Советской России литературной критикой часто занимались люди и вовсе не имеющие отношения к литературно-журналистской среде. Однако зарубежной прозе в «ЛГ» повезло больше – автором большинства критических статей был украинский литературовед Александр Михайлович Лейтес. Он «вырос в интеллигентской семье», а современники обвиняли его за «недооценку классовой борьбы в украинской литературе» [Литературная энциклопедия 1932: 185]. Пролетарской критике с ее марксистским подходом было сложно применять к зарубежной литературе те же мерки, что и даже к таким разным по форме и стилю советским произведениям, как, скажем, «Цемент» Гладкова или «Мы» Замятина. Вспомним основные принципы соцреализма, который в рассматриваемое нами время уже становился главенствующим методом в литературе. Пролетарскую литературу призывают к «народности», «партийности», «конкретность», подразумевая под этими понятиями рабочекрестьянское происхождение, революционную борьбу за светлое будущее, соответствие историческому материализму. Луначарский в статье «Социалистический реализм», разъясняя основы нового метода, объясняет, почему произведения зарубежного автора не могут соответствовать советским принципам. Он пишет: «Представьте себе, что строится дом, и когда он будет выстроен, это будет великолепный дворец. Но он еще недостроен, и вы нарисуете его в этом виде и скажете: "Вот ваш социализм, – а крыши-то и нет". Вы будете, конечно, реалистом, вы скажете правду: но сразу бросается в глаза, что эта правда в самом деле неправда. Социалистическую правду может сказать только тот, кто понимает, какой строится дом, как строится, кто понимает, что у него будет крыша. Человек, который не понимает развития, никогда правды не увидит, потому что правда – она не похожа на себя самое, она не сидит на месте, правда летит, правда есть развитие, правда есть конфликт, правда есть борьба, правда – это завтрашний день, и нужно ее видеть именно так, а кто не видит ее так, – тот реалист буржуазный, и поэтому пессимист, нытик и зачастую мошенник и фальсификатор, и во всяком случае вольный или невольный контрреволюционер и вредитель». [Луначарский 1982: 282] То есть правильно описать ситуацию в литературе может лишь тот, кто является часть этой ситуации. Буржуазный писатель не знает всей «правды» 274 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 советской действительности, а пролетарии не могут объективно оценивать западную – получается, что меры измерения советской литературы совсем не подходили для иностранных авторов. Сложность в интерпретации творчества зарубежных писателей может быть причиной случаев, когда критика противоречит сама себе. Например, в 1930 г. в «Литературной газете» появляется статья «Ремарксизм или активизм», в которой А. Лейтес, положительно отзываясь о романе «На западном фронте без перемен», восторженно рассуждает: «Не свидетельствует ли всесторонний и неожиданный успех ремарксовской книги, что на Западе сейчас происходят любопытные перемены в психологии мелкобуржуазного интеллигента?» [ЛГ 1930: 26 мая]. Полагаем, что автор использует прилагательное «ремарксовский» неслучайно, используя контаминацию слов «Маркс» и «Ремарк», подразумевая переход буржуазного сознания на близкие Советам коммунистические рельсы. Ведь еще недавно европейский интеллигент чурался военной тематики», а теперь – готов к разговору». Единственное, чего, по мнению автора, не хватает: «еще не написанной пролетарскими писателями книги о минувшей войне, боевой, активистской книги с широким художественно-политическим охватом», которая должна «вдохновлять западных пролетариев на осуществление великого ленинского лозунга о превращении империалистической войны в гражданскую». Но уже в 1931 г. Ан. Тарасенков в рецензии на книгу «Война» Николая Тихонова недоброжелательно отзывается о произведениях Ремарка и о «пацифистком вопле мелкобуржуазного империалиста», который, на его взгляд, «оказывается не в силах понять сущность империалистической войны в целом» [ЛГ 1932: 5 января]. При публикации отрывков из новой книги Ремарка «Возвращение» автор вступительной вводки также не забывает упомянуть: «В стилистическом отношении он (роман) выше первого романа. Но вместе с тем, здесь еще резче обнаруживается идейное бездорожье автора и его мелко-буржуазное мировоззрение» [ЛГ 1931: 19 февраля]. Часто в «ЛГ» встречаются негативные отзывы. Например, А. Лейтес пишет: «чрезвычайно показательно, что именно американская литература (на равнее с европейской) дала за последние годы необычайный расцвет крайнего, болезненного психологизма – рассуждает критик, – Америка оказывается завоеванной разлагающим "европеизмом", и именно гамлетизмом, чеховщиной, флоберовщиной…» [ЛГ 1930: 25 июля]. Авторы в «ЛГ» напрямую связывают страсть запада к самоанализу с психологической депрессией, сопутствующей кризису капиталистической системы, однако, учитывая историческую обстановку в Европе и Америке конца 1920-х гг., мы не можем упрекнуть их в абсолютной неправоте. Вспомним: с осени 1929 г. мировое общество настигает невиданный до этого времени экономический кризис, политические силы в европейских Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 275 странах скапливаются в кровавых руках тоталитаризма, в искусство приходят молодые люди, проведшие лучшие годы своей молодости на войне и в мире зарубежной литературы начинает править «потерянное поколение». Советскому сознанию, ощущающему невероятный подъем патриотических настроений на почте экономического роста и еще пока до конца не ушедшего революционного энтузиазма литература зарубежная и впрямь покажется излишне депрессивной и далекой от жизни. В первые годы издания газета публикует отрывки из современных зарубежных произведений, впоследствии ставших классикой. При этом следует заметить, что тематика зарубежной прозы самая различная – от антирелигиозной и военной до вполне нейтральной и бытовой. В 1929 г. редакция знакомит советских читателей с фрагментами из «Улисса» Джеймса Джойса, «одной из самых интересных фигур послевоенной западноевропейской литературы» <…>, помещая отрывок из произведения, с помощью которого «редакция имела в виду ознакомить советского читателя с работой оригинальнейшего мастера НОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ФОРМ, приемы которого могут представить большой формальный интерес и для советских писателей» [ЛГ 1929: 2 сентября]. Размышления об ирландском писателе появляются и в критической статье 1932 г., в которой, правда, о нем отзываются как о «превосходном реалисте». Добрые отзывы советских критиков об авторе, никак не принадлежащему к пролетариям, можно объяснить еще оставшейся в литературной среде страсти к модернизму и положительным отношениям к писателям, совершающим революцию в строении текста и языка. В продолжение темы о постоянной смене мнения критиков об авторе скажем, что уже через год А. Лейтес иронично рассуждает о новом достижении в западной литературе: «в эпоху всяких технических рекордов ему (Джойсу) удается побить рекорд…медлительности». Классик модернизма действительно не очень подходил пролетариям: «Все восемьсот страниц этого романа, – сокрушается критик, – посвящены изображению одного (только одного!) серого дня жизни серого дублинского обывателя, с которым абсолютно ничего за этот день не приключается» [ЛГ 1930: 25 июля]. Конец 1920-х – начало 1930-х гг. – это время, в которое формируются многие важные общественные идеи всех последующих лет советской эпохи. Как нам удалось убедиться из представленных выше материалов, именно в это время сложились не только методы оценки русскоязычной литературы (действующие вплоть до конца 1980-х), но и основные подходы к западной. Авторы, получившие одобрение со стороны пролетарских критиков в начале 1930-х гг., станут наиболее публикуемыми в СССР (Теодор Драйзер, Эрих-Мария Ремарк, Стефан Цвейг). Материал «Литературной газеты» за 1929–1934 гг. дает нам возможность проследить процесс формирования отношения к западной культуре, изучить изменение отношения от 276 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 осторожного интереса к «мелкобуржуазным империалистам» до категоричной ненависти к «врагам». При этом редакция газеты часто остается достаточно независима в своих суждениях, и ей удается сохранять противоречащую стереотипу позицию о глупой ненависти к «буржуям», искусно маневрируя между непринятием Запада и восхищением иностранной литературой. Литература Дорман О. Подстрочник. Жизнь Лилианны Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. М., 2010. История русской литературной критики: вузовский учебник / Под ред. В.В. Прозорова. М., 2002. Кафедра истории зарубежной литературы. История кафедры: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.philol.msu.ru/~forlit/Pages/History.htm. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Литературная газета: Свободная трибуна писателей. 1929-1934. Литературная энциклопедия: в 11 т. / Под редакцией В.М. Фриче, А.В. Луначарского. М., 1929-1939. Луначарский А. Литература нового мира. М., 1982. Чекалова С. Кое-что о J.J. // Знамя. 1999. № 10. Е.А. Иванова (Саратов) Забытый биограф Эмиль Людвиг Научный руководитель – профессор И.В. Кабанова В 1920–30-х гг. имя Эмиля Людвига было знаменито по всей Европе и за океаном. Только в 1930 г. в Европе было продано более двух миллионов экземпляров его книг. Но после Второй мировой войны он был почти забыт. Необыкновенная популярность биографий Людвига была, по мнению многих критиков, частью международного интереса к новому жанру романизированной биографии в 1920–30-е гг. [Becker 2005: 74-75, Ulrich 2005: 35-36]. В Англии этот интерес был связан с именем Литтона Стрэчи, во Франции – Андре Моруа, в Германии – Эмиля Людвига. Немецкие критики относят творчество Эмиля Людвига к так называемой «исторической беллетристике». Это выражение изначально имело уничижительный смысл и противопоставляло авторов популярных биографий 1920-х гг. серьезным историкам, но впоследствии закрепилось как термин. Впервые обозначение «историческая беллетристика» появилось в заглавии брошюры 1928 г., в которую вошли рецензии ученых-историков на выходившие в 1926-28 гг. биографии исторических деятелей. Задача брошюры формулировалась в предисловии так: «просветить публику по поводу истинной ценности этих произведений» [Kolb 1992: 73], которую авторы рецензий считали весьма незначительной. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 277 Э. Кольб и У. Киттштейн выделяют следующие причины столь категоричного неприятия, относившегося в первую очередь к работам Людвига: 1. Научные: критиковался метод Людвига, допускаемые им фактические неточности, отсутствие в книгах научного аппарата, восприятие великих личностей как основного двигателя истории, отсутствие достаточно проработанного социально-политического фона. 2. Страх официальных «цеховых» историков перед популярными аутсайдерами. После Первой мировой войны в Германии возник историографический вакуум [Perrey 1992: 169]. Общество нуждалось в осмыслении прошедшей эпохи, а адекватных исторических работ просто не существовало. Итогом была огромная популярность беллетризованных биографий и естественное раздражение историков. По ироничному замечанию К. Тухольского, Людвигу стоило бы разослать критикам извинения за свой успех [Perrey 1992: 173]. 3. Наиболее существенными большинство критиков считают политические причины. Академическую историю в Германии того времени единодушно называют прусско-националистической и промонархической, в то время как «исторические беллетристы» придерживались левых и республиканских взглядов. В ответ на критику Людвиг в 1929 г. опубликовал статью «История и поэзия». В ней он противопоставил «старую» и «новую» школы в написании истории, ученых и писателей, выступил за интуитивный подход к истории, поставив во главу угла не объективность, а «полезность для жизни», понимая под ней воспитательные задачи: показать, что великие люди не были чужды ошибок, заблуждений и грехов, но боролись с ними и достигали своих целей, а также продвигать идеи мира и наднациональной человечности в Европе. Такая просветительская направленность творчества Людвига, стремление не разоблачать героев биографий, а показывать их как образцы для подражания или в качестве предостережения, особо подчеркивается Х.-Й. Перреем, С. Ульрихом, К. Грандманом и др. и отличает Людвига как от его зарубежных коллег, так и от многочисленных эпигонов. Каковы бы ни были цели биографа, успех его книг был поистине ошеломляющим. Обратимся к тем их особенностям, которые могли способствовать возникновению подобного читательского интереса, с точки зрения современных исследователей. Х.-Й. Перрей отмечает, что герои Людвига были хорошо знакомы публике, и его задачей было не представить их биографии впервые, а сделать их более живыми и человечными, снять налет статуарности. Одной из главных задач Людвига было проникновение во внутренний мир героя биографии. Он считал, что биография должна позволять читателю вчувствоваться в изображаемое, давать возможность как бы лично присутствовать при поступках протагониста, участвовать в них и даже 278 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 проникать в его мысли. В героях биографий его прежде всего интересовало «вечно человеческое», а не обусловленное временем [Ulrich 2005: 35]. При работе над биографиями Людвиг принципиально ограничивался уже существующим общеизвестным жизнеописанием и строго очерченным кругом материалов, куда входили портреты, письма, записи разговоров и дневники. Цитаты из этих источников Людвиг часто превращал в прямую или несобственно прямую речь персонажей, не закавычивая и не расставляя сноски. Это снижает научную ценность книг, зато придает тексту яркость и наглядность. Этого же эффекта добивается и построение композиции. Э. Киттштейн отмечает, что повествование явно ориентируется на классическую пятиактную трагедию [Kittstein 2006: 167]. По своей форме это сценичный рассказ, ряд напряженных эпизодов с запоминающимся расположением фигур, называемых Людвигом «символическими сценами». Сам Людвиг считал, что ему много дал опыт драматурга, а критикам быстрота смены эпизодов напоминала кинематограф. Людвиг изображал своих героев в отрыве от исторического, социального и экономического фона, считая такой подход признаком современности своих книг, а объяснение через внешние причины – устаревшим. Внешний мир предстает в биографиях Людвига исключительно как объект воздействия для протагониста. Но идее решающего воздействия великих людей на ход истории противоречит проступающая сквозь структуру книг Людвига идея телеологичности истории. Людвиг никогда не рассматривает альтернативные варианты развития событий, порой нарушает хронологию, упоминая в первых же главах события, относящиеся ко времени действия последних. Известный итог оказывается для него неизбежной закономерностью событий. Протагонист оказывается подвластен некой высшей силе (судьбе, Богу, провидению, природе). Это дает Э. Киттштейну основание сомневаться в соответствии книг Людвига провозглашаемым им целям. Фаталистическая тенденция и отказ от анализа должны были только усилить ощущение непонимания происходящего и беспомощности, и так характерные для современного ему читателя, отмечает Э. Киттштейн [Kittstein 2006: 143144]. С другой стороны, именно такой выбор формы и обеспечил Людвигу огромную популярность. Х. Шойер, К. Грандман соглашаются с Э. Китштейном в том, что представление истории в персонифицированном виде, недостаток рациональности и дистанцированнности, изоляция объекта от исторического контекста вполне соответствовали самоощущению веймарского общества и поэтому находили у него отклик [Scheuer 1979: 87]. Э. В. Бекер добавляет к этому слагаемому успеха тот факт, что в 1920-30 гг. биография, с ее еще сохранявшейся относительно четкой формой, направленностью, логичностью, хронологической последовательностью событий отвечала потребности людей в гармонии и Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 279 интеграции уходящего корнями в историю индивидуума, более не удовлетворяемой художественной литературой [Becker 2005: 74]. В 1960-х гг. некоторые книги Людвига были переизданы, но не вызвали большого интереса. С. Ульрих называет несколько причин этого [Ulrich 2005: 55-56]. В послевоенные годы неоромантический стиль Людвига был более не актуальным. Опыт тоталитаризма и достижения социальных наук заметно снизили значимость психологических биографий Людвига о «великих людях». На протяжении 1930-х гг. официальной прессой в Германии был сформирован резко отрицательный образ писателя, а в эмиграции Людвиг выступал с жесткой критикой немецкого национального характера, что тоже вызывало недовольство его соотечественников. Кроме того, Людвиг писал очень быстро, порой выпуская книги с промежутком менее года, и подобная плодовитость успела утомить публику. К. Грандман указывает также, что самые известные из биографий Людвига были тесно связаны с политической ситуацией межвоенного времени и не могли быть приняты с тем же интересом в эпоху Аденауэра [Grandmann, 1993: 45]. Тем не менее работы биографа продолжают находить своего читателя. В последние десятилетия выходят переиздания биографий Людвига как в оригинале, так и в переводах, а также новые посвященные им исследования. Литература Becker E.W. Biographie als Lebensform. Theodor Heuss als Biograph im Nationalsozialismus // Hardtwig W., Schütz E. H., Becker E. W. Geschichte für Leser: populäre Geschichtsschreibung in Deutschland im 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2005. Gradmann C. Historische Belletristik: populäre historische Biographien in der Weimarer Republik. Frankfurt а/M.; New York, 1993. Kolb E. „Die Historiker sind ernstlich böse“: Der Streit um die “historische Belletristik” in Weimarer Republik // Angermann E., Finzsch N., Wellenreuther H. Liberalitas. Stuttgart, 1992. Koessler T. Zwischen Milieu und Markt. Die populäre Geschichtsschreibung der sozialistischen Arbeitsbewegung 1890-1933 // Hardtwig W., Schütz E. H., Becker E. W. Geschichte für Leser: populäre Geschichtsschreibung in Deutschland im 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2005. Kitt stein U. "Mit Geschichte will man etwas": historisches Erzählen in der Weimarer Republik und im Exil (1918-1945). Würzburg, 2006. Perrey H.-J. “Der Fall Emil Ludwig” – Ein Bericht über eine historiographische Kontroverse der ausgehenden Weimarer Republik // Geschichte in Wissenschaft und Unterricht. 1992, Heft 3. Roden J. Stefan Zweig and Emil Ludwig // Sonnenfeld M. Stefan Zweig: The World of Yesterday Humanist Today. Albany, 1983. Scheuer H. Kunst und Wissenschaft: Die moderne literarische Biographie // Biographie und Geschichtswissenschaft: Aufsatze zur Theorie und Praxis biograph. Arbeit. München, 1979. Ulrich S. „Der fesselndste unter den Biographen ist heute nicht der Historiker“ Emil Ludwig und seine historischen Biographien // Hardtwig W., Schütz E. H., Becker E. W. Geschichte für Leser: populäre Geschichtsschreibung in Deutschland im 20. Jahrhundert. Stuttgart, 2005. 280 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Е.С. Сычева (Саратов) Сказ «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Л.Филатова Научный руководитель – доцент И.А. Книгин В нашей пишущей стране Пишут даже на стене. Вот и мне пришла охота Быть со всеми наравне! [Филатов 2007: 130] В 1987 г. в журнале «Юность» была опубликована сказка, написанная Л. Филатовым для театра, – «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Как вспоминает сам автор, создавался сказ много лет: «Началось это где-то в 70х. Пришел один режиссер и предложил подготовить текст для детской пластинки. Я достал сказки Афанасьева и попробовал переложить сюжеты на стихи. Подражал немного, как мог, жанру частушки. Детские воспоминания, любовь к сказкам – все всплыло. Рождались диалоги, сюжетные элементы. От идеи детской пластинки пришлось отказаться. В течение шести- семи лет раз за разом бросал, по году не прикасался, писал опять, так набрался приличный объем…Я никак не думал, что комуто понадобится, понравится. И не приди ко мне люди из "Юности", я бы палец о палец не ударил, чтобы сказка была где-то напечатана. А потом вдруг пошли издания, переиздания, спектакли, фолк-оперы. Но возник перекос. Эта сказка превратилась в танк, автономно существующий вне меня. На каком-то этапе я испугался, что уйду как автор однойединственной сказки, и когда из зала в ответ на мои попытки что-нибудь прочесть другое, кричат: "Давай сказку!", я понимаю, что даже лишен роскоши задать вопрос: "А какую? "» [Филатов 2007: 102-103]. Фабульная основа «Федота» была заимствована из народной сказки «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что» и перенесена автором в современный мир. Федот очень похож на Ивана-дурака своим простодушием и ироничностью, он также любит хвастаться, упрям. Но он сильнее духом, решительнее. С помощью народа Федот смело свергает несостоятельного владыку. Вряд ли на такое решился бы Иван-дурак. Критики отмечали несомненную поэтическую удачу Филатова и определяли поэтику произведения следующим образом: «Образная вязь сказки затейлива и неприхотлива, но ни одним узором не противоречит фольклорной поэтике…» [Лавлинский 1988: 58]. Что касается жанра, то сам автор его определяет как сказ. Сказ – это «принцип повествования, основанный на стилизации в монологе стиля подставного рассказчика, как правило, представителя какой-то общественноисторической или этнографической среды» [Словарь… 1974: 259]. Л.Филатов органично вплетает в текст множество цитат из А.С. Пушкина, из фольклорных произведений, из летописей и даже из Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 281 истории марксизма в России. Персонажи наделены приметами современников и потому кажутся невероятно комичными. Своеобразен, например, образ Няньки, буквально «стреляющей» меткими словечками: Да за энтого посла Даже я бы не пошла,Так и зыркает, подлюка, Что бы стибрить со стола! Он тебе все «йес» да «йес» А меж тем все ест да ест. Отвернись, он пол-Расеи Заглотнет в один присест! [Филатов 2007: 140] Горько-веселая и заразительно-смешная сказка Л. Филатова написана каким-то ерническим, шутовским стихом, на том пародийно-деревенском языке, которым сегодня едва ли кто пользуется. Один из персонажей своевольно переводит слово «повреждение» в женский род, говорит «энто», «отседова», «сурьезный», «фицияльный». Выражения, вроде «исключительно наскрозь», соседствуют здесь с политическими понятиями, словами армейского жаргона. Но даже словесная брань становится изобразительным средством: Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы ж не Хранция какая, чтобы смуту подымать! [Филатов 2007: 164] Так говорит царь бунтующему народу. Другие действующие лица объясняются не лучше: путают падежи, меняют ударения, искажают иностранные слова — в общем, на каждом шагу нарушают правила грамматики. «Стоит ли "сурьезному" критику заниматься произведением, где столько доброго балагурства, где сам автор прячется под маской Потешника? Что и говорить, информативность (в том смысле, как сказано выше) у этого раешника слабоватая, – отмечает Л. Лавлинский. Правда, когда-то и молодой Белинский (а в нем уже билось сердце Неистового Виссариона) не принял ершовского "Конька-горбунка", сочтя его детищем сусальной псевдонародности. Что же вышло? Перескочив барьеры эпохи, “Конекгорбунок” резво примчался и в наше время. Потому что эта сказка прекрасно выразила идеалы народа, его нажитую многовековым опытом философию жизни… Вообще, народная сказка – в этом ее сила и неувядающая молодость – всегда вырастает из живой реальности» [Лавлинский 1988: 57]. Сотрудники «Юности» рассказывали, что в типографии, где печатался журнальный номер со сказкой, невозможно было достать ее последнюю корректуру: все экземпляры расхватали наборщики. Такой успех был обеспечен прежде всего едким и остроумным изображением отрицательных персонажей, точными характеристиками Царя, Генерала, Бабы Яги. Были ли читатели до того знакомы с таким царем, который любую бессмыслицу сопровождает болтовней о пользе государства и ссылками на высокую политику? Встречали ли Бабу Ягу, объявившую себя светилом народной медицины? А цареву дочь, рассуждающую о свободной любви и женской 282 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 эмансипации? Все они художественно неповторимы, но дело не только в этом. Ни в одной фольклорной сказке не говорят столько о политике. Кроме того, из произведения можно почерпнуть многое о состоянии не только общественных нравов, но и о материальном благополучии населения страны. Сказка получила всеобщее призвание. Многие места из нее, как говорится, ушли в народ. Сам же автор не ожидал такого успеха и считал его случайностью, «…может быть, и неоправданную. Был такой писатель Булгарин, наипопулярнейший в XIX в. Только ценители понимали, что в сравнении с тем же Пушкиным, он просто способный беллетрист. Он имел такую славу, которую, как мы понимаем сегодня, не заслуживал. Поэтому замечу, что суд современников, это неблагодарный суд» [Филатов 2007: 103]. 11 марта 1988 г. по первому каналу центрального телевидения показали премьеру телеспектакля «Про Федота-Стрельца, удалого молодца», где Л. Филатов выступил в жанре «театра одного актёра». Сказ засиял еще большими красками и зажил новой жизнью. Правда, и тогда отдельные эпизоды постановки не вошли в телевариант по идеологическим причинам. Кроме того, на основе сказа режиссер С. Овчаров снял фильм «Сказ про Федота-стрельца», премьера которого состоялась в 2002 г. Получилась ироническая стилизация под лубочно-частушечный сказ, в котором главный комедийный эффект создается за счет внедрения в псевдонародный контекст современных реалий. Большинство критиков посчитали его неудачным или вовсе не поняли. Вот что, например, пишет критик Наталья Сиривли: «Вышивая узоры по канве филатовской сказки, Овчаров увлекается, дает волю фантазии и создает другое произведение, в котором литературные достоинства "канвы" местами просто неразличимы, а там, где различимы, – мешают, отвлекают, сбивают с ритма. Принципы немого бурлеска и сугубо литературной пародии вступают в фильме в трудноразрешимый конфликт; комическая пантомима и декламация гасят, глушат друг друга, отнимая у действия большую часть энергии…» [Раззаков 2006: 487]. Сюжет, придуманный Филатовым, оказывается случайным и совершенно неважным. Как бы поверх него Овчаров сочиняет свой, получается яркий и роскошно изобретательный мир, в котором не успеваешь отдохнуть от неуемных фантазий режиссера. Сам Филатов так отзывался о фильме: «Это очень хороший фильм, но он глубже и сильнее моего скромного сочинения. Сергей Овчаров – слишком независимый человек, чтобы делать простые экранизации. Это картина очень далекая от меня. Это хорошо, и, слава Богу. Быть поводом для фантазии такого талантливого человека, как Овчаров, уже честь» [old.rutv.ru]. Режиссер в защиту своего произведения говорил следующее: «Этот фильм "многоэтажный", сделанный в жанре смеховой культуры, за внешней простотой в нем скрыта ирония, самопародия, бесконечные смысловые перевертыши. Но многие зрители юмора не чувствуют, все воспринимают буквально. Думают, что я всерьез проповедую те истины, Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 283 защищаю те штампы нашего сознания, над которыми на самом деле смеюсь! Почти питекантропское, двухцветное восприятие – понимают только черное и белое. Даже критики оказались не способны к многозначной оценке. Они сразу бросаются на ростки чего-то хоть маломальски интересного и нового. Кстати, "Федот-стрелец" не фольклор, а сказ, то есть пересказ исторических событий, пропущенный через сознание рассказчика, простого маленького человека, так называемого "низового героя", который может и приврать, и приукрасить. Сказ вообще свойствен русской художественной традиции. Вспомните Платонова, Зощенко, Салтыкова-Щедрина» [old.rutv.ru]. Фильм снимали в Суздале с участием блистательного актерского состава: В. Гостюхина (генерал), А. Мягкова (царь), О. Волковой (баба-яга), К. Воробьева (Федот). Музыку написал И. Мациевский, который использовал не только традиционные фольклорные напевы, но и элементы рока и кантри. Фильм был представлен на Берлинском кинофестивале во внеконкурсной программе. Через семь лет после «лубочного» фильма С. Овчарова по «Сказу про Федота-стрельца, удалого молодца» питерская компания СТВ, продюсер С. Сельянов и режиссер Л. Стеблянко решили, что настало время вернуться к этой теме, и сняли анимационный фильм, который вышел на экран в 2008 г. «Заинтересовать молодежь Филатовым – это подвиг. Вроде бы это достояние старшего поколения, которое помнит гениальное исполнение самого Филатова. Будет ли это достоянием тех, кому сейчас двадцать, и будет ли молодежь цитировать "Федота", вот какого результата хотелось бы достичь этим мультфильмом» [abvnn.ru/fedot.html], – говорил Сергей Безруков, озвучивавший Федота. Мультфильм был сделан в стиле народных картинок (лубок, т.е. картинка, для которой характерны простота техники и лаконизм изобразительных средств) и весь пестрит эротическими эпизодами. Кроме того, здесь постоянно звучит тема алкоголизма (хотя у Филатова в тексте она обозначена лишь один раз), не обошлось и без пародий на известные фильмы «Кинг-Конг» и «Матрица». Создатели мультфильма творчески переосмыслили волшебную тарелочку, показывающую в сказках героям различные по содержанию и тематике картинки, и сделали из нее телевизор. В ней можно увидеть эпизоды из футбольного матча «Зенит» – «Локомотив», сериала «Участковый» и даже прослушать новости от Первого канала. Одним словом, авторы мультфильма всеми силами старались рассмешить зрителя. Но, к сожалению, внутреннего содержания у мультфильма нет: герои получились страшноватые, симпатии не вызывают (а ведь при прочтении сказки симпатией проникаешься ко всем персонажам без исключения), они плоские во всех смыслах и служат лишь примитивной иллюстрацией к тексту, который на разные голоса читают известные артисты. Здесь и С. Безруков, и Д. Дюжев, и Ч. Хаматова, и даже М. 284 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Ефремов, которому по роли (То-Чего-Не-Может-Быть) надо произнести всего пару-тройку реплик. Сравнивать с исполнением сказа самим Л. Филатовым этот мультфильм не имеет никакого смысла, он будет выглядеть лишь жалким подобием на фоне оригинала. Литература Лавлинский Л. Комический грим сказки // Литературное обозрение. 1988. №4. Раззаков Ф. Леонид Филатов: Голгофа русского интеллигента. М., 2006. Словарь литературоведческих терминов / Ред.сост. Л.И. Тимофеев,С.В. Тураев. М., 1974. Филатов Л. Прямая речь. М., 2007. Филатов Л. И год как день.М.,2007. [Электронные ресурсы]. Режимы доступа: http://www.abvnn.ru/fedot.html http://old.rutv.ru/prog?rubric_id=14&brand_id=14284 И.Ю. Кудинова (Саратов) Повесть А.И. Солженицына «Раковый корпус»: горизонты постижения Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова В движении через время повести «Раковый корпус» отразилось не только развитие литературно – критической мысли, но и постепенное освобождение общественного сознания, смена его доминант, виднее стала и необходимость целостного духовно – эстетического анализа текста. Прежде всего, следует указать на важнейшую особенность творческой истории произведения: «Раковый корпус», написанный в 1963-1966 гг., был впервые опубликован в России лишь в 1990 г. в журнале «Новый мир» (№ 6-8). До этого повесть активно расходилась в СССР в самиздате, т.к. автор находился под запретом, а чтение или передача его произведений карались законом. Этим и объясняется отсутствие специальных работ в критике советского периода. Однако, представление о том, как «Раковый корпус» был воспринят пишущей и читающей публикой можно сформировать, обратившись к воспоминаниям самого писателя и стенограммам обсуждений повести в ЦДЛ. Вот как вспоминает дискуссию в редакции журнала «Новый мир» А.И. Солженицын в своих очерках литературной жизни «Бодался телёнок с дубом»: «Мнения распались, даже резко: "молодая" часть редакции или "низовая" по служебному положению была энергично за печатание, а "старая" или "верховая" столь же решительно против <…> Виноградов сказал: "Если этого не печатать, то неизвестно, для чего мы существуем". Марьямов: "Наш нравственный долг – довести до читателя". Закс: "Автор даёт себя захлёстывать эмоциям ненависти... Очень грубо введено Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 285 толстовство... Избыток горючего материала, а тут ещё больная тема спецпереселенцев. Что за этим стоит?.. вещь очень незавершённая". Поддержал Кондратович: "Нет завершённости!.. Разговор о ленинградской блокаде и другие пятнышки раздражённости"» [Солженицын 1975]. Повесть к публикации в «Новом мире» допущена не была. Но общественный резонанс, вызванный «Раковым корпусом», был очевиден: 16 ноября 1966 г. произведение обсуждалось секцией прозы Московского отделения Союза писателей. Мнения в целом были созвучны высказываниям А. Борщаговского: «"Раковый корпус" – выдающееся произведение, которое, конечно, увидит печатный станок и без которого нравственное общество не может быть здоровым» [Сараскина 2009: 575]. На этом фоне резко обозначилась позиция З. Кедриной, которая призвала автора «более конкретно обозначить свою общественную позицию» [Там же]. Собрание решило поддержать рукопись. Это первое писательское обсуждение своей работы Солженицын вспоминает как «триумф и провозвещение некой новой литературы, ещё никем не определённой, никем не проанализированной, но жадно ожидаемой всеми» [Там же: 576]. Однако, справедливости ради, следует указать, что все журналы (и «Звезда», и «Простор», и ташкентская «Звезда Востока») под разными предлогами отказались публиковать повесть антисоветски настроенного Солженицына, к тому же исключенного из Союза писателей. В 1968 г. первые переводы «Ракового корпуса» были опубликованы на Западе. Повесть приобрела широкую поддержку западного общественного мнения. Широко «Раковый корпус» обсуждался и в среде русских диссидентов, находившихся в то время за рубежом. 6 октября 1968 г. на волнах радио «Свобода» программа Виктора Франка под общей рубрикой «По сути дела» была целиком посвящена этому произведению. В. Франк [Франк 1977] останавливается на анализе эпизода, который имеет общее значение и выходит далеко за рамки повести – разговор между главным героем Олегом Костоглотовым и старым профессором Шулубиным, который размышляет о сути социализма и особенностях его национальной специфики: «…именно для России <…> один только верный социализм и есть: нравственный» [Солженицын 2009: 419]. В 1973 г. в Париже было опубликовано второе дополненное издание монографии Р. Плетнёва о Солженицыне [Плетнёв 1973]. В специальной главе, посвященной повести, Плетнёв интересуется реальностью исторических фактов, не наблюдается ли в тексте намеренное сгущение красок? Обращаясь к различным периодическим изданиям (газеты «Труд», «Советская Киргизия», «Известия»), он приходит к заключению, что «Ничего не преувеличил, не закрасил чёрной краской Солженицын, а скорее смягчил». Также Плетнёв рассматривает представление в повести магистральных солженицынских тем: сталинщины, темы смерти, темы душевных и духовных поисков смысла жизни. Указывается на сближение Солженицына с Л.Н. Толстым («Когда Солженицын 286 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 начинает говорить нам о духовной стороне доктора Орещенкова, ритм и смысл фраз имеют несомненный отпечаток духа ряда писаний и моральных аксиом Льва Толстого» [Там же: 57]), на тесную связь литературных образов четы Кадминых с русской традицией Золотого века литературы (Гоголь, Тургенев). В заключении Плетнёв резюмирует: «Однако, хотел этого или не хотел автор, Раковый корпус < …> – превратился в символ страны» [Там же: 63]. К анализу образов главных героев повести А.И. Солженицына в контексте русской литературы обращается Хелен Мучник в статье «"Раковый корпус": Судьба и вина». Она сопоставляет Олега Костоглотова с героями Достоевского и Толстого: «Подобно им, Костоглотов – бунтарь, ставящий под сомнение то, что принимает большинство<…> Если он и отличается от своих предшественников как характером, так и методом его обрисовки, то мерой этого отличия может служить разница, отделяющая Советский Союз от России XIX в.» [Мучник 2010: 559]. Антагонистом Костоглотова выступает Павел Николаевич Русанов, образ которого Мучник возводит к типу маленького человека в русской литературе. Особая значимость предаётся вопросу о ценностях, которыми жив человек. И касается он любви возвышенной и чувственной. Так, впервые тема любви в повести выступает в исследованиях отдельной строкой. В «Раковом корпусе» Солженицын проводит различие между «неотразимым материализмом» и духовными ценностями, или идеальными устремлениями. Этим различаются чувства Костоглотова к Зое и Веге. Много исследований посвящено проблеме автобиографизма и документализма образов героев «Ракового корпуса». В статье Григория Резниковского «"Раковый узел" А.И. Солженицына» [Резниковский 1991] приводятся подробные сведения о каждом из врачей, принимавших участие в лечении писателя. В Записках русской академической группы в США опубликованы воспоминания об А. Солженицыне его лечащего врача Ирины Емельяновны Мейке (Вера Гангарт в повести) и фрагменты их личной переписки [Мейке 2010]. Э.Ф. Шафранская в статье «На солнечной стороне улицы Солженицына» [Шафранская 2010] анализирует Ташкентский текст в повести: воплощение города, социальные реалии, языковые и фольклорные особенности. Одним из первых на автобиографизм повести «Раковый корпус» обратил внимание швейцарский историк литературы, славист Жорж Нива. В монографии «Солженицын» [Нива 1992], в главе «Континенты реальности», содержатся прямые указания на автобиографические черты в повести. С монографии Ж. Нива начинается по существу системное изучение художественного метода Солженицына. В главе «Замки свода» Нива усматривает очень интересную особенность солженицынской прозы: уплотнение времени стоит в очевидной связи с отсутствием интриги. Кроме того он подчёркивает, что романы Солженицына можно назвать «полифоническими», в них полифонично не столько слово, сколько Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 287 целостное восприятие. Каждый из персонажей глядит на всех остальных и цедит сквозь зубы свой внутренний монолог, обращенный к ним. В главе «Писать по-русски!» рассматривается реформа языка в повести, выделяются различные пласты лексики, содержится указание на наличие авторских неологизмов. После публикации «Ракового корпуса» в России многие отечественные исследователи, как и зарубежные слависты, сосредоточились на постижении природы художественности в повести. Философская и нравственная проблематика произведения видится не столько в политическом, идеологическом контекстах, сколько в художественном её воплощении. Продолжается исследование повести в связи с традициями русской литературы, с достижениями прозы XX в. Взгляд интерпретатора сосредотачивается на ранее не выделяемых специально уровнях художественной формы текста. Так, Л.К. Оляндэр [Оляндэр 2009] интересует нарративный дискурс как важнейшая структуро- и смыслообразующая составная романного текста. Нарративный дискурс «Ракового корпуса» направлен на «выявление сущностных бытийных ценностей и раскрытие фальши антиценностей» [Там же: 120]. В.А. Чалмаев в книге «Александр Солженицын. Судьба и творчество» [Чалмаев 2010], сопоставляя повесть и роман «В круге первом» (которые создавались А.И. Солженицыным параллельно), отмечает, что «Раковый корпус» наполнен каким-то светлым, необычным восторгом перед чудом красоты. В повести меньше «математики», расчёта, но больше вдохновения и любви. Существенно и другое различие, которое обозначено как «бунт разума». Он только назревает в романе, в то время как в «Раковом корпусе» изображена ситуация всеобщего равенства перед смертью, когда разум делается внезапно бессильным. «Вся повесть, – пишет Чалмаев, – это непрерывный этический, даже "богоискательский" процесс, порой гротескно отражающий всё предшествующее бытие героев» [Там же: 129]. В «Раковом корпусе» Солженицын вновь находит праведников, без которых не стоит ни город, ни земля (Л.А. Донцова, супруги Кадмины, Вера Гангарт). В их образах идея человеческой доброты, сострадания поднята до уровня высочайшей духовно-исторической ценности. Чалмаев высказывает критические суждения об отдельных образах повести, например: «Шулубин, вероятно, мог бы стать самой драматической фигурой среди кающихся героев Солженицына, если бы <…> не чересчур заданно, либерально и публицистично звучали его демонстративные исповеди! Фактически, он и на смертном ложе живёт как орудие митинга …» [Там же: 126]. Автор монографии цитирует критические замечания о повести, высказанные в разные годы. Так, например, Н. Губко усматривала стратегический просчёт Солженицына, связанный с образом Русанова. «Что всё это, – писала Н. Губко, – как непереносимая современная публицистика, которая почему-то нашла место даже в таком произведении? <…> Ваш Русанов скорее гнусен, чем страшен» [Там же: 135]. 288 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 Не соглашаясь с отдельными суждениями В.А. Чалмаева, обратим внимание на стремление его и некоторых других исследователей проанализировать негативные суждения о произведениях Солженицына и как характеристику того или иного этапа постижения этих произведений, и как указание на реальные просчеты писателя. Не только в критических статьях, но и в монографиях авторы продолжают свои споры с Солженицыным – художником, историком, публицистом. Среди новых аспектов рассмотрения «Ракового корпуса» отметим медицинский. Например, профессор Л.А. Дурнов, врач и ученый, академик РАМН, прочитавший повесть «с карандашом в руках не как обычный читатель, а как врач-онколог» [Дурнов], отмечал, что «это не только художественное произведение, но и руководство для врача <…> Меня не оставляет чувство, что повесть написана дипломированным, знающим врачом. И потрясающая образность!» В контексте биоэтики рассматривали повесть А.Д. Трубецков и Е.Г. Трубецкова [Трубецков, Трубецкова 2009]. Центральные проблемы романа: отношения врач-пациент, относительность медицинского знания, совмещение роли врача и исследователя актуальны и по сей день. Идеи Солженицына удивительно точно соответствуют сегодняшней гуманитарной парадигме в медицинской науке и практике. Текст «Ракового корпуса» подвергается разностороннему анализу лингвистами, литературоведами, медиками, свои оценки высказывают журналисты и писатели. Критическая мысль со временем движется от более общего восприятия к ядру текста. Но все неизменно находят в «Раковом корпусе» средоточие важнейших общечеловеческих аксиом и вопросов, ответы на которые рано или поздно придётся дать каждому из нас. Одной из перспективных задач исследования «Ракового корпуса» представляется целостный духовно-эстетический анализ текста. Предпосылки к нему находим в высказываниях, статьях священнослужителей, литературоведов, философов 1970-х – 2000-х гг. Систематизировать, обдумать и продолжить их в наши дни особенно важно. Литература Дурнов Л. «Раковый корпус», прочитанный врачом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vsem-mirom.narod.ru/together/center/2nomer/12.htm. Загл. с экрана. Дата обращения: 21.03.2012. Мейке И. Воспоминания об А.И. Солженицыне // Записки русской академической группы в США. Т. XXXVI. New York, 2010. Мучник Х. «Раковый корпус»: Судьба и вина // Солженицын: Мыслитель, историк, художник. Западная критика, 1974-2008: сб. ст. М., 2010. Нива Ж. Солженицын. М., 1992. Оляндэр Л.К. Нарративный дискурс в романе А. Солженицына «Раковый корпус» // А.И. Солженицын и русская культура: сб.науч.тр.: Вып. 3. Саратов, 2009. Плетнёв Р. А.И. Солженицын. Париж, 1973. 2-е изд., доп. Резниковский Г. «Раковый узел» А.И. Солженицына // Звезда Востока. 1991. № 2. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 289 Сараскина Л.И. Солженицын. М., 2009. Солженицын А.И. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни. Париж, 1975 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://lib.ru/PROZA/SOLZHENICYN/telenok.txt. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.03.2012. Солженицын А.И. Раковый корпус. М., 2009. Трубецков А.Д., Трубецкова Е.Г. Роман А.И. Солженицына «Раковый корпус» в контексте биоэтики // А.И. Солженицын и русская культура: сб.науч.тр.: Вып. 3. Саратов, 2009. Франк В. По сути дела. Лондон, 1977. Чалмаев В.А. Александр Солженицын. Судьба и творчество. М., 2010. Шафранская Э.Ф. На солнечной стороне улицы Солженицына // Шафранская Э.Ф. Ташкентский текст в русской культуре. М., 2010. А.Е. Софина (Саратов) Современное искусство глазами А.И. Солженицына (на материале «очерков изгнания» «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов») Научный руководитель – доцент Г.М. Алтынбаева «Очерки изгнания» охватывают период с 1974 г., когда писатель был выслан из СССР, по 1994 г. Это время пребывания Александра Исаевича Солженицына за границей: его жизнь в Цюрихе, а затем переезд в Америку, штат Вермонт. Живя в Советском Союзе, Солженицын, как он сам признавался, был «ожесточён борьбой с советским режимом и различал только заборы цензуры» [Солженицын 2000, 9: 129. Далее цитируется это издание, год, номер и страница указываются в квадратных скобках]. Но перенесенный из «Великой Советской Зоны» в свободный западный мир, писатель убедился, что не к одной цензуре сводятся проблемы современного искусства, в частности литературы. «Свобода – ещё не независимость, ещё не духовная высота» [1998, 11: 118] – такой вывод сделает писатель, живя за границей. Поворот ведущей западной общественности от Солженицына начался от Письма Патриарху – за пристальное внимание к православию, от «Августа» – за осуждение либералов и революционеров и наконец, писатель «Письмом вождям Советского Союза» нарушал пристойность политическую. Да и многие другие публичные выступления, в частности, Гарвардская речь вызывали противоречивые отклики общественности. «Крупные газеты не печатали самой речи, <…> а лишь отрывки, удобные им для разноса» [1999, 2: 103], – пишет Солженицын. Пресса активно навешивала писателю ярлыки, такие как: антидемократ, националист, антисемит, теократ. Всё это результат поверхностного толкования мыслей Солженицына, сужение их только до политики, а нередко и чистая клевета. 290 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «Кипящая западная медиа» поражала писателя своей недобросовестностью и мелочностью: «грянула книга о гибели миллионов – а они какую мелкую травку выщипывают» [1998, 9: 53]. Между писателем и прессой легла пропасть непонимания, общались они на разных уровнях. Медиа ждали от Солженицына громких политических заявлений, которые могли бы эффектно украсить заголовки газет. «Хваткой, углядкой, догадкой они и соперничают» [Там же], – удручался писатель, – «…такая журналистская поспешность дать минутную оценку тому, что зреет десятилетиями» [1998, 9: 119]. Солженицын вспоминает, как впервые с текстом будущей Гарвардской речи выступал для итальянских журналистов в Цюрихе: «После церемонии подошёл ко мне один молодой журналист попроще и едва не плачущим голосом спросил: "Ну, и что ж я из этого всего могу дать своим читателям? Вы поясней чего-нибудь не можете сказать?" Удивительно: провалилась вся моя эта речь в глухоту, в немоту, как неслышанная и несказанная» [1998, 9: 79]. Писатель боялся выговориться тут в «балаболку», отбиться от дара писания. «Уединиться для работы мечтает каждый, кому есть что сказать, – говорит Солженицын. – Говорят тут в Вермонте, и рядом, умные так и делают – Роберт Пенн Уоррен, Сэлинджер. Здесь же когдато 10 лет прожил Киплинг» [2000, 9: 114]. В Западном мире «хорошая пресса» и реклама прокладывают дорогу к известности и гарантируют коммерческий успех даже самому незначительному произведению искусства. По этим западным нормам и пытались объяснить «странное» поведение Солженицына. Некоторые американские литературные критики, считали, что уединение писателя – это «хорошо организованная реклама». А в австрийских газетах появлялись радостные заголовки: «Солженицын в депрессии, никого не в состоянии видеть». Западная общественность и писатель по-разному понимали истинную задачу художника: «На самом деле, проблемы XX в. совсем не умещаются в текущей политике, они суть наследие трёх предыдущих веков. Писателю и надо задумываться над глубинами проблем, а не мельтешиться по сегодняшнему дню. Есть – верхний Зов Времени. Верховой» [2000, 12: 152]. В своем отказе от приглашения, присланного Американской Федерацией Труда, посетить Соединённые Штаты для дискуссий и лекций, Солженицын написал: «Я никак не имею права покинуть свою литературную деятельность для политической или даже публицистической, ибо считаю художественное исследование более доказательным, чем публицистическое <…> неосвещённая история понуждает меня не покидать моего главного литературного замысла» [1998, 9: 117]. В «Нобелевской лекции» Солженицын выделял два типа художника: один «мнит себя творцом независимого духовного мира», другой «работает маленьким подмастерьем под небом Бога. <…> не им этот мир <…> управляется, нет сомненья в его основах, художнику дано лишь острее Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 291 других ощутить гармонию мира» [Солженицын 2001: 18]. Художника второго типа, к которому и относит себя Солженицын, Запад не принимал. В «Зёрнышке» писатель замечает: «на Западе же теперь литературное произведение оценивают тем выше, чем автор отрешённее, холодней, больше отходит от действительности, преображая её в игру и туманные построения» [1998, 9: 63]. «Наиболее единодушно поражалась и возмущалась американская критика, – вспоминает Солженицын, – как это я могу быть так уверен в своей правоте? Ведь известно, что для всяких мнений о всяком деле может существовать лишь равновесие, текучий плюрализм, «фифти-фифти», – и никто не владеет истиной, да и быть ее в природе не может, все идеи имеют равные права!» [2000, 9: 161]. В этом писатель видит разрыв между мирочувствием западного Просвещения и мирочувствием христианским. «Убеждённость человека, что он нашёл правоту, – нормальное человеческое состояние. Да без него – как же можно действовать? Напротив, это болезненное состояние мира: потерять ориентиры, что и зачем делается» [Там же], – пишет Солженицын. Свобода, мыслимая как, независимость человека от всякой высшей над ним силы, приводит к тому, что такие важные категории для Солженицына как самоограничение, раскаяние и ответственность отодвигаются далеко на задворки сознания современного общества. В «Зёрнышке» писатель замечает: «В нынешней журналистике, политике совершенно забыли, понятия не имеют, но даже в литературе утеряно, что значит говорить о своих ошибках, промахах, а тем более пороках – так не делает у них теперь никто и никогда. Оттого они ошеломлены моими признаниями в "Архипелаге" и в "Телёнке" – и вывод их только такого уровня: вот, открылись нам его пороки (а мы насколько, оказывается, лучше его)! <…> эта книга («Бодался телёнок с дубом») – разоблачение его личности» [2000, 9: 161]. В «Зёрнышке» солженицынской критике неоднократно подвергается Третья эмиграция, к которой сам писатель себя не относил. Третья эмиграция уехала из страны, по словам Солженицына, в пору наименьшей личной опасности (по сравнению с Первой и Второй). Писатели, провозгласившие себя «представителями подлинной культуры» [2000, 9: 129] и считающие, что «вторая литература» Третьей эмиграции и есть живительная струя, лишены главного, по Солженицыну: раскаяния и ответственности. Опубликованная в журнале «Континент» статья А. Синявского «Литературный процесс в России», в которой речь идёт о препятствиях массовому выезду евреев из СССР, поразила Солженицына: «В ней читаем: "РОССИЯ-СУКА, ТЫ ОТВЕТИШЬ И ЗА ЭТО..." <…> Мне стыдно, что идея журнала Восточной Европы использована нахлынувшими советскими эмигрантами для взрыва сердитости, прежде таимой по условиям осторожности» [1998, 9: 87]. В «Зёрнышке» Солженицын так продолжил свои размышления: «Даже те, кто (немногие из них) взялись теперь бранить режим из вне, из безопасности, 292 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 даже и те слова не пикнут о своём подлаживании и услужении ему – о своих там лживых книгах, пьесах, киносценариях, томах о "Пламенных революционеров", – взамен на блага ССП – Литфонда. А нет раскаяния, так и верный признак литературы, что литература – мелкая» [2000, 9: 129]. Из представителей Третьей эмиграции Александр Солженицын выделяет поэта Ю. Кублановского, которого считает одним «из лучших русских поэтов сегодня, с очень верным общественным и патриотическим чувством», но с «усложненной метафоричностью, нередко ускользающей в переливах» [2000, 12: 151]. Достойным особняком, по мнению писателя, стоит в эмигрантской литературе конца 1970-х гг. Владимир Максимов. В «Зёрнышке» Солженицын приводит важные для себя строки из стихотворения В. Солоухина: Я поднимаюсь, как на бруствер, На фоне трусов и хамья, Не надо слез, не надо грусти, сегодня очередь моя [2000, 12: 150]. «Только мечтает? Или вдруг да сделает?» – задается вопросом Солженицын. – «Одно такое движение-жертва известного лица в СССР может больше сдвинуть, чем долгая эмигрантская организация» [2000, 12: 150]. Александру Солженицыну русская литература будущего, после коммунизма, представлялась «светлой, искусной <…> и о народных же болях, и обо всем перестраданном с революции!» [2000, 9: 128]. Но в реальности для писателя всё оказалось иначе: «Вместо воскресшей литературы, да полилось непотребное пустозвонство. Литераторы – резвятся. <…> Стыдно за такую "свободную" литературу, <…> Не становая, а больная, мертворожденная, она лишена той естественной, как воздух, простоты, без которой не бывает большой литературы» [2000, 9: 129]. И полился: «выкрутасный, да порожний авангардизм, интеллектуализм, модернизм, постмодернизм…» [2000, 9: 129]. «Рассчитано на самую привередливую "элиту". (И почему-то отдаются этим элитарным импульсам самые звонкие приверженцы демократии; но уж об искусстве широкодоступном они думают с отвращением. Между тем, сформулировал Густав Курбе еще в 1855: демократическое искусство это и есть реализм)» [2000, 9: 129], – замечает писатель. Литераторы бросились в непристойности, в мат, или в самовыражение. Самиздат, по словам Солженицына, был строг к художественному качеству и не распространял эту «легковесную чепуху». На Западе же освобожденные писатели собираются на конференциях, в Бостоне, Лос-Анджелесе близ Голливуда (на «праздники русской словесности») «пошумней поглаголить о себе и смерить свои растущие тени на отблеклом фоне традиционной русской литературы» [2000, 9: 129]. Литераторов поддерживают книгоиздательства с яркими обложками, находками оформления, рекламами, переводами на языки. По наблюдению Солженицына, вся система западного Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 293 книгоиздательства и книготорговли не способствует расцвету духовной культуры. «В прежние века писатели писали для малого кружка высоких ценителей – но те направляли художественный вкус, и создавалась высокая литература. А сегодня издатель смотрит, как угодить успешной массовой торговле – так чаще самому непотребному вкусу; книгоиздатели делают подарки книготорговцам, чтоб их ублажить; в свою очередь авторы зависят от милости книгоиздательств; торговля диктует направление литературе. Что в таких условиях великая литература появиться не может, не ждите, она кончилась, несмотря на неограниченные "свободы"» [1998, 11: 118]. Таково мнение Солженицына. Надежду на продолжение традиционной русской литературы Александр Исаевич Солженицын видел не в свободной от «внешних стеснений» Третьей эмиграции, а в деревенщиках, которые творили под «советским гнётом». «Подлинный язык, и нынешняя униженная жизнь народа, и мерки неказенной нравственности» [2000, 9: 128] струятся через книги Шукшина, Астафьева, Белова, Можаева, Носова, Распутина, Рощина. Живя в тяжелейших условиях ГУЛага или же в пределах СССР, писатель действовал (по его же словам) почти безошибочно в поступках и в разгадке людей. Но, как только коснулся иного, неведомого мира, стал совершать почти только одни ошибки. Большой трудностью Солженицын считал перебросить свои произведения за границу. Но самым сложным, оказалось «найти честные руки, куда рукопись попадёт, кто будет ею распоряжаться не с потоптанием автора» [1998, 11: 94]. Система западного книгоиздательства рассматривает произведение, как материальную ценность, на которой можно хорошо заработать. Издательства не начнут работу без аванса, без финансовой прочной основы, без гарантии, что никто не обгонит их в печатании, и что на случай суда у них есть юридический документ. «Как странно было слышать это нашим ушам, привыкшим к бескорыстному и даже головоотчаянному стуку самиздатских пишущих машинок. Эти на каждом шагу "сколько?"» [1998, 11: 99], – вспоминает Александр Исаевич Солженицын. В «Зёрнышке» подробно приводится условия договора с издательством «Харпер»: «Это не был договор на взрывную книгу писателя, схватившегося насмерть с душегубным режимом, да на виду у всего мира, но договор-диктат мощного издательства робкому автору-дебютанту, уже с первого шага виновному. Договор налагал на автора цепь ответственностей за все возможные неустойки, <…> Издательство детально гарантировало себя с денежной стороны: трёхлетним замораживанием всех авторских гонораров; после трёх лет – правом в любой момент остановить их выплату; односторонней обязанностью автора оплачивать любой судебный процесс. <…> Только об одном никто не вспомнил и не внёс в договор ни строчки: о качестве перевода, об ответственности издательства за качество книги» [1998, 11: 100]. Писателю было важно через свои книги «В круге первом», 294 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 «Архипелаг» донести страдания людей, рассказать правду о насилии, которое творится в СССР. Но эти произведения печатались с огромным трудом, безалаберно, переводы были некачественные. На долю Александра Солженицына выпало еще одно испытание – «испытание пошлостью». В свет вышли книга воспоминаний его бывшей жены Натальи Решетовской, роман Гарри Тюрка «Der Gaukler» – «фокусник, площадной шут», книга О. Карлайн «Солженицын и Секретный Круг!», биография Солженицына, написанная М. Скэммелом, двухтомник Флегона «вульгарной развязности». Основу этих книг, составляют: информация, подхваченная из слухов; догадки; факты, искаженные в результате стремления свести все поступки, чувства, намерения писателя на обывательский лад. «Минутами я закрывал глаза и воображал, что вот это я слышу о себе уже лёжа в гробу, что там, на Земле, написали, а уже не могу возразить или исправить – и, знаете, жутковато: как-будто чьё-то лицо в водной ряби, но вроде – не моё. Да может, так и много биографий на Земле написано…» [2001, 4: 87], – размышлял писатель в «Зёрнышке». Но смыть с себя всю грязь, пробиться через всю эту ложь, и восстановить себя в глазах читателя можно, только через суд. А в мире, где «с человеческой природы спрошен всего лишь юридический уровень – спущена планка от уровня благородства и чести, <…> сколько открывается лазеек для хитрости и недобросовести» [1998, 11: 118]. На Западе издательства или писатели постоянно подают друг на друга иски, суды могут идти годами и не всегда побеждает правый. «Что вынуждает из нас закон – того слишком мало для человечности, – закон повыше должен быть и в нашем сердце» [1998, 11: 118], – заключает Солженицын. В «Нобелевской лекции» А.И. Солженицын сокрушался о том, что наша русская литература прерывается вмешательством силы: «Это – не просто нарушение "свободы печати", это – замкнутие национального сердца, <…> Отживают и умирают немые поколения, не рассказавшие о себе ни самим себе, ни потомкам. <…> такие мастера, как Ахматова или Замятин, на всю жизнь замурованы заживо, осуждены до гроба творить молча, не слыша отзвука своему написанному, <…> и от такого молчания перестаёт пониматься и вся целиком История» [Солженицын 2001: 26]. Свободу Солженицын ставит главным условием для творчества, да и вообще для человеческого существования. Но можно ли назвать свободным современное общество, которое так зависит от материальных благ? И может ли в таком мире развиваться подлинное искусство? Идеалом Александр Исаевич Солженицын считает «подъём на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние века предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная» [Солженицын 1991: 37]. Литература Солженицын А. Бодался телёнок с дубом. Очерки литературной жизни // Новый мир. 1991. № 8. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 295 Солженицын А. Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания // Новый мир. 1998. № 9, 11; 1999 №2; 2000 №9, 12; 2001 №4; 2003 №11. Солженицын А.И. Нобелевская лекция // Солженицын А.И. Собр. соч.: в 9 т. Т. 7. М., 2001. Э.Ф. Тугушева (Саратов) «Полуписьменные сочинения» А.Г. Битова как жанр Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова В 1990-е – 2000-е гг. некоторые эссе Битова, опубликованные в литературных журналах, аудио- и видеозаписи выступлений на радио и телевидении, интервью, а также культурные проекты разных лет – можно объединить под знаком авторского жанра «полуписьменные сочинения». Данное жанровое определение как подзаголовок к своему эссе «File на грани фола» было зафиксировано Битовым в журнале «Октябрь» за 2005 год. Несмотря на то что в том же «Октябре» подобные тексты именуются устными эссе, все же жанр «полуписьменные сочинения» укоренился для автора как адекватный способ трансляции единственных, но вечно возвращающихся смыслов: «Жанр "полуписьменных сочинений" возник самопроизвольно и спонтанно, т.е. естественно, как способ избежать заказной работы, внезапной для меня ангажированности, связанной с объявлением гласности» [Битов 2009: 228]. К своему «счастливо обретенному методу» «полуписьменных сочинений» писатель относится неоднозначно: «Выговоренность, даже высказанность есть, а удовлетворения от текста нет. Будто и текста нет. Не проза. Пересказ – еще не проза, но уже и не интервью, вот в чем дело. Значит, все-таки жанр» [Там же]. Это позволяет не согласиться в полной мере с М.А. Гурьяновой, которая утверждает: «Жанровая специфика прозы Битова сложилась к началу 1970-х годов и более не претерпевала значительных изменений» [Гурьянова 2009: 6]. Действительно, Битов сохранил найденные им единственные смыслы и формы, однако изменилось время и пространство их звучания и существования, что не могло не вызвать у автора желания импровизировать и экспериментировать на границе полуписьма, где смыкаются пространственно-временная поэтика его текстов и реальная жизнь: «Одно дело, когда замысел ищет воплощения в письменной речи, а совсем другое, когда ты вкладываешь себя в рамки, даешь интервью самому себе. Интервью себе – вот что это такое. Тут моя питерская природа тоже что-то говорит мне. Однажды я вел круглый стол на книжной ярмарке, и там банально столкнули питерцев и москвичей, и в конце концов, как это бывает, в процессе дискуссии я договорился до удачности, сказав: разница московской и питерской речи в том, что Москва (недаром отсюда все время идут реформы русского языка!) – как слышится, так и пишется, а Петербург – как пишется, так и слышится. То есть Петербург по природе, даже по построенности 296 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 города, – более письменный город, Москва – более устный. Так что здесь – совмещаю две столицы!» [Битов 2005: 119]. Ощущение пограничности письма и речи, таким образом, проецируется на общекультурные пласты, но и в самой русской культуре с ее «извечной парностью» Битов как бы находит основание для размышлений о закономерностях, антиномиях и подобиях русской литературы. Чисто хронологический подход к изданию текстов Пушкина в книге «Предположение жить. 1836» Битов находит верным и в отношении творчества Набокова: «Набокова я тоже рассматривал из этой перспективы. Бывает так, что в творчестве есть какая-то гора вулканическая – с подъемом, со спуском. В начале не хуже, но где-то есть вершина и спад, на который проецируется начало. У Набокова так проецируются русский и американский периоды. Но так же точно проецируется и возраст. Везде – большие системы подобий» [Битов 2005: 118]. Битов создает образ русской литературы, видя ее как «большую систему подобий». Размышление-игру писателя об астрологии русской литературы, как представляется, тоже можно рассматривать как пример нелинейного мышления. В битовской астрологии писатели и поэты, рожденные в одном астрологическом знаке и противоположные рожденным в другом знаке, каким-то образом соответствуют друг другу и по своей художественной миссии в русской литературе: Гоголю и Достоевскому соответствовали Набоков и Платонов, а Л. Толстому – Бунин и Солженицын. Сам Битов к своим астрологическим изысканиям относится иронично, называет их «творческим маразмом». Так, в эссе про «обнуление времени» он пишет: «...пока "Оглашенные" выходили в переводах, а не по-русски, я решил не ждать, не сидеть сложа руки, а напечатать “Начатки астрологии русской литературы” за свой счет, брошюрой – дешево и сердито. Дешево – получилось. Несмотря на моду на астрологию, открытия мои не вдохновили ни астрологов, ни публику: я не вернул даже своих пятисот долларов» [Битов 2007: 108]. Следует отметить, что за авторской иронией – обращение Битова к загадкам и приметам времени в истории русской литературы – это и попытки понять роль читателя. Соединение хронологической последовательности текстов и читательских возможностей, по Битову, сопрягает литературу и жизнь: «... неизвестно, что вперед чего. Особенно у пишущего. Текст часто съедает его жизнь. Ведь потому – литература, что она подобна жизни, а не потому, что отражает ее. Вы попадаете в процесс, который переживает автор в процессе письма, который подобен переживанию жизни. Чтение – это со-чтение, со-чувствие» [Битов 2005: 118]. Такова собственно позиция самого Битова как читателя. В 2006 году вышла книга «Полуписьменные сочинения» [Битов 2006], оснащенная аудиоприложением. М. фон Хирш отмечает в этой книге хронологическую особенность «текстуальных концепций» Битова, например, парадоксальность датировки одного из ранних рассказов – с марта 1957 по 26 мая 2005, акцентирует также авторский принцип создания единого произведения [Хирш 2007: 163 – 164]. На специфике хронологического Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 297 описания Битовым своих текстов следует, на наш взгляд, заострить внимание. Для Битова характерна не только двойная датировка текстов, но двучастность заглавий, которые можно определить как метатекст в свернутом виде, т.к. они имеют первое название произведения и второе, являющееся подзаголовком комментирующего характера, но, по сути, подзаголовок – это продолжение, часть заглавия. Это характерно для текстов, переизданных не только в 2000-х годах. Пример тому «Книга путешествий» (1986), в которой объединились такие тексты, как «Одна страна. Путешествие молодого человека» (1960), «Путешествие к другу детства. Наша биография» (1963 – 1965), «Колесо. Записки новичка» (1969 – 1970), «Птицы, или Новые сведения о человеке» (1971,1975), «Азарт. Изнанка путешествия» (1971 – 1972), «Уроки Армении. Путешествие в небольшую страну» (1967 – 1969), «Выбор натуры. Грузинский альбом» (1970 – 1973, 1980 – 1983). Годы написания некоторых произведений даются либо через дефис, при этом дистанция от одной даты до другой может быть от нескольких лет до трех-четырех десятков лет, либо обозначены через запятую, и это, по всей видимости, говорит о том, что автор прерывался, чтобы потом снова вернуться в свой текст. Такой возврат – своего рода метатекстовая прошивка своего творчества. Наблюдения М. фон Хирш позволили ей сформулировать важные вопросы о связанности всех текстов Битова: «…почему, во-первых, так важна и значима эта связь? А во-вторых, какие риторические приемы и стилистические средства способствуют ее созданию? Ответы на эти вопросы кроются в феномене литературного комментария, который, в своих различных ипостасях, составляет основу поэтики Битова» [Хирш 2007: 163 – 164]. Исследовательница предлагает исходить из понятия метакомментария как жанро- и стилеобразующего фактора. Однако сам Битов не считает себя стилизатором. Метакомментарий обнаруживает себя именно в стилистических связях, в структуре его произведений. Эти, по сути, метапоэтические принципы как бы «заповеданы» в неизменном авторском коде, или, как рассуждает писатель в своем полуписьменном сочинении, написаны в «одном файле»: «А мне еще говорят: что такое? Почему ты пишешь в одном файле? Что за глупость? Не можешь новую иконку завести! Может быть, мне не нравится слово иконка в таком употреблении легкомысленном… Но на самом деле это подтверждает, что человек слился со своим текстом. Жанрово нарезает и замыслово оформляет, но непрерывность эта есть. В данном случае тексты, которые я вам предлагаю, тоже выпали из одного файла, и между ними есть неожиданная преемственность, хотя все они написаны в разное время и по разным поводам» [Битов 2005: 119]. Судя по этому высказыванию, творческому сознанию Битова все-таки важна не жанровая нарезка некого единого текста, а некая непрерывность, которую М. фон Хирш обозначает как «иллюзию бесконечности». Суть непрерывности, на наш взгляд, в глубоком отношении к значимому. Даже, казалось бы, скользящее высказывание Битова по поводу легкомысленного употребления слова «иконка» трудно назвать сугубо 298 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 стилистическим приемом. Это скорее попытка соотнести масштаб понятий, чтобы выявить для себя более значимое. Данный принцип Битова обнаруживается также и в более «письменных» размышлениях о языке и «живой жизни» (эссе «От "А до Ижицы"»): «Каким-то образом именно в живой речи взвешивается масштаб, вес, гений, некая не смущенная нравственными или вкусовыми оценками значимость, приводя язык в пропорциональное отношение к живой жизни» [Битов 2009: 14]. На наш взгляд, в текстах, созданных в жанре «полуписьменных сочинений», определяется метапоэтический принцип битовской эссеистики, который заключается в понятии непрерывности как сообщаемой жизни значимости. Особенность «полуписьменных сочинений» обусловлена необходимостью отталкиваться от жанровой специфики всего творчества Битова. «Полуписьменные сочинения» имеют метажанровую природу, представляют собой не просто смешение жанров рассказа, эссе, интервью, включение мемуарных элементов (когда писатель вспоминает о своих современниках), это еще и авторский способ укоренения единственных смыслов и принципов. Принцип осознания границ собственного текста для Битова – неизменный. Самоидентификация в процессе творения важна для него и в тексте, и в контекстах. Писатель ищет соответствие идеи и опыта, и прежде всего через соответствие самому себе, при этом «живая проза», которой, по сути, становятся и опубликованные «полуписьменные сочинения», прорывает личное время автора и во многом предвосхищает его опыт. Битов стремится передать процессуальность и конфликтность взаимообмена текста и внетекстовой реальности. Жанр «полуписьменные сочинения» необходим Битову для чуткого баланса этого взаимообмена. Литература Битов А. File на грани фола. Полуписьменное сочинение // Октябрь. 2005. № 10. Битов А. Битва. Первая публикация отдельной книгой. М., 2009. Битов А. Из цикла «Обнуление времени» // Звезда. 2007. № 5. Битов А. Попробуем без героев. Полуписьменные сочинения // Рубеж. Тихоокеанский альманах. 2009. № 9/871. Битов А.Г. Полуписьменные сочинения (+CD). М., 2006. Гурьянова М. Жанровые процессы в прозе Битова: 1960 – 1970-е годы: автореф. дисс. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2009. Хирш М. фон. Иллюзия бесконечности // Октябрь. 2007. № 4. И.С. Соколова (Саратов) Сергей Шаргунов как проект «нового реалиста» Научный руководитель – профессор Л.Е. Герасимова В начале 2000-х гг. в литературу с шумными манифестами «нового реализма» вошли молодые авторы, которые были встречены критиками с Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 299 большим вниманием. Минувшее десятилетие дает возможность понять, что представляет собой новое литературное поколение, каковы его творческие индивидуальности, оправданы ли ожидания авторов и читателей. Сергей Шаргунов на литературном поприще дебютировал в начале нулевых как писатель и критик. В своей первой статье «Отрицание траура» [Шаргунов 2001] он заявил, что ему противен «хихикающий кружок» постмодернизма и на смену ему должен прийти «новый реализм». В 2002 г. выходит в свет его повесть «Ура» [Шаргунов 2012] (переиздана в 2012 г. в издательстве «Альпина нон-фикшн), а еще через год он становится лауреатом премии «Дебют». Помимо художественных текстов, Сергей Шаргунов большое внимание уделяет публицистике. В 2008 г. издана его книга эссе «Битва за воздух свободы» [Шаргунов 2008]. Параллельно с этим он активно занимается журналистикой [см.: Шаргунов]. Сегодня среди молодых авторов очень распространена многостаночная деятельность. Сам Шаргунов к ней относится неоднозначно. Он признает актуальность «типажа писателя, желающего заниматься всем» [Шаргунов4]. Говоря о своем творчестве, заявляет: «Мои взгляды не в прозе и стихах, где вымышленный мир, огонь экзистенциальных вопросов и нагота сердец, а, разумеется, в публицистике и в выступлениях» [Шаргунов2]. Вместе с тем Шаргунов крайне негативно отзывается о журналистах, занимающихся литературной деятельностью: «Любой критик и любой журналист тайно мучается: а писателем я быть могу? Книги-репортажи у видных журналистов, как правило, удаются, а вот попытки поразмышлять о мироздании, заплести сюжет или, не дай Бог, блеснуть метафорой терпят крах» [Шаргунов 2008: 91]. Тексты Шаргунова изоморфны. Проза, публицистика и даже журналистские материалы – это крик. «Кричать – значит заявлять, рассказывать о чем-то. И у меня в душе все кричит» [Шаргунов 2012: 11], – пишет он в повести «Ура». Крик, пронзительный и громкий, – один из способов донести до читателя истину, сокрытую от него. Свою публицистику Шаргунов охарактеризовал как публицистику, переходящую в прозу. Это верно и в отношении его журналистских материалов. Они злободневны, лаконичны, с элементами аналитики и прогнозов. В них, как и в прозе, неизменно присутствует автобиографический герой. Мир через призму себя – отличительная черта его стиля. Он вспоминает эпизоды из своей жизни, делится впечатлениями и эмоциями. В журналистике Шаргунова авторское Я бывает настолько активно, что статья превращается из репортажа, заметки или зарисовки о событии в зарисовку о Шаргунове. Творчество Шаргунова – это большой литературный пазл, а каждый текст – его отдельный кусочек. Они соединяются друг с другом, складываясь в единую картину. Так, к примеру, в повести «Ура!» (2001) герой только учится на журфаке МГУ, в повести «Как меня зовут» (2005) 300 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 начинает делать журналистскую карьеру, в «Птичьем гриппе» (2008) заканчивает университет и получает первую литературную премию. В «Ура!» герой переживает разрыв с возлюбленной, а подробно история их взаимоотношений освещена уже в другом тексте – «Малыш наказан» (2001). Герой взрослеет вместе с автором, завоевывает признание, терпит неудачи в политике, обзаводится семьей. Так, сложив всё воедино, мы получим картину жизни одного героя по имени Сергей Шаргунов, во многом наделенного биографией автора. Отличает его журналистские материалы и то, что присущая им образность, метафоричность делает их маленькими литературными произведениями. Приведу пример из статьи «Женская зона», опубликованной в журнале «Медведь»: «Шустрая, с наглыми пустыми глазами вполовину костистого лица, бритоголовая, с угловатым резким телом. Она, очевидно, помыкала их отрядом. И вот она приблизилась ко мне и начала тереться, хихикать, подмигивать, вертеться – все то, что я ожидал от остальных. Хищный танец, но не твари похотливой, а рыбьего скелета. Сильная, она вертелась вокруг, а большие глаза оставались ледяными и наглыми, и в этой пародии на страсть была некая демоническая издевка над родом мужским. Я ощутил холодные короткие касания ритуала» [Шаргунов1]. В повести «Ура» и в журналистике Шаргунова общий принцип построения сюжета. Он, как мозаика, складывается из различных маленьких кусочков-воспоминаний, рассказов-иллюстраций, размышлений, пророчеств. Их цель – плакатно привлечь внимание к порокам, различным формам зла. Но яркие, броские картинки лишены психологизма. «Я иногда называю "Ура!" повестью-проектом. Потому что очень много кругом распада. Отсюда и возникла идея нарисовать привлекательный, здоровый тип героя» [Шаргунов3], – говорит в одном из интервью Шаргунов. Но что это за «привлекательный, здоровый тип»? Герой повести – молодой человек с именем Сергей Шаргунов, над которым, по словам автора, «надругалась жизнь», а именно его бросила возлюбленная. С тех пор он пустился во все тяжкие и начался распад, крушение системы ценностей. Достоевский говорил, что мир спасет красота. Но в мире Шаргунова она уже потерпела поражение: стерлась грань между красотой и уродством. О Лене Мясниковой он говорит: «Слишком красивая, почти уродец. Зверская красота» [Шаргунов 2012: 10]. Стерлась грань между жизнью и смертью. В комнате одной из героинь на стене висит погребальный венок, а о другом герое сообщается, что он уже сдох как человек. Но почему это произошло? Шаргунов винит во всем современную действительность. С этим можно согласиться. В повести действительность предстает как выставка пороков, а герои – наглядные пособия к ним. У героев нет прошлого, и читатель не может узнать причину их распада. Да и Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 301 сами они зачастую не ощущают своей моральной смерти. Их все в этой жизни устраивает. Они добровольно идут к краю пропасти. И только главный герой повести пытается бороться с распадом жизни и дает целый проект, наглядное пособие, как это нужно делать. Первое – надежда на спасительную любовь. «После все этих надругательств жизни я хочу заорать: дайте мне любовь! У нас будут красивые дети. Образцовая семья. И сгинет наваждение алкоголя, наркотиков, распад остановится» [Шаргунов 2012: 21]. Затем – самостоятельное переустройство своей жизни. Герой демонстративно бросает курить, начинает бегать по утрам, протестует против алкоголя. Но это переустройство телесное. О душе, моральной, нравственной опоре он не думает. Так, герой, на первый взгляд, готов ради очищения мира от мафиози и героинщиков к самопожертвованию: «Хотите, товарищи, повесьте и меня, лишь бы не было этих Мафиози. Буду раскачиваться на ветру. Лишь бы рядом Мафиози, грузный, поскрипывал» [Шаргунов 2012: 38]. В этих словах больше протеста, нежели искренности. Тем более, что несколькими строками ранее он лично приносит этим мафиози героин и даже не задумывается о том, чтоб этого не делать. Что действительно восхищает героя, так это сила. «В революционные годы собрали группу духовенства. – Ну! Бог есть? – орал визгливо парень. – Кто первый? – Есть, – кивнул один. Свист пули в голову, рухнуло тело. – Дальше-е!.. И расстрелял всех. Жать на курок, в отчаянии подтверждая для себя: нет, нету Бога! Каково убивать, убивая надежду в себе!» [Шаргунов 2012: 173-174]. Но сила – это величина, всегда имеющая свое направление, а мужество присуще и злодею, и спасителю. И если сила и мужество направлены на убийства, то в чем тогда их нравственный смысл? В таком взгляде на силу прослеживается самораспад героя. Отсюда же вытекает антиреалистическая концовка текста, противоположная его художественной природе. Автор не может найти спасения из нарастающего распада. Подобный «приклеенный» конец будет и в романе «Птичий грипп», посвященном проблеме политики в современной России. Главный герой Степан Неверов, человек без веры и идей, последовательно внедряется в различные политические движения: нацболы, скины, либералы, коммунисты. И приходит к выводу, что «политика, борьба – это полная лажа. Игра это. Но интересно. Не сама игра интересна. А игроки вот эти прорисованные. Они верят, когда скачут, они не знают, что их нарисовали…» [Шаргунов 2008: 42-43]. Эту мысль он развивает и в публицистике, говоря, что сегодняшние политики «подобны мертвецам», а «их постановочность выпукла и навязчива, как сцена казни Цинцинната Ц.». Говоря о политике, Шаргунов-писатель иногда противоречит Шаргунову-публицисту. Так, в эссе «Что за поворотом?» он 302 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 пишет: «Только коалиция всех активных гражданских сил на принципах патриотизма, социальной справедливости и свободы могла бы мощным порывом вихря сорвать фальшивые тряпки лозунгов с вертикали власти» [Шаргунов 2008: 27]. Но в «Птичьем гриппе» он показывает, что не только неспособна коалиция ничего противопоставить власти действующей. Ее существование в принципе невозможно. В романе автор затрагивает тему литературы, а конкретно молодых авторов. «Весь вечер Иван сгорал от стыда, точно впервые слышал своих друзей! Их тексты были похожи на жалобы… Чудовищная гниль душевной нищеты! Стихи про пальто без рукава и обрывок сырой газеты, "набитый ржавью табака", проза про дешевые макароны» [Шаргунов 2008: 133]. Сергей Шаргунов неоднократно заявлял, что молодая русская литература – только гром, за которым не следует ливня. Недоволен Шаргунов и критиками, особенно начинающими. Он упрекает их в «супериндивидуализме», пропаже заботы о читателе, субъективизме, узости, отсутствии чувства текста и в подчас незаслуженно высокой оценке в адрес друзей-писателей. Сергей Шаргунов – автор, в творчестве которого отразились достоинства и недостатки, присущие молодым российским писателям. В дальнейшей своей работе я обращусь к анализу нового романа данного автора «Книга без фотографий» (2011), в котором автор решил рассказать о лирическом герое нашего времени через цепочку историй, соединенных одним сюжетным сквозняком. Литература Сайт писателя Сергея Шаргунова [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://shargunov.com. Загл. с экрана. Дата обращения: 27.04.2011. [Шаргунов] Сергей Шаргунов: Женская зона [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://shargunov.com/data/197/. Загл. с экрана. Дата обращения: 27.04.2011. [Шаргунов1] Сергей Шаргунов: Многое покажет этот год и следующий [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://shargunov.com/data/189/. Загл. с экрана. Дата обращения: 27.04.2011. [Шаргунов2] Сергей Шаргунов: Мой герой – пингвин [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://shargunov.com/data/109/. Загл. с экрана. Дата обращения: 27.04.2011. [Шаргунов3] Сергей Шаргунов: Опыты важны для художника [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.russia.ru/video/resheto_9981/. Загл. с экрана. Дата обращения: 27.04.2011. [Шаргунов4] Шаргунов С. Книга без фотографий. М., 2011. Шаргунов С. Отрицание траура // Новый мир. 2001. № 12. Шаргунов С. Птичий грипп. М., 2008. Шаргунов С. Ура! М., 2012. Шаргунов С.А. Битва за воздух свободы. М., 2008. Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 303 А.А. Житенев (Воронеж) Видеопоэзия и семиотика интермедиальности Данное исследование выполнено в рамках Гранта Президента РФ «Современная поэзия в контексте медиа» (МК-1022.2011.06). Как известно, в семиотике культуры наиболее значимой характеристикой искусства оказывается способность «расширять пространство непредсказуемого»; между тем одним из важнейших условий создания этого пространства оказывается интерсемиотический «перевод», трансформация сообщения при перекодировании. Закономерно, что априорным условием существования культуры с позиций семиотики оказывается обязательное наличие в ней взаимно неэквивалентных кодов, в частности, «изобразительных и словесных связей, которые могут рассматриваться как два совершенно различно устроенных канала передачи информации» [Лотман 2000: 163]. Взаимодействие сферы словесного и сферы изобразительного приобрело особое значение в культуре XX в., отличительной особенностью которой было стремление искусств «выйти за пределы своих естественных границ» [Грыгар 2007: 31]. В информационном обществе, где медиа оказываются всеобъемлющей средой, формирующей новые принципы бытования текста, это стремление приводит к активному освоению новых информационных каналов – в частности, экранных. «Иконический поворот» заставляет видеть в языке экранного искусства универсальный язык современной культуры, нацеленной на «форсирование средств эмоционального воздействия» [Познин 2009: 20] . Одним из самых показательных проявлений синтеза на границе литературного и медиального оказывается видеопоэзия, совмещающая семиотические коды разной устроенности. В современном контексте видеопоэзия существует скорее как «идея, чем как наличная данность» [Кузмин], однако ее связь с поисками медийных «форм и форматов» бытования текста [Родионов] делает ее важной областью современного интерсемиотического синтеза. Поиски этого синтеза оказываются сопряжены с целым рядом трудностей как рецептивного, так и жанрового порядка. Рецептивные трудности заданы конкуренцией вербального и визуального кодов, пребывающих в динамическом взаимодействии, и сводятся к нескольким проблемам. Первая из этих проблем – совмещение разных модусов рецепции: «Визуальные формы, – замечает С. Лангер, – линии, цвета, пропорции и т.д. – точно так же способны к артикуляции, то есть сложному сочетанию, как и слова <…> коренное отличие состоит в том, что визуальные формы недискурсивны. Они представляют свои составляющие не последовательно, а одновременно» [Лангер 2000: 85]. Этот дисбаланс линейности и нелинейности видео как сообщения 304 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 осложняется традиционным для всех экранных искусств указанием на то, что язык движущихся изображений не предсуществует тексту: «Единицы киноязыка, – указывает В. Соколов вслед за другими специалистами по семиотике кино, – формируются в фильме (в "речи"), они не существуют до "речи" как словарный состав в естественном языке. "Членение" на единицы происходит в восприятии зрителя на базе его "родного языка"», каковым является «социокультурный тезаурус» [Соколов 2008: 45]. Третья значимая проблема, обусловленная присутствием в синтетическом произведении поэтического и визуального – разнонаправленность работы восприятия: если, как писал Б. Эйхенбаум, «кинозритель находится в условиях восприятия, обратных процессу чтения: от предмета, от видимого движения – к его осмыслению, к построению внутренней речи» [Эйхенбаум 2001: 19], то зритель поэтического видеоролика вынужден совмещать принципы кинорецепции и рецепции текста. Не менее существенны сложности, заданные пребыванием видеопоэзии на стыке разных жанров и видов искусства. С одной стороны, можно отметить заложенный внутрь экранной составляющей видеопоэзии конфликтный заряд, связанный с напряжением между повествовательной и клиповой формами организации изображения. Видео, как известно, характеризуется принципиально «некинематографической» трактовкой времени: оно работает в «непрерывном времени», что не исключает возможности наложения различных «временных или пространственных фрагментов» и разнонаправленного манипулирования ими [Транунсенд 2007: 11] и заведомо сводит на нет любую нарративность. С другой стороны, вербальная составляющая видеопоэзии также оказывается «растождествленной», поскольку в контексте видеоролика соотносится и с мелодекламаторской vs. саунд-артной линией реализации замысла, и с линией визуальной поэзии, областью каллиграфического vs. типографского эксперимента. Очевидно, что художественный инструментарий в одном и другом случае неодинаков: автор видео акцентирует или эффект присутствия, связанный с метафизическим коннотациями «голоса» поэта, или эффект слова как «зримой формы, постигаемой созерцанием» [Сазонова 1991: 78]. Закономерным образом проблема классификации форм видеопоэзии сводится к определению путей выхода из обозначенных затруднений. В этой связи представляет определенный интерес типология вариантов взаимодействия вербального и визуального в произведении экранного искусства, намеченная Ю. Арабовым: «Мне известны несколько моделей, которые призваны как-то скрасить зияющую пропасть между изображением и словом. 1. Слово, поясняющее или объясняющее действие. 2. Слово орнаментальное. 3. Слово как контрапункт к изображению. 4. Метафизическое и философское слово. 5. Слово-реприза или словоаттракцион. 6. Слово-титр» [Арабов 2003: 18]. Очевидным образом Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция 305 поясняющее слово и слово-орнамент в принципе не могут стать основой видеокомпозиции: в первом случае ввиду дублирующей роли слова, во втором – ввиду его необязательности. Остается четыре варианта, каждому из которых соответствует некоторое количество образчиков жанра. Одна из наиболее продуктивных моделей синтеза – использование слова-титра, превращающее типографику в значимую составляющую изображения. В этом случае возникающий на глазах зрителя текст синхронизируется с чтением, а ассоциативный ореол шрифта, размер кегля, координация элементов текста позволяют передавать интонационные нюансы. Наиболее последовательное воплощение этого принципа – ролик В. Рыжкова «Дзверы, замкненыя на ключы»; в том же ряду находятся видеокомпозиция «Поцелуи» М. Чаплин, работы Э. Кулемина «Бормотень» и А. Толкачевой «Вчера я подумал». Близка к опытам такого рода и работа А. Онуфриенко «Хню» на текст Ю. Гордона. Второе направление синтеза, акцентирующее звуковой элемент высказывания, – слово-реприза. В этом случае основу эстетического эффекта составляет парадоксальный смысловой ход в читаемом стихотворении, который резко меняет параметры восприятия видеоряда, «ломает» зрительское ожидание. Показательный образец такого рода – видео В. Смоляра «Ремонт» на текст А. Штыпеля и его же работа «Черная Простыня» на стихи М. Галиной. «Аттракционный» элемент свойствен и целому ряду работ, созданных на стихи А. Чемоданова – в частности, «Электричеству» И. Ремизова. Метафизическое слово и слово-контрапункт образуют единую, связанную отношениями взаимного опосредования, линию развития видеопоэзии. Для нее характерна взаимная отчужденность видео и звучащего текста vs. «точечный» характер их совпадения – в ассоциативном или образном решении ролика. Существенную роль в этой связи играет музыка, которая устанавливает эстетическую дистанцию между текстом и видео, а также монтажное переупорядочение временного потока, позволяющее «расподобить» визуальный ряд. Наиболее значимыми образчиками жанра этого рода являются работы Ф. Кудряшова «Кукушка» на стихи М. Амелина, Д. Мишина «Когда я похож на рекламный щит» на стихи А. Тиматкова, «Немногих слов на лентах языка» Д. Браницкого на стихи Г. Шульпякова. Ироническая версия этой линии развития видеопоэзии представлена работой Н. Алфутовой «Гагарин» на стихи И. Кабыш и роликом, подчеркнуто ориентированным на клиповую эстетику – работой «Путешественники во времени-1» Ф. Кудряшова на текст Ф. Сваровского. Литература Арабов Ю. Кинематограф и теория восприятия: учебное пособие. М., 2003. Грыгар М. Знакотворчество. Семиотика русского авангарда. СПб., 2007. Кузмин Д. [О видеопоэзии]. Д. Кузмин. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://community.livejournal.com/kryakk_08/7699.html#cutid2. Загл. с экрана. Дата 306 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 1 обращения: 22.04.2011. Лангер С. Философия в новом ключе. М., 2000. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб., 2000. Познин В.Ф. Выразительные средства экранных искусств: эстетический и технологический аспекты: Автореф. дис. … докт. искусствоведения. СПб., 2009. Родионов А. [О видеопоэзии]. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://community.livejournal.com/kryakk_08/7699.html#cutid21. Загл. с экрана. Дата обращения: 21.04.2011. Сазонова Л. Поэзия русского барокко (вторая половина XVII- начало XVIII в.) М., 1991. Соколов С.В. Киноведение как наука. М., 2008. Траунсенд К. Видео как современное художественное средство: расцвет видеоарта, 19651980-е гг. // Джеуза А. История российского видеоарта. Т.1. М., 2007. Эйхенбаум Б. Проблемы киностилистики // Поэтика кино. Перечитывая «Поэтику кино». СПб., 2001. ЧАСТЬ II Раздел 1 История, теория и практика журналистики А.А. Давыдова (Астрахань) Тематическое разнообразие газеты «Мирное обновление» (Астрахань, 1907 г.) Научный руководитель – профессор Е.В. Ахмадулин Осенью 1906 г. Центральный комитет партии «Мирного обновлении» (Санкт-Петербург) легально открыл отдел своей партии в Астрахани наряду с другими провинциальными городами (такими как Киев, Одесса, Смоленск и др.). 4 декабря 1907 г. на имя губернатора Ивана Николаевича Соколовского от присяжного поверенного Александра Ивановича Чеховского поступило заявление с просьбой разрешить издавать в Астрахани ежедневную газету. В прошении указывалось, что «эта газета будет главным образом органом общества «Мирное обновление», которое признано правительством легальным и как таковое зарегистрировано. Эта газета будет печататься в Паровой Русской Типографии в доме Усейнова на Почтовой улице» [Дело о разрешении присяжному поверенному А.И. Чеховскому издавать в г. Астрахани газету «Мирное обновление» 1906: 1]. Разрешение на издание было получено, ответственным редактором-издателем выступил лидер «Прогрессивной партии мирного обновления» А.И. Чеховский. Первый номер «газеты политической и общественной жизни» «Мирное Обновление» вышел 1 января 1907 г. Газета издавалась с периодичностью два раза в неделю и сразу же зарекомендовала себя в информационном пространстве как исключительно агитационный проект. В Астраханской губернии партия мирнообновленцев (в отличие от партии кадетов) не играла особой политической роли, поэтому налаживание выхода данного периодического издания было призвано обратить внимание потенциальных избирателей к программным требованиям объединения, что содействовало бы проведению «своих» кандидатов в Государственную Думу. Выполнив 308 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 свою стратегическую задачу, газета прекратила свое существование: уже № 9 от 28 января (воскресенье), назначенный день выборов, стал последним. Конечно, по сравнению с историей развития таких устоявшихся изданий, как «Астраханские Губернские Ведомости», «Астраханские Епархиальные Ведомости», «Астраханский Вестник», «Астраханский Листок», газета «Мирное Обновление» присутствовала в системе печати губернии непродолжительное время. Но сам факт того, что издание участвовало в процессе формирования информационной картины действительности и активно боролось за привлечение читателей в ряды партии, заставляет обратиться к ее исследованию. Общественно-политический статус издания определил идейнотематическое своеобразие газеты, актуальность публикаций и набор художественных средств выражения редакционной позиции. Главным предметом обсуждения на страницах газеты, безусловно, являлась тема предстоящих выборов во ІІ Государственную Думу, имеющая полемический характер. Астраханское отделение полностью признавало руководящую роль Центрального комитета партии и поддерживало первые ее выступления: протест против роспуска Государственной Думы, осуждение Выборгского воззвания как акта несомненно революционного. В программной статье «От партии Мирного Обновления к избирателям», подписанной лидерами фракции графом П.А. Гейденом, Н.Н. Львовым, М.А. Стаховичем, указывалось на значимость предстоящих выборов: «К будущим выборам должны быть направлены усилия русского народа, а нужды его будут выражены теми, кого он сознательно выберет. Всякие насилия, беспорядки и нарушения законов представляются нам не только преступными, но среди переживаемой смуты прямо безумными» [Мирное Обновление 1907. № 1: 2-3]. Настоящим и потенциальным избирателям предлагалось ознакомиться с точкой зрения партии по вопросам государственного устройства, местного самоуправления, на проблемы суда, права граждан, народного просвещения, финансов и экономики, аграрного вопроса. Первый номер газеты носит ознакомительный характер и предлагает читателям свой взгляд на расстановку политических сил в непосредственно в Астраханской губернии. Распределение политических сил комитету партии «Мирного Обновления» представлялась следующим образом: «собственно на предстоящих выборах борьба будет только между тремя партиями: мирнообновленцами. Кадетами и черносотенной организацией, известной под именем «Астраханской народной (?!) монархической (?!!) партии» <…> Кроме этих партий, многочисленную группу избирателей составляют беспартийные и между ними чиновники» [Наши партии: 2–3]. С первого и до последнего номера редакцией предпринимаются попытки применения предвыборных технологий, направленных на дискредитацию идейных противников. Политическим антагонистом Раздел 1. История, теория и практика журналистики 309 мирнообновленцев была черносотенная «Астраханская народная монархическая партия» и ее печатный орган – «Русская Правда». В отношении этого объединения журналистами «Мирного Обновления» использовались такие формы выражения своего неприятия, как статьи с эмоционально-оценочными заголовками («Астраханские монархисты» № 2, «Монархисты-разрушители» № 3-4, «Курьезное собрание монархистов» № 3, «Бесчинство членов астраханской монархической партии» № 1), фельетоны («Газета «Русская Правда» и ее вдохновители» № 2-5, «Два «верных отчета о торжестве» освящения знамен» № 7). Особый интерес среди жанровых новаций антимонархической темы представляют выдуманные истории, своеобразные исторические анекдоты. Так, в № 1 опубликован акростих крестьянина П.А. Кузьмиченко «Господи, святую Русь храни» с жанровым подзаголовком (молитва крестьянина) сопровождаемый комментарием: «Пресловутый редактор «Русской Правды» г. Тиханович-Савицкий, так резко издевающийся над лучшими представителями нашей интеллигенции и их стремлением к осуществлению манифеста 17 октября 1905 г., стал жертвой злой шутки. В последнем номере его «газеты» напечатано следующее стихотворение. Ты, Господи, услышь наши моленья И на страну родимую воззри! Храни ее от бед, от горя и мучений, Архангелов крыла Твоих над ней простри! На век ее, святую Русь, храни! *** О сохрани ее, Святую, нераздельно Всю целую, как от веков была! И даже ей мощь и крепость неподдельну, Чтобы еще века она цвела! Побереги ее и целой сохрани! *** Обереги ее от срама расчлененья, Долой жидов, Твоих мучителей, гони, Лицо их отврати, убей их вожделенья, Ее от них избавь и сохрани! Целуя Крест Твой, молим: сохрани! Подобная мистификация не только «работала» на создание негативного имиджа оппонента, но и апеллировала к религиозным чувствам населения: «…недопустимее в молитве хулиганство, вероятно, прельстило г. Тихановича, который с удовольствием на видном месте его поместил, и … сам себя высек». Обращение к религиозной образности (использование высокой лексики: моленья, воззри, святую, архангелов, мощь, крепость и др.) привносит в текст гражданский пафос, привлекает к нему внимание читателей с религиозным типом сознания, подчеркивает общественный резонанс факта его публикации. Само вызывающее поведение лидера 310 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 монархистов давало возможность «раскрыть» общественности на него глаза и обращение к вечным ценностям делало все понятным даже для обывателя: «Священное писание говорит: где пали пастыри церкви, там не может быть и истинных пасомых, следовательно и православия. Так вот до чего договорились эти мнимые христиане своими нечистыми устами, в лице Дубровина и Тихановича-Савицкого. И что же мы видим? Собираются на их черносотенные собрания простые люди и слушают злохуления на пастырей церкви» [Мнение рабочего о монархистах: 2–3]. Другим ожидаемым противником для мирнообновленцев стала кадетская партия «… которая в местных газетах открыла поход даже против личности организаторов «Мирного Обновления», а затем и в наших партийных собраниях лидеры той партии, а также их союзники (товарищи) открыли против нас штурм, сопровождавшийся неприличною бранью» (печатный орган «Астраханский Дневник») [Мирное Обновление 1907. № 1: 1]. Газета А.И. Чеховского открыто обвинила две враждующие организации в сговоре между собой с целью конфронтации, разоблачению позиции политических соперников, что должно было подорвать доверие избирателей: «но это была не договорная дружба, а просто так себе, по отсутствии политической мудрости, по младенчеству» [Самоубийство кадетов: 2]. Расклад предвыборных сил в Астрахани не устраивал мирнообновленцев. В фельетоне «Дремлет Астрахань» выразилось стремление редакции влиять на политические взгляды электората. Данный фельетон не выдержан в полном жанровом объеме, существенные критические ноты, заметные в первом абзаце, сменяются общим публицистическим рассуждением в основной части. В самом начале произведения цитируются известные строчки из стихотворения Н.А. Некрасова: «В столицах шум, гремят витии, кипит словесная война»: в цитате противопоставляется столица и провинция, редуцированная форма цитирования прецедентного текста высказывает ироническое отношение к провинциальному миру: «у нас самая пошленькая тишина. Там борются за будущее счастье истерзанной бюрократией Родины, идет спор о лучших людях России, кипит предвыборная работа, а мы…». Использование слов родина, Россия должно заронить в сознание читателей патриотические настроения, подчеркивают значимость исторического периода выражают идею консолидации. Автор констатирует пошлость астраханской жизни, безынициативность горожан, слабую гражданскую позицию: «Громим (шепотом, конечно) нашу полицию по поводу бегства Матусова и наши тюремные порядки, при которых убийцам бежать так же легко, как и выйти из клуба, любуемся, что у нас, по сведениям полиции, в городе не воруют и не грабят и танцуем, танцуем без конца, то в пользу благотворительности, стоящей в три раза меньше выеденного яйца, то в пользу голодающих, которым и посылаем остатки от танцев – пятак с грошом». Как не соответствующее историческому Раздел 1. История, теория и практика журналистики 311 моменту увеселение иронически оценивается и интерес публики к театру: «Восторгаемся игрой любителей драматического беспутства и за деньги слушаем, как какая-нибудь девица в возрасте, для девицы довольно-таки преклонном, и ростом с доброго гренадера, присюсюкиваем, прыгаем и мечется по несчастной сцене, изображая наивную девочку». Данный критический пассаж против астраханского театра объясняет общее недостаточно внимательное отношение к драматическому искусству в городской периодике: журналистам, разрабатывающим общественнополитическую тематику, театр казался невысокого уровня культурным заведением и недостойным внимания читателей. Активизируя читательское сознание, стремясь доступнее выразить собственную точку зрения и композиционно стройно организуя текст, автор использует риторический вопрос: «Чего мы хотим от Думы?» Неоднократно используется принципиальный для данного текста риторический прием (с придаточным уступки и вводным словом) ненавязчивой корректировки читательского мнения по поводу конкретных кандидатов в депутаты: «Конечно, будет очень скверно, если в Думу попадет г. Тотамянц, хотя мы больше чем уверены, что такой глупости, чтобы послать в Думу г. Т-ца, астраханцы не сделают, но подумайте, что выйдет, если в Думу попадет г. Куприянов?» [Дремлет Астрахань: 2]. Обилие исторических и культурных событий в начале ХХ в., безусловно, не могло заставить коллектив редакции придерживаться одной темы. В прошении на имя губернатора было заявлено: «Содержание или программа газеты имеют быть следующие: Статьи по общественным и политическим вопросам; Хроника; Корреспонденции; Критика; Отзывы печати; Театральные и др. объявления» [Дело о…: 1]. Каждый из перечисленных отделов, ограниченный рамками жанровой рубрики, сообщал о событиях столичной и местной жизни, но информационный поток всегда подчинялся политическим интенциям издания. «Мирное обновление» была газетой с устоявшейся политической программой, сориентированной на программу партии, она отличалась критической интонацией. Журналистами «Мирного обновления», работающими, как правило, только в публицистическом стиле в контексте актуальной общественно-значимой тематики, использовались фигуры иронии и риторического обращения для развенчания облика других кандидатов в предвыборной кампании, активизации политической воли горожан. Партийное издание вносило политический резонанс в систему периодики провинциальной Астрахани начала ХХ в., структурнотипологические особенности газеты определились независимостью ее позиции, оппозиционностью по отношению к монархистам и кадетам. Литература Воззвание // Мирное Обновление. 1907. 1 января. № 1. ГААО, ф. 1, оп. 2, ед. хр. 656. 312 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 Дремлет Астрахань // Мирное Обновление. 1907. 26 января. № 7. Мнение рабочего о монархистах // Мирное Обновление. 1907 № 4. Наши партии // Мирное Обновление. 1907. 21 января. № 6. Самоубийство кадетов // Мирное Обновление. 1907. № 6. Е.С. Пушкина (Санкт-Петербург) Газетный бизнес в Аргентине: мировые тенденции и региональные особенности Научный руководитель – профессор С.А. Михайлов Эволюция структуры медиарынка в Латинской Америке имеет особое значение на современном этапе, поскольку он превращается в потенциальный рынок для крупнейших мировых медиагрупп. Исследователи всего мира признают, что одной из сильных сторон Латинской Америки для развития медиа является культурная, социальная и языковая общность. Ведь речь идет об обширной территории, которая в свою очередь имеет недостаточное развитие медиаиндустрии, но большой потенциал, чтобы совершить скачок в росте информационных технологий. Если учитывать, существенный рост рынка телекоммуникаций, это вызывает огромный интерес со стороны национальных и международных инвесторов. Уже более десяти лет ученые изучают феномен семейного бизнеса, публикуются отчеты, проводятся семинары, существуют отдельные направления в университетах, посвященные этой тематике. Лишь изредка сами представители семейного бизнеса включаются в обсуждение о причинах существования, процветания и исчезновения своего дела. На форуме издательского дома «El Tiempo» (Колумбия) американский исследователь Пол Карофски заявил, что «лишь 10 % из семейных компаний выживает после второго поколения», при этом «90 % мировых компаний – это семейный бизнес» [edgarcorrea.com]. Исследователи мексиканского Университета в Монтерее утверждают, что «продолжительность жизни семейного бизнеса в среднем составляет 25 лет, и 50 лет для несемейного» [Martínez Álvarez]. Условно газетный бизнес в Аргентине можно разделить на две группы: те газеты, что были основаны еще в XIX в., и те, что в ХХ в. Представляется важным разобраться в причинах столь длительного существования одних газет и представить будущее развитие других. Для начала проведем небольшой исторический анализ, существующих до сих пор изданий. Аргентинская газета «La Nacion» до середины прошлого века считалась одной из самых влиятельных в стране, пока не уступила свои позиции другому ежедневному изданию – «Clarin». Основанная 4 января 1870 г. в Буэнос – Айресе, она до сих пор принадлежит потомкам ее Раздел 1. История, теория и практика журналистики 313 основателя, историка, военного командира и президента Республики (с 1862 по 1868 гг.) Бартоломе Митре [«La Nacion». 03.I.2010]. Он создал эту газету на базе издания «La Nacion Argentina», которое купил ранее для того, чтобы иметь собственное печатное производство и начать издавать свою новую газету. В начале издательской карьеры Бартоломе Митре и его жене Дельфине Ведиа де Митре пришлось пожертвовать многим, включая имущество, чтобы продолжить издание газеты. Первое время Бартоломе Митре сам руководил «La Nacion», пока в 1874 г. она не была приостановлена на год из-за революции, а затем делами занимался Хуан Антонио Охеда, известный журналист, сумевший тщательно разработать редакторскую политику и продолжить традиции основателя. С 1882 г. изданием газеты занялся сын основателя Бартоломе Митре-и-Ведиа. Он также продолжал следовать заветам отца, придал газете новый вид, стиль и дух журналистики того времени. Вместе со своим братом Эмилио они управляли «La Nacion» вплоть до 1909 г. В том же году было основано акционерное общество «La Nаcion», владельцами которого являлись потоки Митре. На протяжении ХХ в. газета придерживалась консервативного направления. Согласно аргентинскому исследователю из университета Буэнос-Айреса Марии Алехандре Витале, «La Nacion» сыграла важную роль в поддержке диктаторского режима в Аргентине в середине прошлого века, сохраняя влияние на общественное мнение [Vitale]. С 1982 г. изданием газеты занимается правнук основателя Бартоломе Митре и вдова мэра Буэнос-Айреса (Хулио Сезара Сагьера) Матильдэ Анна Мариа Нобле Митре де Сагьер. Нужно отметить, что ей принадлежит большая часть акций компании, а именно: 66 % принадлежит Матильдэ Нобле Митре де Сагьер, 10 % принадлежит Бартоломе Митре, 24 % принадлежит прочим мелким акционерам. На наш взгляд кажется важным тот факт, что в 80 – ые годы прошлого века, когда газета «La Nacion» переживала кризис, именно родственная семья Нобле, издающая другую аргентинскую газету «Clarin», помогла приобрести сегодняшним издателям значимую долю акций с помощью кредита. На современном этапе газета «La Nacion» продолжает свое развитие хоть и уступила первое место в стране по тиражам и популярности газете «Clarin», о которой речь пойдет далее. Среди медиакомпаний, принадлежащих «La Nacion», можно назвать: CIMECO (компания, занимающаяся инвестициями в СМИ) (в сотрудничестве с «Clarin» и испанской группой Correo), ежедневная газета «La Voz del Interior» (Кордоба), «Los Andes» (Мендоса) (в сотрудничестве с «Clarin»), журналы «Gestion», «Rolling Stone», «Lugares», «Ahora Mama», «El jardin en la Argentina», агентство «Diarios y Noticias» и компания по производству газетной бумаги Papel Prensa (в сотрудничестве с «Clarin») [appealweb.com]. 314 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 История «Clarin» насчитывает чуть более полувека, но в отличие от историй большинства латиноамериканских газет, это не только печатное издание, это целая медиагруппа. Сама газета была основана журналистом и политиком Роберто Хорхе Нобле 28 августа 1945 г. В 1967 г. его второй женой стала Эрнестина Лаура Эррера, которой и перешел контроль над издательством после его смерти. На современном этапе медиагруппа «Clarin» принадлежит семьям Нобле и Магнето, представителями которых являются главные акционеры Эрнестина Эррера де Нобле и Эктор Магнето. Он сделал блестящую карьеру в различных подразделениях «Clarin» и сумел стать одним из акционеров компании. В конце прошлого века медиагруппа трудно переживала финансовый кризис в стране, и в конце 1999 г. «Clarin» и инвестиционный банк Goldman Sachs подписали договор о сотрудничестве. Согласно этому договору, группа, управляемая Goldman Sachs, сделала прямое вложение в «Clarin». Сотрудничество принесло рост капитала «Clarin» и взаимодействие с Goldman Sachs (с долей участия в 9 % акций). Среди самых важных медиакомпаний, принадлежащих «Clarin» сегодня можно выделить следующие: ежедневная газета «Clarin» (с самым большим тиражом в стране), спортивная газета «Ole», газета «La Voz del Interior» (Кордоба), газета «Los Andes» (Мендоса) (в сотрудничестве с «La Nacion»), аргентинская версия журнала «Elle», ежедневная газета «La Razon», телеканал «Canal 13» (второй по количеству аудитории в Буэнос – Айресе и второй по продажам в стране), канал кабельного телевидения «Multicanal» (второй в стране по продажам и по числу абонентов), «Radio Mitre» и «FM 100» (входят в список четырех самых популярных радиостанций в Буэнос – Айресе) и самый главный оператор спутникового телевидения «Direct TV» [Becerra… 2006: 98]. Можно предположить, что «Clarin» стремится быть в числе сильнейших мировых компаний, изучив присутствие на рынке, амбиции расшириться на мировой рынок. Возможно, одной из видимых тенденций газетного бизнеса Аргентины будет группирование большего количества СМИ в меньших руках, альянсы и слияния, которые происходят на рынке постоянно с целью выживания или как единственная возможность существования. Это подтверждают высказывания Луиса Мигеля де Беду, управляющего директора колумбийской газеты «El Colombiano» (Медельин): «существуют две возможности найти новую аудиторию: быть эксклюзивным источником информации и найти возможность расширить наш бизнес за пределами страны» [www.wan-ifra.org1]. Однако по словам президента Всемирной газетной ассоциации (WAN) Кристофа Рисса, поскольку Латинская Америка не подвергается такому давлению со стороны Интернета и «новых медиа», как в Европе и Северной Америке, здесь «есть больше времени, чтобы подготовиться к переменам, связанным с распространением цифровых СМИ, Раздел 1. История, теория и практика журналистики 315 и возможность перенять опыт других регионов» [wan-ifra.org2]. Успешный семейный газетный бизнес в Латинской Америке, на примере аргентинских газет «La Nacion» и «Clarin», свидетельствует о том, что единство в семье, компромиссы, преемственность в принятии решений, долгосрочные вложения могут благоприятно отразиться на существовании общего дела. Другой важной составляющей успеха являются знания, передаваемые от старшего поколения новому, тем самым «наследники» бизнеса стремятся в некотором роде превзойти своих предшественников. Важным явлением можно назвать и оказание помощи, иногда на взаимовыгодных условиях, но в кризисных ситуациях дружеские отношения между родственниками играют важную роль. Единственным препятствием для развития семейного бизнеса считаются внутренние конфликты, но как отмечает американский исследователь Пол Карофски: «латиноамериканскую культуру отличает высокий уровень страсти и преданности в делах, а также она более открытая и способствует наследованию успешных традиций» [edgarcorrea.com]. Следовательно, газетный бизнес в Аргентине, основываясь на семейных традициях, будет продолжать выполнять свои социальные функции воспитания и информирования, но при этом останется прибыльным делом для своих владельцев. Литература Becerra M., Mastrini G. Periodistas y Magnates: estructura y concentración de las industrias culturales en América Latina. Buenos Aires. 2006. Un diario que es guía y espejo del país. // «La Nacion». 03.I.2010. Martínez Álvarez M.E. Estrategias para que su empresa no muera. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.udem.edu.mx/micrositio/nota/empresasfamiliares/1398. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Vitale M.A. Memoria y acontecimiento. La prensa escrita argentina ante el golpe militar de 1976. [Электронный ресурс]. Режим доступа:// http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/vitale.pdf. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. [Электронные ресурсы]. Режимы доступа: http://www.appealweb.com.ar/spip.php?article207 http://www.edgarcorrea.com/index.php?view=article&id=101%3Ai-como-mantener-unnegocio-familiar-por-varias-generaciones-&option=com_content http://www.wan-ifra.org/articles/2011/03/10/the-importance-of-newspaper-alliances [1] http://www.wan-ifra.org/articles/2011/03/10/latin-america-a-region-of-opportunities [2] 316 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 Л.А. Ефремычева (Саратов) Читатель новостных лент рунета: новые возможности, новые ограничения (на примере порталов lenta.ru и rbc.ru) Научный руководитель – профессор В.В. Прозоров Интернет предлагает особый способ коммуникации: форум и социальные медиа создают открытое пространство, в котором новостные тексты перестают быть «вещью в себе», провоцируя читателей на реакцию. В сети пользователю недостаточно составлять «маршрут» по гиперссылкам. Он хочет советовать, высказываться, заявлять о себе и вступать в полемику. Новостные ленты взаимодействуют с аудиторией на нескольких уровнях. Прежде всего, редакция изучает пользователей статистическими методами. Веб-аналитики уже не довольствуются сухими цифрами, они разработали сервисы, которые отслеживают поведение посетителей «внутри страниц сайта». За цифрами статистики начинают проявляться реальные участники коммуникации, активные, эмоциональные, восприимчивые. И именно за этих людей в будущем будет идти борьба редакций, считает Демьян Кудрявцев, генеральный директор ИД «Коммерсантъ». Эксперт предрекает становление в сетевой журналистике «аудиторной, а не жанровой градации» [www.cossa.ru]. Сама природа новостей предполагает отклик. Монолог журналиста становится отправной точкой в диалоге с читателем, отсылающего редакции свои замечания, и полилоге аудитории, обсуждающей новость. От чтения заметки до комментирования темы, текста или оценок – один переход. Новостные порталы отвечают на активность человека кликающего, создавая форумы. Для самих редакций «коэффициент полезного действия» такой формы остается весьма сомнительным. Информационное агентство РосБизнесКонсалтинг и сетевое издание «Лента.Ру» намеренно не вносят форум в рубрикатор. Сервисы отделены от информационного наполнения, что подчеркивает их «факультативный» характер. Форум РБК – это хорошо структурированный сервис с сетью дополнительных настроек. Комментарии на форуме «Ленты.Ру» следуют один за другим, напоминая ветку обсуждений в блогерских сообществах. Минимум дополнительного оформления, минимум возможностей. При этом с точки зрения удобства просмотра комментариев «Лента» выигрывает. К тому же на странице обсуждения выводятся сразу все оставленные сообщения. Общаться на обоих порталах могут только зарегистрированные пользователи. Оба ресурса предъявляют новым участникам свод правил, по которым строится будущее общение. В отличие от РБК, редакция «Ленты.Ру» признает свою ответственность за сообщения на форуме. Портал допускает использование табуированной лексики, но с оговоркой: «только по необходимости и ни в коем случае не в адрес других участников дискуссии» [Правила форума «Ленты.Ру»]. Раздел 1. История, теория и практика журналистики 317 Редакция «Ленты.Ру» не раз подчеркивала, что отдает предпочтение «жесткой модерации» и «административному произволу». Директор по развитию сетевого издания Вячеслав Варванин с первых дней признавался в нежелании открывать форум: «нам придется отвлекаться на модерирование, лечить и защищать нашу нежную психику. Но форума очень хочется многим нашим читателям, и с этим придется считаться» [Прессконференция «Ленты.Ру»]. Отметим, что во время обсуждения самых «горячих» тем количество читающих форум значительно превышает количество непосредственно участвующих в дискуссии. На РБК ветку по новости о взрыве в Домодедово 24 января 2011 г. читали 1080 пользователей, 962 из которых зашли в статусе «гостя». Пользователь пользуется возможностью «послушать других», чтобы определиться со своей точкой зрения. Модель сетевой новостной журналистики, которая сводит к минимуму авторское присутствие в тексте, проецируется и на форумы. Модераторы вступают в дискуссию лишь опосредованно: удаляя комментарии и закрывая аккаунты. Тема модерации активно обсуждается пользователями, которые возмущаются комментариями других форумчан, жалуются на несправедливость модераторов или заранее предлагают отключить обсуждение «острой» темы. Чтобы «перестраховаться по максимуму», редакция «Ленты.Ру» заранее предупредила читателей, что «в некрологах и прочих новостях на болезненные темы форума не будет». Во время погромов на Манежной площади в декабре 2010 г. на «Ленте» комментирование практически всех новостей по этой теме было закрыто. В это же время и РБК убирал ссылки на обсуждение, однако некоторые темы все же открылись. Дав возможность читателям поговорить о самой обсуждаемой и неоднозначной теме, РБК открыл дорогу хлынувшему потоку обвинений на национальной почве. Просматривая поток сообщений на форуме, можно отметить общий «эмоциональный фон» дискуссий, который характеризуется непримиримостью, подозрительностью, критичностью, резкостью. Два разных принципа модерации и разная степень активности модераторов оставляют отпечаток на отношении пользователей к установленным правилам. На форуме РБК степень информационной утомляемости и уровень агрессивности по отношению к другим пользователям выше, чем на Ленте. Это выражается в броской фамильярности, переходе на «ты»; оскорбительных ответах; попытке заглушить голоса других, используя крупный кегль шрифтов и другой цвет; а также размещении фотографий и отвлеченном общении. Содержание веток обсуждения на РБК говорит о том, что проработка форума с технической стороны не становится залогом такой же скрупулезности в отношении наполнения. На «Ленте.Ру» оскорбительные высказывания также остаются 318 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 «камнем преткновения» в диалоге читателей и журналистов. Летом 2010 г. редакция опубликовала на сайте «Первое предупреждение читателям». Колумнист Андрей Коняев подчеркнул, что «Интернет отучил людей вести вежливый спор» [Первое предупреждение читателям]. Форумное общение задумано как «фокусированное» [Олешко 2003: 118]: ветки обсуждений ведутся от конкретных новостных заметок, и даже если появляются новые подробности, полемика не сводится в общую тему. Отвлеченные сообщения на языке интернет-сленга называются «флудом» и считаются «засоряющими» форум. Следить за появлением таких высказываний должны модераторы. С точки зрения содержания дискуссии на форумах рассматриваемых лент нередко переходит в рассеяные: пользователи переходят на бытовое общение, связывают разнородные события. «Лента.Ру», в отличие от РБК, старается выдерживать фокусированное обсуждение. Коммуникативная ситуация на форумах может быть сформулирована термином «хэппенинг», в котором «сюжет вариативен, а действие разворачивается как бы в зависимости от случая» [Олешко 2003: 132]. В целом, складывается ощущение, что на форуме мало сомневаются, скорее, всеми средствами отстаивают свою точку зрения. Если вспомнить теорию социального научения А. Бандуры [Бандура 2000: 40], можно сказать, что агрессивное поведение пользователей и пропуск подобных сообщений дает зеленый свет другим участникам дискуссии, а провокация становится нормой. Форумное общение, неравномерное и хаотичное, складывается из связей разорванного характера, вследствие чего на первый план выходит реакция как таковая. Нередко вместо полноценного комментария участники дискуссии ограничиваются сетевым «одобрением» чужих высказываний и оставляют запись «+1». Помимо бессодержательных высказываний, дискуссия наполняется примерами из личного опыта пользователей, а также ассоциациями. Вырисовывается и попытка читателей собрать воедино картину произошедшего. Пользователи публикуют ссылки на сообщения других СМИ или подробности новостей, найденные на других сайтах. Многообразие информации, оценок, тем, на которых и держится обсуждение новостей в социальных медиа и на форумах, предполагает выработку у пользователей новых навыков общения: быстрого ориентирования в теме; поиска немедленного «ответа»; формулирования четкой позиции; готовности мгновенно вступить в спор или поддержать чью-то точку зрения. Уместно вспомнить дихотомию мышления «ежа» и «лисицы», которую изучал Исайя Берлин [Берлин 2001: 136]. В сетевой среде преобладает мышление «лисиц», то есть, по уточнению исследователя В.В. Сапова, «плюралистов, хватающихся за все, всем интересующихся и мало озабоченных тем, «целостно» ли их мировоззрение и не противоречит ли ему их жизненное Раздел 1. История, теория и практика журналистики 319 поведение» [Там же]. Интернет-пользователи приучены к спонтанным кратким репликам. Высказывания сводятся к готовым выводам и ответам, опуская предварительные рассуждения, а зачастую и сами аргументы. Помимо возможности примерить на себя функцию аналитика, читатель сетевых новостных лент берет на себя и функцию критика, и функцию корректора. Ошибки и опечатки в заметках мгновенно подхватываются внимательными читателями, что приводит к «гомеостазу» культуры печатного текста. Для исправления опечаток и ошибок «Лента.Ру» публикует под каждой новостью форму «Сообщить о найденной опечатке». Сотрудники издания взяли за правило оставлять редактора, который допустил накануне больше всего опечаток, исправлять и свои ошибки и ошибки коллег [Прессконференция «Ленты.Ру»]. Система «наказания» невнимательных редакторов доказывает, что читатель в сети получает возможность, пусть и косвенно, влиять на внутриредакционные отношения. Любая ошибка, неточность текста мгновенно проецируется на СМИ в целом. Обезличенные новости в сумме дают один общий метатекст портала, на который реагирует читатель. К слову, тема качества журналистских текстов часто затрагивается на форумах, и пользователи жестко реагируют на невнимательность авторов. Комментарии на форумах становятся не только рупором пользовательских оценок, но и материалом для журналистского анализа. Отмечая, что многим читателям уже тесно в жанре комментария, редакция «Ленты.Ру» решила публиковать в разделе авторских колонок наиболее интересные материалы пользователей. Кроме того, портал публикует «Неделю глазами читателей», альтернативный вариант информационной картины недели, составленной по количеству просмотров той или иной заметки. Меткие высказывания с форумов используются в качестве цитат в журналистских материалах. Причем, ссылки на комментарии появляются даже в новостных заметках «Ленты.Ру». Активные читатели не только выступают в качестве соавторов будущих материалов, но и становятся проводниками новостей: дарят информации «вторую жизнь», размещая сообщения в своих блогах и на личных страницах. Для удобства сайты предлагают систему быстрой публикации статьи, помещая значки социальных медиа под новостями. При этом информация сокращается до кликабельного хедлайна или абзаца, что отражается на построении заметок: правило информативного лида в Интернете становится основополагающим для новостного контента. РБК под текстом мелким шрифтом предлагает «поместить в блог» и «отправить на e-mail», а с 2011 г. вместе со сменой дизайна портал расширил интеграцию новостей на другие ресурсы. Так, читатель может отметить заинтересовавшую новость и «порекомендовать» ее на Facebook-е, поделиться ссылкой в социальных сетях Вконтакте, Мой мир, Одноклассники, микроблогах Twitter. 320 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 «Лента.Ру» с точки зрения возможностей для перепечатывания своих материалов пока отстает от конкурентов и дает только адрес страницы. Лишь на обновлённых страницах рубрики «Офтопик» начали публиковаться значки «Я рекомендую» для социальной сети Facebook и «Сохранить» для социальной сети ВКонтакте. Интернет-СМИ используют активность читателей для продвижения своих ресурсов. Игроки информационного сегмента борются за цитирование и распространение своего варианта новостной заметки. Смежные ресурсы помогают лентам усилить интерактивность. Редакторы активно создают сообщества в блогах и группы в социальных сетях. Отдельный редакционный твиттер издания «Лента.Ру» становится толчком к неформальному общению между редакторами и читателями, которые получили возможность напрямую обратиться к создателям контента и получить ответ на свои замечания. Отметим, что погружение в тему – непрерывный процесс, протекающий в условиях обилия предлагаемых ссылок, сервисов и мнений. Обсуждения на форумах и в социальных медиа, как и сами новости, неотделимы от понятия «контекст». Новостные порталы создают две «информационные реальности»: редакции формируют контекст благодаря ссылкам, дополнительным аналитическим материалам, фото- и видеосопровождению, а пользователи на форумах, а также в пространстве социальных медиа включают новости в систему версий, сплетенных из услышанного, прочитанного, додуманного, предполагаемого. К форумным принципам «мне есть что сказать» и «мне есть что ответить» прибавляется «мне есть чем поделиться» социальных сетей и блогерских сообществ. Можно сравнить новости с товаром, который «расфасовывается» по разным форматам. На примере исследуемых новостных лент можно выделить следующие формы активности пользователей: – рекомендации; – комментирование; – жалобы и обращения к модераторам; – отправка найденных опечаток; – письмо в редакцию; – перенос и публикация материалов на свои интернет-страницы. Новостная журналистика сегодня сознательно дозирует интерактивные возможности. Живое обсуждение заметок могло бы перерасти в отдельный сетевой формат «кухонной беседы». Опыт создания виртуальных площадок для обсуждения, возможно, приведет к появлению нового жанра онлайнбеседы, печатной версии ток-шоу. Для функционирования такого сервиса, безусловно, необходим круг журналистов, которые бы совмещали функции модераторов и участников дискуссии. Сегодня даже в информационном сегменте новостной журналистики читатель получает возможность примерить на себя разные роли. Возможно, Раздел 1. История, теория и практика журналистики 321 в ближайшем будущем роли «аналитика» и «соавтора» будут развиты и расширены, а читатель станет выбирать площадки для коллективного обсуждения. Такое развитие могло бы перевести сетевую журналистику на новый уровень, а новостной контент сделать еще более востребованным. Пока обсуждения в пространстве новостных лент скорее дань моде, чем искренний интерес редакций. Литература Бандура А. Теория социального научения. СПб., 2000. Берлин И. Еж и лисица. Вступительная статья, перевод с английского и публикация В. Сапова // Вопросы литературы. 2001. № 4. Кудрявцев Д. Газета 2020: [Электронный ресурс] // Издание о маркетинге в новых медиа «Cossa.ru». 2010. Режим доступа: http://cossa.ru/377. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Олешко В.Ф. Журналистика как творчество. М.,2003. Первое предупреждение читателям: [Электронный ресурс] // Электронное сетевое издание «Лента.Ру». 1999–2012. Режим доступа: http://lenta.ru/columns/2010/07/01/polite/. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Правила форума «Ленты.Ру». [Электронный ресурс] // Электронное сетевое издание «Лента.Ру». 1999–2012. Режим доступа: http://id.lenta.ru/rules. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Пресс-конференция «Ленты.Ру»: [Электронный ресурс] // Электронное сетевое издание «Лента.Ру». 1999–2012. Режим доступа: http://lenta.ru/conf/lenta10/. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Пресс-конференция «Ленты.Ру»: [Электронный ресурс] // Электронное сетевое издание «Лента.Ру». 1999–2012. Режим доступа: http://lenta.ru/conf/lenta10/. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. А.А. Тишков (Саратов) Уровень конфликтности читательских откликов в литературных и новостных социальных медиа Научный руководитель – профессор Е.Г. Елина Изучение читательских реакций и откликов в Интернете предполагает рассмотрение особенностей взаимодействия интернет-пользователей. Одна из самых интересных и важных особенностей – это высокий уровень конфликтности в интернет-общении. Как выяснилось, до последнего времени тема этого нового явления, родившегося в процессе обсуждений на страницах литературных и новостных социальных сетей, сколько-нибудь системно не рассматривалась. В этой статье будет сделана попытка определить особенности конфликтных ситуаций в литературных и новостных социальных медиа на материале литературных рецензий, статей, читательских откликов и комментариев литературной социальной сети Bookmix.ru, а также понять, что способствует возникновению конфликтных ситуаций, к чему конфликтные ситуации могут привести и какие 322 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 существуют пути выхода из конфликтных ситуаций. Прежде всего, необходимо принять во внимание, что главными особенностями читательских откликов, как и подавляющего большинства интернет-текстов, являются: личностный характер, моментальность и радикальность. Первые две особенности косвенно способствуют возникновению конфликтных ситуаций: личностный характер читательских откликов предполагает заинтересованность и, соответственно, определённую эмоциональную нагрузку; моментальность предполагает наличие большого количества поспешных выводов, непроверенных фактов, ошибок и т.д. Радикальность же, как уникальная особенность интернетобщения, напрямую ведёт к возникновению конфликтных ситуаций. В качестве примера можно привести обсуждение рецензии на книгу «Дорога перемен» Р. Йейтса на сайте литературной социальной сети Bookmix.ru. Автор первого же комментария, пользователь под ником Scipion, делая вывод из прочитанной рецензии, категорически заявляет: «Нет никакого быта, есть скучные, глупые и эгоцентричные люди» [Дорога перемен]. Автор рецензии и некоторые другие пользователи пытаются оспорить столь категоричное и поспешное заявление, доказывая, что «книга все же не о «скучных, глупых и эгоцентричных людях», а о ситуации, с которой рано или поздно сталкивается каждый» [Дорога перемен], однако их комментарии так же носят достаточно бескомпромиссный характер, что приводит к возникновению конфликтной ситуации. Парадоксально, но факт – радикальность читательских откликов и столкновение мнений порождают не только множество негативных моментов, которые затрудняют общение, но и некоторые положительные моменты, которые, наоборот, помогают вывести интернет-общение на новый уровень. Так, например, в обсуждении рецензии на книгу «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» Х.С. Томпсона под названием «И немедленно выпил» [И немедленно выпил] после нескольких положительных читательских откликов выясняется, что основная параллель с книгой «Москва-Петушки», проведённая в рецензии, взята из уже опубликованной статьи в одной из рубрик журнала «Иностранная литература» [ИЛлюминатор для Интеллектуально Любопытных]. Получается, что короткие жёсткие реакции и комментарии выступают в роли «санитаров» интернет-пространства. Точно так же непосредственно конфликтные ситуации способствуют выделению наиболее важного и отсеиванию менее важного. Этот же принцип действует в журналистике, где всё сильнее закрепляется представление об усиливающейся конфликтности информационного пространства. В связи с этим можно рискнуть сделать предположение, что практически всё интернет-пространство, будучи частью глобального информационного пространства, по своей природе конфликтно. Однако при этом не все интернет-тексты имеют одинаковый уровень конфликтности. Раздел 1. История, теория и практика журналистики 323 Иван Засурский в видеолекции для Школы журналистского мастерства, организованной Фондом защиты гласности, говорит о разделении всех интернет-текстов на «репрезентацию» и «коммуникацию», где репрезентация – это новости, статьи, рецензии, иными словами тексты, в которых выражается авторская позиция и взгляд на какие-то вещи. Коммуникация же – это комментарии и отзывы, т.е. тексты, направленные на взаимодействие, общение, достижение какого-то общего результата. Опираясь на эту идею Ивана Засурского, можно разделить все интернет-тексты на две части по уровню конфликтностьи. Всё, что относится к «коммуникации», более конфликтно, во-первых, за счёт того, что в процессе общения нередко происходит столкновение мнений, интересов и идей, во-вторых, за счёт того, что авторы комментариев воспринимают друг друга на равных, т.е. за ник-нэймами не видно статуса, должности, возраста или общественного признания человека. Всё, что относится к «репрезентации» – менее конфликтно во многом из-за того, что в новостных сообщениях, статьях и рецензиях автор напрямую не взаимодействует с другими посетителями сайта или блога, всё взаимодействие проходит позже, в процессе обсуждения в комментариях. Можно сказать, что зачастую именно репрезентация и становится поводом для коммуникации: новостное сообщение или рецензия, опубликованные на сайте, на котором предусмотрены комментарии, могут быть поводом к появлению комментариев, читательской реакции, обсуждения. В сознании интернет-пользователей чётко закрепилась граница: есть некий текст, «повод» для комментариев и откликов, в этом тексте автор выражает своё мнение и свою позицию, сколько бы комментариев не было, этот текст всегда будет оставаться «поводом для комментариев», началом ветки обсуждений, а есть комментарии, которые переплетаясь, нагромождаясь, теряются и теряют свою значимость, силу и идею. Именно поэтому комментаторы зачастую пытаются изо всех сил сделать свои отклики более заметными, выделить их из общей массы и по значимости приблизить к «тексту-поводу». В этом зачастую кроется одна из причин высокого уровня конфликтности читательских комментариев и откликов. Поводом же к появлению именно конфликтной ситуации может быть что угодно, например, возраст одного из пользователей. Редко, когда можно точно определить возраст интернет-пользователя, но на сайте литературной социальной сети Bookmix.ru, как и на большинстве крупных веб-проектов, у каждого зарегистрированного пользователя есть страница с персональными данными, где зачастую возраст указывается. Возраст пользователя можно понять по манере и стилю общения в том случае, если его комментарии или отклики достаточно обширны, чтобы можно было сделать хоть какие-то выводы. Так из рецензии, или скорее отзыва, на книгу «Оливер Твист» Ч. Диккенса под названием «Широко зеваю» [Широко зеваю] можно понять, что его автор, скорее всего, учится в школе. Подобный вывод можно 324 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 сделать, во-первых, из общей эмоциональной нагрузки и характерного юношеского максимализма во взглядах и выводах, во-вторых, из большого количества ошибок и смайликов, в-третьих, из незнания каких-то простых слов: «Все эти обороты, все эти непонятные сэры, служанки, старые миссис...». И, наконец, в-четвёртых, подобный вывод можно подтвердить, просто посмотрев страницу автора отзыва nikitis, где указан её возраст: 14 лет. Отзыв nikitis вызывает бурную реакцию на сайте, на котором общаются люди, в чьей жизни литература занимает серьёзное место. Вполне ожидаемо: автору отклика попытались указать на ошибки, некоторые пользователи не отказали себе в удовольствии уколоть или посмеяться, на что nikitis, в свою очередь, поспешила отреагировать. Так родилась конфликтная ситуация, которая, как и большинство конфликтных ситуаций в Интернете, ничем не закончилась. Все, кто хотел высказать своё мнение, рано или поздно сделали это. Для интернет-пространства не редки ситуации, когда процесс общения не приводит пользователей к какому-то итогу. Более того, практически любое обсуждение в Интернете постоянно остаётся открытым. Любой пользователь в любое времени может вернуться на страницу с некогда начатым обсуждением и добавить новый комментарий. Получается своего рода бесконечный сбор мнений, безостановочная генерация мыслей на заданную тему. Это бесспорный плюс интернет-общения. Однако есть и негативные моменты в интернет-полемике, которые мешают общению и пониманию самой сути обсуждения, уводя от изначальной темы разговора. Ярче всего негативные моменты интернетобщения проявляются в конфликтных ситуациях. Существует множество разных терминов, которыми можно обозначить отрицательные моменты, порождаемые конфликтными ситуациями в сети. Все эти негативные моменты можно условно разделить на три направления: офф-топик (от английского off topic – вне темы), флейм (от английского flame – огонь, пламя) и спам (появление термина связано с назойливыми рекламными компаниями одной торговой марки). Все термины, кроме спама, появились и закрепились в процессе интернет-общения. Офф-топик – это процесс ухода от темы. Пример: в обсуждении рецензии на книгу «Армада» малоизвестного писателя А. Сквера под названием «Автор или болен или он гениальный социальный фантаст!!!» [Автор или болен…] с первых же комментариев пользователи скатываются в обсуждение других писателей, таких как Чак Паланик и Ирвин Уэлш. Безусловно, последние для мировой литературы сделали гораздо больше и их произведения имеют большую ценность, но для их произведений есть отдельные ветки обсуждений. К тому же два пользователя, AlterEgo и Sea Out, пошли ещё дальше и перешли вообще к обсуждению возможности удаления комментариев с сайта и модерации рецензий. Подобные споры никак не относятся к теме, к «поводу для комментария», т.е. к Раздел 1. История, теория и практика журналистики 325 опубликованной рецензии или книге, на которую рецензия была написана. Можно утверждать, что подобные споры не имеют вообще никакой ценности, т.к. даже если и будет озвучена важная или интересная мысль, она потеряется, поскольку записана в неподходящем месте, где её и не подумают искать те, кому эта мысль могла бы быть интересна. Ещё один яркий пример ухода от темы – обсуждение рецензии на книгу «Возвращение Дикой Розы» А. Альвареса под названием «Возвращение Дикой Розы» [Возвращение Дикой Розы]. Пользователи сразу же начинают обсуждать, что вообще стоит читать, а что нет: «О, давно не было слышно «интеллектуального» снобизма)))))) Меня, наверное, на костёр отправят, если я скажу, что у меня на полке рядом с Фаулзом и Куприным стоит. А уж если и «Клон», и Бергмана смотрела, то уж точно ведьма)))) Печально, однако» [Возвращение Дикой Розы]. Примеры подтверждают, что офф-топик появляется зачастую либо в случаях, когда тема обсуждения очень сложная и не все участники спора понимают, о чём речь, либо когда тема, наоборот, слишком банальная, простая или даже глупая. Второе направление образовалось так же от офф-топика – это флейм, или холивары – от английского holly wars, отсылающие к крестовым походам, которых было много, цель у них была благородная, но кто прав, определить было не возможно. В интернет-общении холивары – это спор «ни о чём», спор на уровне нравится – не нравится, т.е. самый бессмысленный спор. Вот отрывок из ветки обсуждений: morkovniisok: «обожаю кэрри, как раз за то, как автор ее описал», Дмитрий1: «Да, Кэрри тоже очень атмосферный роман один из моих любимых» Lena Ka: «А я люблю «Нужные вещи» и «Мизери», а ещё книги Бахмана» Дмитрий1: «Ну роман Мизери меня очень шокировал своим напряженным сюжетом и резкими поворотами. Нужные вещи как раз начал читать) Из книг Бахмана читал только Бегущий человек - неплохой роман, перечитывал 2 раза». Lena Ka: «А я все 5 книжек Бахмана прочла. А вот Кинга далеко не всё(((((((» [Возвращение Дикой Розы]. Это вариант достаточно безобидного холивара, когда пользователи не пытаются спорить друг с другом на основе утверждений «нравится» или «не нравится». Стоит отметить, что разумные интернет-пользователи, коих в литературной социальной сети Bookmix.ru большинство, всегда стараются предотвратить подобные споры, например, завершая свою мысль аббревиатурой ИМХО, либо отвечая на мысль оппонента фразой из разряда «О вкусах не спорят», или «На вкус и цвет». Также к офф-топику можно отнести троллинг, т.е. размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между 326 Филологические этюды. Выпуск 15, часть 2 участниками, взаимные оскорбления и т.д. Очень интересный пример троллинга в отзыве на книгу «Обломов» И.А. Гончарова с провокационным заголовком «Обломов – лентяй!» [Обломов – лентяй!]. Отзыв состоит из двух маленьких абзацев. Даже по первому абзацу можно предположить, что автор отзыва просто хотел вызвать бурную дискуссию, беспредметный спор, возможно, даже развлечь себя и посетителей сайта: «Обломов – лентяй! И почему люди любят лентяев? Если он бы просто захотел, его жизнь была бы абсолютно другой, а он ЛЕНТЯЙ, а вы этого лентяя уважаете?!» [Обломов – лентяй!]. Последнее направление, которое мы выделили: спам. Спам представляет собой публикации коммерческой, политической и иной рекламы или информации не к месту, почти всегда эта информация публикуется вопреки желанию читателей. На литературных сайтах, в литературных социальных сетях и блогах, посвящённых литературе подобное встречается редко, но если и встречается, то в мягкой форме, как, например, в рецензии на книгу «Путешествие к центру Москвы» М. Липскерова «Путешествие к …, путешествие в …, путешествие на …» [Путешествие к …]. В конце этой рецензии автор добавил строчку: «PS Текст романа был любезно предоставлен издательством АСТ» [Путешествие к …], но даже несмотря на столь безобидный вид рекламы, пользователи начали обсуждать в первую очередь не рецензию, не книгу, а уместность подобного рода рекламы, т.е. опять-таки начали уходить от темы. Итак, можно сказать, что конфликтные ситуации с учётом уникальных особенностей интернет-общения могут возникать в любой момент и так же неожиданно исчерпывать себя. При этом конфликтные ситуации парадоксальным образом, с одной стороны, способствуют развитию интернет-общения, помогая выделить наиболее ценные мысли и отсеять ненужное, с другой стороны, наоборот, мешают общению за счёт того, что уводят участников интернет-полемики от изначальной темы обсуждения и зачастую способствуют переходу на оскорбления и спор «ни о чём». Пытаться влиять на уровень конфликтности интернет-полемики не всегда нужно, однако изучение процессов в интернет-пространстве с учётом конфликтной составляющей позволяет понимать глобальные процессы, способствующие формированию общественного мнения, задающие вектор движения как литературы, так и журналистики в целом. Помимо этого изучение конфликтных ситуаций в интернет-общении даёт возможность перейти к изучению поводов к написанию читательского отклика и опытной проверки суждений. Литература Автор или болен или он гениальный социальный фантаст!!! [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/book.phtml?id=465771&rid=41100. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Раздел 1. История, теория и практика журналистики 327 Безнадега [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/book.phtml?id=46969&rid=37452. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Возвращение Дикой Розы [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/book.phtml?id=398178&rid=40936. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Дорога перемен [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/book.phtml?id=194714&rid=43368. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. И немедленно выпил [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/book.phtml?id=430709&rid=34651. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. ИЛлюминатор для Интеллектуально Любопытных [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/inostran/il/il0607.html. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Обломов – лентяй! [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/book.phtml?id=463974&rid=39883. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Путешествие к …, путешествие в …, путешествие на … [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/book.phtml?id=440190&rid=40551. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. Синенко Т. Полемический текст в Интернете // Новое в массовой коммуникации. Воронеж, 2007. Широко зеваю [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://bookmix.ru/book.phtml?id=415085&rid=35786. Загл. с экрана. Дата обращения: 20.05.2011. СОДЕРЖАНИЕ Зюзин А.В. Планы спецкурсов «Герцен и литературно-общественное движение 30-40-х годов» и «Натуральная школа» Татьяны Ивановны Усакиной…………. 3 ЧАСТЬ I Раздел 1. Проблематика и поэтика художественного текста: идеи, мотивы, образы Александров С.С. Чудо в древнерусских воинских повестях («Сказание о Мамаевом побоище»)……………………………………………………………….. Костромова К.Д. Образ женщины в романе М.А. Загар «Перепутанные дочери» Аюпова Н.И. Этическая модель времени в частной жизни («Арап Петра Великого» – «Пиковая дама»)………………………………………………………. Петрушина А.А. Нативизм в новеллистике В. Ирвинга…………………………. Зотов С.О. Мотив двойничества в новелле Ахима фон Арнима «Владельцы Майората»……………………………………………………………………………. Трухина М.В. Мотив ссоры в повести Н.В. Гоголя «Старосветские помещики».. Волоконская Т.А. Один день Невского проспекта (О пространстве в повести Н.В. Гоголя)………………………………………………………………………….. Кравцова Н.С. Плут Земляника в «Ревизоре» Гоголя…………………………….. Геранчева О.П. «Постановщики» и «актёры» в пьесе Н. В. Гоголя «Игроки»… Зюбина Е.А. Художественное своеобразие произведения Артура Шницлера «Комедиантки»………………………………………………………………………. Кацуба Н.С. «Лироирония» Игоря Северянина…………………………………… Пашкова И.А. Образ Первой мировой войны в поэтическом сборнике Альберта Эренштейна «Человек кричит»…………………………………………………….. Петрова О.Г. Ирония как мировоззрение в художественном произведении (на материале комедии О. Уайльда «Идеальный муж»)………………………….. Трухачёв Е.В. Приемы расширения пространства в «Днях Турбиных» М.А. Булгакова………………………………………………………………………. Шеленок М.А. Из драматургического наследия И. Ильфа и Е. Петрова. Водевиль «Вице-король»……………………………………………………………. Кузякина И.П. Набоков – Сирин – Шишков………………………………………. Желудкова А.В. Детские вещи и книги в романах В. Набокова «Подвиг» и «Дар» Матвеева Л.Ю. Городские пейзажи Германии в творчестве К.А. Федина……. Куранова В.А. Образ американца в повести И. Во «Незабвенная»……………… Старцева К.А. Интерпретация образа скорбящей матери в русской литературе XX века (на примере произведений В. Закруткина «Матерь человеческая» и Ч. Айтматова «Материнское поле»)……………………………………………….. 10 14 19 23 28 31 36 41 48 53 57 61 64 71 75 79 84 89 95 99 Морская Л.Ю. Остров в романе М. Спарк «Робинзон» как пространство «английскости»……………………………………………………………………… Чиженькова Е.Н. Автобиографический элемент в романе Дорис Лессинг «Золотая тетрадь»…………………………………………………………………… Клюков К.А. Образ шута в поэзии В.С. Высоцкого………………………………. Балашова М.С. От факта к вымыслу: изображение литературного творчества в романе Дж.М. Кутзее «Фо»………………………………………………………….. Федоркина В.О. Проблематика образа ребенка в романе Дж.С. Фоера «Жутко громко и запредельно близко»……………………………………………………… Переходцева О.В. Культурная, национальная и индивидуальная память в романе Дж. Барнса «Артур и Джордж»………………………………………….. Васильева Ю.О. Время и пространство в романе Ч. Айтматова «Когда падают горы: (Вечная невеста)»……………………………………………………………... Розанов К.А. Тема учебы в студенческой интернет-литературе…………………. Абашкина Е.А. Инверсивная пара «детство-смерть» в цикле Л. Горалик «Говорит»…………………………………………………………………………….. 105 112 117 124 128 135 143 148 154 Раздел 2. Проблемы литературного диалога Медведчикова К.С. Библеизм в русских поэтических текстах (на материале поэзии XIX и XXI вв.)……………………………………………………………… Кислина М.С. Реальная основа и литературные истоки сюжета романа Пушкина «Дубровский»……………………………………………………………. Рясов Д.Л. Тема Германии в «Ганце Кюхельгартене» Н.В. Гоголя……………… Музалевский Н.Е. «Мещанин во дворянстве» Мольера и «Бедность не порок» Островского: параметры сопоставительного ряда………………………………… Айдос М., Алтынбаева Г.М. Турция в биографии и творчестве И.А. Бунина: постановка темы……………………………………………………………………... Жаднова Е.Н. Литературное урочище «Медный всадник» в творчестве писателей Серебряного века………………………………………………………... Котелкова Е.Н. Викторианские реминисценции в романе Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта»…………………………………………….. Елистратова П.Г. Подтекст пьес Арбузова как продолжение традиции А.П. Чехова и реализация его на сцене…………………………………………….. Артемьева П.С. Полифонические особенности пьесы D.H. Hwang «M. Butterfly» Голикова Е.В. Мемуарные романы или романные мемуары: В.П. Катаев «Алмазный мой венец» и В.П. Аксёнов «Таинственная страсть. Роман о шестидесятниках»…………………………………………………………………… 160 164 168 173 179 183 191 197 199 203 Раздел 3. Теория. Эстетика. Критика. Художественная рецепция Силантьева В.Н. К вопросу о разграничении понятий интертекстуальность и прецедентность………………………………………………………………………. Сафонова О.А. Образ автора в поэтическом тексте и его переводах……………. Жуков О.Р. Иоганн Кристоф Готшед: эпигон или новатор. Дискуссия о немецком просветителе в отечественном и зарубежном литературоведении….. Москаева А.О. Особенности литературной критики Ап. Григорьева конца 1850-х годов………………………………………………………………………….. Целовальникова Д.Н. Эмблема или символ? К проблеме номинации жанра некоторых фрагментов «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского………………. 207 212 216 222 227 Веденеева Е.В. Н.А. Лейкин конца 1860-х гг.: «картины из купеческого быта» Новиков Д.С. Музыкальный мир Всеволода Гаршина……………………………. Митасова М.Е. А.И. Иванчин-Писарев о Н.К. Михайловском………………….. Миронова М.А. Петербург Бориса Борисовича Глинского……………………….. Ромайкина Ю.С. Альманах как тип издания в русской литературе……………... Муляева А.Р. Литературная критика 1920-х гг. в осмыслении Вяч. Полонского.. Соловьёва М.М. «Между империализмом и революцией»: зарубежные писатели в «Литературной газете» 1929-1934 гг. ………………………………… Иванова Е.А. Забытый биограф Эмиль Людвиг…………………………………… Сычева Е.С. Сказ «Про Федота-стрельца, удалого молодца» Л.Филатова……… Кудинова И.Ю. Повесть А.И. Солженицына «Раковый корпус»: горизонты постижения…………………………………………………………………………... Софина А.Е. Современное искусство глазами А.И. Солженицына (на материале «очерков изгнания» «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов»)…………….. Тугушева Э.Ф. «Полуписьменные сочинения» А.Г. Битова как жанр……………. Соколова И.С. Сергей Шаргунов как проект «нового реалиста»………………… Житенев А.А. Видеопоэзия и семиотика интермедиальности…………………… 234 240 247 251 261 266 270 276 280 284 289 295 298 303 ЧАСТЬ II Раздел 1. История, теория и практика журналистики Давыдова А.А. Тематическое разнообразие газеты «Мирное обновление» (Астрахань, 1907 г.)………………………………………………………………….. Пушкина Е.С. Газетный бизнес в Аргентине: мировые тенденции и региональные особенности…………………………………………………………. Ефремычева Л.А. Читатель новостных лент рунета: новые возможности, новые ограничения (на примере порталов lenta.ru и rbc.ru)……………………………… Тишков А.А. Уровень конфликтности читательских откликов в литературных и новостных социальных медиа………………………………………………………. 307 312 316 321 Научное издание Филологические этюды Сборник научных статей молодых ученых В ы п у с к 15 В 2 книгах Книга 1 Оригинал-макет подготовлен Г.М. Алтынбаевой Подписано в печать 10.04.2012 г. Формат 60х84 1/16 Бумага офсетная. Гарнитура Times. Печать офсетная. Усл.печ.л. 20,75. Уч.-изд.л. 21,5. Тираж 500 экз. Заказ