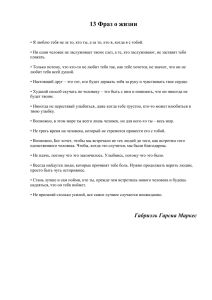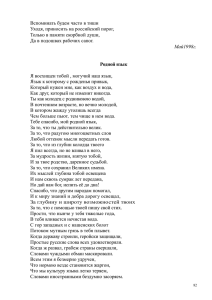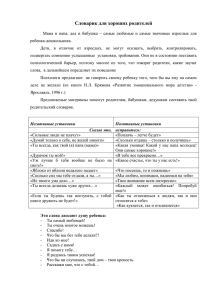1 Владимир 2/V-26 г., тюрьма. Светлая моя
advertisement

Владимир 2/V-26 г., тюрьма. Светлая моя радость, дорогая Нинушенька, сегодня ночью меня привезли во Владимир по этапу. Здесь пробуду 2-3 дня, как говорят, а затем направят в Суздаль, куда меня назначило ГПУ на 5 лет. Владимир только остановка, так как в Суздаль нет железнодорожного сообщения и из Владимира придется проехать туда на лошадях 35 верст. Вот моя дорогая. Сейчас так много хочется высказать тебе мыслей и чувств, что боюсь, что не справлюсь, что письмо будет сумбурное, несвязное, и ты не будь строга. Ты знаешь, милая, сколько сейчас различных чувств во мне противоположных, и всеми хочется поделиться с тобой. Я, например, несмотря ни на что, не могу не радоваться возможности поговорить с тобой, хотя бы в письме, полюбоваться тобой, хотя бы мысленно, издалека почувствовать твою близость и ту многообразную красоту, которой так много видел я, оглядывая нашу с тобой совместную жизнь. Не знаю, такой ли она кажется тебе. Но наряду с этой радостью возникают одновременно и чувства совсем противоположные. Ведь 5 лет у меня не будет возможности видеть тебя, говорить с тобой, любоваться тобой, слышать твои светлые песни и звонкий смех, которых, может быть, не будет по моей вине, точнее, из-за меня. Я оставил тебе тысячи забот, тяжелое бремя рождения ребенка и еще большее – всесторонние заботы о двух детях, моих детях, которых вырастить без поддержки моей и кого бы то ни было тебе будет так трудно. И вот когда я думаю обо всем этом, мне становится не по себе, не могу об этом даже говорить, писать. Чувствую себя глубоко виноватым перед тобой. Прости, родная. Знай, что эти темы для меня сейчас самые больные и близкие, но о них я не буду говорить, не могу говорить; говорить о них – не то говорить, плохо говорить, бледно и холодно, когда они неотвязно с тобой, а порой делают тебя способным завыть дико. Ну, не буду больше об этом. Милая, я всегда с тобой и с Нинкой, всегда думаю о вас, написал вам сотни писем, нет, не написал, потому что не было ни бумаги, ни чернил, а передумал. Почти два месяца внутренней тюрьмы без книг, без прогулок, охраняемый «глухонемыми» надзирателями. Я целые дни ходил от окна к двери и думал, и думал о вас, говорил с вами, писал длиннейшие письма. Я чувствовал вас так близко, представлял так реально, что, казалось, видел ваши лица, улыбки, слезы, слышал ваши голоса, шаги. Я уходил из тюрьмы. Я слышал, как вы называли мое имя, обращались ко мне с вопросами, и я отвечал вам любовно, нелепо. Даже когда я что-нибудь декламировал про себя, я был с вами. Порой мне казалось, что вот сейчас вы войдете ко мне, и я вас обниму, посажу к себе на колени, буду целовать вас и тихонько гладить по голове, а вы мне будете рассказывать. В такие часы для меня не было тюрьмы, но зато потом я ее чувствовал тем тяжелее, порой казалось, что она меня физически давит. В минуты протрезвления я 1 боялся, что думы о вас расшатают нервную систему, и я не выдержу тюрьмы, сделаю чтонибудь непоправимое. Я давал себе слово избегать думать о вас, но как это сделать, когда я связан с вами тысячью путей, совершенно невидимых, но таких прочных. Иногда заставлял себя думать о другом. Я говорил перед воображаемой аудиторией о Толстом, Короленко, Якубовиче, Некрасове, Чехове, полемизировал с воображаемыми противниками, увлекался, спорил горячо, доказывал, казалось, убедительно, страстные искания правды Толстого. Живые и близкие настроения Якубовича в его песнях, написанных в годы мрачной реакции с Чеховской грустью о бедной, некрасивой, худосочной и [нрзб.] жизни с ее дикостью, грубостью, пошлостью – все это вместе находило во мне защитника самого горячего от мнимых противников, искажающих перед неопытной аудиторией светлые порывы и напряженное искательство русской интеллигенции. А с Некрасовым и Короленко я уходил в деревню, ходил долго, обходил целые уезды. «Кому на Руси жить хорошо», «Арина», «Река играет» и другие были прекрасным материалом для крестьянской аудитории. Говорил долго, пока кто-то не обращался ко мне с ехидным вопросом – перед кем говоришь-то, кто тебя слушает? Посмотри. И мне иногда до боли было обидно видеть мою настоящую аудиторию – койку, несуразный двухэтажный стол и вонючую «парашу». Бывали и юмористические настроения. В ненаписанных письмах я рассказывал тебе об условиях и обстановке внутренней тюрьмы. Я писал, что разговор о жилищном кризисе в Москве – вздор, зловредные слухи. Я, например, легко нашел сразу 2 комнаты №№ 11, 12. В одной поместился сам, в другой – моя приемная, где сидит мой секретарь, он же охраняет меня от возможных неприятностей. Он знает, как не люблю я визитеров, как они надоедливы, и потому никого ко мне не пропускает, кроме хлебодара и чаечерпия, людей, как и сам секретарь, послуживших для Ал. Толстого сюжетом для «Бунта машин». Мне кажется, они ничего не слышат и не говорят. А чтобы выговорить необходимые при исполнении обязанностей 4 слова, у секретаря есть аппарат с 4-мя кнопками. Нажмет одну и вылетает слово «в уборную», что он говорит неизменно каждый день утром и вечером. Нажмет другую и вылетает «на допрос», нажмет третью – вылетает «тише шагать» или с добавлением «кому говорят», и четвертая кнопка при нажиме выговаривает – «приготовься с вещами». Может, существуют и другие кнопки, но в них при общении со мной надобности не было. Ведь я такой догадливый, что и без слов понимаю, что если подают хлеб, обед или кипяток, это значит бери, к чему тут вопросы и пояснения, к чему ненужное многословие. В таком же духе я писал тебе о своем приговоре, который мне объявили 6/V совершенно неожиданно, так как я ждал допроса еще, меня в Москве допрашивали один раз, приговор – выписка из протокола какой-то коллегии, очень коротенький в форме «слушали», постановили – примерно такой: слушали обвинение Кулакова Ф.Г. – он же Григорьев А.И. 2 в руководстве тамбовской подпольной организацией П. С-Р и в организации тамбовского бандитского восстания. Постановили – за применением амнистии направить в подведомственные ОГПУ места заключения сроком на 5 лет. Устно мне было добавлено, что пока меня направят в Суздаль. Тут же мне передали для прочтения твои 2 открытки и письмо. Я набросился на них, прочел раз, два, а затем должен был вернуть, так как в тюрьме ничего, кроме дозволенных съестных припасов держать не позволяется. Письма обещали вернуть при отъезде, но не вернули. Зная, милая, что ты не можешь приехать ко мне, я не стал просить свидания с тобой, а попросил свидания с кем-нибудь из родных волоколамцев – отцом, матерью, братьями и разрешения написать им и не увозить в течение недели. Разрешили, написал, но увезли через 2 дня. Не знаю, передано ли мое письмо и приезжали ли они повидаться со мной. Тебе же я просил разрешения написать, но не в комнате следователя, как письмо от 17/IV, которое не знаю, получила ли ты, - а в своей камере. Я не люблю писать, когда стоят над душой и ждут, скоро ли кончишь. Мне разрешили, обещали в камеру дать чернил и бумаги, но ничего не дали, несмотря на мои требования и заявления. Дикая злоба бессильная душила меня. Так уезжая из Москвы, я ничего тебе не написал. Как я встретил приговор? Совершенно равнодушно, потому, во-первых, что такого приговора, приблизительно, я и ждал, а иногда ждал и худшего, а во-вторых, он не доходил конкретно до моего сознания. Я пробовал его конкретизировать – 5 лет, мол, это значит, ты выйдешь из тюрьмы в 1931 году, 16/II, но и это мало говорило сознанию, звучало также внешне как и 1936 г. и 1941 г. Больше удавалось осознать, если я отсчитывал 5 лет назад. Тогда 5 лет вставали долгим сроком, большим, чем период между предыдущим тюремным заключением и теперешним, большим на целых 10 месяцев. А за это время, такое богатое содержанием, было столько радостей и огорчений, что 5-ний срок большой. С Лубянки на Курский вокзал в Москве везли в закрытом автомобиле днем около 5 часов. Из автомобиля можно было видеть оживленную Мясницкую и такие дорогие по воспоминаниям места как почтамт, Чистые пруды, где мы с тобой часто бывали в 23 году. Видел оживленную толпу, по-весеннему такую пеструю и нарядную и такую… равнодушную. На вокзале, не заходя в само помещение, по двору провели прямо в 2этажный с решетками вагон. Ждал встретить в вагоне Николая Петровича. От следователя я узнал, что ему дали 3 года тюрьмы и я надеялся ехать вместе с ним, но его, очевидно, повезли в другое место. В вагоне уже были приведенные из Таганской и Новянской женской тюрьмы уголовные и проститутки – всего 12 человек. Я так хотел видеть людей, что очень обрадовался этому обществу и всю ночь проговорил с ними, не ложась спать. К тому же в вагоне было так холодно, что и большинству не удавалось заснуть. Вся эта публика – тюремные завсегдатаи, в большинстве больные сифилисом и др. и такие несчастные, 3 изломанные, особенно женщины. Одна ехала с ребенком полгода и беременная на последних месяцах. Как-то в разговоре она употребила «мой муж», ее грубо начали высмеивать, спрашивали, которого же она считала своим мужем, она отвечала на эти шутки отборной площадной бранью и перешла от обороны к нападению. Поднялась такая брань, полная изысканной отборной ругани, что грозила бы перейти в потасовку, если бы не вмешательство конвоиров. Мне особенно было жаль маленькую девочку, которую зовут Нинка и которая недавно, вероятно, научилась ходить, ей нездоровилось и она все время хныкала и капризничала, за что получала от матери шлепки, а затем переходила с рук на руки и ее целовали эти больные женщины. Я дал яйцо и булки и она поблагодарила меня, молча протянув свою маленькую ручонку. Так мы доехали до Владимира, где нас всех отправили с вокзала во Владимирскую бывшую каторжную тюрьму. Здесь мне посчастливилось, здесь меня посадили в отделение, где камеры в дневное время не запираются, можно в любое время выйти в коридор. В небольшой камере, куда поместили меня, сидело, так что увы сидим втроем. Один из моих сожителей обвиняется как сотрудник царской охранки. Провокатор бывший эсер, работавший раньше земским статистиком. Этот Гуляев Д.А. человек весьма неглупый и очень развитой, насколько можно судить на основании однодневного знакомства. Другой – Ф.М. Орлов-Скоморовский – врач. Этот Орлов-Скоморовский, который, помнишь, выпустил «Голгофа ребенка» и приезжал в Иваново в 1925 году с докладом. Он написал после «Голгофы ребенка» еще 2 книги – «Ложь отцов» и «Любовь платоническая» и еще 2-3 брошюрки ходких о сифилисе и аборте – арестован за литературную пропаганду. С ним я познакомился как-то ближе. Много разговариваю и спорю о женщине, семье и браке. По этим опросам у нас диаметрально противоположные точки зрения. Я рад его обществу. Из других заключенных никого не знаю, политических в тесном смысле этого слова здесь нет. Их держат в Суздале, куда меня отправят завтра или послезавтра, там сидят кое-кто из моих знакомых, не знаю, удастся их увидеть. Ну вот моя дорогая, кажется я написал тебе понемножку обо всем, но разумеется не все, да это и невозможно в письме. Если хочешь, для полноты скажу несколько слов о питании за все это время. Питался хорошо и это без преувеличения. До 13/IV у меня было еще кое-что из моих питерских запасов, и мне с добавлением своего вполне хватало того, что давали в тюрьме, и что я целиком съедал. После 13/IV я стал получать передачи от полит. Красного креста – Екатерины Павловны Пешковой – 2 раза в неделю. В каждой передаче были 2-3 фунта белого хлеба, ½ фунта сыру, 1/3 фунта масла, 1 копченая селедка, ¼ фунта сахара. Ты видишь, как это много. И не удивляйся, что с передачами я, слабый человек, начал изменять моей возлюбленной пшенной каше, которая меня неотвязно преследует вот уже почти 3 4 месяца. А на Пасху я имел все, что правоверному человеку иметь полагается на Пасху – пасху, кулич, яйца, ветчину и пр. пр. и даже плитку шоколада. И от кого бы ты думала? Я очень удивился, когда прочел подпись А.В. Збруева. Своей передачей она меня прямо растрогала. Я не имею возможности сердечно поблагодарить, так как не знаю их адреса и очень, Нинушка, тебя прошу написать ей от меня искреннюю благодарность. Теперь буду ждать писем от тебя в Суздаль, хотя, если только будет возможность, тотчас же по приезде в Суздаль напишу тебе. Но ты можешь не дожидаться моего суздальского письма, а писать хотя бы открыточку для первого раза. Я не знаю точно адреса, но думаю, что он будет такой: г. Суздаль Владимирской губернии, концентрационный лагерь (бывший монастырь) политических заключенных, Григорьеву А.И (Кулакову Ф.Г.). Буду ждать от тебя такого большого письма, как мое, и вообще милая, я тебя буду просить, насколько будет возможность, пиши мне. Пиши обо всем, без прикрас, пиши, моя дорогая, каждой строчке, каждому тобой написанному буду рад. Мне так необходимо знать о вас. Пиши обо всех мелочах. А сейчас я буду ждать письма особенно напряженно. Ведь у тебя скоро роды, буду беспокоиться, волноваться за их исход. Все мысли с тобой, тебе все мои лучшие пожелания. Крепись, родная, будь сильной, бодрой, здоровой. Тебе все это так необходимо и не одной тебе. Пиши же, моя милая. Меня очень, очень заботит материальная сторона вашей жизни. Как вы справляетесь с нуждой. Напиши мне, получила ли ты чтонибудь от «основы» и что думаешь предпринимать с квартирой: продавать или сдавать часть. Если будешь сдавать, то необходимо иметь жильца, который имеет высокий разряд ставки и законом обязывается к высокой квартирной плате. Это важно, поскольку он, пока не будет зашита сумма ремонта, будет платить тебе. Затем необходимо, чтобы квартирная плата была внесена за полгода или за год вперед, а условия, на которых квартира сдается, оговорены в особом договоре. Но все же я советовал тебе квартиру продать. Впрочем, тебе виднее и поступай, как найдешь лучше. Но позволь мне поделиться маленьким соображением, которое мне пришло в голову во внутренней тюрьме. Мне казалось, что для тебя, может быть, хорошо бы было квартиру продать, а самой перебраться в место посуше Питера, например, в Царское Село. Там как будто найти 2-3 комнаты легко и за недорогую плату, а для твоего легкого это был бы сущий клад. Насколько это мое соображение практично и целесообразно, смотри. Оно мне кажется не совсем неосновательным. О нем ты мне как-нито черкни. Кончаю, прощай, моя ненаглядная. Крепко целую тебя, мою милую, моего светлого друга-товарища. Жду писем. Сейчас хочу немножко написать моей «пакле», о которой ты мне пиши побольше. Твой Андрей. 5 Милая моя дочурка Нинка, дорогая моя «пакля», а может быть, тебе не нравится, что я тебя так зову, ну не сердись, не буду больше тебя так звать. А буду звать тебя Вишня, хорошо? Ну вот, моя вишенка, здравствуй. Ты еще не забыла меня, Ан’дюсю. Я тебя вспоминаю очень часто. Утром я думаю, сейчас встает моя вишенка, Нинка. Раньше она кричала Андюся, Нина, Галя, и я шел к ней, брал в одеяло, а она всегда при этом говорила Андюся, кой ночи. Затем мы с ней шли в столовую, одевались, а иногда вишенка не хотела одеваться, и я носил ее, завернутую в одеяло, по комнате и рассказывал ей сказочку «Как Ким поё». Вишенка слушала сказочку и часто говорила да, да, да. Оборвалась, Вишенка, наша с тобой сказочка, поездкой одного меня, а не вместе с тобой, и совсем не в Крым. Ну, мы с тобой еще свое возьмем. Мы еще успеем съездить в Крым к морю, к солнцу, покупаться в море, полежать на песочке. Успеем, Вишенка, успеем. Только для этого нужно, чтобы ты была здорова сама и берегла нашу хорошую мамочку – Нину. А пока будем ждать. Тебя я долго не увижу, может быть, не увижу до тех пор, пока ты не начнешь в школу ходить, я далеко от тебя, ко мне трудно приехать. Нужно ехать и на машине, а потом на лошадках. Но если бы ты ко мне приехала, я был бы такой счастливый, так был бы рад тебе. Но, вероятно, Вишенка, нельзя, но все же я тебя буду ждать, постоянно думать о тебе, отсюда издалека рассказывать тебе «Как Ким поё» и другие сказочки, каждый вечер и утро целовать твои ножки и ручки и все пальчики, шейку и звездочку на головке. Вот моя милушенька Нинушенька. А теперь прощай. Пиши мне. Твой Андюся. 6