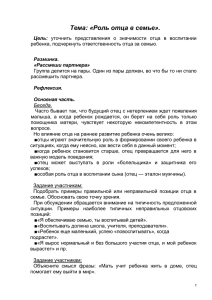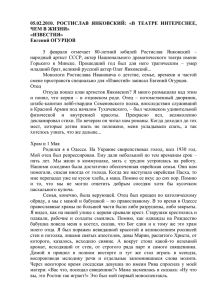Яшков Анатолий Васильевич Корреспондент
реклама
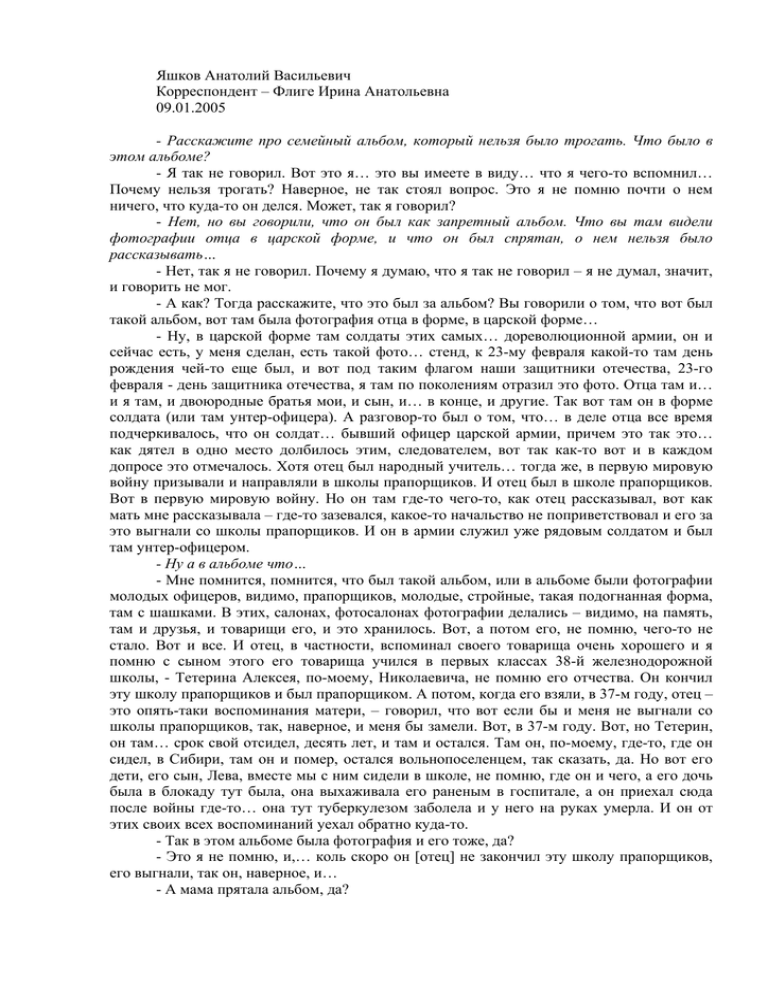
Яшков Анатолий Васильевич Корреспондент – Флиге Ирина Анатольевна 09.01.2005 - Расскажите про семейный альбом, который нельзя было трогать. Что было в этом альбоме? - Я так не говорил. Вот это я… это вы имеете в виду… что я чего-то вспомнил… Почему нельзя трогать? Наверное, не так стоял вопрос. Это я не помню почти о нем ничего, что куда-то он делся. Может, так я говорил? - Нет, но вы говорили, что он был как запретный альбом. Что вы там видели фотографии отца в царской форме, и что он был спрятан, о нем нельзя было рассказывать… - Нет, так я не говорил. Почему я думаю, что я так не говорил – я не думал, значит, и говорить не мог. - А как? Тогда расскажите, что это был за альбом? Вы говорили о том, что вот был такой альбом, вот там была фотография отца в форме, в царской форме… - Ну, в царской форме там солдаты этих самых… дореволюционной армии, он и сейчас есть, у меня сделан, есть такой фото… стенд, к 23-му февраля какой-то там день рождения чей-то еще был, и вот под таким флагом наши защитники отечества, 23-го февраля - день защитника отечества, я там по поколениям отразил это фото. Отца там и… и я там, и двоюродные братья мои, и сын, и… в конце, и другие. Так вот там он в форме солдата (или там унтер-офицера). А разговор-то был о том, что… в деле отца все время подчеркивалось, что он солдат… бывший офицер царской армии, причем это так это… как дятел в одно место долбилось этим, следователем, вот так как-то вот и в каждом допросе это отмечалось. Хотя отец был народный учитель… тогда же, в первую мировую войну призывали и направляли в школы прапорщиков. И отец был в школе прапорщиков. Вот в первую мировую войну. Но он там где-то чего-то, как отец рассказывал, вот как мать мне рассказывала – где-то зазевался, какое-то начальство не поприветствовал и его за это выгнали со школы прапорщиков. И он в армии служил уже рядовым солдатом и был там унтер-офицером. - Ну а в альбоме что… - Мне помнится, помнится, что был такой альбом, или в альбоме были фотографии молодых офицеров, видимо, прапорщиков, молодые, стройные, такая подогнанная форма, там с шашками. В этих, салонах, фотосалонах фотографии делались – видимо, на память, там и друзья, и товарищи его, и это хранилось. Вот, а потом его, не помню, чего-то не стало. Вот и все. И отец, в частности, вспоминал своего товарища очень хорошего и я помню с сыном этого его товарища учился в первых классах 38-й железнодорожной школы, - Тетерина Алексея, по-моему, Николаевича, не помню его отчества. Он кончил эту школу прапорщиков и был прапорщиком. А потом, когда его взяли, в 37-м году, отец – это опять-таки воспоминания матери, – говорил, что вот если бы и меня не выгнали со школы прапорщиков, так, наверное, и меня бы замели. Вот, в 37-м году. Вот, но Тетерин, он там… срок свой отсидел, десять лет, и там и остался. Там он, по-моему, где-то, где он сидел, в Сибири, там он и помер, остался вольнопоселенцем, так сказать, да. Но вот его дети, его сын, Лева, вместе мы с ним сидели в школе, не помню, где он и чего, а его дочь была в блокаду тут была, она выхаживала его раненым в госпитале, а он приехал сюда после войны где-то… она тут туберкулезом заболела и у него на руках умерла. И он от этих своих всех воспоминаний уехал обратно куда-то. - Так в этом альбоме была фотография и его тоже, да? - Это я не помню, и,… коль скоро он [отец] не закончил эту школу прапорщиков, его выгнали, так он, наверное, и… - А мама прятала альбом, да? - Да я не знаю, не так, чтобы заметно, а просто вот не стало его, да и все, в какой-то момент. Когда я стал вспоминать, но это позже уже, тут вот это вот дело отца, потом война навалилась, и тут уже… Конечно, все, что у нас там было, в основном сгорело, в Новгороде, квартира сгорела. А некоторые фотографии – это благодаря матери, они оказались… Она, видимо, их в конвертах таскала с собой, с нашими кутулями, ну вот (на поселение) - Вы рассказывали, что вы смотрели этот альбом – вам тогда сколько было лет? - Ну, если я 27-го года, то в 37-м мне было ровно десять… - Это вот тогда вы смотрели? - Да, наверное, до 37-го года, где-то тут… или, может, 38-го. - А до этого вы альбома не видели? И потом больше не видели? То есть, только в 37-м году один раз, да? - Да нет, таких вещей я не помню… Я, наверное, не один раз его смотрел, потому что как-то так и ярко запомнилось, наверное, мне нравились вот эти фотографии старые. - А мама не предупреждала, чтобы вы никому не говорили? - Нет, такого заметного не было, да. И вот то, что я вспоминаю сейчас – это тоже со слов, собственно, матери. - Так вам его мама показывала и рассказывала, кто это такие или вы сами брали с полки и… - Сам я брал, сам смотрел, никто мне ничего не рассказывал. Дело в том, что вот сняли мы ксерокопию с дела отца, вот я когда посмотрел это дело внимательно, первый раз я, видимо, с меньшим вниманием смотрел – так отец открывается мне как-то шире и с разных сторон, больше вследствие и в результате этого дела. Которое, я говорю теперь для семьи, как криминальная какая-то книга, получается. Да, так отец все время был занят. Поздно приходил, рано уходил на работу. Я его почти не видел. Поэтому очень мало его знал… хотя война началась – мне было четырнадцать лет, когда отца взяли – тоже было четырнадцать лет, или тринадцать. Вплоть до того, что был в какой-то мере и уличным мальчишкой, во всяком случае, я столько времени, да совсем никакого особого времени мне не выделял отец, ну, мать, может, когда-то что-то… столько, сколько мне приходится к своим теперь детям, – тогда этого не было. И помнится мне – пошли мы с ним [с отцом] купаться. На Малый Волхов, это приток Волхова. А я так сам научился плавать как-то там. У нас, среди детей, метода своя была, как научиться плавать. И вот, помню, пошли мы купаться, он увидел, что я плаваю, и говорит – верно, сам плавает. Это мне запомнилось – вот такая деталь. - А вы не хвастались перед своими друзьями, что у вас вот отец вот в такой красивой форме в альбоме… - Нет, нет, нет, этого ничего не было. - А маму спрашивали – кто это, кто это? - Не помню… Не помню, нет. Не помню. Но вот у меня осталось просто предположение, что это его товарищи, видимо, по этой школе. (перерыв в записи) - Мы с вами в прошлый раз начали обсуждать, - вот вы говорите, что война изменила ваши политические взгляды, а как она изменила, сама война, вот в каком смысле она изменила политические взгляды? - Ну какие у меня могли быть взгляды в четырнадцать лет?… - Ну, может быть, сформировались… - Н-да… (перерыв в записи) В детстве такие… восприятия окружающей действительности жизни. Вот первое мая – майское утро, голубое небо, свежий ветерок, белые рубашки, кофточки, эти самые… красные галстуки. Везде мелодии, музыка звучит… Этакое весеннее настроение, все впереди, мир, распахнутый перед тобой во всем своем многообразии и красоте. Ну вот… Потом вся вот эта вот возня… Ну, во-первых, всякие там дела бытовые, с квартирой у нас там сложно было, отец стал не директор, а преподавателем, а директором не стал, а квартиру надо освобождать для директора, квартира-то служебная, а нам ее не дают, комнату – это все мимо меня проходило, в общем-то, а свой отпечаток накладывало – ну, мы оказались тогда в одной комнате и надо ее тоже освобождать, потому что это такое… стесненное, там был товарищ директор, который его сменил, вот… Ну, потом это неожиданное - арест и суд отца, они, конечно, внесли какой-то нюанс в формирование моих взглядов на жизнь и на мое отношение к жизни. В то же время, казалось, что все это ерунда, какая-то ошибка, какая-то несправедливость, которая выяснится и все… и все станет на свои места. Мне помнится, в школе я, в тот день, когда отца судили, 6-го мая или 5-го, что-то в этом духе, я был в школе, и кто-то мне сказал – вызывает какой-то парень, тоже мой ровесник по возрасту, видимо и говорит – а ты знаешь… (кто-то ему сказал или взрослые послали) – что твоего отца сейчас судят? Да, говорю, знаю – так спокойно, видимо, ему ответил. Его это, может быть, удивило, а у меня такое спокойствие, во-первых, оно, может внешнее только, а во-вторых, я все-таки надеялся, что суд несправедливым быть не может, и выяснится это как ошибка. Вот… - Я вас спросила: как война изменила или сформировала ваши взгляды? Или вы считаете, что к войне они уже сформировались? - К войне какие-то ростки и направления были, но не сформировались, не сказал бы. По поводу наших заклинаний, я имею в виду заклинаний руководства и лидеров наших – если грянет война, то малой кровью на чужой территории, чужой земли ни пяди нам не надо, своей ни пяди не отдадим или в этом смысле – так я в это и верил. Или, во всяком случае, в этом направлении мысли были, хотя из мальчишеских взглядов. «Если завтра война» – был такой фильм, кстати, не видели его, нет? Там даже мальчишескому взору и восприятию может бросится в глаза эдакая шапкозакидательная манера. Там такие парадные кадры – идут… летят самолеты, идут, значит, какие-то… какая-то техника, какие-то соединения воинские и… если завтра война, если враг нападет… и так далее, малой кровью, могучим ударом. Ну и вот, и показывают там самолет вражеский, его сбили, единичный… наверное, макет – вот он догорает, враги сдались… Кстати, позже, когда я думал об этом кадре и фильме – по-моему, он ярко показывает полное незнание вероятного противника и режиссерами, и сценаристами, и всеми. Потому что вот этот макет догорает, крыло самолета и с него отваливается знак, свастика с крыла. А у них не было на крыльях свастики, у них кресты там были. Свастика была на хвосте. - Но это в фильме… - Но вот восприятие этого фильма уже тогда допускало такое, - что не совсем так все это может быть, и будет, как показывают. Уж слишком рассчитано на примитивного какого-то зрителя. Тем более, уж условно показано… вроде сражения, какие-то… стычки приграничные и… вот все, и дальше пошла… - То есть, вы перестали доверять власти? Так? - Да нет, так бы я не сказал бы, что перестал доверять, но, во всяком случае… я уже не был готов огульно всему верить. - Это еще до войны? - Да, это во времена, когда эта песня «Если завтра война, если враг нападет» была, так сказать, на вершине идеологической пропаганды. - И это связано с несправедливостью по отношению к отцу? - Несправедливость – это уже перед самой войной, это уже 41-й год… Да, недоверял. Но такого, что враг дойдет до Новгорода там, Ленинграда – мало кто у нас допускал в то же самое время. - Ну а потом, когда начались события войны – вот как у вас дальше это представление складывалось? - Дальше видно было, что не готовы оказались к войне, что враг по какой-то необъяснимой причине полное превосходство в воздухе имеет и никакого противодействия или почти никакого ему не оказывается, вот, и враг дошел до Новгорода, города – основы русского государства, бывшего Господина Великого Новгорода. - Расскажите, как вы это ощущали, как для вас это все было? Как ваши взгляды политические или неполитические, или просто жизненные установки – как они от этого – изменились или если не изменились, то как сформировались? - Враг прет, наступает. Враг силен. Но бороться с ним надо. Придется. Вот примерно так. Я там в своих воспоминаниях тоже и говорил, что первый день войны мы тут с братом двоюродным спали на одном кровати, за диваном… за шкафом, на улице Пионерской, там дядя, его семья, живет. И вот брат рассуждал, что если наше правительство мобилизует двенадцатилетних, то войну выиграет. Вот, такую крайность он… - То есть, все-таки вы считали, что… - Ну, я ему внимал почтительно, брат ведь тогда десятый класс уже кончил, он 24го года был, кончил десятый класс в этот год и, в общем-то, уже, так сказать, взрослый был… - вы считали, что правительство мобилизует, власть мобилизует и тогда, благодаря этому будет победа? - Рассуждения наши сводились к тому, что это как крайняя мера, что даже двенадцатилетних мобилизуют на войну, выиграют, а, в общем-то, наверное, какие-то, ресурсы, следовательно, могли быть и были, конечно, и будут. Промежуточные, до этого, до такой крайности, может, до такой крайности не дойдут или не дошли, конечно. - Что для вас было важно – что правительство выиграет войну, а не то, что правительство не в состоянии защитить свой народ и поэтому должны идти все на войну? Было доверие к правительству? - Нет, так я глубоко не рассматривал и не рассуждал, потому что предполагалось и что правительство и народ – это взаимосвязанные вещи. Одно без другого не может, поэтому казалось, что в этой, в этом сочетании как-то они смогут выстоять. - А потом, когда вы оказались брошенные, незащищенные, когда вы были угнаны – вот тогда что-то менялось или нет? - А тогда была… если хотите, в этой, в оккупации и я не буду говорить, что мы там верили, или мы знали, что враг будет разбит, что мы обязательно победим и солнце победы засияет перед нами – так не думали. А была… мне во всяком случае так воспринималось – такая безысходность и жизнь сегодняшним днем. Сегодня жив, а завтра как Бог даст, как говорят, как получится. Вот и все. - У вас было, такое ощущение, что власть не может обеспечить защиту? - Так это было, а как же… - А когда оно появилось? - Сразу, как Новгород сгорел. - А потом? - Потом это ощущение, что враг безнаказанно, или, может быть, не безнаказанно, но все равно продвигается и довольно успешно – это происходило здесь, может быть, 42-й год… Мы же информации особо никакой не получали, за исключением – раз в лесу я нашел обрывок какой-то газеты, видимо, с нашего самолета выброшенная – о битве под Москвой там говорилось, и о том, что немцы понесли там потери. Ну вот. А так, со стороны этой самой, немецкой, или, так скажем, пронемецкой пропаганды, шли бравурные такие сообщения об их победе на всех фронтах, ну вот. И вот только когда под Сталинградом им пришлось, я имею в виду немецким войскам туго…и в восприятии нашем появилось, что дело-то все-таки не так уж, их дела хороши, у немцев. И, в конце концов, даже вот, может, наша армия выстоять. А после, видимо, Курской битвы, то есть после лета 43-го года там уже появились такие признаки, что немецким войскам туго приходится и они будут отступать. - А когда вы ждали освобождения, победы – вы как думали? что придут советские войска, освободят и все будет хорошо? Победа вернула веру в силу власти, в защищенность? - наверное, если глубже рассуждать, можно говорить, что власть нас все-таки сдала всех немцам, врагу. - А когда же вы почувствовали защищенность? - А после поражения под Сталинградом, и особенно под Курской дугой в том числе, стали многие немцы…стали менее жестоко обращаться с восточными рабочими, менее требовательно, может быть, да. И вот это ощущение и появилось. Тогда. - Защищенности? - Да. Ну, там всякие байки-то ходили, мол, что советское правительство заявило протест по поводу жестокого обращения с угнанными гражданами Советского Союза… - Кому протест? Война же еще шла. - Ну и что – война шла, кому протест? Фашистскому правительству, Гитлеру и иже с ними. Другое дело, как они к этому отнеслись и прочее. Но дело в том, что там же не только дураки были, но, между прочим, много и умных людей, хотя они, немцы, и даже фашисты… Ну вот. Да, так вот – нас в воскресенье, например, отпускали свободно ходить по городу, значит… А раньше все под охраной и не пускали даже в воскресенье. - И вы это связываете с заявлением Советского правительства? - Ну, не впрямую, но в том числе, да, предполагаю, что они получив… господа немецкие нацисты и вся эта камарилья, будем говорить, по загривку и по мозгам под Сталинградом, и под Курской дугой, уже стали несколько иначе относиться. - Так а Победа – она увеличила доверие к власти? - Ну, если так ставить вопрос – по-моему, в моем восприятии, в моем представлении – мне кажется, увеличила, конечно. Верно, мы не знали, не догадывались, как это будет, кто придет нас освобождать – мы оказались, кстати, в нейтральной зоне. Там, где мы были, там была нейтральная полоса и наших нет, и американцев нет, и немцев уже нет, вывелись, выкинули везде белые флаги, белые простыни везде из окно. Ну вот… И кто и как нас освободит и как выглядеть будет день победы – никто не загадывал, не знаю. Впервые я услышал о том, что Берлин пал и Гитлер там уже отдал концы, капут, как говорили – мальчишка, немчонок, ну, лет, может, десять, может, двенадцать, вдруг заговорил со мной и давай, значит, рассказывать – что вот, так, Гитлер покончил с собой, Берлин, мол, взят, в таком духе, что вот… война кончилась, кончается. Немцы, между прочим, интересно, так они нас, бывает, не замечали – немецкие жители, немцы. Видели, что восточные рабочие, что это иностранец, хотя «ОСТы» мы иногда снимали, съемные такие делали. Ну, тем не менее, они по своим делам идут, мы по своим, ладно, ничего… Да. А тут вдруг стали какие-то почтительные, заискивающие, здороваются – когда ты и не собираешься с ним здороваться, проходишь мимо – а он – «мойн», ну – «мойн» – это местный диалект, вроде «здрасьте», здравствуйте, привет. Ну, хорошо. Да. - Ну а отношение к власти, все-таки, - когда вы попали на родину – было разочарование? - Нет, не было, потому что у нас критерием нашего бытия и восприятия окружающей действительности была жизнь и смерть. Жив – и слава Богу. Вот так. Так что все остальное более или менее, туда-сюда… - Непонятно вот что – что жив, потому что повезло, потому что сам постарался, или потому что власть защитила. - Судьба. Судьба. Так вот – вот такой момент. Это все произошло у нас уже, в нашем случае – не то 9-го мая, не то 10-го мая. Я уже и подзабыл, но мы на другой день уже уезжали оттуда. А перед эти шли слухи, кто-то, может, их и пускал… может быть, влияние, я не знаю, кого… о том, что могут куда-то и в лагеря сослать. И на это ответ такой был в душе – «… ну, что в Сибирь, Сибирь я не боюсь» –… ну, забыл. Напомните. - Нет, я не знаю этой песни… - Так вот отвечали сами себе, и потом-то, я уж думаю, какие, в общем-то, наивные дурачки – «ну что в Сибирь, в Сибирь я не боюсь, Сибирь ведь тоже русская земля.», Льва Лещенко. Ну, вот это было. Так что вот так мы воспринимали вот эти слухи, что вот, может быть, пошлют и срок, и в Сибирь пошлют, и в таком духе. - То есть, вы с одной стороны, понимали, что могут сослать, но все равно верили… - Всерьез-то не очень верили, потому что – ну кто как. Допустим, мы – нас еще и в лесу немцы взяли, как – за что тут нас еще, шут побери, - мы, как ни говори, а раз ушли в лес, так пусть пассивное, но все-таки протест – мы отказывались уезжать в Германию. Мало того, это бы если немцы там раскрыли, что мы там еще с оружием шлялись и мы собирались вроде партизанский отряд организовать – у нас происходило, только что не сложилось, и оружия там мы сначала набрали там в лесу, разные, разукомплектованные винтовки, одно под одним номером, затвор под другим, ну, когда наши отступали – побросали в лесу вот… А потом мы и сами куда-то спрятали, что и сами не нашли. А потом нас… подмели. - То есть, вы считали, что… вы не можете быть сосланы в Сибирь? - Да. Конкретно мы. Да-да-да, про себя, да. (перерыв в записи) - а когда вы уже вернулись в Советский Союз – у вас было какое-нибудь разочарование или была гордость, что советское правительство победило в этой войне? - Нет, особой гордости не было. Было, так сказать, такое, не до конца осознанное, полуголодное существование. Вот… - А когда все эти песни о победе, парады, марши – вас ничего не раздражало при этом? - Да нет, не раздражало… - Нет… Допустим, я, значит, был в трудовом батальоне, мы восстанавливали этот… Донбасс. Значит, ну вот, стремление было, что надо вот, может быть, учиться, надо как-то попасть, уехать на родину, в смысле, в Ленинград, ну, в Новгород мы не мечтали, потому что дом сгорел там, там пусто и что-то… мать поехала к брату, и она и была тут, в Ленинграде, туда же стремился и я. - Ну вот, и вот все мои стремления и помыслы на этом были направлены. Скорее вернуться к родным в Ленинград. Вот. И не дальше. Кем там быть, как работать, как там выкручиваться в жизни дальше… - Но без помощи власти, то есть самому? - Да, конечно. - Вы не рассчитывали на то, что после Победы вам будет помощь от… будущее стабильное, от власти вы этого не ждали – вы ждали только от себя? - Не ждал, не ждал, да. … я обращался как к власти как к этому, к управляющему комбината, Сталинуголь, треста Сталинстройматериалы, везде Сталин, в городе Сталина, да… Я помню, вот он… такой момент вот он, дискриминирующий… дискредитирующий… Он сидит такой - …на протезе, он не то, что… может, в войну он это, покалечился, не знаю, но вообще, в основном, фронтовики относились к этим, к репатриированным – мне не попадалось, чтобы относились как-то пренебрежительно, както порицательно, как-то… ну, что ли недоброжелательно – нет, такого у меня не было. А этот, который, не давал мне разрешения на увольнение, на выезд на учебу. И высказался так – мы пошлем учиться более достойных, а не таких, как вы. Вот так, это было. А он передо мной представитель власти, комбинатоуправляющий. (перерыв в записи) - … Как я мог чувствовать защиту правительства, когда, собственно, дело отца-то давит и известно, и слышал много подобных еще, уже… так. Еще… вот такая вещь – потом, когда я уже тут армию отслужил, но так еще надеялся, что, может быть, отец вернется – но, между прочим, матери сказал, и так мы пришли к такому выводу, что если нас не ничего спрашивают… Новгород сгорел, все такое, может… (конец записи) - Ну, вы с матерью решили, что… - …мы подумали, что не осталось и следов из документации. Ну, это, конечно, достаточно наивно и если бы захотели, все бы узнали. Или не попадалось кому-то или не до нас было, потому что перед самой войной, потом война, а тут тоже не до нас (с восстановлением послевоенным). А так бы, может быть, и мы как семья подверглись бы еще и каким-то гонениям. (перерыв в записи) - Доверие к правительству… уже 52-й год – отец должен был бы вернуться, если он жив. Не возвращается. Значит, хана, как я думаю… Да, вот – хотел подавать заявление я тогда, в 52-м году или где-то тут, на пересмотр дела отца, что с ним, как там, то есть, говорить открытым текстом надо было бы, что вот осужден и все такое. Но тут как раз шло ленинградское дело. А, так сказать, на чужой роток не накинешь платок – слухи идут, разговоры идут, кстати, знакомая нашей семьи, она преподаватель тоже, в партии была, потом у нее брат был третий секретарь василеостровского райкома. И вот всех их, всех, кто при парткоме был, всех их по ленинградскому делу… - ??????? - Вот я и говорю. И когда узнал, что таких людей судят, то подумал – чего мне соваться со своим отцом еще, когда таких людей, кто в блокаду тут выдержал, организовывал оборону Ленинграда – и их судят вовсю. Мало того, погибают в этих самых… в застенках и в камерах, нечего мне со своим отцом и соваться. И вот тут… какая тут опора и надежда? Не было. А наоборот, убежденность, что не надо, что это… - Как вы это для себя объяснили? - Как бы сказать, как сформулировать… что это злая сила и… во всяком случае, на которую опираться нечего и надеяться не на что. - у вас это сложилось после ленинградского дела? - Ну, можно так сказать. То, что отец народов жесток и несправедлив – это у меня сложилось еще и раньше. Но, так как я был, так сказать, достаточно еще и наивен, и примерно с шестиклассным образованием имел свои взгляды, убеждения, восприятие окружающей действительности – так хоть верил, что он там какой-то самородок или чтото, военный гений, вот и его воля к победе и… не знаю, хотя, тоже отдавал себе отчет, что, собственно говоря, где-то проморгали, когда поверили там Гитлеру и иже с ними, всей этой камарилье. Вот, но то, что и жесток, и несправедлив – это было. Ну, а после всех этих дел… А что можно надеяться на правительство, и на лидеров – у меня появилось такое ощущение только после ХХ съезда, то есть, после того, как был развенчан, как говорили, и как говорят – культ личности. - Сохранилось это доверие или оно потом опять пропало? - Оно претерпело некоторые… так сказать, негативные изменения… Некоторые негативные поправки. Ну, потому что, собственно… что, лидеры-то те же. Тот же Хрущев, те же все, кто потом были… Вы говорите, надеяться на – вот у нас не говорят тоже об этом… а в общем-то, надо бы не забывать, что победа-то пиррова все-таки. Победа-то победа, но она пиррова, она за счет массовой самоотверженности и героизма народа. - А когда вы стали так понимать? - Ну, это давно… - Сразу после войны? - Ну, сразу не сразу, но в 45-м я уже это понимал. Году. Ну, например – мы сидим так в… Рава Русская – это граница такая. Наши семьи там – репатрианты. А нас в трудовой батальон. Восстанавливать Донбасс завербовали. И вот с бывшими военнопленными чего-то сижу тоже. И их тоже в трудовой батальон. Не все, как Солженицын пишет, но он пишет о том, что многие… многих перегрузили с одних эшелонов на другие и повезли прямо в лагеря. - Ну, вот сидите вы в Раве Русской и… - Ну, мы сидим там, я не помню, не то в землянках, не то где-то в лесу… И вот эти ребята – они со второй ударной армии оказались. Старше-то меня на год или на два года. Им было восемнадцать в 42-м, да. Ну, в 45-м, значит, им двадцать один год, да. Ну, и рассказывают, как это было, во второй ударной армии, это вот в этом котле, в любанской операции и как там они с голоду доходились, сколько погибло и сколько… как там танки шли по людям и как там по пояс в снегу наступали – ну разве можно это наступлением назвать – так, барахтанье, как там армия… И вот, говорит, тогда уже – была песня такая, песня на мотив «Ты сидишь у костра и смотришь в огонь, потихоньку огонь догорает». Помните такую песню? Так вот это по поводу того, что громадные жертвы в войну и пиррова победа. Так вот там слова такие, мне они запомнились – ты сидишь у костра и смотришь в огонь, потихоньку огонь догорает, и надежда на то, кто же замуж возьмет, потихоньку в душе угасает. Ну, я попытаюсь и мелодию припомнить… Ты грустишь о тех днях, когда пять человек… или семь, неважно… пять человек приходили к тебе на свиданье. А теперь за одним вы бежите тайком, безнадежно глазами моргая. Она сатирическая немножко, да. Еще годик войны – это в 42-м году пели – еще годик войны, и не станет мужчин, их и так уже стало так мало. Скоро будут мужчин по талонам давать на одну ночь страдающим дамам. Ну, и еще там какие-то куплеты, я их не запомнил, а вот это запомнил. Так вот это, так сказать, яркая иллюстрация, как можно надеяться на таких военоначальников, на такое правительство, на такую систему, если хотите. Ну, так-то уж глубоко я не анализировал это, ну, что это пиррова победа, что это громадные жертвы, что это… за такую победу к ответственности бы надо привлечь, после победы. Да. Того же родного отца. Но это могло быть в Англии, но только не у нас. Да вот… (конец записи)