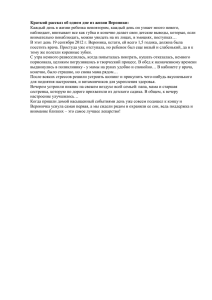Мама. Молитва сына
advertisement
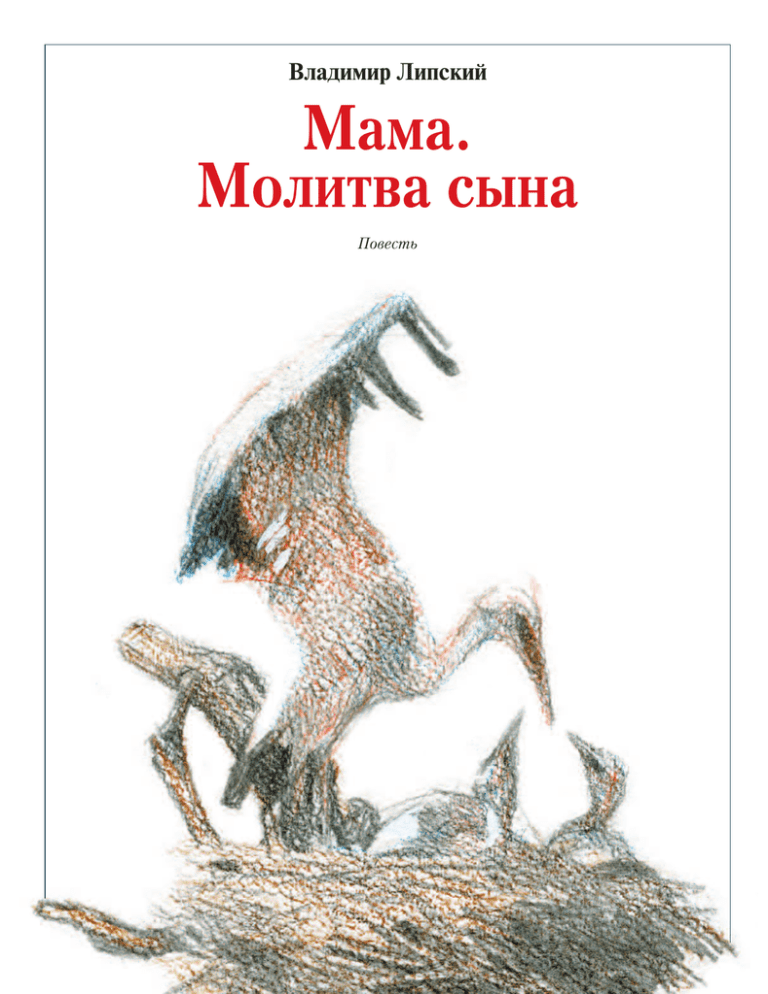
Владимир Липский Мама. Молитва сына Повесть 1 3 Вечный Боже! Гдето там, в твоем царстве, на высоких небесах, живет моя Мама. А я, кровинка ее, стою у маленького земного холмика, и соленая роса омывает мои глаза. Гранитная плита с крестиком и датами. Папоротник. Мох. Стеклянная банка с водой и полевыми цветами. Синяя оградка. Вверху, на разлапистом, обрезанном дубке, тишину потревожила приблудная ворона. Чего каркаешь, чернота? Вскинула крыльями, полетела в сторону деревни. Там — серые от бесприютности хаты, редкий дымок из выщербленных труб, там воронепопрошайке чтото перепадет. На искалеченный дубок сели два диких голубка. Воркуют. Будоражат память... Сейчас моей Маме было бы сто лет. Двадцать пять из них она живет в небесном царстве. И каждый день (!) с тех пор, как ее не стало, я чувствую ее взгляд, вижу ее улыбку, слышу ее голос. Она со мной. С ней иду по жизни, по ее солнечным и каменистым дорогам. Мама! Очнись, отзовись, зайди к сыну в гости. Хочу хоть на мгновение увидеть тебя живую. Осиротевшим остался на земле твой меньшенький... Вот, идет мягкой походкой... Она всегда так осторожно ходила: чтобы не потревожить детский сон, чтоб не притоптать зеленую травку, чтоб не испугать курицу, греющуюся в песочке... Мама всю жизнь была курицейнаседкой. Квохтала над своими детьми — Лидой, Клавой, Петей, Любой, Колей и мной, последненьким. Маленькая и худенькая, она становилась сильной и непобедимой, когда к ее дому подступала беда... 2 4 Словно черное воронье, налетели на наши Шелковичи серые самолеты. От рева моторов стонала земля, дрожали стекла в окнах. И я ревом ревел от страха. Мама схватила меня, голенького, прижала к груди и бегом в жито. И до сих пор я вижу тот загон жита за нашей хатой. Слышу мамино сердце, его стук отдается в моей груди. Вижу над собой черную тучу, ревущую, словно ошалевшая корова... Первое мое жизненное воспоминание. Сколько годков было мне тогда? Два? Три?.. Шла война... Тогда она вскочила в хату: — О Боже мой!.. Только что по улице проскакал верхом лесной разведчик с криком: — Прячьтесь!.. Спасайтесь!.. Будут жечь!.. Не переставая взывать к Богу, Мама завернула меня в постилкусамотканку и побежала в Хаврусное. Там чащоба. Там болото. Быть может, в ту трясину не полезут каратели? За ней бежали, спотыкаясь, зареванные Клава, Петя, Люба, Коля. (Лида уже была замужем в Старине.) Следом бежал отец. В одной руке икона, в другой — чугунок вареной картошки. Мама никому не доверила меня. Коротко об авторе. Владимир Липский Владимир Степанович Липский — известный писатель Беларуси. Родился 6 мая 1940 года в деревне Шелковичи Гомельской области в крестьянской семье. Пережив тяжелое военное детство, Владимир Липский всю жизнь посвятил детям. Его перу принадлежат десятки книг, сказок, рассказов, повестей: «Веселая азбука», «Золотой домик», «Королева белых принцесс», «Приключения Нулика», «ЛюликПилюлик», «Милоградский коник»… Известен он и как документалист, публицист. Липский создал много книг о своих замечательных современниках, об истории Белоруси. Владимир Липский уже свыше трех десятков лет возглавляет белорусский детский журнал «Вясёлка» («Радуга»), превратив его в настоящего, верного друга всех малышей страны. А недавно по инициативе писателя создан еще один журнал — «Буся», так в Беларуси называют маленьких аистенков. Это издание для детсадовцев, которые до этого никогда не имели своего журнала.Творческий труд Владимира Степановича высоко оценен: он — лауреат Государственной премии Беларуси, лауреат литературных премий имени Янки Мавра и Василя Витки, награжден орденом Франциска Скарины, орденом святого царевича Димитрия за дела милосердия. Владимир Степанович Липский возглавляет Белорусский детский фонд с первого дня его создания, то есть уже 26 лет. 2 И по сегодняшний день слышу, как бьется ее сердце. Горячая и вспотевшая, она так сжимала меня, что не могли разнять ей руки, когда присели отдохнуть на болоте... В то божье воскресенье, на святую Троицу, сгорели наши Шелковичи. А людей, кто не успел убежать, немцы убивали... помещика. Скопили деньжат и купили кусок земли. А тут уже пора искать приданое дочерям — Анюте, Агате, Мане, думать о сыновьях — Миколе, Павле, Юзике. Жили Янушевские в деревне Великий Лес, под Жлобином. Адам был низкого роста, щуплый. У него были светлые усы, любил он покручивать их, читая газету. Он гордился, что умел читать. Когда стали сгонять в колхоз, обобщать скот, Адам Янушевский вышел с газетой на улицу, собрал соседей и прочитал им: «Колхоз — дело добровольное». От себя добавил: «Здесь написано, что по одной корове можно оставить себе. Не бойтесь!..» Вскоре Адам Флорианович умер, но когда начались репрессии, отцовскую газету припомнили сыну Павлу. Приехал ночью «воронок», оторвали мужика от женыроженицы, довезли до Гомеля и там... расстреляли как агента буржуазной Польши. Много позже попросили у детей прощения. Да все это, как любил говорить сам Адам, — коту под хвост. Самый меньший в семье, Юзик, возглавлял комсомольскую ячейку. Его жизненная свеча оказалась очень короткой. Старший, Микола, обосновался на отцовском подворье. Там и прожил жизнь с Дарьей Трацевской. Состарился и тихо умер. У дочерей Адама — своя судьба. Агата вышла замуж за Еленского. И жила с ним в любви и согласии, в Степянке под Минском. Анюта и Маня повторно вышли замуж в Шелковичи, под Шатилками (сейчас — Светлогорск). Анюта прожила 83 года. Перед смертью говорила мне: — Маня — моя самая любимая сестра. Чтобы мы с ней когда поругались? Никогда! Всю жизнь — вместе. Дня не проходило, чтоб не встретились, не поговорили. Она была моим самым верным другом в жизни... Это и есть моя Мама — Маня, Мария Адамовна. 5 Зарязаряница! Благодарю тебя, что разбудила меня, усадила к столу и дала в руки перо. Отче Небесный, просвети разум мой и сердце мое, и уста мои открой. Помоги, Отец, и сегодня встретиться с Мамой, услышать ее голос. О! Светлеет небо за каменными домами. Величественно встает солнце. Вижу на небе легкое облачко. Это — моя Мама! — Здравствуй, родная! Облачко тихо плывет в светлом небе. Приходят новые воспоминания... Мы живем в лесной землянке. Такая яма в земле. Сверху прикрыта плахами, ветками, дерном, иглицей. Одним словом, нора, как у лисицы. Берлога, как у волка. Немцы заставили жить шелковцев, словно тех зверей, в лесу. Завоеватели, черт бы вас побрал! Приперлись, чтобы сжечь наши хаты. Чем провинились мы перед вами? Чем нас Мама тогда кормила — один Бог знает. А вот как лечила — немножко помню. Напала на нас, детвору, чесотка. Что делать? Мама послала отца к партизанам. Обул он лапти, взял посошок и пошел искать защитников. К утру вернулся с ведерком какойто мази. Ею колеса в телегах смазывали, чтобы не скрипели. Мама и давай нас раскрашивать той чернотой. И я побыл тогда негритенком. Бегал нагишом от землянки к землянке, пугал людей. Помню, беззубая Пилипиха крестилась, божкала, топала ногами, пряталась от меня... Мама терпеливо несла свой крест через всю войну. Своим теплом согревала нас. Лаской кормила. Придумками лечила. Верой своей возвышала. Ты в сердце моем, Мама! 7 Боженька сдувает с неба последние снежинки. Они, редкие и маленькие, неохотно опускаются на землю. Словно понимают, видят, что земля уже черная, слегка разомлевшая, — наступает весна. Все чаще на небе господствует солнце, разгоняет холодные космы туч. Смелее заглядывает людям в глаза, обнадеживает: радуйтесь, грешники, Бог дает вам новую весну. Пришла желанная пора года. 6 Мама родилась от Адама и Пелагеи Янушевских. Люди эти, как и божьи ослушники Адам и Ева, добывали хлеб потом своим. Арендовали землю у 3 шагивающего следом в красных сапогах, возможно, озабоченного не столько тем, чтобы лягушку поймать, сколько подзадорить косца. Боже, какая гармония в природе! Под высоким небом в деревне Великий Лес росла моя Мама. На красивой земле выросла и расцвела красивым цветком. Смотрю на фото с надписью: «20 августа 1917 года». На нем увековечены великолесские девушки — Анюта, Маня и Ольга. Три сестры. Три земные розы, божьи посланницы. Посредине моя Мама. Ей — девятнадцать. Еще не замужем. Светлое, длинное до самых сапожек платье подчеркивает стройную фигурку. Белый вязаный воротничок. Прическа короткая, с гривкойзавлекалочкой на лбу. Личико чистое и нежное. Губки бантиком. А глаза! Да это же два родничка, от которых не оторваться... Когдато рассказывала об этом снимке тетя Анюта: — Мы ходили гулять на фэст в Стрешин. Там и сфотографировались. Как раз Благовещенье было. Мама твоя такая танцорка, из круга не выходила. Ох, и красавица была, словно выточенная вся. Щечки розовые, личико нежное. Многие парни сватать хотели, но родители выдали за богатого... Сегодня, когда пишу эти строки, как раз Благовещенье. Люди снова празднуют день Божьей Матери. Она уснула сном земным, но осталась живой, вознеслась к престолу Божьему. Она оставила нам такую заповедь: «Что бы ни сказал Христос, исполните. Пойми, каждый из нас, слово Христово; вслушайся в него и исполни. И тогда все земное станет небесным, вечным, переиначенным...» Моя Мама прошла по жизни с этим заветом. Она для меня — святая. Я очень люблю весну, как и свою Маму. Мне всегда кажется, что Мама — сама Весна. Она не помнила своего дня рождения. Говорила: «Родилась между Благовещеньем и Троицей». А это и есть пора пробуждения природы. Когдато святой ангел сказал земной деве Марии, что она станет Матерью Божьей. Хорошая новость и стала днем Благовещенья. Такой мне представляется и новость в семье Янушевских, когда появилась на Божий свет Мария — прекрасный человеческий цветок. Ее день рождения стал праздником для всех Янушевских, для самой Марии. А позже и для меня, ее сына. Троица — знаковый праздник. В наших Шелковичах он всегда был желанным, престольным, с общим гуляньем. Вся деревня ждет этого дня. Выскребают полы, моют окна, снимают паутину, подметают дворы. В хату приносят кленовые ветки. Втыкают их возле божницы, над дверями, окнами, за рамки с фотографиями. Мама во всем этом была заводилой. Все уже устанут, улягутся спать, а она продолжает колдовать возле печи. Варит. Парит. Жарит. Печет. Утром — все за богатый, щедрый стол. Присядет к столу и Мама. Пригубит из рюмочки самогона. Светло улыбнется. — Ешьте, что Бог дал. И, кажется, нет для нее большего счастья, чем хороший аппетит своего Степы и деток — Клавы, Пети, Любы, Коли, Володи да Лиды с Мишкой и Шуриком. Как же не поверить в то, что моя Мама Мария родилась между двумя божьими праздниками — Благовещеньем и Троицей?.. 8 9 Из далекого прошлого слышу мамин голос: — Была своя земля и горевали на ней от темна до темна. Да, земля была для Мамы школой и университетом, учителькоймучителькой. Верю: именно земля научила Маму жить — корову доить, овец стричь, огурцы выращивать — век в трудах, век в мозолях. Верю: земелька — это божье творение, высота небесного полета. Кто трудится на ней — и поэтичен, и богат душой. Присядет жнея воды глотнуть, а вокруг птицы поют, колосья шелестят, солнышко ласкает лицо. Воткнет косец косу, чтобы пот смахнуть, поведет глазами вокруг — вот они, зеленые прокосы, зеленый лес за сеножатью. Полюбуется на аиста, вы- Луна на небе. В городе она бледная. Теряется среди фонарей, высоких домов. В городе небесное светило словно лишнее, искусственное, бутафорское. В деревне Луна — хозяйка. Выйдешь из хаты, она первой тебя встречает, приветствует. Идешь за хлев — тропинку показывает. Идешь на гулянье — провожает. Сидишь с девушкой на скамеечке — она свидетельница... Ясная Луна в небе, высокий хоровод звезд вокруг нее — под этой Божьей крышей прошла жизнь моей Мамы. Может, поэтому она и была такой щедрой? 4 10 Боже праведный, как мне описать сто лет моей Мамы, как нарисовать ее образ? Подскажи, Господи, дай краски и слова, оживи память, вдохнови. А пока что я беру чистый лист бумаги, включаю компьютер души и записываю, восстанавливаю в памяти прожитые когдато мгновения... В деревне Великий Лес я был дважды. Первый раз гостил бездумно, легко. Молодой квас ходил в голове. Помню танцы в клубе. И особенно — кадриль. Танцевали ее в несколько «колен», с притопом, с пристуком, залихватским кружением. До семи потов старались танцоры. Но и это еще не все. Музыканты без устали наяривали то падеспань, то польку, то фокстрот... Дрожит деревянная хоромина. Стонут половицы. Гуляют великолесцы. А в перерыве между танцами все вываливаются в объятия лунной, звездной ночи. Здоровый хохот рвется в небо. Ктото приносит яблоки. Все хрустят сочными плодами. Радуются все, радуется сам хозяин. Такие вечеринки — как память о моей Маме. Она ведь когдато «из круга не выходила». А во второй приезд в Великий Лес меня уже принимали уважительно. За столом. С рюмкой. Водили в березовую рощу. И там мы в охотку резали боровики. Те боровики, о которые я спотыкался когдато возле каждой березы, — на всю жизнь. Я хотел знать, где стояла хата, в которой жили Янушевские. Хотел побольше узнать про деда, про бабу, про их род. Но молодые сельчане чаще всего пожимали плечами. А стариков не было — они уже переселились на молчаливый погост... Теперь прошу, молю своих детей, чтобы не опоздали порасспросить свидетелей старины о своем родоводе, о жизни в те времена. Как без этого идти в неизведанный мир?.. 12 Просыпаюсь от прикосновения маминых губ: — Сынок, Христос воскрес!.. Вставай... У Мамы — гладко зачесанные волосы с заколотым в них гребешком. На ней блузка в цветочки и зеленый джемпер. Спросонья не могу сообразить: почему Мама такая праздничная? Когда ложился спать, она скребла полы, топила печь. — Сынок, праздник сегодня большой — Великдень... Отец нахохленный. Сбрил седую щетину. Подкрутил усы. В белой рубахе, новых штанах, сапоги скрипят. И он христосуется со мной. Настежь распахивается дверь, и слышится голос старшего брата, Петра: — Мама, Христос воскрес! Он громко чмокает Маму. Обнимаются с отцом. Знаю, не пропустит и меня. При нем не улежишь в постели: мячиком вскакиваю и сам бросаюсь в его объятия. — Наливай, отец! — командует Петро, и мы все, даже я, видим, что он уже «похристосовался» дома, со своей Диной. Боже! А на мамином столе — море вкуснятины: копчености, колбасы, сыры, грибы, пироги, красные яйца... Петро без особого приглашения, как у себя дома, садится в красный угол. Рядом садится отец. Мама тем временем шепчет мне: — Умойся красным яйцом. Щечки целый год розовые будут. Она подводит к небольшому корытцу. Там вода из колодца, а в ней — красное яйцо. Мама учит: — Бери, сынок, яйцо, потри им личико, руки. Умойся холодной водицей... Вот и я уже за столом. И мне наливают в стакан какогото кваса. Маме, по ее просьбе, одну каплю мужского напитка. Чокаемся, христосуемся... Не успели все перепробовать за маминым столом, Петро за шапку и тянет всех к себе домой: — Пойдемте, а то Дина мне выдаст по первое число. Она ведь послала за вами... Идем за Петром. 11 Русский художник Иванов свою картину «Явление Христа народу» писал более двадцати лет. Она притягивает, завораживает, от нее нельзя отвести глаза. На огромном полотне — люди, деревья, горы, пустыня, небо. На переднем плане — верующие, старые и молодые. Среди них — Иоанн Креститель с руками, воздетыми в ту сторону, откуда появляется Христос. Издали к людям идет Он. Спокойная, неторопливая поступь. Взгляд добрый, проникновенный и строгий. С его уст вотвот сорвутся слова: «Я — Сын Божий, беру на себя все грехи земные!..» Сам художник говорил, что он написал не просто картину, а передал в ней одну минуту жизни, с которой начинается день человеческий... Над одной «минутой» художник работал более двух десятков лет! 5 И у него стол накрыт, ломится от еды и питья. Потом всем кагалом идем к Лиде, моей старшей сестре. Она родная только по Маме. Безмужняя. Живет с осиротевшими Мишей и Шуриком. У нее и стол немножко беднее. А может, это кажется, потому что мы за это пасхальное утро уже два раза угощались? Целый день волочебятся шелковцы. И мы, лапташи, среди них. И самая веселая из нас — Мама. Только теперешним умом понял всю ее доброту. Целый день вымывала, выскребала, выпекала, варила, парила, чтобы в хату пришло Божье свято. Неутомимая труженица, она и в праздничный день показывала, как нужно радоваться, отдыхать, ценить дарованный Богом свет. Спасибо, Мама, за науку, которая согревает сейчас и меня, и всю семью мою — жену Нину, сына Игоря, дочь Марину, невестку Таню, зятя Леню и внуков Антона, Машу, Толика. В архивах Сведской церкви — а деревня Сведское от хутора Добужа всего в трех километрах — я нашел документ, свидетельствующий, что первый мамин муж Михаил Николаевич Короткевич родился 5 ноября 1883 года, записан в церковной книге под № 44. Его крестили: из хутора Дедно Михаил Братковский и сестра Дарья, девица. Священник — Александр Кветковский, псаломщик — Федор Смародский. Михаил Короткевич утвержден во дворянстве 25 февраля 1900 года. Выходит, первый мамин муж был старше ее на семнадцать лет. С единственной фотографии, доставшейся мне по наследству, смотрит в сегодняшний день симпатичный человек. Курносый, с усами, остро закрученными вверх. Костюмтройка, белая рубашка, широкий галстук. На голове — высокая фуражка служащего со значкомкокардой. Взгляд смелый. А как же — дворянин Бобруйского уезда! Хутор Добужа километрах в десяти от деревни Великий Лес. Мамино свадебное путешествие было недальним. Через деревни Кабановку, Отрубы, через реку Березину. И замужество было коротким. Родила Лиду. А когда дочери исполнился год и два месяца, муж умер. Работал на реке. На черпалке. Заболел тифом... 13 У Мамы было три фамилии. Девичья — Янушевская. В первом замужестве — Короткевич. Во втором — Липская. Все три фамилии — глубоких корней, дворянские, далеких и знатных родов. Мама об этом мало знала. А может, не хотела знать? Время было такое, время шариковых и им подобных, а у них разговор короткий: буржуй, пан, кулак — контра. К стенке! В том штормовом семнадцатом году для моей Мамы окончилась девичья вольница. Осенью от испанки умерла ее мама Пелагея Ивановна КороткевичЯнушевская. За свои сорок пять лет жизни она только и знала, что рожала детей — Миколу, Аню, Агату, Маню (моя Мама!), Павла, Юзика, Любу... На похороны Пелагеи приехали в Великий Лес ее дядья Короткевичи — Андрей, Николай, Иван. Все они жили на хуторе Добужа. Имели триста десятин земли. Говорят, Иван Короткевич был депутатом Государственной думы, часто ездил на заседания. Невысокого роста, рыжий. Со своей женой Еленой — и певуньей, и человеком очень верующим — заимел двух сыновей и семь дочерей. Среди них и Пелагея, моя бабушка, мамина мама. На похороны Пелагеи съехались ее родные и двоюродные сестры и братья. Один из них, Михаил, сын Николая Короткевича, ходил в звании старого холостяка. Вот его и сосватали с Марией Янушевской. 14 На лесных просторах Беларуси деревенька Добужа представляется мне таежным тупиком. Рядом с ней — несколько лесных озер. И сегодня в них бьют хвостами сомы, щуки, лини, плотва, караси, окуни. В километре от деревни — река Березина, в которой когдато промочил сапоги и потерял награбленное золото Наполеонзавоеватель. Вокруг Добужи — зеленые луга, грибные боры, ягодные поляны. Здесь на дубе всегда гнездится и выводит потомство аист. В болотных зарослях водятся волки. Над Добужей самое высокое и самое звездное небо. О Добуже запомнил мамины рассказы, воспоминания. Любила рассказывать, как однажды заглянул к ним польский отряд с пшеканьем и гонором, грозились остаться в Добуже на веки вечные. Но вскоре шапки в охапку и ходу в свою хваленую Польшу. Это, как сейчас понимаю, была польская оккупация, которую предпринял после революции «начальник государства» Юзеф Пилсудский. В Добужу наведываюсь и теперь. Получилось так, что моя сестра Люба вышла замуж за добужанина Ивана Корбута. Мы с Мамой 6 7 16 были первыми, кто заглянул к молодоженам. Угощали нас рыбой. На столе она была и жареная, и сушеная, и вяленая, и вареная. А еще запомнилось, что Добужа, может, самая маленькая деревня в мире. В ней и теперь семь хат. В Добуже у Мамы были первые роды. Бывал я там и теперь бываю. Но всего больше запомнился один поход в Добужу. Вскоре после того, как сестра Люба вышла замуж, я уговорил Женьку Сытько — мы с ним только что окончили первый класс — и мы, никому не сказав, рванули в Добужу, в гости к моей сестре. А дорога — по лесам, болотам, полям. Дорога в десять километров. И что вы думаете: пришли, нашли нужную хату. А Люба, помню, не обрадовалась, а стала плакать и причитать. Она одна знала, что переживает сейчас Мама, как она бегает и ищет своего Володьку по всем Шелковичам. Поздно вечером Мама прибежала в Добужу. Обняла меня и заплакала навзрыд. В моей душе и сейчас зовом зовет ее тревожный голос: «Сыночек!.. Любимый!.. Почему ж не сказал, куда идешь?.. Родненький, испугал до смерти...» Я и теперь ношу эту свою вину и думаю, может, это изза меня Мама так долго болела перед смертью. Вспоминаю Бога, прошу у нее прощения. И всех заклинаю: никогданикогда не обижайте своих матерей!.. От одной из сестер — то ли от Лиды, или от Клавы, или Любы — слышал не однажды и глубоко запрятал в памяти такое признание: — Маму обижали в Добуже... В это легко поверить. Мама вышла сюда замуж не по любви, а по договору родителей. Тогда крепко держались старой заведенки: если жениться, то брать из своего круга, из своей «пещеры». Вот и вытолкнули бедную за старого и больного Михаила Короткевича. Легко представить, как на нее косились богатые свекор со свекровью после того, как Мама овдовела. Им нужен был батрак на земле, а молодая невестка сидит с малым ребенком. Корми, подавай готовенькое из кадки, из дежи, из сундука... Моя терпеливица, качая Лидку, напевала ей грустную колыбельную: «Спизасыпай, любимая доня, осиротели мы так раненько, кому мы нужны, кто за нас заступится?..» И вот приходит в Добужу заступник Степан Липский. Статный, широкоплечий. Кудрявый. Усатый. Понюхал пороха в Первую империалистическую. Женился. И очень рано овдовел. Так, на обоюдном горе и сошлись мои родители — Мария и Степан. Их, как сейчас понимаю, соединила еще одна повязь. Мамина мама Пелагея была в первый раз замужем за Липским из деревни Михайловское. А Степан Липский брал первую жену Варвару Братковскую из деревни Великий Лес. Братковские жили напротив Янушевских, в семье которых росла моя Мама. Вот такая «родственная мафия» и соединила их. Степан Липский жил в деревне Шелковичи. Дорога, лесная и болотистая, из Шелковичей в Великий Лес лежит через Добужу. Как раз посередине. Проезжая той дорогой в сваты к Варваре Братковской, в гости к ее родителям, Степан, конечно же, знал о Мане ЯнушевскойКороткевич. Потому и «положил глаз» на нее, когда она овдовела и когда сам стал вдовцом. В Добужу Степан пришел примаком. В Шелковичах, где жили его родители Янка и Прасковья Липские, ему места не было. Жена умерла во время родов. Умер и ребенок. Своей хаты не заимел. А в отцовской — без него двенадцать ртов. Но очень скоро Степан понял: примачий хлеб — собачий. Крутой и волевой характером, он не умел прислуживать зажиточным Короткевичам. Однажды попросил у них телегу, погрузил Манины пожитки, свой столярный, бондарный, плотницкий инструмент. Взял на руки детей: Лидкупадчерицу и Клавку — родную, которую нажили в Добуже, и покатили в Шелковичи. 15 Мама! Кричу во сне, когда вижу чтото страшное, неприятное. Мамочка! Зову на помощь, когда сижу в лодке на Нарочи и, бывает, подцепится на крючок тяжелая рыбина. Мамочка родная! Вырывается из груди, когда неожиданная радость охватывает мою ранимую душу. Дай совет, Мама, как жить и терпеть, как дружить и радоваться? Подскажи, любимая, как в нашем чернобыльском свете сохранить здоровыми детей, внуков?.. Молчит моя святая. Ласково смотрит с фотографии. На ней — платочек с узелком под бородой. Лицо чистое, благородное. Глаза излучают нежность. И только гдето далекодалеко, может, на самом донышке души чувствуется тревога: «Ох, сынок, да хранит тебя Бог!» Вот и исповедался перед Мамой. Верю, будет более легким тяжелый понедельник. 8 Шелковичи и стали пожизненным пристанищем Степана и Марии. Здесь строились и горели. Здесь пустили в люди Петю, Любу, Колю и меня, Володю. Сами здесь свековали свой век и сейчас рядом спят вечным сном на шелковском кладбище. Маминых колыбельных не помню, не знаю. А в читанке Коласа, из которой Мама рассказывала сказки, есть колыбельная песня. ЕйБогу, верю в то, что ее пела мне моя Мама: ...Што цябе чакае, сын? Што твая за доля? Мо, як бацька, будзеш ліць Пот у чужое поле?.. А мо пойдзеш у школу ты, Будзеш чалавекам: Без вучэння кепска жыць Гэтым трудным векам!.. Кінеш матку, па чужых Ты па людзях пойдзеш, Мо на шчасце нападзеш, Долю сваю знойдзеш. Ўспомні матку ты сваю. Як цябе люляла, Як табе у ноч не раз Песню я спявала... Аа! аа! Мой сынок! Аа! аа, мілы! Ой, не плач ты, не крычы, Набірайся сілы! 17 Маминых колыбельных не знаю. Нянчили, ухаживали за мной старшие сестры, братья. Ктото из них, не помню кто, признался что изза меня получил хорошую порку от отца. Так баюкал, так люлял, так раскачал люльку, что я мячиком вылетел из нее. Думаю, реву дал хорошего. Какникак полет из люльки на сосновый пол не для маленьких. Маминых колыбельных не помню. А в памяти вот что. Мы, дети, на печи. Мелочь и постарше. Все развесили уши. Слушаем мамин рассказ: «Однажды хлопцы из деревни подбили Апанаса пойти ночью на кладбище. Говорили: «А ты не забоишься?» Смелый Апанас в ответ: «А вот не забоюсь!» — «Тогда вот тебе молоток и гвоздь, забей его в крест». Нехотя поплелся Апанас на кладбище, что было, как и у нас, за селом. Черная ночь кругом. За полем — лес, а в нем, на опушке — кресты, могилы. Идет Апанас. На кладбище тихо, как в гробу. Но ведь поспорил, надо идти, а то засмеют. Пристроился Апанас к одному кресту и стал забивать гвоздь. Забил, а сам с места сдвинуться не может. Кровь прилила к голове: «Боже, ктото держит за одежду!» Закричал не своим голосом: «Спасите!..» Подскочили к нему хлопцы, незаметно следившие за ним. Подходят ближе и видят: Апанас в страхе нечаянно прибил к кресту полу своей свитки... Вот что, дети, бывает, когда человека страх встретит...» Эту притчу, почти так, как рассказывала Мама, я прочитал однажды в книге Якуба Коласа «Другое чытанне для дзяцей беларусаў». Учебник напечатан в 1909 году. Маме тогда было одиннадцать лет. А брат ее отца Янка Янушевский ходил по деревням, учительствовал и мог иметь эту редкую книгу. По ней училась его племянница Маня, моя будущая Мама. На сердце легли ее давнишние слова: «Училась я, сынок, всего две зимы, когда снег лежал. А весной, летом, осенью дневали и ночевали на земельке. Потом добывали хлеб, не до ученья...» Ну и память у Мамы! Две зимы училась, а через сорок лет нам, детям, рассказывала сказки, басни, стихи. И что удивительно — почти дословно, как в книге. 18 Сижу за письменным столом. Горит лампа. За окном барабанит дождь. Гудят машины. На крыше цирка, которая хорошо видна мне с седьмого этажа, воркуют голуби. Пробегут друг за дружкой. Поцелуются клювиками. Вот и договорились... Просыпается Минск. Поднимаются из теплых кроватей влюбленные. Встают из холодных постелей овдовевшие и осиротевшие... А я на крыльях памяти и любви лечу в свои Шелковичи. Да на этот раз не долетел. В дверь тихо поскреблись, и на пороге — Маша. — Внученька, почему не спишь? — Хочу с тобой поиграть. Беру на руки, прижимаю к груди дорогой комочек. Ластится, просит: — Расскажи сказку. И я начинаю: — Жилабыла Мама. Звали ее Мария. Однажды она родила мальчика Володю. Рос, рос тот мальчик и вырос. Женился на девушке Нине. И пошли у них свои дети — Игорь и Марина, а у детей — дети Антон и Маша... — Это сказка про нас? — удивилась Маша. — Про нашу семью, Машенька... 9 Показываю внучке фотографию моей Мамы. Она долго всматривается в нее. Потом бантиком розовых губок поцеловала мою Маму, свою прабабушку. Растрогала меня Маша на целый день. Расти, девочка, и стань мамой, о которой ктото захочет написать свою молитву... 19 О святом Юрии, божьем посланнике, писанопереписано. А в волочебных песнях есть напоминание, что именно с Юрья идет отсчет христианских праздников: А у той царкве прастол стаіць, За прастолам сам Бог сядзіць. Каля Бога усе празнічкі — Катораму ўперад ступіць, Першы празнік — святы Юр’я... Говорят, жил в начале новой эры мужественный Георгий Победоносец. Служил и веровал во Христа. За героические поступки церковь канонизировала его как святого великомученика. И народ признал его. В день 6 мая, когда погиб святой Юрий, Юрай, Юрья, Георгий, Егорий, Мама родила меня. Сегодня как раз этот день. И я, пока все в квартире спят, слагаю утреннюю молитву: «Моя светлая мученица, моя солнечная терпеливица! Нелегко дался тебе последний поскребыш. Всех детей рожала в своей хате, а меня в казенном роддоме, под присмотром акушерки. В тот день в Шелковичах выгоняли коров на пастьбу. Просили Бога: чтоб кормилицы были здоровы и принесли приплод, чтоб уберег поля от града, чтоб послал весенние росы на урожай. А Мама рожала меня в Горвале, в сельской лечебнице. Был понедельник — трудный день. Мама родная! Ты сделала для меня понедельник пожизненным праздником. В этот день не живу — летаю. Светло думается. Хочется работы, встреч, радости и слез. Я пожизненный твой должник, Мама. Я вечный твой любимец, Мамочка. Ты в сорок два года отважилась на подвиг. Если б ты знала, родная, как я благодарен тебе, что дала мне возможность познать наивысшие человечес кие ра до с ти и по чув ст во вать на слаж де ние жизнью. Мама! Склоняю перед тобой заснеженную голову. И молю Бога, Отца Небесного, чтобы наградил тебя вечным счастьем и покоем. Молюсь твоей великой любви, Мама, которой ты согревала в дни радости и в дни болезни. Может, потому часто просыпаюсь ночью и светло думаю о тебе, вспоминаю, как ты сидела надо мной, изболевшимся, согревала дыханием своим и нежно прижимала к себе. Мама! Ты высоко в небесах. И очень близко — в моей душе, в моем сердце. И эта повязь никогда не прервется. Молю детей и внуков, чтобы и они навсегда сохранили в памяти твой благословенный образ. Терпеливо и долго жди нас в своем высоком царстве, ибо кто же тогда будет творить утренние молитвы о тебе на грешной и святой земле? Чистая и святая Мария! Благослови меня, твоего наименьшего. Избавь от бед и спаси. Смилостивись над теми, кто завидует мне и кто обижает меня. Дай силы, веры, любви и здоровья моим домашним и всем белорусским мученикам. Защитница моя любимая! Боготворю тебя и безгранично люблю сегодня, в день святого Юрья, всегда и во веки веков. Аминь». 20 Вспоминаю: идем какойто лесной дорогой. На деревьях и кустах — молодая, шальная зелень. Птицы наяривают восторженные гимны. На чистом небе — веселое солнце. Мы возвращаемся из болотных укрытий в свои сожженные Шелковичи. На пепелище, где стояла наша хата, я заревел: — Где мои игрушки?.. Мама взяла меня на руки, присела на обгоревшую колоду, стала успокаивать: — Не плачь, сынок, разживемся, будут у тебя еще лучшие игрушки... Сбылись мамины слова. Сейчас у моих внуков, минчан, столько игрушек, как в хорошем магазине. А у меня лично — музыкальная лошадка из Америки, кукла, кивающая головкой, из Китая, смехунчик на батарейках из Германии, панно из рисовой соломки из Кореи, балалаечка их Хорватии, книжкираскраски из Дании, заводная обезьянка из Мексики, свисток из Бельгии, Колосок и Калинка из Автюков... Забавляюсь с игрушками, а сердце плачет, что не могу похвастаться ими перед моей Мамой. 10 21 Мой племянник Миша Сытько иногда подтрунивает надо мной: — Молокосос. А я, дядя его, не обижаюсь. Получилось так: моя Мама и дочь ее Лида вместе вынашивали под сердцем детей. Лида была уже замужем за Сытьком из Старины. Мама «ходила» шестым, Лида — первым. Маме — сорок два, Лиде — двадцать один. Представляю, идут вместе кругленькие мать и дочь. Редкая красота! Представляю, сидят гдето в спальне и секретничают, доверительно и на равных. Представляю, Лида родила Мишку, мой племянник сосет грудь и тихо посмеивается надо мной, дядей, который еще сидит в мамином животе. Если я молокосос, то ты выскочка. На два месяца раньше дяди выскочил на свет. Над этим всегда шутим при встречах. И сейчас, поседевшие, если берем по рюмочке, то одну из них — за наших мам, рядом покоящихся среди сосен за Шелковичами. Мишу мне пожизненно жаль. Еще мальцом в Старине нашел мину. Игрался с ней, пока не рванула. Раны зажили, а в речи остался дефект. После войны жили в Шелковичах. Напротив нашей, через улицу, стояла их хата. Миша учился и работал на волах. На мельницу ездил, снопы возил, дрова таскал для колхозной кормокухни. Высокий. Красивый. Добрый. Сильный. После школы учился в Новопольском сельскохозяйственном техникуме. И я, на правах дяди и друга, посещал его. А в армии Миша служил танкистом. И вся жизнь — в деревне, в Пуховичском районе. Был и заместителем председателя колхоза, и парторгом, и диспетчером. Женился. Учительницакрасавица Светлана родила и вырастила ему сына и дочь, а сама умерла. Рано умер и его младший брат Шура. Умерла и мама Лида. Жаль мне Мишу. Сироты мы с ним. А при каждой новой встрече обнимемся и улыбнемся. Он обзовет меня «молокососом», а я его — «выскочкой». 22 Пишу, вспоминаю о Маме только по утрам. На восходе солнца. Это мои утренние молитвы. У окна стоит мой письменный стол, и я ежедневно вижу, как на небосклон выкатывается солнце. Момент торжественный, Божий. Как бы сам Владыка восседает на троне, яркой свечкой освещает земные просторы и говорит: «А ну посмотрю, что мои человеки делают, чем занимаются!» Но, видимо, каждый раз разочаровывается Владыка. Дрыхнут его посланцы на земле. Мало кто видит восход солнца. Мало кто молится новому дню. Может быть, отсюда все несчастья, все беды?.. Мама моя Мария восход солнца встречала каждый денечек. Идет с подойником в хлев. Ноги росой омоет. Приостановится возле калитки, бросит взгляд на огород, а за ним, меж дубами — солнце на троне. Перекрестится. И зашевелятся уста: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Боже, будь милостив ко мне, к моим деткам, моей хате. Помилуй нас, Господи Иисусе. Слава Тебе, Утешитель, Сущий и Всемогущий. Приди и вселися в души деток моих. Очисти нас от всякой скверны, прости прегрешения наши. Посети нас и исцели немощи наши имени Твоего ради. Отец наш Небесный! Хлеб наш насущный дай нам днесь и не введи нас во искушение, и избави нас от лукавого. Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь.» Я не слышал маминых молитв. Вслух она их никогда не произносила. В церковь не ходила. Они, молчаливые мамины молитвы, теперь сами отзываются в моей душе. Каждое слово, как удар сердца. А когда сердце бьется, оно живет. Спасибо, Мама, что и сегодня разбудила на восходе солнца. Низкий поклон, милая, что по каналам памяти, через Млечный Путь передала мне свою утреннюю молитву. Буду встречать ею каждый новый день своей жизни. 23 Никогда не слышал, чтобы Мама говорила о Сталине, Ленине, Хрущеве, о властях, об их мудрых решениях и глупых выходках. Запомнил только ее лицо, когда в хату заходил страхагент. После войны в такой бедности жили, а он, сытенький, с портфелем до пят вкатывается в хату и начинает жилы тянуть. Плати налоги за сотки, за деревья в огороде, за теленка, поросенка, за курицу. — А чтоб вас холера взяла, — однажды не выдержала Мама, когда районный выскребайла стукнул дверью. Обычно Мама тихо сидела в запечке и наблюдала, как отец за столом разбирался с агентом. Тол- 11 стыми пальцами пересчитывал рубли, словно отрывал от себя лоскуты кожи. Взамен этих мозольных денег пузатый чиновник давал отцу квиток, маленькую бумажку, из которой даже хорошей папиросы не свернешь. Мама в это время смотрела в какуюто свою даль и напряженно молчала. О чем думала? Теперь, с высоты лет, мне кажется, Мама обращалась к заступнику небесному, просила, чтоб на всей земле и в Шелковичах воцарилась справедливость, чтоб хищники стороной обходили ихнюю хату и двор, где подрастают дети. Маминой политикой были мы, дети. Чтобы не голодали. Чтобы было чем тело прикрыть. Чтобы, не приведи Господи, не выросли лодырями. Чтобы не разбаловались. Чтобы стали людьми. Как бы мне хотелось сейчас припасть к ногам Мамы. Не хватило ума сделать это, когда она была живая. Жаль, не успел... 24 Мамины уроки ясны и просты. Вот собирает меня пасти корову. Дает бурки с бахилами, чтобы ноги не промочил. На плечи набрасывает свой праздничный плюшевый жакет, чтобы не замерз. На голову повязывает сестринский платок от мошкары. А наверх — шапку, чтобы не простудился. Перекидывает полотняную сумку через плечо. А в ней — ломоть хлеба, кусочек сала, бутылка молока. Чтобы не проголодался. Дает лозовую хворостину и говорит: — Смотри, сынок, чтобы Красуля в колхозное не забралась, чтобы на чьи сотки не зыкнула, чтобы в лесу не потерялась. Хорошо напаси, чтобы полный подойник молока дала... — Хорошо, Мама! Мне нравилось, что мне доверяли взрослое дело. Это возвышало меня над деревенской малышней. Мне нравилось, что Мама собирала меня на работу так же, как отца, старших братьев, сестер. Только, думаю теперь, где они все были, что мне приходилось пасти эту непослушницу. Она же, как почувствовала за деревней волю, как увидела неказистого пастушка, так и давай показывать свой норов. Раз — и уже возле Мищукового огорода. Мчусь наперерез, аж сумка срывается с плеча. Отогнал от огорода, а корова лесной опушкой уже направляется к Дубраве, там колхозная картошка. Забегаю вперед, грожу хворостиной. Взмокрел, сел на пенек. И Красуля успокоилась, шинкует и шинкует траву на зеленой лесной тропинке. Так аппетитно, что и мне сала захотелось. Только открыл сумку, птицы окружили, белочка спустилась с ели. О горе мне, сколько едоков на дармовщину! Пока ел, глядь — корова пропала. Бегаю тудасюда, а ее и след простыл. Нашел уже возле Задиреевского сенокоса... На закате возвращаемся домой. Красуля, сытая и спокойная, не спеша перебирает ногами, лениво помахивает хвостомметелкой. Идет по тропинке, ведущей прямо к нашему двору. А я еле плетусь за ней. Тяжелые бахилы, словно гири на ногах, мамина жакетка кажется чугунной, а хворостина — железным прутом. — Мой ты пастушок, — бросается Мама ко мне, целует. — Помощник мой золотой... Загнала корову в хлев, а меня повела в хату. Раздевала и расспрашивала. Я рассказывал, как трудно было с коровой, а Мама повторяла одно: — Золотой мой... Любимый мой. Вот и дождались от тебя помощи... Мама усадила меня на печь, дала всего вкусненького, что было в доме. И даже магазинных конфетподушечек. Вечером, когда собралась вся семья, только и разговоров было обо мне, пастушке. Меня возвысили и оценили. И я поверил, что не такой уж я и маленький. Пора в школу!.. 25 Неприветливо сегодня начинается день. Словно лукавый захмурил небо, не хочет отпускать ночь. Упирается, старается закрыть зарю серой куделью. А я проснулся в хорошем настроении. Потому и беру для воспоминаний веселые краски. Беру красную и желтую, смешиваю. Получается не огненная, как гребешок у петуха, а теплая, солнечная. В этот свет и перекидывается мостик памяти. Сентябрьское утро 1947 года. Солнечное небо. Таинственно и празднично на душе. Мама ведет меня в первый класс. Школа тогда была в Левковой хате. Это, как выйдешь от нас, надо пройти усадьбы Трацевских, Павловичей, Марковых, Козырей, Бабичей, Новиков, Бельских. Вот ты и в школе. Не помню все свои наряды в этот день. Но на всю жизнь осталось в памяти, что на ногах были лапти. Отец сплел их из лыка. Ободрал липку на лапти для первоклассника Липского. Лапти из лыка плелись на выход в люди, для вечеринок. Это тебе не лапти из лозы. В тех только коров пасти, сено косить. Они быстро чернеют, 12 13 рвутся ушки. А лапти из лыка беленькие, поскрипывают при каждом шаге, как сапоги у пана Быковского. Рассказываю сейчас своим детям, Игорю и Марине, что в первый класс пошел в лаптях, — не верят. А в тот год пережили мы большой голод. Весной собирали в поле мерзлый картофель, пекли из него оладьи. Из желудевой муки замешивали хлеб. Из лебеды и крапивы варили супы. Не до нарядов было, только б выжить... И вот идем с Мамой пыльной улицей. Меня прямо распирает от радости. Воробей чирикнет, и я свистну ему в ответ. Петух закукарекает, и мне хочется кукарекнуть: привет, дорогой! В своем дворе тяжело закашляла Аршулька Бельская, и я закашлял, передразнивая. Тут уж Мама остановила меня: — Что ж ты делаешь, сынок?.. Разве можно над стариками смеяться?.. А если учительница об этом узнает?.. И я замер. И понял, что отгулял свое, детство прошло. Пора отвечать за свои «коники». Учительница Александра Леоновна многому научила меня: писать буквы и читать книжки, считать и рисовать, декламировать и петь. А мамин урок — зарубка в сердце на веки вечные. Уважай старость. Не смейся над немощными. Помоги слабому. Маминой наукой укрепляю свою душу. 26 Господи! Если ты всемогущий, оживи мою Маму. Пусть увидит, как плачу о ней. Пусть полюбуется весенней красотой. Пусть с высоты своей святости осудит матерей, которые в поисках легкой любви забывают о детях своих, бросают их на мусорках... В Могилевский детдом сдали двух изголодавшихся мальчиков. Мать держала их в загородке в сарае, как животных. Иногда бросала куски хлеба. Изредка ставила миску с баландой. Сама же в дикой безудержной страсти крутила «любовь». Мальчики не знали, что такое нарезанный хлеб. Им отламывали куски от буханок. Их учили есть вилками, ложками... Мама дорогая, слышала ли ты о таких издевательствах над родными детьми? Знала ли ты, что есть такие озверевшие матери? Думала ли ты, что так очерствеет мир? А мне, Мама, в этом очумевшем «танце» жизни светло и уютно. Живу твоей наукой, родная. Проникаюсь твоей простой мудростью. И очень хочу, чтобы все это переняли мои дети и внуки. Учу их даже кушать, как когдато ты меня учила: — Чтобы почувствовать вкус еды, надо хорошо попотеть на работе. — Перед едой умой руки, очисти душу и поблагодари Бога за хлеб насущный. — Колбасы откусывай понемножку, а хлеба — на полный рот. — Если хлеб упал, подними и поцелуй, а крошки со стола не смахивай, а собери и съешь... Наш обеденный стол в Шелковичах был богатый и бедный, постный и впроголодь, щедрый и свадебный. Мама за ним — неизменная и незаменимая кухарка, официантка и хозяйка. Она не хотела, чтобы ее ктото подменял. Могла позволить только подручную помощь. Главная ее забота, чтобы все были сыты. Легко накормить разносолами. А Мама умела насытить нас одним турнепсом или печеным картофелем с кисляком (так у нас называют простоквашу), ломтем хлеба, обмакнутым в воду и посыпанным солью, или ягодами с парным молоком. Всем было хорошо от ее ласки... 27 Прости, Мама, я до сих пор не рассказал о наших Шелковичах. Уверен, деревня с таким названием — единственная на Беларуси. Деревня с такими людьми — единственная в мире. Мама моя Мария — дитя Матери Божьей, Богородицы нашей, пречистой и благословенной, наисвятейшей, милости которой себя вверяю и прошу спасения. С ней живу! В нашей красивой деревне в лучшие времена было сорок дворов. За огородами начинается дубрава. Изза нее восходит солнце. Напротив нашей хаты — улица, другие усадьбы и луг. Как охватить взглядом — травяной ковер со шмелями и бабочками, с вьюновым прудом и речушкой шириной в рукав от рубашки. Если от нашей хаты пойти улицей налево, то выйдешь в сосняк и березник. Там будешь спотыкаться на боровиках, моховиках, лисичках (их у нас называют «лисянками»), сыроежках, длинноногих подосиновиках. А через два километра выйдешь на шоссе Речица — Светлогорск. До Светлогорска — раньше это были Шатилки — двадцать километров. Для моих шелковцев это местечко долго служило столицей. Напрямик, через болото, — а другой дороги и не было — ходили пешком. Утром — туда, вечером — назад. И я, маленький, однажды промерил эту дорогу с 14 се с т рой Лю бой. Но ги не де лю гу де ли. Ма ма, помню, растирала их какимто только ей известным зельем. Если из нашего двора пойти направо, то, миновав хаты Пылинских, Калачей, Милютов, Козичей, Поклонских, Жаринов, выйдешь в Лозовицу. Это — кусок пашни. Мне он запомнился в то лето, когда цвела гречиха. Малиновобелой стала Лозовица. А над ней — рой пчел. Каждый день просился у Мамы и бегал слушать пчелиные симфонии. Они и сегодня звучат у меня в ушах. За этим полем, сразу в сосоннике — деревенское кладбище, могилки. Там покоятся мои дед Янка и бабка Пракседа, отец Степан и Мама Мария, сестра Лида, племянник Шурик, тетушки Анета, Катя, Раина, Женя, дядья Иван и Николай... Боже мой, под крестами и плитами лежит больше шелковцев, чем их осталось в деревне. Молю детей своих, минчан, чтоб не забывали, навещали пуповину мою — Шелковичи. Сразу за кладбищем начинаются леса, в которых грибов, черники, голубики, брусники — возами вози. А если идти прямо по дороге, выйдешь к деревне Чернейки. От нее — рукой подать до Добужи. Оттуда, через Березину, попадешь в Великий Лес. Этой дорогой любила ходить Мама. Один раз в год, а если повезет, то и больше, вырываюсь из шумного Минска и мчусь в свои милые Шелковичи. Там жил мой брат Петя со своей Диной. Засевали отцовский огород, сторожили их память. Кажется мне, что все живые шелковцы, старые и малые, — моя родня. Жалко их до слез. Каждому хочется протянуть руку. И больше всего трогает, когда называют меня, уже седого, Володькой. Так называла меня моя Мама. Хожу по опустевшему лесу, по некошеному лугу, и душа разрывается от обиды. Чем же провинились мои шелковцы, что и их накрыла чернобыльская туча? Мама родная! Пойди на прием к своему Царю Небесному, заступись за нас всех, вымоли спасение для шелковцев. Попроси у Господа спокойной старости старикам, молодым — надежды и веры в завтрашний день, а детям — счастливого детства. Мама милая! Отнеси просьбу мою Богу нашему, избавь души наши от тревоги, укрой меня под крылом своим, как укрывала, и грела, и оберегала в детстве. Моя душа и сейчас ждет твоей ласки, так смилуйся надо мной, благослови, спаси и coхрани от всякой беды. А я буду славить имя твое в будни и в праздники, и столько дней, сколько будет гореть моя свеча. Аминь. 28 Солнце будит новый день. Удочка моя заброшена в озерцо на Лысой горе. И пока карась долго и нудно примеривается к червячку, мысли мои снова поплыли в Шелковичи. За что могла прогневаться на меня Мама? Обижал ли я ее? Да, было один раз. Помню, сидим за столом — отец, Мама и я, маленький. Отец усталый, навоевался с косой на лугу. Мама подает завтрак. На всю жизнь запомнил вареные яйца. Целая миска их стояла на столе. Взял одно — не лупится. Взял второе — снова скорлупа отрывается с «мясом». Вижу, и отец мучается, и у него не получается гладко очистить яйцо. И тут словно бес вселился в меня. Захныкал, не стал завтракать, крикнул: — Сами ешьте со скорлупками!.. Боже, я и не думал, что отец так взовьется после моей выходки. Он на всю хату обложил отборным матом и ту курицу, что снесла эти яйца, и Маму, сварившую их да не успевшую охладить. А затем, может быть, неожиданно и для себя самого, стал хватать из миски яйца и швырять в кочерёжник. Швырял и ругался. И за каждым яйцом — новое крутое словцо. Когда яйца окончились, отец швырнул к печке и миску. Хорошо, что она была железная, только загрохотала. Под этот грохот он стукнул дверью и пошел курить. Мама стояла у печи бледная, из глаз катились слезы. Запомнил ее слова: — Прости, сынок, не угодила ни тебе, ни отцу... Мама родная, это ты меня прости, это же по моей дурости все началось. Если можешь, Мама, давай забудем ту обиду. А в памяти оставим смешное, как отец швырял яйца в кочерёжник... О, поплавок запрыгал, карась положил его на воду и медленно потащил в глубину. Мама, помоги! И вот мы вместе с ней вытаскиваем такого серебристого «кабанчика», такого великана, какого никто из лысогорцев и не видел. А если бы я не показал им, то и не поверили бы, что в нашем пруду гуляет такая рыба. 29 Галопом летят годы. Вот и у самого уже заснеженная голова. Вспоминается признание Мамы: — Словно и не жила, сынок. Пролетела жизнь, как одно мгновение. 15 Не верил, удивлялся. Ого, ей за пятьдесят, а она «не жила». Как такое может быть? Теперь верю. Галопом мчатся годы. Когда галопом скачет конь, а ты на нем — задача одна: удержаться на спине. Руками вцепиться в гриву. Ветер свистит в ушах. Впереди — бесконечная дорога. Сзади — столб пыли. — Ээх, летите, мои кони! — поддает жару молодой наездник. А взрослому человеку хочется придержать скакуна. Оглянуться вокруг. Дальнейший путь хочется пройти пешком. Чтобы удлинить дорогу. Натешиться ею. Исповедаться перед самим собой. Мамина исповедь перед шестью детьми, восемнадцатью внуками и двадцатью четырьмя правнуками очень краткая: — Жила честно! Моя се го дняш няя ут рен няя мо лит ва то же краткая: — Дай Бог дожить мне свой век честно. Дай Бог, чтоб мои дети Игорь и Марина, внуки Антон, Маша, Толик укротили своих скакунов. Пусть мчатся галопом или рысью, едут трусцой или идут спокойным шагом, но чтобы совесть их была чиста, как майская зелень, целительна, как летняя роса, полная, как налитый колос, искристая, как зимний снег. Боже, да будет так! И тогда сбудутся надежды твоей, Господь, послушницы, а моей Мамы, светлой и солнечной Марии... 30 Открываю глаза и вижу в окно темное небо. Высокий серый купол укрывает землю. Там, за далекими тучами, — солнце и Мама. Чтобы увидеть их, нужно пробиться сквозь эту кудельную бездну. И заносит меня память в маленькуюмаленькую хатку, наш временный приют на пепелище. Хатку сложил отец из жердей. Двумя глазкамиокошками смотрела она на мир. Одним — на загуменье, вторым — на огород. И глазки эти не спали даже ночью. Тусклым огнем керосинки, висевшей под потолком, они посылали в звездное небо сигнал надежды. Мама и папа ночи напролет старались, чтобы вернуть в жизнь сожженное завоевателями добро. Отец бондарил, столярничал. Вечно на печи сушились какието бруски, клепки, доски. Из них он мастерил всякие там дежки, кадушки, ведра, маслобойки, ложки, корыта, рамы, табуретки... Короче, все, что требовалось в хате и в хозяйстве. Мама тем временем сидела за прялкой. С вечера привяжет к ней большую бороду седой кудели, сидит и тянетвытягивает, сучит бесконечную нить, наматывает на веретено. Той нитью, кажется, можно было опоясать всю Землю. Хотя мамина забота была скромнее: чтобы муж и дети ходили одетыми, чтобы было чем вытереть вымытое лицо, чтобы не перевелись портянки в лапти. Из тех седых нитей Мама ткала свои полотна. А из полотна получалось все: постилки, рушники, скатерти, портянки. Из него шила штанишки, рубашки, платья, свитки. И все вручную. Каждому по размеру и по его вкусу... И вдруг меня осенило. Надо мной не просто серое небо. Это Мама развесила сушить вытканное ею полотно. Его так много, что хватило на все огромное небо. Не могу оторвать взгляд от этого зрелища. А ктото, проснувшись одновременно со мной, взглянет на небо и мрачно скажет: «Снова пасмурно». Люди! Это моя Мама сушит на небе полотно. Давайте порадуемся за мастерицу. Давайте полюбуемся ее умелыми, неутомимыми ручками. Братцы! Поклонимся новому дню, припомним всех, переселившихся на небо. И достойно, с любовью проживем земной век. 31 Сегодня Мама не хотела меня будить. Как бы почувствовала: сынок ее маленький, загнанный заботами, исчерпал силушки до донышка. Твоя правда, Мама, устал. Вчера хоронили мальчика, которому бы жить да жить, жить да любить. Плакала его мать, теряла сознание. Вместе с ней обливались слезами и все вокруг. Вчера, Мама, приходила ко мне бабуля из Слуцка и просила, чтобы помог ей встретиться с внучиком. Дочь ее второй раз вышла замуж, за какогото «чучмека», и тот не пускает ее и на порог. Мне стало жаль этой милой бабульки, и я бросился в пучину сложных семейных отношений. Сжег, как говорят, миллиарды своих нервных клеток. А они не восстанавливаются. Хуже всего то, что и бабуле не помог... Вчера, родная, была и радость. Издатели показали мне сигнальную книжку «АнтоникПоник». Она о твоем правнуке Антонике Липском. Вчера, Мама, был длинный день. Начался в пять утра, окончился заполночь. И хорошо, что сегодня ты не хотела меня будить. Да солнышко так высоконько уже, так нежно заглядывает в лицо, что я подскакиваю с кровати. Бегу к письменному столу. Хватаю ручку. И на чистый лист бумаги ло- 16 17 жится воспоминание об одном далеком солнечном утре. В детстве, как помню, сон состоял из двух серий. В первой — полная отключка, без картинок, мертвый сон. Бывало, гром гремит, земля дрожит, хатка сотрясается, а ты спишь и не слышишь. Во второй серии просыпаешься, как котенок, неохотно и долго. Можно открыть глаза, перевернуться на другой бочок и еще задремать. Можно ручкамилапками протереть глаза, сложить ручки под щечку и снова отключиться. А Мама подойдет, поправит одеяло и прошепчет: «Поспи еще, сынок». ...Солнце вовсю царит во дворе. Мухи жужжат на окнах. В хате никаких разговоров, тишина. Может, от этой тишины я и проснулся в то утро? Но почему оно запомнилось мне? Ведь ничего необычного не было? Я сбросил с себя тяжелое домотканое одеяло, подскочил на матраце и выглянул в окно. Согретые солнцем хаты словно обновились. На улице в песке купались куры, а петух караулил их. И мне захотелось побегать босиком по теплому песку, посидеть и погрестись в нем, как те несушки. Посмотрел в окно, выходящее в огород. И там, словно впервые, увидел красоту. Желтыми солнышками цветут подсолнухи. Картофель весь в белом. К небу тянется разлапистый отцовский табак. Во дворе играют воробьи. Целой тучкой роятся возле какойто находки. А кот Васька наблюдает за ними. На улице кипела жизнь. А в хате — тишина. Где все? Где Мама? Я вышел из светлицы в комнату, где стояла печь. Она дохнула на меня теплом. На столе ждал завтрак. Садись, панич, уплетай пышные блины, жареную колбаску, хлебай ложкой сметанку, запивай свежим молоком, закусывай сухариками. Как никогда прежде, я почувствовал мамину заботу. Как никогда прежде, я почувствовал себя хозяином в доме. Только теперь, с годами, дошло до меня, что в то утро я стал больше видеть, больше слышать, больше понимать. Потому и осталось в памяти то далекое утро. Поев, выскочил я тогда на улицу, но не побежал играть с ребятами. Нашел Маму в огороде и целый день, как тот жеребенок, крутился возле нее. Помогал рвать зелень на грядках. Носил корзины с травой. Сбегал в дом за водой и напоил Маму... Сейчас понимаю, Мама привязала меня к себе своей добротой, своим доверием. Разбуди она меня, прикажи идти с ней в огород, я бы, наверно, как и все упрямцы, воспротивился. А она все сделала так, чтобы я сам понял: надо ей помочь. Удивляюсь, откуда неграмотная Мама знала педагогику, которую студенты изучают по учебникам?.. 32 Отец принес в хату теленка. Мама шла следом. В руке подойник. В нем по ушки молока. — Вот, коровку тебе дарю, расти, — сказал отец. Он поставил чернобелое чудо на пол. Оно постояло немножко, а потом копытцами цокцок и потопало, шатаясь, в угол, где Мама готовила ему постельку. Теленок лег на подстилку. Я устроился рядом и стал его гладить. Вверху на голове нащупал два бугорка — рожки. Провел ладонью по черной метке на лбу. Коснулся длинных ресниц, изпод которых доверчиво смотрели на меня большие влажные глаза. А когда мои пальцы дошли до мордочки, теленок шлепнул губами и ловко ухватил мой большой палец, стал, причмокивая, сосать его. — Проголодался, мой миленький, — тут же отозвалась Мама и протянула мне бутылку с соской. — Кормитесь, сынок... Теленок, словно ребенок, обхватил губами красную соску и стал сосать, постанывая от удовольствия. Через минуту у моего подкормыша ожил хвостик, и я подумал, что живительное молочко дошло уже туда. Теленок устал сосать, закрыл глаза. А мне спать не хотелось. У меня разгорелся аппетит. В бутылке еще оставалось питье, и я поднял ее над своим ртом, ухватил соску, и в меня полилась живительная струйка. Это было не молоко, а чтото густое, как сливки. Тот вкус помню и сегодня. И слышу голос Мамы: — Володька, на и тебе молозивка. Она протянула мне железную кружку с коровьим лакомством. Я знал, что эту кружку в войну оставил нам раненый партизан. Отец принес его из леса, а Мама лечила травами. Кружка считалась отцовской, из нее он пил воду, молоко, чай. Мама в ней подала мне молозиво. Она, видимо, хотела, чтобы я побыстрее вырос и стал таким крепким мужчиной, как отец. Вот напился, вот нахлебался я тогда молозива. На всю жизнь! Оно часточасто напоминает мне о голодном детстве. С тем молозивом, кажется, влилась в меня мамина нежность... 33 — Волк!.. Волк!.. — слышится мамин голос во дворе. Мы выскочили из хаты. Мама показывала рукой в сторону огорода. Там, у самого леса, я увидел серочерную молнию. Зверь не бежал, а словно летел, не касаясь ногами земли, по картофельному полю, по лугу... 18 О волках в Шелковичах ходили жуткие рассказы. Задрали колхозную лошадь на лугу. Залезли в сарай Мищука и «одолжили» белую овечку. У Трацевских собаку съели. У Пылинских — кабанчика. Теперь волк подкрадывался к нашему хлеву, а Мама как раз шла доить Красулю. Увидела злодея и давай бить кулаками в пустой подойник, кричать, звать на помощь. Звучит в моей душе мамин крик. Как сигнал тревоги. Как защитная реакция от всех напастей. Как спасительный клич мне и всему свету: «Спасайтесь от волков!» 34 Один мой хороший друг, тоже деревенский, выбившийся в «большие люди», однажды сказал: — Володя, нас такими сделали наши мамы... Что посеяли, то и взошло... На этот «посев» они положили жизнь... Согласен, дружище. Давайте же помнить сеятелей. Давайте славить их в словах, тостах, колыбельных. А чтоб продолжалась жизнь на земле, чтоб не сгинул род наш, давайте радеть о личном севе. Что посеем?.. Кто на что способен?.. Услышьте меня, родители, чьи дети просыпаются в казенных детдомах, чьи дети бесприютно бродят по миру, чьи дети преступили божьи заповеди... 35 Мама! Стремительный самолет несет нас с Ниной в далекую Францию. Под нами — пелена облаков и земные пейзажи. Над нами — солнце и божий космос. Закрываю глаза, и ты, моя незабываемая Мамочка, присаживаешься рядом. Вместе вспоминаем, как я впервые летел на «кукурузнике». Было так. Мы, пацаны, придумали игру в зверей и охотников. Одни прячутся, другие ищут их. Играли за огородом в дубраве. Кем я был, не помню, но носился меж деревьев и кустов, как ужаленный. Вдруг захотелось залезть на молодой дубок. Залез. Хорошо помню: сидел на ветке, что шла от ствола усохшей культей и потрескивала подо мной... Очнулся уже в кровати, за голландкой. Огнем горело лицо. Тело словно ошпаренное. Открыл глаза и увидел Маму. Она ходила по комнате, обхватив голову руками, и плакала. — Мама, — прошептал пересохшими губами. — Сыночек! — вскрикнула она, словно очнувшись, и бросилась ко мне. — Живой?.. Боже, Мама не верила, что я живой. Обцеловала меня, облила слезами. Хотела посадить, но я застонал и снова потерял сознание. Очнулся на подводе. Отец погоняет лошадей, а Мама сидит рядом, держит меня за руку. Над нами плывут высокие облака. — Куда едем, Мама? — В Василевичи, сынок. — Зачем? — В больницу, сынок... Фельдшер Денисенко приказал везти... — Не хочу в больницу, — заплакал я. От братаинвалида Петра я знал, что там режут острым ножиком, колют тонкими иглами и дают горькие таблетки. — Надо, сыночек... В Василевичской больнице меня уложили валетом с парнем из Золотухи. В палате нас было, что вьюнов в корзине. У каждого своя болячка. Только и помню, как Мама сидела рядом и не выпускала из своих ладоней мою горячую руку. Словно передавала через нее свою силушку, свой жизненный нектар. Через несколько дней районные доктора решили отправить меня в Мозырь, в областную больницу. Оттуда вызвали «кукурузник». В самолет, напоминавший огромную зеленую стрекозу, взяли только меня и доктора в белом. Мама стояла невдалеке и махала мне платочком. Боже, это прощальное мгновение несу по жизни. Меня увозят в неизвестность, отрывают от Мамы. Помню, тогда болела не только нога, болело само сердце. Впервые почувствовал, что оно может не только биться, а покалывать и щипать — болеть. Взревел мотор, «кукурузник» запрыгал по земле. Да так, что ветер засвистел в ушах. Доктор прижал мою голову к своим коленям и держал обеими руками, будто я мог нечаянно выпасть из самолета. Но вот нас перестало трясти. Слышу лишь гул мотора и свист ветра. Казалось, сама БабаЯга усадила нас на свою метлу и подняла высоко в небо. Страх и холод сковали мое тело. И сам я, наверно, был похож на зимнюю сосульку. Очнулся: лежу в больничной палате, на белоснежной постели. А рядом сидит... Мама. Помню, очень удивился: — Мамочка, мы улетели, а ты осталась. Как ты нашла меня? — Я бежала, сынок, следом... Я тебя никому не отдам... Врачи долго боролись за мою правую ногу. Три 19 месяца держали в гипсу. И, как теперь знаю, несколько раз хотели отпилить ее. Я верю, что спасла тогда меня Мама. Она просилаумоляла, чтоб я выздоровел. В самые тяжелые минуты была рядом и держала меня за руку. Разве мог я не послушаться Маму? Разве мог я обидеть ее и не встать на ноги?.. Стюардесса реактивного лайнера предлагает нам вино. На высоте десяти тысяч метров я пью за светлую память моей спасительницы... 36 В древнем Страсбурге, основанном еще до нашей эры, где когдато учились Иоганн Вольфганг Гёте и Альберт Швейцер, сегодня, Мама, чествуют твоего меньшенького сынка. Боже Всемогущий, Мама дорогая! У меня кружится голова. Поддержите меня, дайте выдержать торжественную радость. Началось все еще в Минске, когда неожиданно пришла весть из Швейцарии, из Базеля. Президент фонда Гёте, самого влиятельного и богатого фонда в Европе, мадам профессор МарияПауле Штинце сообщила, что мне единогласно присуждена Международная премия имени Альберта Швейцера. И разъяснила: «В соответствии с положением такая премия присуждается людям за их бескорыстную деятельность в духе человеколюбия и гуманности, как понимал это великий философ, проповедник, благотворительный деятель двадцатого столетия, лауреат Нобелевской премии Альберт Швейцер...» Все происходило в величественном здании Совета Европы. В овальном зале собралась представительная компания — сотрудники Совета Европы, руководители дипломатических миссий, известные общественные деятели Франции, Германии, Швейцарии, Италии, Польши, Голландии. Слово обо мне сказал директор католической академии из Гамбурга Гюнтер Гаршенек. Премию и диплом вручил председатель жюри, архибискуп Страсбурга Шарль Амарен Бранд. Было много незабываемых встреч, знакомств. А непосредственной «группой поддержки» были: моя Нина, советник белорусского посольства, тактичный и сердечный Владимир Макей, его милая и добрая жена Галина, веселый, откровенный парень из Хойникского района, студент Страсбургского университета Саша Логвинец. Перед тем мы ездили на гору святой Одилии. Побывали в ее замке. Промыли глаза родниковой водой. Услышали удивительную легенду. Эльзасский герцог Этихоп изгнал из дома слепую дочь Одилию. Она ушла в горы, молилась, служила самому Господу. И он, Всемогущий, даровал ей зрение. Она и основала на горе высотой в 763 метра монастырь и замок. Простила отцу его изуверство и по его просьбе похоронила его на своей святой горе... Мама! Ты была в этот день со мной. Я чувствовал это каждой клеточкой. И еще я понял, что ты знала философию Альберта Швейцера! Он, мудрец двадцатого столетия, доказывал, что этика «благоговения» перед жизнью — это универсальная этика любви, это безграничная ответственность за все живое на земле, это посвящение своей жизни другим. Боже мой, так это же мораль моей Мамы! Она научила меня ценить каждый миг на земле, верить в жизнь и оправдывать ее хорошими делами. Спасибо, Мама, за шелковские уроки! 37 Утро в Париже. Гдето там, за высокими каменными домами, пробивается в небо солнышко. Украдкой, как гостья. Съездите, парижане, в мои Шелковичи. Там вы увидите настоящую небесную хозяйку. Там, за нашей деревушкой, встает солнце. В наших местах оно прячет ключи от каждого нового денечка. Не верите, спросите у моей Мамы. Найдите звезду на небе, самую яркую, и через нее посмотрите на мой Байконур — на Шелковичи, за которыми просыпается солнце. Парижанам, мадам и месье, поясню отдельно. Если вы оставите свой каменный муравейник, проедете или пролетите через свои земли, немецкие и польские, то там и начнется моя милая Беларусь. Из Бреста поверните на Полесье; через Пинск, Мозырь и Автюки попадете в местечко Василевичи. Оно когдато, во времена моей Мамы, было нашим райцентром. Мы с ней однажды ходили туда пешком. Не пугайтесь, это не очень далеко, всего сорок километров. Пройдете Золотуху, Крынки, Заходы, Узнож, а тогда, за вековой дубравой, будут наши Шелковичи. Вот там, под трели соловьиные, под кукареканье голосистых петухов, увидите чудо, которое запомните на всю оставшуюся жизнь. Это чудо мне открыла Мама. Однажды, когда я и не помышлял ездить по Парижам, когда беззаботно жил в своих Шелковичах и мог по полсуток спать на одном боку, Мама еще с вечера уговорила меня: — Пойдем, сынок, утром за щавелем... Я тебе чтото покажу... 20 Что такое это «чтото», как ни выведывал, Мама так и не сказала. Это размагнитило мой сон. И как только на рассвете она тронула нежной рукой мой чуб, я вскочил с кровати и стал натягивать на себя штаны, рубашку. Помню, мы с Мамой шли босиком по росной траве. Холодная роса мгновенно сняла сон, взбодрила и подняла меня на какуюто недоступную высоту. Все вокруг было таинственным, совсем не таким, как обычно, когда просыпаешься и уже солнце на небе. Прошли загуменье, нырнули в лещинник, и лесная тропинка вывела на большой луг. Он лежал бескрайним зеленым одеялом с вышитыми на нем голубыми незабудками, лиловыми колокольчиками, желтыми лютиками. Коегде на нем, как копны сена, синели кусты вербы. Небо с каждой минутой все более и более светлело, словно набухший бутон розы, готовый вотвот раскрыться. И вдруг, в конце луга, изза зеленой простыни стало подниматься солнце. Мне показалось в это мгновение, что сейчас я увижу не просто огненный шар, а какогото таинственносветлого человекавеликана. Мама стала искать в траве щавель, а я стоял, как вкопанный, не отрывая глаз от яркого неба. Догадался: таинственным маминым «чтото» и был восход солнца, которого я раньше не видел. О чудо! В конце зеленого луга появился красный гребешок. А вокруг него золотым ореолом полыхало небо, как корона над царским троном. С каждой новой секундой солнце все выше и выше поднималось в небо, а мне казалось, что оно выкатывается на зеленую подстилку и вотвот волшебным мячиком прибежит ко мне, я возьму этот шар и понесу, покажу всем моим друзьям — Шуре, Ларику, Лене, Павлу, Кольке, Мише и даже Женьке, хоть он и не давал мне покататься на велике. Скажу им, пусть завидуют, что мы с Мамой открыли новый день, и само солнце позволило поиграть с ним... Через всю жизнь несу в памяти то шелковское утро, тот незабываемой подарок Мамы. И верю, что даже в самых знаменитых парижских магазинах не найду и близко похожего подарка. Так что простите, внучата Антоник и Машенька, за настоящим подарком поедем вместе в мои Шелковичи. 38 Нa Эйфелевой башне высвечивает цифра «575». Столько дней осталось до конца нашего столетия. Утро началось спорым дождем. Отъезжаем от гостеприимного домика белорусского посольства. Булонский лес приветливо машет зелеными рукамиветвями. Впереди — далекая и тревожная дорога домой. Поездом — до Страсбурга. Оттуда машиной — до ФранкфуртанаМайне. Дальше самолетом — над Берлином, Варшавой, Брестом. Вечером должны быть дома, в Минске. Целый день в дороге. И сама собой перед дорогой слагается молитва: «Боже праведный! Не обременяй сегодня мою Маму никакими просьбами, заданиями. Попроси, Господи, чтобы твоя верница, а моя родная Мария была провожатой мне в пути. Пусть утешит и успокоит мои тревоги. Пусть поспособствует, чтобы не поседели мои последние волосы — украса юности. Хочу, Мама, чтобы все длинные километры ты была рядом и, как в детстве, держала мою руку. Во многом, Мама, хотелось бы исповедаться перед тобой. Есть чему порадоваться, есть чем похвалиться. Мог бы и поплакаться. Но все это, как ты учила, терпеливо ношу в себе. Я закаленный твоей любовью, Мама, и потому умею переживать радости и горе, праздники и тревоги. Под перестук колес поезда, под шелест шин на автобане, под гул самолета ты лучше напомни, Мама, чтонибудь о себе, о своей жизни. Ты со мной, светлая. Слушаю только тебя, моя ласковая. И благодарю Бога, что послал нам новую встречу... 39 Однажды Мама говорит: — Пойдем, сынок, в гости к тете Анюте. От радости я не знал, что делать. Целовал Маму, вертелся вокруг нее, как та Язепова собачонка, когда ее снимали с цепи. Анюта — мне тетя, а Маме — родная сестра. Как понимаю сейчас, Маме она была еще и закадычной подругой, они друг без друга не могли и дня прожить. Любили посекретничать, посоветоваться, поплакаться или посмеяться, или просто повидаться. Когда умер второй муж тети Анюты Рыгор, она осталась в хате одна. Все дети разлетелись по свету и лишь изредка навещали мать летом, когда леса вокруг трещали от грибов и ягод. После нескольких лет одиночества тетя Анюта «взяла да и сошла с ума». Так она сама говорила о себе. Ее уговорил какойто Иван из Узножи жить в его хате. Мой брат Петро усадил на повозку старую молодуху с ее узлами и отвез в соседнюю деревню. 21 И вот мы с Мамой идем к ней в гости. Лесом, напрямки, до Узножи считается три километра. Мама шла по тропинке, а я шастал по обочинам. Мне интересно было постучать палкой по сухостоине, окоренной дятлом. На одном из дубов увидел дупло, залез, засунул руку, а там гнездышко вертишейки. Взял поиграться одно голубенькое яичко. Мама предложила собрать для тети Анюты лесной букет, и я с новой охотой завертелся меж дубов, грабов, кленов. Собирал цветы, ломал ветки с зелеными листьями. Так незаметно мы вышли на окраину Узножи. Я впервые видел такую большую деревню. Глазом не окинуть все хаты. Дворы и люди в них — чужие. Собаки незнакомые. Мне стало страшно. Я ухватился за мамину руку. Как привязанный, зашел в хату, где жила тетя Анюта. Как она обрадовалась гостям! Тискала меня, щипала, целовала. И все повторяла: — Какой ты, Володька, большой уже, какой красивый, какой умный... От таких похвал можно голову потерять. Но, слава Богу, тетя Анюта вскоре отстала от меня. Начала выставлять на стол стаканы, миски, тарелки. Побежала в кладовку. Полезла ухватом в печь. Меня, как равного, усадили к столу. Как и себе, капнули в стакан какойто самодельной наливки. И сестры повели доверительный разговор. При мне тетя рассказывала как узноженский Иван обхаживает ее, а ей с ним чужесно, тоскует по своей хате. Тогда я запомнил одну тетину фразу, которую носил по жизни, пока не написал повесть «Я» — о родоводе. Она понизила голос, хотя Ивана в хате не было, сказала Маме и мне: — Он хороший, но не такой, как мы... Ведома, лапоть, из мужиков... Как начнет, Манечка, харкать в хате, как прошлепает грязными галошами по чистым половицам, хочется бежать отсюда не оглядываясь... Сестры долгодолго секретничали. Понятно, не виделись с месяц. А я, уставший и наевшийся, захотел спать. И тетя Анюта уложила меня в свою самую лучшую кровать... Когда возвращались домой, Мама свернула с главной улицы в какойто переулок, подвела к длинному деревянному дому и сказала: — Здесь, сынок, с осени будешь учиться. Так я с четвертого класса стал ежедневно мерить лесную дорогу из Шелкович до Узножи и обратно. Впервые открыла мне эту магистраль Мама. А сводив в гости к сестре, незаметно укрепила в мысли, что я и в самом деле уже большой. 40 Анатоль Гречаников написал дорогие моему сердцу строки. Они засели в памяти с первого прочтения: Сэрца — Жыцця майго гадзіннік, Заведзены ў 1938 годзе. Маці па ім вывярала час, Каб не заспаць, не запазніцца. Як далёка ты, мама!.. Мои жизненные часы Мама завела в мае 1940 года. И моя новая утренняя молитва за мастерицу, которая подарила мне самый точный измеритель времени, уберегла его от зависти, злобы, лжи. Наказала заводить пружину чистой совестью. Я так и делаю, Мама. Иначе не умею и не хочу. Если ктото задумает насильно подкрутить стрелки, изменить их движение, мое сердце затикает заведенной миной. 41 Исповедуюсь перед Мамой, слагаю ей свою молитву и вдруг внутренний голос: «Везде — ты и Мама. А где остальная семья? Как она относилась к другим детям — Лиде, Клаве, Пете, Любе, Коле?» Боже! Благодарю тебя, что передал мне этот мудрый голос. Свидетельствую: маминой любви хватало на всех. О моих братьях и сестрах можно писать повести, о каждом — отдельную. Может, так когданибудь и будет. А сейчас мое слово о Мамеюбилярше. О той Маме, которую я знал и знаю, какой она вошла в мое сердце. Дай, Боже, ясной памяти и новых встреч со святой Марией! 42 Сидим с Мамой и плачем. Мама плачет, потому что я плачу. А я плачу — мне жаль петушка. Трепыхается, окровавленный, а голова его лежит возле колоды. Боже, я всю жизнь вымаливаю прощенье за тот грех. А в чем он? И грех ли это? Заболел отец. Лежит в запечке, на полатях, и стонет на всю хату. Петя на рассвете ушел косить. Коля убежал на подсочку. Подрезает сосны, собирает из кубариков живицу. Лида колхозных коров доит. Люба — в Добуже. Клава — в Автюках. Жи- 22 вут там и не знают, что отец стонет. Один я с Мамой, мужчина и хозяин. — Сынок, — просит Мама, — давай петушка зарежем, отцу суп сварим. Не знаю, как где, а в наших Шелковичах куриное мясо считалось целебным. Петушка или курочку лишали жизни в двух случаях: если они заболеют или если, не дай бог, в семье ктонибудь захворает. Вышли мы во двор. Мама заманила кур в курятник, сыпнула зерна. Засуетились они, склевывая зернышки. Тут Мама и поймала длинноногого огненного петушка. Он не оченьто и возмущался, что его взяли на руки. Посматривал стеклянными глазами и чтото бормотал, словно спрашивал: «Что такое, в чем дело?..» Мама поднесла петушка к колоде. А я уже стоял там с отцовским топориком. Ох, однажды влетело мне за него. Надумал рубить им проволоку и, конечно, зазубрил. Рассерженный отец вбежал в хату: «Где тот уженок?.. Что сделал с моим инструментом?!» И давай веревкой охаживать меня. Бьет по спине, а я слышу, как чтото теплое по ногам потекло... С тех пор никогда не брал в руки острый отцовский топорик. А тут Мама сама подала мне его. Надо же отца спасать! Я поднял топорик и изо всех сил тюкнул по петушиной шее. Голова упала в траву возле колоды, а петушок залопотал крыльями. И только теперь до меня дошло, что я наделал. Я упал на траву и стал так плакать, что во двор прибежала тетя Анета, старшая сестра отца. Она жила через улицу и услышала мой голос. — Ох, Володька... Христос с тобой... Я уже подумала, ногу себе поранил, — крестилась она. Мама тихо плакала и утешала меня: — Успокойся, сынок, я больше никогданикогда не буду тебя просить о таком... Мама сдержала свое слово. 43 Помню Маму молчаливой. Такой она приходит и в мои сны. Но оченьочень редко. Покажется, промелькнет и исчезнет. А я просыпаюсь. Заметил: если увижу во сне Маму, все будет хорошо. Если было тревожно, жди успокоения. Если были неприятности, придет развязка, а за ней — радость. Если сомневался, как поступить, придет ясное и правильное решение. Мама приходит ко мне, как знак доброты. Она словно хочет предупредить, подсказать, посовето- вать, успокоить, обнадежить. И обязательно — разбудит. А может, она и не снится, а подходит к кровати, чтобы поправить одеяло, приласкать, как в детстве, подержать за руку? Так почему же, когда я просыпаюсь, она исчезает?.. 44 Пепел — воспоминание о сгоревших дровах, о сожженной хате. Пепел в костре — напоминание об ухе, друзьях, веселых шутках и песнях. Пепел в стене крематория — память о людях, живших когдато рядом с нами. Все на земле — пепел. Живая память может его раздуть. И тогда засветятся горящие уголья. Если подбросить новых дров — вспыхнет огонь. А если память становится пеплом — наступает тьма, конец всему... Вот и я раздуваю память о прошедшем. Согреваюсь этим огнем. Живу надеждой, что ктото присядет к моему огню. Погреемся вместе, и каждый вспомнит о своем. От горящей головешки могут прикурить тысячи курильщиков. Гори, наша память!.. 45 А сегодня мне вспомнилась зола (синоним слова «пепел»), в которой Мама отбеливала домотканое белье. Под навесом стояло, хранилось, жило жлукта. Я даже помню, как отец его делал. На волах притащил из Никитовой Гривы толстую осиновую колоду. Коры на ней уже не было, и она светилась такой белизной, что глазам было больно. А сердцевина колоды уже начала подгнивать. Отец взялся ее выдалбливать, вырубать, выкручивать. Через несколько дней работы зовет всех во двор: — Вот вам новенькое жлукта... Чтобы вшей в сорочках не заводили... Мама приняла вверенный ей объект, и мы все вместе стали «включать» в работу мойкузапарку. Поставили ее, как барыню, на желтую солому, будто на золотой трон. Мама с Клавой и Любой начали выносить из хаты грязные постилки, рушники, скатерти, сорочки, кальсоны. Коля носил золу, которую Мама насобирала в большую кадку. Петя таскал из печи чугуны с кипятком. Командовала парадом Мама. Она бросала в жлукта замоченное белье, присыпала золой. Слой одежды, слой золы. А сверху все это заливала ки- 23 пятком. Опрокинет чугун с водой, вода булькает, пузырится и исчезает, как в пропасть. Еще чугун, еще. Петя даже возмутился: — Вот жлуктит жлукта... Много позже, когда пристрастился к самогону, его самого дразнили «жлуктой». Хоть и сердился на нас, но «жлуктануть» стакандругой самогона не упускал случая. Бог с ним, не я старшему брату судья, тем более, что сам он давно уже стал прадедом... А тогда ритуал жлуктования белья окончился тем, что Мама укрыла жлукта старым, еще деда Янки, кожухом. Сказала: — Пусть отзоливается... Завтра понесем на пруд... Через ночь и полдня мы снова всем кагалом собрались возле жлукта. Мама сняла старый кожух и стала длинными деревянными щипцами доставать упаренное белье. Ей помогали Клава и Люба. Петя с Колей держали коляску, на которой стояло огромное корыто. В него и складывали белье, набрякшее густой желтоватой влагой. Мне, как самому младшему, доверили открыть ворота. Через них мы вместе с груженой коляской выкатились на улицу и дружной гурьбой направились к пруду. Там, на широких досках, Мама, Клава и Люба стали бить праниками, мять, отжимать белье. Побьют, побьют, прополощут в пруду и снова дубасят, и снова. У русских есть слово «пряник». Это лакомство. Побелорусски «перник». Есть купленные в магазине, а Мама пекла свои. Наш праник — это плоский деревянный брусок с ручкой. Отец делал их сам. Из дуба. Крепкие и тяжелые. Бьют бабы праниками белье, аж стон идет. Та музыка и сейчас стучит в моих ушах: «Трахбахтрататах...» 46 Бросил все и уехал в свои Шелковичи. Из Минска это километров двести пятьдесят. Ехать надо через Бобруйск, Паричи, Светлогорск. Дальше по речицкому шоссе. За деревней Боровики начинаются наши леса. Перед указателем «Шелковичи, 2 км» — поворот налево. Здесь я уже знаю каждое дерево. Под дубами, что сторожат делянку пахотной земли в Горах, когдато собирали с Мамой крепышиборовики. Она заметит коричневые шляпки и посылает меня: «Посмотри, сынок, возле того дубка. Только осторожно, под ноги гляди...» Иду, смотрю. И, о чудо, сидят дядькиборовики. Сажусь с ними рядом и кричу на весь лес: «Мамочка!.. Иди сюда!..» Она подходит, светится вся: «Поздравляю с находкой». И я, счастливый, срезаю грибы, а под листьями нащупываю их деток. Маленькие, под шляпками, на толстых ножках. Надо брать, иначе ктото растопчет... Останавливаю машину. Иду к тем дубам, что помнят Маму и меня, маленького. Росистая трава смывает пыль с моих городских туфель. Стал под дубом и неожиданно для себя крикнул: «Маамааа!..» Мой голос затерялся в глуши. Даже эхо не вернулось. Только дрозд выпорхнул изпод коряги, захлопал крыльями. Испугался, дурачок, будто я буду его ловить. Нет рядом Мамы. Не растут под дубами боровики. Некому ходить по лесу. Боже, нет того, что было прежде. Обидно и горько. В ушах звучит мелодия Игоря Лученка, оживают слова Купалы: Ад прадзедаў спакон вякоў Мне засталася спадчына, Паміж свaix i чужакоў Яна мне ласкай матчынай... 47 Дальше машина идет полевой дорогой. Справа — картофель ровными рядами, слева — колосистая рожь. За полями — дубовые, березовые рощи. Все это — урочище Горы. Здесь, даже я помню, и в самом деле были горы. Прибегали зимой с санками, съезжали с них. Проблема забраться наверх, а оттуда летишь вниз, аж ветер срывает ушанку. Потом эти горы стали раскапывать. Увидел бригадир, что в них — одна зола. Говорят, здесь в старину была смолокурня. И давай развозить золу на поля. Так, на волах да лошадях и растащили горы. Осталось лишь название. За Горами начинается Зимник — болото, всегда топкое. Пройти здесь можно, перепрыгивая с кочки на кочку. А местами — по ненадежным кладкам. В руки лучше взять палку, а то ненароком оступишься — и шухнешь по пояс, а то и выше. Это болотце назвали Зимником: только зимой, в морозы, можно спокойно пройти здесь. Можешь даже ехать на санях, конь не провалится. Но помни: отправляйся в дорогу только после морозовтрескунов. Теперь и Зимник освоили шелковцы. Подсыпали песка. Не асфальт, но проехать можно. И наш «Жигуленок» спокойно преодолевает этот 24 (Продолжение смотрите на странице 41) Фото Алексея НИТЕЦКОГО Журнал в журнале · 4/2015 БО ОЛЛЬЬШ ШАЯПЕРЕ АЯПЕРЕМ МЕ ЕН НА ЕСТЬ ПРОБЛЕМА? В редакцию «Путеводной звезды» пришло письмо от нашего постоянного читателя Саши Б. из Красновишерского района Пермской области. Предполагаем, что мысли и чувства Саши, увы, знакомы и другим нашим читателям, поэтому и публикуем его послание. Когда вели ОШИБКА ЦИЦЕРОНА З дравствуй, «Путеводка»! Скоро наступят летние каникулы — ждать осталось совсем недолго, гдето месяц с небольшим. А мне кажется, что до свободы — целая вечность. Я не люблю ходить в школу. Не люблю, потому что меня там понимают далеко не все. Я считаю, что заниматься нужно только тем, что у тебя получается очень хорошо, а там, где ты пень пнем, такие занятия лучДВО ЕЧ НИК НЬЮ ТОН ше оставить, махнуть на них рукой. Например, я еще в огда великий физик Исаак Ньютон в детстве, шестом классе решил поступить на факультет филосокак и все, ходил в школу, учителя считали его туфии СанктПетербургского университета. Решил не с пицей, потому что он учился хуже всех в классе. бухтыбарахты, а потому что мне нравится читать — не В одном классе с Ньютоном учился и его двоюродповерите! — философские книги. Мой любимый мыслиный брат Артур. Он был забияка и все время лупил бутель — Николай Бердяев. Он писал: «Моя философия дущего великого ученого. есть философия духа. Дух же Учился Артур тоже через для меня есть свобода, творчесНаверное, и вы, наши читатели, пеньколоду, но всетаки кий акт, личность, общение любуже попадали в такие ситуации, получше юного Ньютона. ви». Я даже сочинил научког да вас не понимали. Прожить жизнь — Я тебя сильнее! Я тебя нофантастический роман на эту и избежать этого просто невозможно. умнее! Я лучше тебя во тему. Из тех, кто его читал (а это Даже великие люди — не исключение. всем! — дразнил он Исаака. и друзья, и учителя), одни говоТот хмуро молчал. А что рят: «Интересно!», другие: Прочитайте подобранные нами истории тут скажешь. Конечно, ему «Слишком заумно!». Хорошо, о том, как им порой приходилось непросто очень хотелось победить еще подработаю, чтобы мои в юные годы, и вы убедитесь, Артура в драке. Но это быидеи были понятнее. Но у меня, что перед непониманием и трудностями ло невозможно: брат был хоть тресни, не получается рени в коем случае нельзя пасовать! здоровяк, на голову выше шать задачки, я ненавижу всяНьютона. кие там химические опыты, а Наконец, Ньютону это надоело и он сказал: когда мы прыгаем через козла или лазаем по канату, я, — Спорим, я за месяц обгоню тебя в учебе! кхмкхм, не похож на Тарзана… Но как же многие раду— Где тебе! — ухмыльнулся Артур. ются — и одноклассники, и учителя, если у меня чтото не Вечером Ньютон, поборов лень, впервые выполнил выходит! И тогда я слышу: «Что, Цицерон, мозгов не хвазаданные уроки и — о чудо! — на следующий день полутает?» или «Что, Цицерон, слабо?» Я не счичил отличную отметку... Учиться оказалось совсем не таю себя какимто избранным, «сверхчелотрудно, так что через месяц юный Ньютон обогнал не веком». Но именно в этом — что я себя татолько нерадивого братазадиру, но и весь класс... ковым считаю — уверены многие учителя, да и одноклассники. И всегда рады, когда у меня чтонибудь не выходит. Ну почему так устроены люди? Наверное, тот, кто откроет секрет, как излечить мир от неприязни к людям, которые хоть чемто отличаются, выбиваются из общего ряда, будет признан величайшим мыслителем. А пока я БЕЗ ДАР НЫЙ ВОС ПИ ТАН НИК считаю дни до каниеликого немецкого поэта Фридриха Шиллера, не кул. Потому что не имевшего ни малейшего пристрастия к армии, в люблю ходить в шкоподростковом возрасте родители отправили учиться в лу, где многие рады Военное училище. Военное дело ему не давалось, а поошибкам и слабостому он довольно часто попадал на гауптвахту. тям «Цицерона». К В 2/26 икие были маленькими Однажды герцог Карл Евгений, наблюдая, как маршируют на плацу воспитанники, недовольно поинтересовался: — Кто этот нелепый длинный малый, который все делает не так? — Фридрих Шиллер, ваше высочество. Он уже шесть раз получал штрафной билет, но так ничему и не научился. Дать седьмой штраф? — Не стоит, — хмуро отозвался герцог. — Этого Шиллера можно поселить на гауптвахте, но он все равно не научится маршировать... Прочитав все учебники и не найдя ответов, любознательный школьник продолжал изводить своих учителей. Дело кончилось тем, что в пятнадцать лет его решили исключить из гимназии. — За то, что своими глупыми вопросами он подрывает авторитет учителей, — так директор гимназии объяснил это решение матери Эйнштейна. НЕ ЗА БЫ ВА Е МОЕ О ТАК УЖ ЗА ВЕ ДЕ НО Л ет в пятнадцать будущего известного австрийского композитора и дирижера Иосифа Гайдна выгнали из хора за «полную профессиональную непригодность». После этого он был переписчиком нот, учителем пения, бродячим музыкантом, скрипачом, органистом, аккомпаниатором... В эту бродячую и почти нищую пору жизни Гайдн обитал преимущественно на чердаках и нередко случалось, что ночевал прямо на скамейках в парках Вены. Однако, он не унывал. — Если бы у меня был талант — меня бы признали сразу, — с улыбкой объяснял друзьям юный музыкант. — Но я, видимо, гениален, а гениев, как известно, всегда поначалу не понимают, так уж в жизни заведено... Так что придется потерпеть до поры до времени... Такая уж у нас, у гениев, судьба... днажды у великого американского писателя Марка Твена поинтересовались, помнит ли он, как заработал свои первые деньги. — Еще бы не помнить! — ответил он. — Однажды у нас в школе объявили, что за плохое поведение на уроках и порчу парт перочинным ножиком несколько учеников должны заплатить штраф в 5 долларов или подвергнуться порке. Я был в списке. Когда мой отец узнал об этом, он заявил, что он не потерпит, чтобы его имя подвергалось такому унижению, как публичная порка сына, и вручил мне 5 долларов. Однако, чтобы я хорошенько усвоил себе, что резать скамейки и безобразничать на уроках не полагается, он пригласил меня в свою комнату и выпорол... Выйдя оттуда, я подумал, что, раз я уже выдержал одну порку, могу выдержать и вторую — в школе, и оставил эти 5 долларов себе. Так я заработал свой первый «гонорар»... Собрал и подготовил Иван ВОСТРОСАБЛИН ГЛУ ПЫЕ ВО ПРО СЫ В еликий физик Альберт Эйнштейн, учась в гимназии, задавал на уроках такие вопросы, на которые учителя не могли ответить. — Все, что вам надо знать, написано в учебнике! — сердито отвечали педагоги. ОТ РЕДАКЦИИ Так что, если в школе у вас не обходится без неудач, не отчаивайтесь! Может, вы просто очень талантливы или даже гениальны. Однако следует помнить, что вовсе не каждый такой неудачник, двоечник в будущем станет знаменитым человеком. Есть ведь и просто лентяи. Вот уж кому в жизни ничего не светит. Может быть, вам кажется, что взрослая жизнь гдето далеко, когда еще она наступит — ждать и ждать. Но она начинается сейчас, уже началась. И какой она будет — зависит только от вас. Тот, кто ленится и бездельничает в детстве, будет лениться и бездельничать и взрослым, его ждет долгая и скучная жизнь. Так что не ждите — уже сейчас ищите себе дело по душе, пробуйте свои силы, ставьте перед собой цели и учитесь не отступать. 3/27 R числу самых увлекательных прозаических произведений Пушкина относятся «Пиковая дама» и «Дубровский». Помимо напряженного сюжета, повести, оказывается, связывают похожие загадки! Причем не явные, а умело «спрятанные» автором: они открываются постепенно, если внимательно читать тексты (возможно, не один раз)… Чтобы сильнее заинтриговать читателей, хочу обратить их внимание на интересные, зачастую просто удивительные, моменты. усмехается Германну (как ранее усмехалась из гроба)… Про Германна я написал: сошел с ума окончательно. Действительно, предположим, что Германн постепенно, шаг за шагом, переживание за переживанием, шел к сумасшествию. Сначала он помешался на тайне трех карт. Потом изза душевной горячки, изза страшного волнения ему показалось (только показалось!), что покойница подмигнула ему в гробе. Затем он обострил свое состояние, выпив (против обыкновения) много вина в трактире. Но вино еще более разгорячило его воображение! А это было как раз накануне той ночи, когда Германну явилась покойницаграфиня. Тогда, возможно, ее явление, три верные кар- Являлась ли старухаграфиня с того света? Настоящие мистические события начинаются в «Пиковой даме» со Тайны Пушкина Какие секреты «спрятал» Александр Сергеевич в «Пиковой даме»? смерти графини. Даже в самой ее гибели — загадка. Прочтите внимательно! «С этим словом он вынул из кармана пистолет… Она закивала головою и подняла руку, как бы заслоняясь от выстрела... Потом покатилась навзничь... и осталась недвижима… Германн увидел, что она умерла». Спустя некоторое время Германн опять входит в спальню графини: мертвая старуха сидит окаменев! Как же она, упав навзничь, потом оказалась в кресле?!.. Германн долго смотрит на нее, «как бы желая удостовериться в ужасной истине». С этого таинственного перемещения начинаются «визиты» графини из мира иного и ее влияние на земные события. Через три дня после роковой ночи Германн пошел на отпевание покойницы. Зачем же он явился туда? Пушкин объясняет: «Он не мог совершенно заглушить голос совести, твердивший ему: ты убийца старухи! Имея мало истинной веры, он имел множество предрассудков. Он верил, что мертвая графиня могла иметь вредное влияние на его жизнь». То есть Германн уже заранее был готов к тому, что графиня может какимто таинственным образом навредить ему! Он заглянул в гроб и … вдруг ему показалось, что «мертвая насмешливо взглянула на него, прищуривая одним глазом!» И показалось настолько явственно, что Германн грянулся оземь. Вот два загадочных мрачных случая. Но нас ждет еще один — пожалуй, весомее двух предыдущих: графиня является с того света, проходит сквозь крепко запертые двери, предстает перед Германном в белых одеждах и открывает ему секрет трех карт! Как относится ко всему этому, мистическому, на грани разумного, сам Пушкин? Трудно заподозрить Пушкина в том, что он понастоящему верил в привидения. Тогда как же объяснить все загадочные явления, связанные с графиней и тайной карт? Кстати, упомянем еще одно мистическое событие, от которого Германн окончательно сходит с ума: вынутый им из колоды туз какимто образом превращается в даму! И дама эта, похожая на покойницу графиню, как будто прищуривается и 4/28 ты — лишь плод разгоряченного воображения Германна! В итоге он наказан своей суеверностью, одержимостью тайной карт и мгновенного обогащения, а еще и мучениями совести. Ктото, наверное, разочарован: нет ничего чудесного, нет тайны трех карт и графиня не была привидением! Все — результат видений Германна, имеющего «мало истинной веры», но много страсти. А первые два раза Германн выиграл случайно — просто повезло. Романтики! В повести все не так просто — мистическая сила действительно роковым образом вторгается в реальность: графиня магически перемещается с пола на кресло — является из загробного мира в земной — «вселяется» в карты… И наказывает бессердечного Германна. Так «Пиковой даме» можно дать и мистическое толкование! В итоге, переплетение реального и мистического смыслов делает повесть уникальной и интригует читателей любой эпохи. Но тайны еще остаются! Евгений СЛАВУТСКИЙ, преподаватель литературы школылицея «Венда», журналист ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ Подвиг Зои меня потряс М еня потрясла эта повесть. Мама сказала, что она была любимой в ее детстве. Теперь «Повесть о Зое и Шуре» стала самой любимой и у меня. Она вызвала у меня такие чувства, которых раньше никогда не было. Мне кажется, даже в жизни я никому так не сочувствовала, так ни за кого не переживала, как за Зою. Я вдруг задумалась, а смогла бы я выдержать все то, что выдержала Зоя, все пытки, все издевательства фашистов, а потом, уже во время казни, держаться стойко, мужественно и даже малейшей слабостью не предать свою Родину? После того, как я прочитала эту повесть, мы с мамой поехали в село Петрищево, где Зоя и совершила подвиг. В музее потрясающую экскурсию провела Надежда Серафимовна Ефименко. Она рассказывала о Зое, как о своей дочке. А потом мы подошли к избе, где пытали Зою, но мне вдруг стало так страшно, что я не смогла туда войти. На месте казни Зои установлена стела, рядом с ней всегда лежат живые цветы. Мне кажется, наш народ никогда не забудет о Зое, о ее брате и матери, которая нашла в себе силы жить после гибели своих детей и рассказывать о них. Мы не забудем, потому что Зоя делает нас сильнее духом. Оля ФАДЕЕВА, Рузский район, Московская область Люби всей душой! В последнем номере вашего журнала за 2014 год опубликованы произведения Ирины Краевой. Я хочу сказать про вторую повесть, которую мы разбирали на уроке, — «Баба Яга пишет». Ее особенность в том, что она состоит из переписки между бабушкой, которая живет в Москве, и ее десятилетним внуком Аджеем из Колорадо. Аджей рассказывает о жизни американской семьи, бабушка — о своей. Бабушка умная, она начитанная, мудрая, умеет фантазировать. Она придумывает собаку Бурю, которая умеет летать в ступе и питается чернилами. Она рассказывает Нужно себя сдерживать Э Аджею семейную легенду о любви Аглаи и циркового гимнаста, о Великой Отечественной войне, как жили тогда, что испытали, как голодали… Она пишет: «Страны как люди. Никто не в праве брать на себя роль Бога и распоряжаться их судьбами, как ему вздумается, навязывать свои правила», «Если любовь есть у тебя, то люби всей душой!» Мне очень понравилась книга, в ней есть смешные, поучительные моменты, фантастические, но эта книга и с глубоким, серьезным смыслом: всем странам, всем народам надо жить в мире. Степан СЕЛЕЗНЕВ, 5 класс, школа № 51, г. Киров 5/29 то очень интересный, заставляющий задуматься роман. Ко нец про из ве де ния не ве ро ят но грустный. Когда я начинала читать роман, даже не предполагала, что он может быть таким. В живых автор оставил того героя, который осо знал, что оши бал ся рань ше. В конце концов он понимает: для разумного ведения хозяйства, да вообще, чтобы выжить и жить, необходимо быть строгим и к себе, и к окружающим. Сразу скажу, что с самого начала я была на стороне отца братьев, пришедшего с войны. Мне было очень грустно читать, что мальчишки приняли «в штыки» дисциплину. У них не было даже мыс ли сдру жить ся с от цом. Особенно удивил Вад — насколько вольной птицей он был по натуре. Никакой работы, только игры, состязания, развлечения. Жаль, что он так и не понял, что в жизни нужно себя сдерживать и опираться не только на свои «хочу». Шокирующим концом, я думаю, писатель хотел показать всю серьезность послед ст вий та ко го от но ше ния к жизни. Серафима АРТЕМОВА, 15 лет, г. Москва К 70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ Дорогие читатели «Путеводной звезды»! Спасибо за ваши замечательные рассказы о родных и неродных вам по крови людях, которые стали Героями Победы, навсегда вписав свои имена в историю нашей страны! В этом номере «Путеводной звезды» мы публикуем сочинения учеников Домодедовской общеобразовательной школы № 2. Ждем новых рассказов! Врага поймал луч Е щё живут на свете люди, которые защищали нашу страну во время Великой Отечественной войны. Ещё можно посмотреть им в глаза, услышать их рассказы о том тяжёлом времени. С одним из таких людей я познакомился на маминой работе, в Академии управления МВД России. Это полковник в отставке Иван Венедик- тович Горлинский. Он родился 10 сентября 1922 года в крестьянской семье в селе Вишневка Винницкой области. В 1939 году прямо со школьной скамьи Иван ушел добровольцем на войну с белофиннами. Он участвовал в боевых действиях на Выборгском направлении в составе лыжного батальона Московской области. Мальчику было всего 17 лет! После войны с белофинами он вернулся домой, окончил 10й класс. А осенью его призвали в Красную Армию и направили в гаубичный артиллерийский полк Ленинградского военного округа, который дислоцировался в поселке Куолоярви КарелоФинской АССР на границе с Финляндией. Иван освоил боевую специальность наводчика орудия — 122миллиметровой гаубицы. В составе 1го дивизиона этого полка с июня по июль 1941 года участвовал в обороне Советского Заполярья от гитлеровских захватчиков. Начало войны Иван Венедиктович вспоминает так: «В 4 часа ночи 22 июня на нас внезапно обрушился шквал артиллерийского огня с финской территории — началась война! Это мгновение запомнилось на всю жизнь своим коварством и внезапностью…» В первые часы войны 1й дивизион нанес ответный удар по вражеским позициям и на 8 часов остановил его наступление в направлении поселка Куолоярви. Но противник наступал… В конце июля его части остановили на подступах к городу Кандалакша. Здесь произошла перегруппировка частей. В это время из всех частей дивизии отобрали красноармейцев со средним образованием и направили в Ленинградские военные училища для подготовки офицеров. Так в июле 1941 года Иван Венедиктович прибыл в Ленинградское училище инструментальной разведки зенитной артиллерии, расквартированное в Красном Селе под Ленинградом. Однако учиться ребятам не пришлось. Из них сформировали боевые расчеты зенитных орудий и поставили на усиление системы прикрытия Ленинграда от фашистской авиации. Была и другая задача — вылавливать десантные группы противника. «Нашему зенитному расчету, в котором я был наводчиком, не раз удавалось обстреливать немецкие самолеты, прорывавшиеся через системы ПВО к Ленинграду. Запомнился один из эпизодов, когда из подбитого нами самолета удалось выловить трех парашютистов: летчика и диверсантов», — рассказывает Иван Венедиктович. По окончании учебы в апреле 1942 года ему присвоили офицерское звание «лейтенант» и направили в Бакинскую армию ПВО Закавказского фронта. Здесь в составе зенитноартиллерийского полка Иван Венедиктович служил командиром зенитнопрожекторного взвода. Более всего меня восхитил рассказ о ночной боевой операции, которую обеспечивали несколько сводных прожекторных частей, прибывших из разных 6/30 К 70ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ фронтов. В ней участвовало более 200 зенитных прожекторов. Рассеянными лучами они создали мощную световую завесу и ослепили немецкие наземные войска на значительном участке фронта. У фашистов началась небывалая паника, они оказались полностью деморализованы. Этим воспользовалось наше командование и успешно провело боевую операцию, которая приблизила окончание войны... В Советской Армии полковник Горлинский прослужил более 37 лет. За эти годы он прошел от командира прожекторного взвода до командира радиотехнического полка. Закончил он военную службу в январе 1978го старшим преподавателем на кафедре зенитноракетных и радиотехнических войск факультета противовоздушной обороны Военнополитической академии. Он награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 1й и 2й степени, восемнадцатью медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «За победу над Японией»... В 1978 году Иван Венедиктович пришел на кафедру психологии управления и педагогики Академии управления МВД России, где проработал без малого 30 лет. Здесь он защитил докторскую диссертацию, получил звание профессора и Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации. С 2007 г. Иван Венедиктович пенсионер, на тот момент ему исполнилось 85 лет! Я горжусь, что познакомился с Иваном Венедиктовичем и из его уст услышал о событиях, которые мне никогда не хотелось бы пережить! Когда у меня будут свои дети и внуки, обязательно буду рассказывать им об этой встрече. Илья КОНДРАТЕНКО, 5 «Б» класс Мой прадед защищал Ленинград М ой прадед Василий Яковлевич Дергачёв почти всю войну служил на Ленинградском фронте. Он сопровождал продукты, лекарства и снаряды по «Дороге Жизни» через Ладожское озеро в осажденный город, тем самым спасая ленинградцев. Во время войны прадедушка сменил много военных профессий: был моряком, командиром минометного расчета, комсоргом летной эскадрильи Прибалтийского фронта. Первое свое ранение он получил в самом начале войны: их корабль попал под обстрел. Второе ранение — в 1943 году, когда рядом с ним взорвался снаряд и его ранило осколком в ногу. Мама показала мне все награды дедушки, в том числе орден Красной Звезды и орден Отечественной войны. После войны прадедушка закончил вечернюю школу и техникум, работал на Московском заводе «Микромашина» начальником цеха. Когда праздновалось 40летие Победы над фашистской Германией, моего прадедушку приглашали в Ленинград, где был открыт Музей обороны Ленинграда. Там есть его фотография и рассказ о нем. Я очень хочу побывать в этом музее и увидеть это своими глазами. Я очень горжусь своим прадедом, и всеми кто воевал за Родину, ведь если бы не они, нас могло бы не быть! Яна СТЕФАНСКАЯ, 5 «Б» класс 325 боевых вылета М оего прадедушку звали Семён Васильевич Липицкий. Он ушел на фронт через неделю после начала войны. За его плечами уже была учеба не только на историческом факультете МГУ, но и курсы ОСОАВИАХИМа по специальности штурман. Поэтому его направили в 719ый авиаполк ночных бомбардировщиков на 3ем Украинском фронте. Основным предназначением полка была бомбардировка переправ, аэродромов, складов, огневых точек, скоплений техники и живых сил противника. Прадедушка был штурманом на самолёте Р5, совершил 325 боевых вылетов. Штурман отвечал за маршрут и местонахождение самолёта, а также сбрасывал бомбы. Его самолёт не раз сбивали фашисты, но за всё время войны он не получил ни одного серьёзного ранения и всегда возвращался в свой полк. На фронте Семён Васильевич вступил в партию, был отличным авиаразведчиком, лучшим лектором полка, выполнял обязанности переводчика и военного корреспондента, участвовал в художественной самодеятельности, писал стихи, которые публиковались во фронтовых газетах. Прадедушка прошёл всю войну и закончил её в Румынии в звании полковника, но командование не разрешило ему покинуть полк, а дало задание написать боевую летопись полка. Семён Васильевич лишь ненадолго съездил домой в отпуск и вернулся в Румынию с женой и дочерью, где до 1946 года выполнял своё задание. Фронтовая дружба — дружба навек. Фронтовые товарищи прадедушки решили после войны повторить боевой путь своего полка, и каждый год 9 мая, будучи уже совсем немолодыми людьми, встречались в городе, где стоял их полк во время войны. Потом Семён Васильевич был направлен в Москву в академию Фрунзе на военноисторический факультет, затем прадедушка поступил в адъюнктуру и защитил кандидатскую, а потом и докторскую диссертации по теме «История военной авиации». Семён Васильевич преподавал военную историю в академии Фрунзе, а выйдя на пенсию, продолжил работу в Московском институте электроники и математики. Прадедушка был награждён орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны, тремя орденами Красной Звезды и множеством медалей. Он был учёным, опубликовал более 50 работ, большинство издано отдельными книгами и брошюрами. Все они по военной тематике, отдельные переведены за рубежом. Нет ни одного учебника военной истории, в котором не использовались бы его материалы. Прадедушки не стало в 1996 году. Мне очень жаль, что дедушка не дожил до моего рождения и я не услышал всех этих историй от него самого. Денис БАТАЛЕНКО, 8 «А» класс 7/31 ПРОБА ПЕРА Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Путеводная звезда»! Меня зовут Софья, мне 12 лет, я живу в Москве. Правда, сюда мы переехали недавно, до этого восемь лет жили в Севастополе. В прошлом году нашу центральную детскую библиотеку посетил писатель Альберт Лиханов, он подарил нам и нашей библиотеке книги и журналы. Так «Путеводная звезда» оказалась у меня в руках… Мне очень понравился ваш журнал и стал вмете с «Детской романгазетой» самым любимым. Я очень люблю читать, и с двух лет пишу стихи и рассказы. Буду очень рада увидеть их в вашем журнале. Софья КРАСНОЩЕК, 11 лет, г. Москва Ве сен няя сказ ка З имой солнышко отдыхало далеко от земли. И тогда небо достало для земли новую белую шубку. Солнышко далеко, а земле тепло. Один раз солнце выглянуло и смотрит: уже пора быть весне, а земля ещё шубку не хочет снимать — холодно, видно. Тогда стало солнышко спускаться ближе к земле. Чем ближе, тем жарче. Совсем близко подплыло солнышко к земле и обняло её своими золотыми лучами. А снежная серебристая шубка, которая грела землю, засмеялась и потекла по ней ручьями. Земля улыбнулась, вздохнула, и начали расти травы и цветы. Деревья покрылись цветочками и листочками. Вернулись с юга птицы, и в их гнездах запищали желторотые комочки. Как чудесна весенняя природа! Не бо К акая восхитительная вещь — небо! Огромное, необъятное. Бывает, доброе, ласковое, а иногда расшумится, посереет, потемнеет, дождём и градом сыплет, гремит громом, молнией сверкает!.. А на следующий день опять голубыми глазами смотрит, улыбается. Изменчивый характер у неба, и вид тоже очень изменчивый. Вот взять, к примеру, облака. То на небе сказочная картинка с цветами, зверушками, а то посмотришь, и жутко становится — какойто мужчина сверху смотрит. А, может, у неба и звук есть? Такой чистыйчистый! Вот ведь птицы слышат. Не зря они парят в такой сказочной гармонии, они чувствуют небо каждым пёрышком и слышат… Ут ро Б ыла ночь. Полная луна освещала серые стволы деревьев и каждый тонкий колосок на пшеничном поле. Всё было тихо. Ласково и нежно играл оркестр ночных сверчков, так играл, что больше тишины становилось. Как будто изпод струн вылетала тишина и раз- 8/32 ПРОБА ПЕРА леталась по всему миру. Всё замерло. Замерло и ждало, ждало чегото прекрасного и чудесного. И вот горизонт начал розоветь. Розовел он медленно и постепенно. Но всё оживилось и затихло: в небе показалась тёмная точка — жаворонок. И зазвучал гимн утру! Не обыкновенный гимн, а чудесный гимн, который могли петь даже те, у кого нет голоса, — они пели душой. Деревья шелестели. Лёгкий ветерок помогал им в этом. Ручей тоже пел, пел каждой струйкой хрустальной воды. А меж тем небо всё больше розовело, и, наконец, вершины сосен и дубов загорелись, как будто какойто волшебник зажёг им всем по маленькой волшебной искорке. Всё запело более оживлённо. И, наконец, показался край огромного и величественного солнца, которое бросило в сонную землю сноп горячих лучей, и она засмеялась. Засмеялась каждым камешком и травинкой. В объятиях солнца всё из тёмного и чёрного стало ярким, свежим, умытым золотом. Наступал большой праздник — Новый День! П од крыльями Пегаса Пер вый день по зна ния Н а огромной планете под названием Земля в большой деревне и в не очень большой корзине первый раз в жизни открыл свои глаза маленький щенок. Он зажмурился от яркого света, но ощутил над мордой тёплое дыхание матери. Щенок почувствовал поддержку и снова открыл глаза. Он увидел своё отражение в других, склонившихся над ним глазах, он почувствовал прикосновение уже очень знакомого, тёплого и шершавого языка. Это дало щенку понять, что можно начинать. Он не знал, что будет делать, но уже начал действовать, подчиняясь природным инстинктам. Опираясь на четыре слабых пока ноги, он поднялся. Ноги не слушались, разъезжались и дрожали, но всё же через некоторое время с помощью материнского носа малыш стоял на свежей траве. Вся природа приветствовала его шелестом листьев, дуновением ветерка. Щенок набрался смелости и сделал… шаг. Большие собачьи глаза обошли всё, что могли, и ощупали всё, до чего дотягивались. Новые знания наполнили маленький мозг. Щенок начинал жить! ЛЮБОВЬ Любовь — это радость и счастье в кармане, Веселое солнце в темном тумане, Любовь — это сон необычный И кролик пушистый, коричневый. Стелла МИЛОВАНОВА, 8 лет ГЖЕЛЬ Белое на тёмносинем? Или синее на беломбелом? Может, это просто иней? Может, он растает летом? Может, это синий вечер В белый снег добавил краску? Как мы ждали эту встречу! Как мы ждали эту сказку! Может быть, зимаколдунья Перепутала два цвета? Ворожила ночью лунной И заснула на рассвете. И оставила на память Синий цвет на поле белом. Радость взрослым и ребятам — Расписное чудо Гжели. Полина ДАВЫДОВА, 11 лет ПОНИ ПО ИМЕНИ СОНЯ Мне подарили однажды пони, Желтую пони по имени Соня. Спит она утром в желтой коробке, Днем засыпает на книжной полке, Вечером дремлет в школьном портфеле, Ночью уснула у куклы в постели… Ну, просыпайся же, сонная пони! Не надоело ли спать тебе, соня? Давид АРУТЮНЯН, 8 лет 9/33 НЕ НАДО ЛЯЛЯ! вдруг разом сломались с жутким скрежетом, оставив после себя только боль. Это было невыносимо… А утром пришла медсестра, которая делала ему уколы по утрам, вызвала врачей, и они сказали, что хозяина больше нет. Я не знаю, что было потом, и возможно, это к лучшему. Я так и не могу забыть его руки. Никогда… Маша ЩАВЕЛЕВА, 8 кл. ГИТАРА И РОМА Р П И А Н И Н О, или ПОДСЛУШАННЫЙ МОНОЛОГ Е го руки были старыми, морщинистыми, но такими нежными. Он прикасался к моим клавишам так ласково, словно к самому дорогому, что есть в его жизни. Он садился на вертящийся табурет, надевал огромные очки, становясь похожим на стрекозу, и открывал мою крышку. Она была пыльной, оттого, что у него никогда не было сил на уборку, а потому его пальцы оставляли чёткие отпечатки. Затем он проводил самыми кончиками пальцев по клавишам и начинал играть. И я пело, это было прекрасно. Никто не заставлял меня так петь, как умел это делать престарелый музыкант, мой хозяин. Мне было не больно, только иногда внутри сжималось чтото от этой музыки. Порой он играл часами, но потом глаза его закрывались, руки бессильно ложились на меня, и он то ли засыпал, то ли просто замирал в задумчивости. Он играл на мне уже много лет, иногда приводил своих учеников, и они неумело тыкали в меня своими жёсткими пальцами. Но учеников не появлялось уже давно, и на мне играл только хозяин. Я не знаю, сколько ему было лет, наверно, много по человеческим меркам. Но однажды, когда он сел играть, его руки тряслись и он ошибся. Сначала один раз, затем ещё и ещё, он не успевал нажимать нужные клавиши… Эта мелодия была мне знакомой, мы пели её уже много раз, но он её словно забыл, и ничего нельзя было с этим поделать. В ту ночь мой хозяин умер. Я не знаю, как поняло это в абсолютной темноте нашей маленькой квартиры. Но когда старые часы пробили два ночи, чтото словно оборвалось внутри меня, мне захотелось плакать, и показалось, что все молоточки, что когдалибо были во мне, 10/34 ома Белозор — невысокий, ничем не выделяющийся мальчик с соломенными волосами. Его трудно распознать в толпе. Несмотря на его непримечательную внешность, он очень интересный человек. Рома уже семь лет занимается в музыкальной школе (сейчас ему 14). Он играет на гитаре. Както раз я спросил, почему его выбор пал именно на этот инструмент, а не на контрабас, скрипку или барабаны. Рома рассказал, что его дедушка играл на гитаре, и поэтому он тоже захотел овладеть этим музыкальным инструментом. Еще мой друг пытается написать собственную песню, но, к сожалению, никак не может закончить свое произведение. Когда допишет ее, я стану первым слушателем. Впервые я услышал его игру три года назад — в пятом классе. В на- НЕ НАДО ЛЯЛЯ! шей школе проводился праздник Масленицы. Из нашего класса приняли участие несколько девочек и Рома. Он играл на гитаре «Валенки» — простую, добрую и веселую песню, а девочки танцевали и пели под нее. Он выступал так жизнерадостно, что все разулыбались. Благодаря Роме дуэт «Валенки» получил первое место. Другое его выступление я наблюдал в седьмом классе. В нашей школе готовили «Последний звонок», и ребята показали выступление для выпускников школы. Рома пел и играл на сцене. Он исполнял прекрасную песню «Аллилуйя» на гитаре и одновременно пел. В зале был притушен свет. Зрители решили поддержать Рому — включили фонарики на своих телефонах и стали медленно ими размахивать в такт музыке. Получилось завораживающее зрелище. Музыка затихла, зал взорвался аплодисментами. Я не люблю классику — мне больше по душе современная музыка. А вот вкусы Ромы совсем другие. Он обожает классических музыкантов, например, Бетховена, Моцарта, Мусоргского… В этом году Рома оканчивает музыкальную школу, но, к счастью, с гитарой не расстается. Саша СПИРИДОНОВ, 7 «А» кл. школы № 2095/1227, г. Москва ИЗ НАШЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ Зависимость от окружающих — вредная привычка? («Путеводная звезда» № 2/2015) Такой вопрос, который поднял ваш журнал в мартовском номере, меня очень волнует. Вернее, я просто в панике оттого, насколько я завишу от общественного мнения. Когда становится совсемсовсем плохо, я как мантру повторяю слова Ошо, был такой индийский духовный лидер, который жил в прошлом веке. Он говорил: «Величайший в мире страх — это страх перед мнениями других. В то мгновение, когда ты не боишься толпы, ты больше не овца, ты становишься львом. Великий рев раздается в твоем сердце — рев свободы». Иногда я специально рычу во все горло, дада, рычу во все горло, чтобы выбить из себя раба мнения окружающих меня людей и почувствовать свободу, право на самоутверждение. Попробуйте — и вы почувствуете, что в это мгновение станете сильнее. Мы не рабы, рабы — не мы. Zorezet, 15 лет Еще чего захотели — с ума сходить по поводу слов других. Да они сами с ума сходят, мучаясь, что вы о них думаете. Давайте никого не есть, не издеваться, не унижать, а помогать друг другу. Ненависть — это качество, которое недостойно человека XXI века. Лиза БУШУЕВА, 7 кл., г. Рязань На до ли стре мить ся к иде а лу? («Пу те вод ная звез да» № 3/2015) Хочу присоединиться к обсуждению этого вопроса. Мне кажется, что стремиться к идеалу надо обязательно. Без этого не будет духовного и физического развития человека. Если поставить перед собой некий порог, то вплотную подойдя к нему, подумаешь: «Я всего достиг, я мастер в этом деле!», и тогда в тебе проснется гордыня, хотя на самом деле человек может достичь большего, но и это большее не будет идеалом. Идеал должен быть выше того, что может достичь человек, чтобы всегда было к чему стремиться. Тогда и результаты будут выше, и человек будет объективен, когда скажет: «Нет, нет, это я могу сделать лучше». Надо совершенствовать себя на протяжении всей жизни. Серафима АРТЕМОВА, 15 лет, г. Москва Нетнет, меня все равно никто не убедит, что надо стремиться к какомуто идеалу. Даже выражение такое есть: «Идеал недостижим». И чего тогда переживать, рвать пупок, портить себе нервы? Хотя, положа руку на сердце, без идеала скучно жить. Эх, всетаки прав был Булат Окуджава, когда пел: «Мне надо на когонибудь молиться…» Человек — выдающийся, достигший больших успехов, да даже самый обычный человек, но которого ты любишь, может быть идеалом. Давайте договоримся так: к идеалу надо стремиться, но держите себя в руках и не паникуйте, если пока не получается чтото сделать идеально. В жизни нельзя отчаиваться. Александр ДОБРЯКОВ, 17 лет, г. Тверь 11/35 КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ М ы начали наши заседания «Клуба творческих личностей» разговором о самом коротком жанре — афоризме, а сегодня речь об еще одном «самомсамом» — самом свободном жанром — эссе. В переводе с французского эссе означает «попытка». Попытка написать живо, эмоционально о том, что тебе интересно, что тебя волнует. За образец мы взяли «Письма о добром и прекрасном» писателя и ученого Дмитрия Сергеевича Лихачева. В каждом письме он размышляет над самыми важными вопросами жизни человека. Прочитав книгу, мы сформулировали свои темы для писем — эссе. Вот они: ✔ Молодость определяет всю жизнь? ✔ Моя взрослая жизнь будет продолжением моей молодости? ✔ В чём самая большая цель в жизни? ✔ Чем отличается мудрость от ума и интеллигентность от образованности? ✔ Нужно ли искать смысл и цель жизни? ✔ Жизнь — непрерывное созидание и творчество? ✔ Что в жизни можно творить, в чём проявлять творчество? ✔ Что объединяет людей? ✔ Надо ли мучиться своими недостатками? ✔ Когда следует обижаться? ✔ Честь и совесть — одно и то же? ✔ Карьеризм делает человека несчастным? ✔ Как избежать «дурного влияния»? Если темы вам интересны, поразмышляйте над ними и постарайтесь перенести свои мысли на бумагу. Это и будет эссе! Будем рады, если вы пришлете их нам в редакцию! А пока прочитайте, о чем пытаются размышлять молодые люди из литературного клуба «Венды». Как избежать дурного влияния? Ч тобы избежать дурного влияния, я считаю, самое важное — это читать книги, которые помогут в жизни. Помогут в общении. Хорошие и глубокие книги, которые научат отношению к жизни, к людям! Научат думать и выражать себя, своё мнение, свою личность. Думаю, очень часто подростки попадают под дурное влияние через интернет. Они не знают ещё, что в нём хорошего и интересного. И попадают на всякую галиматью. На всякую гадость, подлость. Кроме того, интернет отучает общаться! Поэтому, чтобы избежать дурного влияния интернета, найдите себе хороших друзей в жизни! Держитесь их! И читайте книги! Иван КУЗНЕЦОВ Кому «больше всех надо»? С овсем недавно летом я отдыхала на даче. Дело было в Тюмени. Стоял чудесный день: солнечный, радостный, тёплый. Я пошла в магазинларёк. Мне пришлось очень долго стоять в очереди. Я стояла, держа руки в карманах. А когда я стала вынимать руки с зажатыми в них монетами, одна монетка выпала из ладони и закатилась под витрину. И именно в этот момент подошла моя очередь. Мне как раз этой монетки и не хватило. Что же делать? И тут одна женщина, стоявшая за мной в очереди, пожалела меня, улыбнулась и протянула мне свою монетку. Неверное, она подумала, что я бедная… А я… А мне… даже стыдно стало! Я ведь вовсе не бедная! Но я запомнила поступок этой женщины на всю жизнь! Я очень благодарна ей. Теперь я знаю — нам всем «больше всех надо»: и женщине, и тебе, и мне. Только тогда у нас всё будет получаться, когда мы научимся помогать друг другу. Маша СЕМЁНОВА 12/36 КЛУБ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ О цели в жизни каждого человека есть своя цель в жизни. Самая большая. Самая заветная. Моя цель довольно банальна и «заезжена». Я хочу найти способ лечения рака. Возможно, изза того, что с этой болезнью у меня личные счёты. Я хочу создать лекарство для уменьшения или вовсе исчезновения раковых опухолей. Рак — одна из самых «популярных» причин смерти. Я хочу спасти миллиарды людей. Я видела, как рак рушит жизнь, меняет человека и затем убивает. У всех своя самая главная цель. Для одних — семья, для других — деньги, карьера. По этой цели можно судить о человеке: о его алчности или же напротив — доброте и любви. Ксения НИКИТИНА У Может ли вещь перевернуть жизнь человека? У писательницы Тэффи есть юмористический рассказ о воротничке, который «вторгся» в жизнь героини Олечки и изменил ее жизнь в худшую сторону. Я думаю, под влиянием вещиц можно понимать влияние различных обстоятельств на человека. Представьте, что вы попали в новый коллектив. И стать там «своим» можно, лишь изменив себя и свой образ жизни. Вам очень повезет, если компания будет хорошая. Тогда вы изменитесь в лучшую сторону. А если ваши новые друзья — разбойники? Либо вы становитесь такими же, как они, либо вы — изгой. Многие люди под чьимто влиянием меняются, становятся непохожими на самих себя. Вопрос в том, можно ли этому както противостоять? Расскажу о себе. Я, оказавшись в новой школе, изменилась — надеюсь, в лучшую сторону. Потому что многие ученики добрые и веселые. «А вещи?» — спросите вы. С ними — то же самое. Когда мне купили новый телефон, я заметила, как стала глупеть. Целые дни я проводила, глядя в экран. Слава богу, я скоро осознала, что так нельзя. И стала читать книги вместо сидения в интернете. Вообще, я считаю, что человек с сильным характером будет меняться в хорошую сторону. Остальным — совет: выбирайте правильно компанию и вещи, окружающие вас! Лиза БЕЛЯЕВА Существует ли фатум? В опрос о фатуме — зачастую последний вопрос, в который «упирается» человеческий разум, оценивающий важные события. «Было ли произошедшее судьбой? Предначертанием?» — вот что спра- шивает человек, когда действие разрешилось финалом. Думаю, не случайно Михаил Лермонтов последней главой в «Герое нашего времени» сделал «Фаталиста». Есть целое течение в философской мысли, которое утверждает, что жизнь человека подчинена предопределению судьбы. На этом же постулате основаны и многие массовые религии мира. Можно ли верить в предопределение? С одной стороны, во многих произведениях, мифах, сказаниях утверждается неоспоримость существования судьбы. Например, в трагедии Софокла «Эдипцарь». Или в «Песни о вещем Олеге» Пушкина. Князь узнаёт в предсказании, что его конь по воле судьбы станет причиной его смерти. Князь Олег принимает «радикальное» решение — отправить боевого товарища, коня, в «отпуск» подалее от себя. Но предсказание сбывается! Гибель приносит князю змея, притаившаяся в черепе коня. Фатум бывает не только трагическим. Некоторым героям «чертовски» везет с судьбой. К примеру, Эрасту Петровичу Фандорину, герою романов Бориса Акунина. Эраст Петрович всегда выходит «сухим из воды» — даже когда находится на грани жизни и смерти. Похожа на фандоринскую и судьба еще одного великого сыщикадетектива — Шерлока Холмса. Ему в самый критический момент — во время схватки с гениальным «плохишом» Мориарти — удаётся избежать падения в Рейенбахский водопад. И в «Герое нашего времени» прицельная пуля казака чудом не настигает Печорина. Что всё это доказывает? Может быть, то, что существует не судьба, а чтото менее роковое и более «простое», бытовое — везение или невезение? Сам Григорий Александрович Печорин относится иронически и критически к вере предков в сверхъестественные силы, в знамения, посылаемые нам небесами. Но пример Вулича, застреленного именно в тот день, когда и предрекал Печорин, говорит об обратном. Появляются новые вопросы: можно ли поспорить с судьбой? Или обыграть, обмануть её? Но даже таким волевым героям, как Эдип, Геракл, Ахилл, Гектор это не удавалось. Трудно сказать определенно, существует ли судьба. Или мы принимаем за неё стечение обстоятельств, совпадение условий? Так или иначе, понятие судьбы не отменяет понятия личной ответственности и выбора между добром и злом. Финал может быть разным. Но выбор нужно стараться сделать осознанно, правильно и в пользу добра. Иван КУЗНЕЦОВ Подготовил Евгений СЛАВУТСКИЙ, педагог, журналист 13/37 ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 10 августа 1628 года вся пристань перед королевским дворцом в Стокгольме была заполнена праздничной толпой. Ждали знаменательного события, в первое плавание отправлялся новый военный фрегат «Ваза». Этот красавец корабль, названный в честь королевской династии Ваза (Vasa) все лето стоял у причала против дворца, на нем заканчивали отделку. Жители города не уставали восхищаться его красотой. Можно было бесконечно смотреть на его мачты, на 20метровые палубные надстройки, безупречные линии бортов и балконов, а особенно — на резные позолоченные скульптуры на корме и носу корабля. Их было 700. Тут были и фигуры рыцарей, и античных богов, а еще королевский герб, великолепные орнаменты, выполненные искусными мастерами. Нос корабля украшали четырехметровые львы, изображенные в прыжке с раскрытой пастью. А какой он большой, этот корабль! Построенный из прекрасного дуба он имел 65 метров в длину, почти 12 в ширину и казался очень стройным. Говорили, что король Густав II Адольф сам утверждал все его размеры. Он настаивал на небольшой ширине корпуса, для большей маневренности и скорости судна. Это должен был быть не только самый крупный, но и самый быстрый и самый вооруженный корабль, флагман шведского флота. В окошках вдоль его бортов виднелись два ряда медных пушек. И вот наступил торжественный момент. Прогремел салют береговых орудий, священники освятили корабль, капитан приказал отдать швартовы. Шестнадцать моряков, вращая тяжелый ворот, подняли на борт якорь. Под восторженные крики толпы, кидавшей в воздух шля- 14/38 пы и шляпки, корабль отчалил от берега. Экипаж состоял из 405 моряков и артиллеристов, кроме того на борту находились члены семей офицеров, они теперь весело махали оставшимся на берегу. Король милостиво разрешил взять их с собой, пока «Ваза» будет плавать во внутренних шхерах. Дул легкий порывистый ветер, но море было спокойным. Развернув все паруса, корабль, вышел за территорию порта и на виду у берега дал двойной залп из всех своих шестидесяти четырех пушек! Клубы дыма окутали судно и на время скрыли его от восторженной толпы. Когда дым рассеялся, толпа на берегу замерла, «Ваза» лежал на боку, касаясь парусами воды! Это был ужас! С раскрытыми парусами, с развевающимися вымпелами и штандартами он быстро уходил под воду и через 10 минут исчез в водовороте. ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ ИЗ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ Спасательные шлюпки устремились к месту катастрофы, но 170 человек спасти не удалось. Расследование, проведенное по требованию короля, было быстро свернуто. Выяснилось, что крушение вызвано неустойчивостью судна, его центр тяжести оказался лежащим слишком высоко изза двух рядов пушек, на которых настоял король. Да и все конструктивные размеры были утверждены лично Его Величеством, который активно вмешивался во всё в процессе строительства. Не судить же короля, в самом деле. С тех пор прошли столетия. О «Вазе» забыли, решив, что деревянное судно давно разрушилось и занесено илом. Но в 1940 году инженерофицер Андерс Франсен решил найти место, где лежит «Ваза», и поднять его. 16 лет его катер с драгой бороздил стокгольмскую гавань, делая промеры, и в 1956 году нашел затонувший корабль. Водолазы подтвердили, что это «Ваза» и, что особенно удивительно, корабль практически цел! Балтийское море имеет слабую соленость, и корабельные черви мало повредили его древесину. «Вазу» аккуратно подтащили на мелководье, и в апреле 1961 года судно было поднято на поверхность. Корабль пролежал на дне 333 года! Сейчас блестяще отреставрированный корабль стоит в построенном специально для него здании оригинальной архитектуры. Этот музей одного корабля открыт в Стокгольме 16 августа 1990 года. «Ваза» — единственный в мире корабль XVII века, сохранившийся до наших дней. маз. Такова была не первая и не последняя трагедия, связанная с этим алмазом. Этот алмаз вообще никогда не продавали и не покупали, а всегда отбирали силой или хитростью. В 1739 году в Индию вторглись войска персидского НадирШаха. Они вошли в Дели и были поражены роскошью городских построек, блестевших золотом и драгоценными камнями. 58 дней персы безжалостно грабили и разрушали город. Надир слышал о Павлиньем троне и алмазе Великих Моголов. Однако воины, ворвавшиеся во дворец, ал- «ГОРА СВЕТА» Н ет прекраснее драгоценностей, чем крупные граненые алмазы! Во всем мире они наперечет. Но, как показала история, лучше с ними не связываться. Индийский властитель XVII века ШахДжахан из династии Великих Моголов больше жизни ценил свой великолепный алмаз. Этому камню приписывали магические свойства, алмаз передавался в семье от отца к сыну. Он являлся символом и защитой власти Великих Моголов. Джахан вставил алмаз в свой трон, который прозвали «Павлиньим». Огромный трон под балдахином с каймой из жемчуга был настоящим произведением искусства. Главным украшением был золотой павлин, его раскрытый хвост, свитый из золотой и серебряной проволоки, сверкал изумрудами, сапфирами, рубинами, подобранными по цвету и рисунку, как у перьев настоящей птицы. В глазу павлина, как раз над головой шаха, сиял прекрасный алмаз. Можно защититься от внешних врагов, но как трудно уберечься от врага в своей семье! Подросший сын Джахана, жестокий и честолюбивый Аурангзеб, совершил дворцовый переворот, убил своих братьев и завладел властью. Отца он вместе с сокровищами запер в подземелье крепости Агры. Суеверный страх перед заветным камнем, с которым Джахан не расставался, помешал сыну убить отца. Семь лет просидел Джахан в крепости и в 1666 году умер, прижимая к груди свой ал- 15/39 маза не нашли. Султан МухамедШах, его тогдашний владелец, сбежал вместе с камнем. Павлиний трон персы вывезли на восьми верблюдах, а алмаз продолжали искать. У одной жены из гарема Мухамеда враги выведали, что тот прячет алмаз в своем тюрбане. МухамедШаха догнали и вернули. НадирШах милостиво пообещал возвратить ему власть и пригласил обрадованного Мухамеда на пир, который устроил в знак примирения. На пиру победитель напомнил о старинном обычае, в знак мира два бывших врага должны поменяться тюрбанами. Отказ означал бы страшный позор. И МухамедШах сам отдал свой тюрбан вместе с драгоценным алмазом! Рассказывают, что когда НадирШах развернул тюрбан и увидел блеск алмаза, он воскликнул: «Гора света!», на фарси «Кохинор». С тех пор алмаз носит это имя. Счастья НадирШаху «Кохинор» не принес. Он так боялся потерять его, что ему везде мерещились воры. В конце концов, шах сошел с ума, и его убила собственная стража. Последний раз «Кохинор» захватили англичане после бунта двух сикхских полков в 1848 году, который они подавили. Вместе с другими драгоценностями сикхского раджи знаменитый алмаз отправили в Англию и подарили королеве Виктории. Сейчас он вставлен в малую королевскую корону и хранится в Тауэре. Римма АЛДОНИНА СООБРАЖАТЬ НАДО! муравей по имени Лев. И жилбыл лев по имеЖЗовутилбыл ни Муравей. Изза этого в лесу всегда был переполох. муравья — идёт лев. Зовут льва — идёт муравей. ЛИСА И МЫШИ На склоне лет своих лиса Мышей ловить устала уж, Но виду им не показала, А только лишь промолвила однажды: «Коль принесёте дань мне, Сколько я скажу, То я вас от всего освобожу. И кушать больше вас не буду. Но лучше уходите далеко отсюда, А то не выдержу, и всем вам будет худо!» Подумав, мыши согласились. И вот на утренней заре Лиса огромнейшую выкопала яму. «Сидеть я тут, конечно же, не стану, — Подумала, — а буду я гулять И жизнь лисью прославлять». И вот она, с прогулки возвращаясь, В мечты о лёгкой жизни погружаясь, Мечтала в яме увидать барана, Трёх уток и быка, Того, что видела вчера у мужика… Но вместо этого увидела она Пожалуй, тонны три отборного зерна… Конечно, в голову не приходило ей, Что требовать нельзя другого от мышей. Софья КРАСНОЩЁК, 11 лет, Москва Звери очень устали от этой неразберихи и попросили льва и муравья поменять имена. Сказано — сделано! Муравей взял имя Лиса, а лев назвал себя Волком. Тут пуще прежнего пошла путаница! Зовут волка — приходит лев, зовут лису — приходит муравей... Тогда звери сказали: «Лев и муравей, назовите же себя наконец как следует! Пусть льва зовут Лев, а муравья — Муравей!». Но лев и муравей не захотели сделать, как их просят, а вместо этого вообще ушли из леса. И что же? Вскоре про них все забыли. В лесу теперь порядок. А где наши герои и что делают — не знает никто. ЧАЙНИК И ДРУГИЕ илбыл на кухне чайник. Он считал, что он круче всех, и Жна кух не раз об этом заявлял. Сначала все другие предметы не посмеивались. Но когда чайник всем окончательно надоел со своей «крутостью», на него все ополчились. Чашки заявили, что у них есть дно и ручка. На что чайник сказал, что если бы не он, то они и вовсе не были бы нужны. Кастрюли сказали, что они шире чайника, и в них входит больший объём воды. Ножи заявили, что они гораздо остроумней. А ложки гордо промолчали. — Ну ладно, — сказал чайник. — Уговорили. Я не крутой. Ну что, лучше вам стало? Андрей АНДРЕЕВ, объединение «Журналистика и риторика» ГБОУ ДООЦ «Пресненский» 16/40 (Продолжение. Начало смотрите на странице 24) рассадник комаров, выныривает на луг перед Шелковичами. Вон уж и хаты видны, и я еще раз останавливаю машину. Боже! На теперешнем пустыре был когдато колхозный двор. В трех хлевахпульманах было полно коней, коров, телят. Вот здесь всегда дымилась кормокухня, там — звенела кузница. Дальше журавлем в небо торчал колодец. Возле него — два длинных корыта — поилки для скота. Вся шелковская детвора проходила практику возле тех корыт. В них воду нужно было лить да лить: очень были жадны к воде волы, лошади, коровы. Теперь тут пустынно, дико. Не стихия, не война, а сами местные правители уничтожили шелковский колхозный двор. Некоторые постройки разобрали на дрова, а некоторые отдали огню. Так исчез с лица земли «оплот» колхоза имени Молотова, за который загремели в Сибирь многие шелковцы, в том числе и мой дядя Тодор. Не хотел вести свою корову на колхозный двор, словно предчувствовал такой разрушительный финал. А отец мой с Мамой — послушники. Так и положили жизни на чужом поле. Теперь и свое зарастает... 48 Стою на том месте, где было когдато наше подворье. И в памяти оживает всевсе, до мелочей. На улицу хата смотрела двумя окнами. Перед ней штакетник, клен и лавочка. О той лавочке можно писать отдельную книгу, если б мог вспомнить, кто на ней сидел и о чем говорили. На ней и я провел свои первые свиданкиобниманки с Джеммой и Октябриной. Так звали шелковских девчат. Я и сейчас дивлюсь, откуда мои болотные односельчане брали такие модные имена? Были еще — Ларик, Эна, Нюся, Сарафина, Аршуля, Варька, Арина... Но больше всего помнится, как на уличной лавочке сидели мои родители. Особенно в последние годы. Седыми голубками сядут рядышком, смотрят на луг, за ним лес и о чемто своем думают. Может быть, они так, тихо и молча, прощались с этим миром, исповедовались за прожитые годы, готовили себя в вечность? Если надоест сидеть на скамейке, засунь руку в круглое окошко в воротах и открой изнутри защелку — зайдешь во двор. Хата взглянет на тебя тремя всевидящими глазами. Справа — высокий штакетник, чтобы куры не могли перелезть в огород. На нем всегда висели, сохли жбаны, подойник, банки, лапти, портянки да разное тряпье с плеч, попавшее под дождь. В пристяжку к хате — сени с приставной лестницей. Дальше — погреб, дровяник, хлев для коровы и хлевушок для свиней. За хлевом стоял еще один «стратегический» объект — без дверей, чтобы, как зайдешь туда, видеть солнце днем и любоваться звездами ночью. Вот и все имение Лапташей. Было! Теперь здесь пусто. Мама и отец переехали на кладбище. Хата — в Боровики, к новому хозяину. Там, где она стояла, — куча кирпичей от печи, бурьян и дикий малинник вокруг. Тропинки заросли густой травой. Стою, как вкопанный столб, среди дворища. Окаменел от печали и жальбы. Осиротело не только все вокруг. И я осиротел. На мою заснеженную голову садится бабочка. Она, видно, устала летать по пустому дворищу, а тут стоит столб, можно отдохнуть. Пусть бабочка думает обо мне что хочет, а я рад ей. Она разделила мое горькое одиночество на отцовском дворище... 49 «Сынок, заходи в хату», — будто слышу голос Мамы. Очнулся. Бабочка стартует с моей головы. Прощально помахивает крылышками. Летит к дубу, что сторожит наш огород. Иду по цепкой траве. Ишь ты, трава и та соскучилась. Не хочет так просто отпускать. Шаг... Еще шаг... Еще... И я — на крылечке из пяти дощечек. Берусь за отшлифованный ладонями деревянный штырек. Это — самодельная ручка в двери. Второй рукой поворачиваю пузатенькую планочку, прибитую гвоздем к косяку вместо замка. Дверь скрипнула, и я — в сенях. Справа — небольшое окошко на одно стеклышко. Слева, в углу, — ведро с водой. Возле него — кружка. Зачерпываю воду и, словно в жару, большими глотками утоляю жажду. Кажется, не пью, а тушу пожар, пылающий в моей душе. Ведро с водой в наших сенях встречало каждого, кто входил в хату. Заходи, милок, гостем будешь! А я не спешу. Хочется постоять в сенях да припомнить всехвсех, кто переступал порог нашей хаты. Приходили шелковцы одолжить соли, хлеба, сала. Просились ночевать нищие. Попрошайничали гаданьем цыганки. Приезжали гости с Добужи, Великого Леса, Автюков, Узножи, Шатилок, Медведова, Степянки. 41 Всех принимала хата. Всех поило ведро в сенях... 50 Мама! Позволь войти в кладовку. Она здесь, в сенях, отгороженная дверкой из желтых шелевок. На ней никогда не было замка, но ходила туда, как помню, только ты. Что же получалось? Всей семьей добывали припасы, а Мама хозяйничала над ними. Нужно было уметь так носить сало из кубла, чтобы успел подрасти следующий кабанчик. Нужно так угощать колбасами, копченым окорочком, чтобы их хватило до новых. Нужно так брать муку и крупу из кадок, чтобы дождаться нового урожая. А еще в кладовке Мама держала яйца, масло, сыры, сметану, варенье, жбаны с молоком. В кадочке с крышкой — соленые грибы. На отдельной полке, укрытые рушником, — булки выпеченного хлеба. Будто с ними вместе отдыхало само августовское солнце. Боже мой, стою на пустыре, на том месте, где когдато была кладовка, а голова кружится от знакомых запахов. Слюнки текут от одних воспоминаний. А вместе с ними текут и... слезы. От боли и обиды, что никогданикогда Мама уже не угостит меня своими припасами. И душа моя кричит: «Люди, братцы, если у вас Мама живая, берегите ее, летите к ней, чтоб насмотреться, наговориться. Милые мои, с ней вкусна и сухая корочка. Без нее горек самый сладкий пирог...» мить стеклышко, чтобы я мог спокойно смотреть на яркое небо. Над входной дверью заметил пучок засохших бессмертников. Боже, Боже, ведь это Мама собрала их на лекарство. Хотела одолеть хворь. Услышал ее голос: «Сынок, если б ты знал, как не хочу умирать». Помню, схватил тот пучок травы, и меня самого ктото подхватил под руки: я вдруг стал проваливаться в какуюто бездну. Позже рассказал о мамином бессмертнике своему сердечному другу, поэту Миколе Малявке. Его тронул рассказ и вылился в стихотворениепосвящение: На покуці — Жалобнае маўчанне: Асірацеў ён, Родны дом. Не засталося завяшчання — Пісала маці граблямі, сярпом. Не нажыла за век багацця, Апроч дзяжы, дайніцы, гладышоў, Апроч — любові... Сын у хаце Сухі пучок бяссмертнікаў знайшоў. Вачэй не звёў да трэціх пеўняў. I тчэ здагадку думкапавучок: Заместа завяшчання, Пэўна, Застаўся ён, Бяссмертніку пучок. Ах, каб дайшла на свет той Тэлеграма: «За дар апошні дзякуй, мама!» 51 52 Когда Мамы не стало, вернулись с кладбища, и я долго не мог отважиться переступить порог хаты. Стоял в сенях, гладил ладонями каждую дощечку. Всматривался в каждую мелочь. Все сразу стало какимто иным, будто музейным. В перекладину воткнуто веретено. Боже, его держала в руках Мама. Она ночами крутила его своими ручками. На полочке — задымленное стеклышко. Это Мама когдато задымила его, чтобы я мог смотреть на солнце. В тот день объявили по радио, что будет затмение. Вся деревня взбудоражилась, когда средь бела дня вдруг стала наступать ночь. Кто умел — крестился. А мы, пацанва, зажмуривали глаза, хотелось не пропустить того вре ме ни, ког да на све ти ло бу дет на пол зать чтото черное. Тогда Мама и догадалась зады- А теперь, друзья, зайдем в хату. Запомните, все здесь сделано руками отца. Бревна вытесаны им. Двери и окна — выстроганы бессонными ночами. Обеденный и праздничный столы, полочки, скамьи, табуретки, вешалки, рамки, кровати, ложки — все сделал он, Степан Липский, лаптюжный дворянин герба Грабли, муж моей Мамы, урожденной дворянки Янушевской. Нажимаем на металлический язычок щеколды. Тянем на себя ручку. И дверь, покряхтывая, открывается. Теперь мне понятен ее глухой охрипший скрип. Служба не из легких: перед каждым откройся, за каждым закройся. А если учесть, что в хате своих восемь «шморгунов», если учесть, что шелковцы любят ходить друг к другу, то входной двери забот по самые петли. И как ее ни смазывай, 42 она все равно стонет. Может, это и хорошо, что дверь в хату немножко скрипучая. Не нужно, как в городской квартире, звонков. Скрипнула дверь — жди на пороге человека, своего или чужого. А если дверь не взята на щеколду, а дверь в сенях — настежь, — жди нежданных гостей. Зайдет кот Васька. Заскочит петух. Залетит шершень. Забредет даже поросенок, захрюкает, напомнит, что пора его кормить. Стою на пустыре, где была наша хата, и вспоминается такое, о чем никогда и не думал, пока жил в ней. Вот уж правда так правда: что имеем — не храним, а потеряем — плачем... Ну что ж, дверь открыта, заходи в свою хату, проголодавшийся путник. У печи, как всегда, — Мама. Она ставит в кочерёжник чепелу, с которой стояла и пекла пышные блины, рукой вытирает губы и бросается ко мне, целует. И только два слова вырываются из ее груди: «Сыночек!.. Приехал!..» Вот олух, балбес, почему не приезжал домой чаще? Хотел мир повидать. Людей знаменитых повстречать. Искал радостей на праздниках в Корее да Австрии. Открывал Америку, Европу, Россию. А начало и конец всех радостей и открытий там, где зарыта твоя пуповина. Прости, читатель, за мои нюни. Сегодня я обязательно проведу тебя по первой половине нашей хаты. Даже не придумаю, как ее иначе назвать. Одна печь здесь целое царство. За заслонкой каждое утро хозяйничал огонь. Он съедал ладную охапку березовых, дубовых или ольховых дров. С вечера их приносил отец. Это была и наша, детская, работа. Маму берегли, чтоб не поднимала тяжелое. Да где за ней уследишь! Таскала и дрова, и воду из колодца, вязанки сена с далеких лесных выжарин. Когда печь протоплена, огонь ложится спать в золу. А в самом чреве печи стоят чугуны, сковороды, кастрюли с вареным, жареным. О Боже, какие только блюда не готовила наша Мама! Но чтоб их попробовать, надо сесть за обеденный стол. Он — у окна, в красном углу. С трех сторон лавы, с четвертой, в торце — табуретка для Мамы. Над столом, вверху — Боженька за марлевой занавеской. Умеешь — перекрестись. Но школа воспитала нас непреклонными атеистами. И родители, чтоб не смущать детей, крестились перед иконой тайком, как бы прячась. Мне казалось, что за марлевой занавеской живет ктото загадочный и мудрый. Он все видит. И его глаза держали меня в дисциплине. Это теперь знаю наверняка. С той стороны, где сидела Мама, к стенке был прибит шкаф, от потолка до пола. Там хранились, как пишут на деревенских магазинах, «товары по- вседневного спроса». А точнее: тарелки, миски, вилки, ложки, ножи, рюмки, хлеб, соль. Там, на бесчисленных полочках, Мама держала самогон, конфеты, семечки, орехи, купленное в магазине печенье. Мамины спряты не были под замком, а лишь завешены белым ситцем. Но не припомню случая, чтобы ктото без ее разрешения залез туда. Разве что Петро. Когда сушило в горле и жгло под ложечкой — искал открытую бутылку. Рядом со шкафом стояла еще одна лавка. На ней — ведро с водой и кружка, а под ней — ушат. Над ним можно руки ополоснуть, в него можно вылить недопитую воду, выбросить огрызок, высыпать очистки. Над лавкой — домотканый рушник. Маминой работы. Утрешься им, становишься розовый, как пасхальное яйцо. У печи еще одна лавка и широкие полати. После сытного завтрака — полежи здесь да погрей пятки. А если холодно, полезай на печь. Там всегда застлано. Там всегда можно найти белые тыквенные семечки. Там хорошо думается и сладко дремлется. Из прихожей в светлицу ведет тонкая двустворчатая дверь... О! Простите, сегодня мы ее открывать не будем. Я устал от воспоминаний. Хочу задержаться на теплой печи. Мама будет драть, щипать перье, а я натешусь, налюбуюсь ею. Мы будем разговаривать молча, чтобы никому не докучать своими воспоминаниями. В этой молчаливой тишине пусть каждый подумает о своем... 53 И приснился мне сон. Лежу на теплой печке. Вокруг — никого. Во все пять окон нашей хаты заглядывает раннее утро. И вдруг, о Боже, с улицы, через стекло смотрят на меня родители. Мама без платка, седая, волосы гладко зачесаны, лицо спокойное, приветливое. Отец без шапки, чисто выбрит, усы подкручены вверх. Показались и исчезли. А я проснулся. Что бы это значило?.. Может, рады, что я помню их? А может, обижаются, что продали хату? Так знайте, Мама и Папа, я всю жизнь жалею, что хата уехала в Боровики. За те мизерные деньги, вырученные Любой и Петей за хату, мы заказали вам в Светлогорске памятники, с фотографиями. Они и стоят на шелковском кладбище. Боже, пусть бы лучше хата стояла на наших сотках. Пусть бы лучше сгнила, но была на месте. И сейчас я зашел бы, растопил бы печь, дотронулся бы до каждой вещицы, жившей с родителями и с нами, детьми. 43 Стою на заросшей дернистой земле. Отстраиваю в памяти нашу хату. 54 Наблюдал, как солнце воевало с тучами. Высокая серая стена закрыла небо. Она, видно, висела всю ночь. И только к утру, испугавшись света, стала растекаться. Особенно в той части неба, откуда должно взойти солнце. Тучи убегают, словно их выталкивают с неба длинные всесильные рукилучи. И вот показывается само солнце. Своей «лысиной», «лбом» зажгло пламя на востоке. Зарозовели и тучи и начали таять в этом ярком пламени. А солнце уже «глазамилазерами» оглядывает мир. Показались его «щеки», «подбородок». Солнцеколобок — на своем троне. Еще какоето мгновение оно позволяет смотреть на себя. Но огненнозолотистый ореол усиливает свое сияние и уже нельзя взглянуть на него. Зажмурь глаза, брат, и не сопротивляйся. С утренним светом приходят новые воспоминания. Сегодня я захожу в нашу шелковскую светлицу. Здесь, за голландкой, — кровать, на которой долгие годы спала, а потом тяжело болела и умирала Мама. Кровать деревянная. Ее когдато смастерил отец. Постель тоже самодельная. Матрацсенник сшит из клетчатых полотняных постилок. Одеяло ватное. Подушки из куриного пера. Под ними всегда лежал какойнибудь гостинец: конфета, печенье, опреснок, горсть семечек или городской бублик. Мама любила баловать внуков и делала это с большим удовольствием. На стене у маминой кровати вместо коврика висела домотканая постилка в шашечки. А за ней, как и по всей хате, в пять слоев обои. Почему в пять? Да потому, что никто не обрывал старые. Когда они выгорали до белизны, родители искали копейку, которой всегда не хватало, на новые. Последними в светлице были синие обои. На них — белые узоры из ромбиков и кружочков. Под этими — другие, с зелеными цветами. Мама с Лидой оклеили хату к моей свадьбе. Правда, гулянья большого, на всю деревню, не было. Собралась только близкая родня. Но ту зеленую светлицу я очень хорошо запомнил: все торжество было посвящено мне и Нине. Как же, женился меньшенький, последний из Лапташей. Под зелеными обоями были сиреневорозовые. Их тоже помню хорошо, с сестрой Любой волокли на своем горбу из самих Шатилок. Шли целый день, отдыхали у колодцев. Помню, переступили порог — Мама начала охать, хвалить нас, а я падаю от усталости. Мама напоила меня парным молоком, уложила в свою постель, как маленького, укрыла одеялом, поцеловала. Всю ночь плясали в моих снах сиреневорозовые облака. Перед этими обоями были желтосерые, под цвет тому тускложелтому огню, которым освещалась тогда лампойкеросинкой наша хата. При ней я учил уроки, сестры вязали, Мама пряла, папа бондарил. Когда кончался керосин, разжигали коминок, лучина освещала хату. А первый раз стены в хате оклеили газетами. Как сейчас вижу на каждой из них портрет всенародного отца, генералиссимуса Сталина. Его усы и трубку запомнил на всю жизнь. А еще — китель и улыбку. Так запомнил и полюбил, ревом ревел, когда Иосиф Виссарионович умер. Мне казалось, мир вотвот обрушится, небо упадет на землю и солнце никогда больше не взойдет над землей. В красном углу светлицы жил маленький Христосик, божий мальчик с ягненком на руках. Рядом с ним — крестик с синей ленточкой. У мальчика — светлый взгляд, милое личико. Я в детстве часто смотрел на него, почемуто хотелось с ним поговорить. Не успел расспросить Маму, где она взяла ту иконку, когда она появилась у нас. Хочется верить, что купил ее отец на радостях, когда ехал забирать нас из Горвальской больницы. Стены светлицы были увешаны фотографиями в рамках. Там — весь наш родовод. Целая книга. Всматривайся, вспоминай, расспрашивай. А устанешь стоять возле рамок — садись в кресло, сделанное отцом, к тебе подвинут широкий дубовый стол и будут угощать как самого дорогого гостя. Еще на чистой половине хаты стояла этажерка с газетами и книгами. На стене тикали ходики, на полу лежали самотканые дорожки. А главной гордостью светлицы были четыре ее окна. Ими она неусыпно следила за улицей и огородом. В них, как в телевизоре, все видно: гребутся ли куры в грядках, что делают соседи, кто и с кем идет улицей, вот полетели аисты на луг... Ни хаты, ни окон. Стою сиротой на дворище. Восстанавливаю в памяти хату... Очнулся от голоса Петра: — Что приуныл, братуха?.. Моя Дина завтрак уже на стол выставила. Пошли!.. Идем в хату к Петру. Она рядом. Садимся к столу, на котором вареное, соленое, жареное. Как когдато у Мамы. Петя сочувственно спрашивает: — Будешь? И я не прошу, а отчаянно кричу: — Наливай!.. 44 55 56 Сидим с Петром на скамейке возле его хаты. Мой брат годами уже пережил Маму. Худенький, седой, измученный болезнью, тяжело, прерывисто говорит: — Она была такая, как я, — худая. Последнее время по больницам возили. Болело что и у меня сейчас: в груди тяжело и в голове. Мне бы тоже полежать в больнице, так не за кем. Дина только по хате может с палочкой пройти. В хлев уже не зайдет. Огород зарос. Такие дела, братуха... — Расскажи о Маме. — Трудилась, света ясного не видела. Не жадная. Делилась последним и со своим, и с чужим. Учила, чтоб не воровал. И никогда не била... За нас, братуха, за каждого могла жизнь отдать. Вот какая наша мать... Жили в землянках войной. Я тебе смастерил автомат: палка, каток, веревка. Вот таким партизаном бегал ты по лесу. Однажды выскочил нарыв на ноге, так Мама с отцом ночью пошли искать партизан. Привели лекаря, и тот сделал тебе операцию... Боже, только сейчас, уже седой, узнал историю таинственного шрама в паху. Спасибо, Мама, за спасение. Низкий поклон тебе, незнакомый партизанский хирург. Петя закурил, пустил дым под нос, вспомнил еще один момент: — Ехал я из Уфы, из госпиталя. Сопровождала меня медсестра. Я, считай, брат, с того света ехал. Меня ранило в голову под Паричами. Подобрали, можно сказать, не жильца. В Шелковичи прислали извещение, что я погиб. А я выжил. Меня отправили в Уфу. Там и перезимовал. А весной — домой. Приехали с медсестрой в Речицу, сообщили в Шелковичи... Я спал, просыпаюсь, глядь — лошадь с повозкой на улице. Мама приехала за мной. Бог ты мой, я выскочил, давай Маму целовать и плакать. Все ведь думали, что я давно похоронен... Спрашиваю: «Почему отец не приехал?» Сорок километров дороги лесами, болотами. Голодные волки везде. Мама говорит: «Бригадир дал лошадь с условием, что отец останется на работе в колхозе». А бригадир тот был брат отца Иван. Вот какая строгость была тогда в колхозах... Слышь, а назад в Речицу отвезти медсестру лошадь не дал. Так девчата наши, Клава и Люба, провожали ее. Вернулись полуживые, ноги в кровь изрезали. Мама давай лечить, давай над ними квохтать. Так она всю жизнь, как курицанаседка, оберегала нас... В ушах — мелодия Игоря Лученка «Світанак». Кажется, весь пропитан я этими звуками. Кажется, и в сегодняшнем ранкесвитанке высоко в небе кружат аисты. И из песни, и не из песни. Чем так встревожены птицы, которые, по преданию, были когдато людьми? Они собираются в теплые края. А перед этим кружат над пустым гнездом. У них были жизнь, любовь, дети. Теперь — никого и ничего. Даже листья опадают с деревьев до весны. Пожелтел луг, на котором все лето жировали аисты. Откормили детей лягушками, ужами. Оперились, возмужали аистята и взмахнули крыльями. Боже, все утро звучит в душе песня и прорываются в память отдельные слова, от которых сжимается сердце. Гэта наша пара, нас паклікала з дому дарога, А матулям пра нас будуць сніцца бясконцыя сны... Так и в жизни. Мама мила, пока в корыте мыла. А потом дети ищут свое место, свою дорогу. А удел матерей волноваться и ждать, и видеть бесконечные тревожные сны. С ними они незаметно седеют, болеют и отходят в вечность. И тогда отовсюду в отчий дом слетаются дети, родня на молчаливое прощание. И только тогда начинаешь понимать, почему кружат аисты над хатой. И тут эта печальная мелодия, эти грустные слова поэта: Узняўся над лесам світанак крылаты, I зорка упала, як кропля з вясла... Сегодня, на восходе дня, все клеточки моего тела поют эту песню. А по небу плывут белые облака, как мамины платочки... 57 — О Маме просишь рассказать? — сестра Люба повела глазами на окно, выхватила из памяти, что ближе лежало. — Идет жито жать. За плечами — трояны. Петя — на руках. Клаву ведет за руку. А Люба — в животе. Вот как жила Мама... Заметила, что я не все понял, стала объяснять: — Трояны — это три высокие палки, в одном конце связанные веревкой. А другие концы разводятся и втыкаются в землю. Занавешиваются трояны постилкой. Вот и готов шалашик, хатка, спальня — как хочешь называй. Сверху, где связаны три палки, свешивается веревка, к ней при- 45 вязан обруч, обшитый полотном. Это люлька для ребенка. Люба увидела, что я жду, добавила: — Так вот, мой братка. Петя — в люльке. Ему два годика. Клава — за няньку. Ей четыре года. А я — в проекте. Мы вместе с Мамой жнем жито. В моем дачном музее бережно хранится мамин серп. Зазубренный, с деревянной, перевязанной проволокой ручкой. Мамино оружие на жатве. Жатва — святое дело. Никогда не пропускала она эту пору. Детей рожала в другое время. Лиду — в ноябре, Петю — в январе, Клаву — в октябре, Любу и меня — в мае, а Колю — в марте. Летом — не до родов. Летом на земле много забот. Лето зиму кормит. 58 Люба растревожила мою память. Который день что ни делаю, нетнет да и уплываю в прошлое. Вижу ржаное поле за Шелковичами, в Лозовице. А на нем жнеи: Степиха (моя Мама), Бабичиха, Кирилиха, Новичиха, Корзуниха, Калачиха, Язепиха, Милютиха, Арина, Варька, Сарафина, Маня Левкова, Соня Романова. Мама берет левой рукой полную горсть ржаных стеблей, правой заводит серп, тянет на себя. Хрусь — и в маминой руке длинная золотая прядь. Наверху — тяжелые, налитые зерном колосья. Мама бросает их на серп. И вот так, как ребенка, левой рукой под «ножки», правой — «под головку», осторожно кладет на перевясло. Поворачивается и снова кланяется житу... Еще горсть, еще... Когда набирается на сноп, Мама связывает жито перевяслом. А вечером — самое приятное. Жнеи считают снопы, составляют их в бабки. Девять снопов торчком, колосьями вверх, а десятый, колосьями вниз, прикрывает те девять. Вот и выросла на жнивье бабка. У кого их больше — стахановка. Держу в руках мамин серп. Металлическое «полотно» изрезано почти до ободка. Сколько же нужно было сжать жита, пшеницы, ячменя, проса, травы, чтобы так слизать стальной серп? Боже, почему не подсказал мне, как жила Мама, чтобы я целовал ее руки? Теперь вот целую холодный, молчаливый серп. 59 — Я тебе, братка, расскажу, как Мама рожала Колю нашего, — Люба хитровато стрельнула глазами по сторонам, чтоб никто лишний не слышал. — Шесть лет мне уже было. Мама пузатенькая ходила, а потом и слегла. Отец Анету позвал. Она у всех принимала роды. Пока та Анета шла к нам, я и спряталась на свободной кровати в подушки. Слышу, Мама стонет, а баба Анета говорит ей: «Маня, ты в бутылку свисти». И вот слышу какойто котенок мяукнул. Я высунулась из подушек, как Пилип из конопель, а баба Анета держит в руках красного ребеночка и говорит: «Маня, сын у тебя». Так вот и родился пятый в нашей семье — Коля... А как немножко подрос, Мама просит меня: «Покачай, моя донька». Я ей в ответ: «Сама родила, сама и качай...» Одного тебя, мой братка, словно пана, возили рожаться в Горвальскую больницу. Привез отец вас домой, а мы, старшие, весь вечер имя тебе придумывали. Хотели Юрочкой назвать, как раз был день Юрия, так я заупрямилась: «Ага, надо мне тот Юрка Кашеваров». На хуторе жил какойто Кашевар, и у него рос диковатый Юрка. Я тогда уже была пионеркой и говорю: «Пусть лучше будет, как Ленин — Володя». Так и назвали... А когда пошли у самой дети, так и я одного своего сына Володей назвала. Мой братка, как ни назови, хоть горшком, лишь бы здоровым был... Я вот Люба, любимая, а прогоревала всю жизнь. Небога мой Иван вечно пил и скандалил. Сейчас вот золотой человек встретился, Иван Васильевич, так старость подкралась... Гощу у сестры Любы, в Добуже. В ее хате бывала Мама. Она сюда выходила первый раз замуж. Дышала добужанским воздухом, ходила пыльной улицей, травянистыми тропками, ведущими к озеру. И я приехал будто на свидание с ней. А Люба, как связная времени, что ни вспомнит, хочется записать и запомнить. Помогает писать портрет Мамы... 60 — Отец наш проводил с нами урок на честность, — расщедрилась Люба на воспоминания. — Положил однажды на стол конфеты и посчитал их. Приходит со двора, а двух конфет нет. Зовет нас на допрос. «Ты, Клава, брала?» — «Не». — «Ты, Петя, брал?» — «Не». — «Ты, Люба, брала?» — «Не». — «Ты, Коля, брал?» — «Не». Никто не признался. Тогда он берет ремень и начинает угощать. Мама молчит, не вмешивается в науку. Когда всем досталось, Петро хлюпает носом: «Это я, татка, стибрил конфеты». — «Ах ты?! Изза тебя всем перепало...» И добавил Петру еще... С тех пор никто из нас без разрешения ничего не брал. И в чужие огороды не лазили... Люба немножко передохнула от воспоминаний. Поойкала, что время так быстро летит, сама уже прабабушкой стала, затем снова давай вспоминать: 46 — У Мамы — своя наука. Однажды Петро подучил нас играть в прятки. Бегал, прятался в соломе за сараем, разбросал ее всю. Ну, отец, вернувшись с колхозного поля, стал выяснять: кто солому разбросал? В воздухе запахло ремнем. Я к Маме: «Мамочка, я не виновата, я в соломе не пряталась». Мама поверила и говорит: «Залезай на печь, спрячься». Так и спасла от наказания... Она была мудрой учительницей. Мои все дети — и Клава, и Витя, и Володя — начинали учиться в Шелковской школе. В нашей Добуже школы не было никогда. В чужую деревню не наводишься. Вот родители и принимали на воспитание внуков... Особенно дался им мой меньший, Володя. Однажды Мама и говорит ему: «Почему ты, внучек, такой досужий? В пруд залез — ногу поранил. В карьер полез — чуть не утонул. За машину цеплялся — прокатиться...» — «Баба, сидишь дома, а все видишь», — удивился Володька. Мама отвечает: «У меня Боженька в углу сидит. Он все видит и мне рассказывает». — «А ты, баба, закрой его не марлей, а одеялом». — «Так нельзя, внучек. Боженька должен все видеть...» С того незаметного урока моего Володьку как подменили. Помнил, что за ним неусыпно следит мудрый дедушка с иконы и обо всем рассказывает бабе Мане... Приеду из Добужи навестить, Мама и начинает рассказывать потехи с ним: «Внучек мой, до каких пор тебя Шура будет водить в школу? Ты уже большой. Как же ты в армию пойдешь?» — «Баба, я в армию не пойду». — «Почему, внучек?» — «Я же дороги туда не знаю...» Люба ладонью вытерла губы, как бы отгоняя воспоминания, спохватилась: — Ой, братка мой, засиделась с тобой, свиньи хлев уже, видно, развалили. Пойду управляться. Мама наша тоже всю жизнь на ногах прожила. Бывало, просится: «Деточки, дайте полежать, хоть минутку». Я и сама такая... Хорошая была Мама, царствие ей небесное. Жила для детей... Люба, видимо, неожиданно для себя самой бросилась к шкафу, порылась там и показала реликвии: мамины кофту и юбку. Боже мой, она это носила!.. 61 Мама милая! Вот уже несколько дней живу в бывшем княжеском замке под Курском. Здесь сейчас санаторий «Марьино». Он принадлежит администрации Президента России. И приезжают сюда большие «тузы». А мы, друзья детей со всего бывшего Союза, здесь на семинаре. Собрал нас писатель Альберт Лиханов. Князь Барятинский построил когдато этот дворец для своей любимой красавицы жены. В нем все словно небесное, величественное, красивое, прямо дух захватывает, даже разговаривать хочется шепотом. Есть здесь комната, в которой хорошо слышен и шепот. Встанешь в угол лицом, а ктото другой — в противоположный угол. Шепчитесь! Люстра, подвешенная под стеклянным куполом, освещает даже нижний этаж. Картины, бюсты, обои, залы, камины — все это как бы переносит в иной мир, который трудно представить. Каждую минутку, Мама, мне казалось, что вот в таком небесном храме ты отдыхаешь сейчас. Ты там княгиня, а рядом — твой князь Степан. Вы заслужили такой отдых, мои любимые. На искусственном озере, рядом с дворцом, — небольшой остров. На нем растут березы, липы. Здесь — миниатюрная часовенка и две мраморные плиты. Под белой покоится княгиня, под черной — князь Барятинский. На его плите выбито: «Почий в мире поки глас трубный не воззавет тебя к вечной радости». Говорят, Мама, вечная радость там, где ты сейчас. Может быть, и правда. Только мне почемуто снова и снова вспоминаются твои слова: «Ох, детки, так не хочу умирать». Ты долго болела, родная. Я помню, с чего все началось. Ты шла из Шатилок. А в Селище, уставшая, заночевала. Последние семь километров назавтра шла целый день. Мы с Колей мыли полы, слышим, скрипнули ворота. Ты, как зашла во двор, так и упала вместе со своим узлом. Мы бросились поднимать, стали плакать, а ты вся горела огнем. Что делать? Отец и все старшие — на колхозном поле. Коля побежал за ними. А я — за Шелковским знахарем Мищуком, за бабкой Анетой. Мы не отходили от тебя, родная, пока ты не посмотрела на нас ясными глазами и не сказала: «Буду жить!» Ты знаешь, Мама, цену жизни на земле. Сделай все, золотая, чтобы мы, твои дети, долгодолго были на этом свете. 62 Сестра Лида, царствие ей небесное, когдато сказала мне: «Ты, братка, хоть свету повидал, поездил везде, а мы перетолклись в Шелковичах. Только и знали дорогу — в хлев да в огород, на печь да на колхозное поле...» Когда Лида говорила «мы», она говорила и о Маме. Как я знаю, Мама из Шелковичей выезжала два раза. Первый раз со мной, маленьким в Хойникский район. Там на подсочке работал наш Микола, приженился с местной Надеждой, и мы ездили на смотрины. 47 Помню, идем по Шелковичам. Мама в новой атласной блузке, на голове — белый платок в маковые черные точечки. А я — в майке, коротких штанишках, босой. Перед детворой задаюсь: еду далекодалеко, в неизвестный город Хойники. Мы долго шли пешком. Нас подбирали попутки. Втиснулись в какойто автобусик, набитый людьми, как тыква семечками. И наконец встретили Миколу и его высокую Надю. Ты знаешь, Мама, что жизнь с той Надей у Коли не сладилась. Но ты не знаешь, родная, что Хойникский район сейчас — рискованная чернобыльская зона. Ты знаешь, Мама, что Микола наш потом женился на Нине Беляковой в Гомеле, перевез туда свою хатку из Шелкович. И она (Нина) родила ему трех сыновей — Костю, Витю и Юру. Но ты не знаешь, любимая, что Колина Нина умерла. А сам он остался без ног. Одну ампутировали в Гомеле, вторую — в Минске. И сидит он, наш непоседа, бескрылой птицей то в кровати, то в инвалидной коляске. Помогаю ему, как могу. Но ведь свои ноги под него не подставишь... 63 Вторая мамина дальняя поездка была ко мне. Тогда мы с Ниной и Игорьком жили в Городее, на сахарном заводе. Я — слесарил, заочно учился в университете и писал заметки в газеты. Мама приехала с Петровой Диной. Как она радовалась встрече! Как она хотела, чтоб меньшенький оправдал ее надежды. Поднимала рюмочку с капелькой вина на донышке и неизменно повторяла: — Деточки, живите, людей не смешите. Дай Бог вам радости на долгие годы!.. Тогда я провожал Маму до Минска, показал университетские здания, куда ездил на сессии. Прошлись по проспекту. Погостили в Степянке, у маминой сестры Агаты. Боже, это была последняя дальняя поездка Мамы. Она начала долго и неизлечимо болеть. Ты же не знаешь, Мама, что у нас с Ниной родилась еще Маринка, а у нее уже есть своя доченька — Машенька и сынок Толик. Игорь наш со своей Таней растят Антона. И все мы живем в Минске. Любимая моя, живешь и ты с нами. И не просто в памяти — в сердце. Ты помогаешь в ежедневной жизни. С тобой мы советуемся, тебе подотчетны. Спасибо, родная, что ты благоволишь нам, и я сегодня утром обращаюсь к твоему Царю Небесному: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, избавитель наш, молитвы ради Пречистой Матери Твоей и всех святых помилуй нас. Владыко Небесный, Утешителю, благодарю, что ты везде сущий и все исполняющий. Приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Боже, души наши. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь». 64 Закрою глаза и вижу Маму. Она присела возле костерка, держит сковороду. На ней скворчит жир. А в нем жарятся вьюны. Мы с Лидиным Мишей натоптали в пруду. Толстые, с мою руку. Поджарые. Изворотливые. Ох и крутились, когда Мама сыпнула на них соли, готовы были вылузнуться из кожи. Теперь Мама жарит их. Будем ужинать. Мама отцедит чугун с бульбой. Высыплет в глубокую глиняную миску. Поставит на треножник сковороду с вьюнами. Мы сядем вокруг душистой, рассыпчатой бульбы, схватим по вьюну и будем уплетать их, аж за ушами будет трещать. Боже, слюнки текут от воспоминаний о таком ужине. Бывало, что прибедняться, ужинал в шикарных ресторанах НьюЙорка, Чикаго, Мехико, Брюсселя, Копенгагена, Хельсинки, Инсбрука, Вены, Софии, Берлина, Варшавы. Подавали деликатесы, но, вспоминая это, никогда не текли слюнки, как от маминой бульбы, сваренной на костре под небом. И от шелковских вьюнов, зажаренных Мамой на черной сковороде. Смакота! 65 За жизнь перепробовал сотни сортов колбасы. Но такой, какую делала Мама, не ел нигде. Как же она делала ее? Помню, сидит и терпеливо режет мясо на мелкие кусочки. Не на мясорубке, как делают сейчас, а ножиком, ощупывая своими пальцами каждый кусочек мяса. Потом перетирает его в корытце. Помесит, помесит, возьмет на язык, подсыплет соли, перца, укропа и опять перетирает. Когда колбасы «соспеют», зовет когонибудь из детей на помощь. И я бывал у нее подручным. Держу кишку, а Мама заталкивает в нее мясной фарш. Приятный запах щекочет ноздри. Мы вместе с ней чихаем, радуемся, что растет гора красных колбасных колец. Те, которые будут подвешены для сушки в кладовой, перевязываем льняными нитками. 48 49 Часть колбас Мама складывает в пузатый горшок и заливает жиром. Они останутся свежими и через несколько месяцев. Остаток Мама кладет на сковороду и ставит в печь. Колбасы там тушатся, покрываясь коричневой корочкой. Хрустят на зубах, а вкус такой, прямо дух захватывает. Когда ешь такую колбасу, следи, чтоб нечаянно язык не проглотить. Каждый раз, когда гденибудь в деревне угощают колбасой, вспоминаю мамину. Вкуснее еще не пробовал. 68 Прочитал у Максима Танка, родившегося и похороненного возле Нарочи, стихотворение о маме. Целехонький день оно звучит во мне. Не знаю, Ці ёсць жыццё На нейкіх зорках. Я знаў толькі адну зорку — Пяцікрылую далонь маці, На якой выраслі Мы, наш хлеб, нашы песні, Святло якой Вечна струменіць. 66 Еду, Мама, на Нарочь. Это тебе не наш пруд, что можно штурмовать, сняв штаны. На Нарочи, Мама, есть места до 25 метров глубиной. И озеро такое, что почти не видно берегов. Как от Шелкович до Добужи. Мы с тобой, Мама, будем здесь целых двадцать дней. Я буду писать новую книгу, а ты — вдохновлять меня. Я буду удить рыбу, а ты — цеплять ее на крючок. Я буду ходить за грибами, а ты — находить их. Я буду плавать в бассейне, а ты — придавать мне силы. Ты со мной, Мама, везде. Не оставила даты своего рождения, потому каждый день праздную его. Боюсь пропустить твое столетие. 67 Меня, шелковца, на Нарочи приветствуют и подружески откровенничают со мной большие и известные люди. Среди них — олимпийский чемпион Александр Медведь, композитор Дмитрий Смольский, известная певица Наталия Гайда, высокий чиновник и прекрасной души человек Павел Шипук, редактор президентского журнала Владимир Величко... Мама! Это ты научила меня ценить людей. Ты научила разговаривать с ними и уметь их слушать. Ты научила приветствовать знакомых и незнакомцев. Ты научила беречь дружбу. И я чувствую, мне легко и просто с такой наукой. Ее чувствуют люди, с которыми встречаюсь. Ее, как могу, передаю своим детям, внукам. И снова, Мама, я беру в руки твою фотографию и, как перед иконой, исповедуюсь, благодарю тебя за дарованную мне жизнь. Да хранит тебя Бог в своем Царстве вечности и радости. А я буду хранить в земном царстве, пока дышу, пока живу, пока вижу свет. 69 Молотим жито. Но не комбайном. Колотим праниками по снопам. Колотим, теребим колосья, выколачиваем из них зерно. Сидим с Мамой на полу, там, где стоял обеденный стол. Сейчас он и лавки сдвинуты к печи. Шкафчики, полки закрыты постилками. Икону Иисуса из красного угла Мама сняла, поцеловала и отнесла в светлицу. Зачем ему глотать пыль вместе с нами. Сидим и молотим жито. Я обобью сноп. Мама проверит, не осталось ли зерен в колосьях, похвалит. Радостный, что меня похвалили, бегу к сараю, тащу новый сноп. Мне сподручнее перебежать двор. Я и Маме принесу сноп. И солому вынесу из хаты. Снова сидим и бабахаем праниками по снопам. Мама подзадоривает: — Давай, сынок, не вместе стучать, а по очереди. Получится музыка... Та музыка и сейчас звучит в ушах. Смотрю на Маму, а у нее под носом выросли седые усики. Мне смешно, я выпускаю из рук праник. И Маме смешно, ведь и у меня под носом такие же усики. Маленький, а с усами. Подбегаем к зеркалу. Хохочем друг над другом. Вот и передохнули. А Мама предлагает еще кружку молока с ломтем хлеба. Сидим и уплетаем. Запах того хлеба помню и сегодня. Я знал ему цену. Знал, как он доставался родителям. И сам помогал добывать его. 70 А еще помню, как Мама научала молодых ребят: «Не выбирай девушку на вечеринке, а выбирай, когда лен треплют...» 50 О, разве можно забыть тот лен. Им можно любоваться только в поле. Особенно, когда цветет. Боже, кажется, живые голубые озера разливаются тогда в Капищах, в Лозовице, в Дуброве. Словно огромными глазами смотрят наши поля во Вселенную. Говорят, наши Шелковичи получили название свое от льна. Очень уж родил он на наших землях. Местные крестьяне возили на ярмарки — продавать, обменивать. Там их и приметили купцы, спрашивали: «Где те люди с шелковым льном? У вас не лен — шелк, а сами вы — шелковцы...» И приклеилось название «Шелковичи» к тому хутору. Потом хутор вырос в деревню, где и прожила жизнь моя Мама. Сколько помню, Мама всегда возилась с колхозным льном. То его надо убрать с поля, связать в снопы, то расстелить, чтобы по нему прошлись туманы, дожди, росы, солнце. Затем лен сушили в овине. Он стоял за деревней в сосоннике. Весь лен высушить там было невозможно, поэтому бригадир приказывал брать снопы и сушить дома, в печах. Помню, Мама протопила печь, выгребла уголья и натолкала туда снопы льна. А в устье поставила чугунки с едой. Все работали на огороде. И вдруг Петро как закричит не своим голосом: «Горим!» Из раскрытых окон хаты валил густой серый дым. Вскочили внутрь, попадали на пол, так как вверху дым стоял стеной. Кашляем, чихаем, давимся, а Шурик Лидин кричит: — Баба, открывай быстрей заслонку, обед сгорит!.. Конечно, все пооткрывали: и двери, и все окна, и вьюшки, и заслонку. Когда дыма стало меньше, Мама выхватила из печи чугунки с обедом. А лен не спасли. Бригадир оштрафовал Маму за то, что не проявила бдительности к колхозному добру, нанесла ущерб социалистическому хозяйству... 71 Мама считалась в колхозе полеводом. Были — животноводы, механизаторы, специалисты, руководители среднего звена, контора и сам пан председатель. А полеводы — все остальные. Полеводов по полям водили. Коксагыз полоть — под Задиреевку, лен брать — под Лозовицу, сено ворочать — в Капище, бульбу копать — в Горы, жито жать — на Дуброву. Полевод — куда пошлют. Важная должность в колхозе. Без полеводов председателю и бригадирам нечего делать. Агроному тоже. Колхоз — выдумка двадцатого столетия. Полевод — выдуманная профессия. Полевод — жнец, косец и на дуде игрец. Потому и вспоминаю Маму чаще всего усталой, невыспавшейся. Молотили тогда даже по ночам. На колхозном току. При фонарях. А утром веяли, насыпали в мешки и везли сдавать, рапортовать: «Спасибо партии родной за стопудовый урожай». Сестра Мамы Анюта иногда всерьез предложит: — Маня, скажись больной. Бригадир отстанет. Хоть выспишься... — Ты что, сестрица, разве можно обманывать?.. Так всю жизнь и старалась. То на колхозном поле. То в своем огороде. Благодарность и память — только от детей. 72 Если бы умел, сложил бы песню о маминой медали. Слышал, хвалили мамины руки, ее косы, ее голос. А мне хочется прославить медаль. Теперь эта мамина награда, единственная за всю ее жизнь, — моя семейная реликвия. Часто беру медаль в руки и каждый раз кажется, что повидался с Мамой. Вот она. На желтом солнышке — Мама и Дитя. С нежностью смотрят друг дружке в глаза. Между ними — звездочка с лучами. Вокруг них — венок из листьев. Вверху, над медалью, — синебелосиняя колодочка. На обратной стороне надпись: «Медаль материнства». И здесь же — серп и молот. Но эта награда Маме не за серп, не за ее ударный труд в колхозе. Медаль — за нас, за шестерых детей. За то, что вырастила нас своим молочком здоровыми. Я — шестой в семье. Медаль Мама получила после моего рождения. Значит, и за меня. Я это знаю и ценю. И живу так, чтобы никогда и ни в чем не подвести Маму. Стараюсь оправдать ее награду. Хочется оправдать ее надежду, с которой она решилась родить меня в свои сорок два года. Мамина медаль. Она немножко и моя. Хочется когданибудь прицепить ее на свой костюм. 51 73 Бывает ли стыдно перед Мамой? Бывает. Один стыд ношу с детства. А было так. Напротив нашей хаты через улицу жила тетя Антя. Гостеприимная и вежливая, немножко набожная. Она была замужем за Миколой, братом моего отца. Тот рано умер, оставив после себя сына Ватика и дочь Валю. Они двоюродные мне брат и сестра. А поскольку я, их брат, по сравнению с ними был маленький и смешной, они любили потешаться надо мной. Вот однажды Валя и уговорила меня перейти к ним жить. Взяла тем, что у них есть коза, и она каждое утро будет давать мне целебное молоко. Пообещала сшить мне модный костюмчик, от которого ахнет вся детвора в Шелковичах. Вечерком я собрал коекакие свои вещички в сумочку, улучил момент, когда в хате никого не было, и шмыгнул в примы. В новой хате, а я там бывал ежедневно, меня тогда приняли как своего. Угощали разными лакомствами, налили кружку козьего молока, уложили спать в самую лучшую кровать. А утром, как только я открыл глаза, вошла Мама. Она, помню, была встревожена, стояла у печки, смотрела на меня и чуть не плакала: — Сынок, чем же я тебе не угодила? Разве тебе дома плохо? А я ж, сынок, всю ночку глаз не сомкнула... Я бросился к Маме. Обнял ее. Крикнул: — Прости, Мама!.. С тех пор никогда не изменял своему дому. Он для меня — милый уголок, роднее всего на земле. 74 Родному дому не изменял никогда. Но однажды оставил его навсегда. Оставил, чтобы уйти учиться и стать тем, кто я есть. Оставил, чтобы вечно болело сердце по Шелковичам. Съехал, чтобы издалека рассмотреть моих милых родителей, нашу хату. Помотался по миру, понял, почему журавли на Полесье летят и гнездятся возле моей деревни, почему аисты летят с далекого юга на наш высохший, облысевший дуб около пруда. Изучая географию не по картам и учебникам, я сделал открытие. Из нашего пруда вытекает и теряется в заболоченном лесу канавка, в которой мы топтали бовтухами вьюнов. Так вот, дорогие, это не просто канавка, а речушка Столпинка. Тоненьким извилистым ручейком она бежит, пробиваясь между корнями ольх, дубов, орешника, прорезает не одну земляничную поляну и, уставшая, впадает в речку Сведь между деревнями Селище и Черней- ки. А Сведь течет в Березину, а та — в Днепр, а он направляется в самое Черное море. Так кто теперь заикнется сказать, что мои Шелковичи — болотная деревня? Кто осмелится заявить, что мои малограмотные шелковцы — темные люди? Они мудры от неба, богаты от земли, душевные от божьей красоты, которая живет в Шелковичах. И вот этот уголок я однажды променял на большие дороги, на шумный муравейник — Минск. Помню, а как же, до мелочей помню, как меня провожали в дорогу. Перед тем продали теленка соседу. На лбу у него, как звездочка, коричневая метинка. Сам весь в огненных пятнах. Когда сосед выводил теленка из нашего двора, тот ткнулся в мои руки теплой мордочкой и лизнул пальцы. Бог ты мой, неужели прощался со мной? За теленка отец взял пятьдесят рублей. В 1957 году это были большие деньги. Их отдали мне в дорогу. Впервые в жизни держал я в руках такое богатство. И пообещал себе: как только пойду на свою копейку, отблагодарю родителей. Мама в то утро встала раньше солнца. Развела и напекла в печке толстых блинов. Целую сковороду нажарила колбасы. На мои проводы собрались все из Лидиной и Петровой хат. Все и прилепились к столу. Мама достала из своего спрята пузатую бутыль. Взрослые высказывали разные пожелания в дорогу, а малыши — Лена, Маня, Любка, Шурик — с завистью смотрели на меня. После завтрака все высыпали во двор. Там уже стояла запряженная колхозная лошадка и хрупала траву. Диковато глянула на людей, словно подумала: потяну ли телегу, если все сядут в нее? Напрасно волновалась лошадка. На телегу с сеном, застланным постилкой, отец уложил только мой чемодан. Правда, он был словно набит кирпичами. Там лежали книги и кусок сала. Во дворе меня зацеловали, заобнимали на прощанье. Все пошли за телегой. На улице к нашей семейной компании присоединялись старые и малые шелковцы, все шелковские собаки, знавшие меня. И даже Шарик Пылинского Ивана, однажды серьезно потрепавший мне брюки. Провожали, как на войну, как в армию. А я всего только ехал в Минск, учиться в техникуме. Мама не отходила от меня. Держала за руку, словно я раньше времени, быстрее лошадки мог полететь в тот Минск. Вошли в сосонник за деревней, снова стали прощаться. И я через всю жизнь несу мамин поцелуй. Горячий и соленый. Помню, Мама, и слова твои при том прощании: — Не потеряйся, сынок, в городе... Люби людей и тебя будут любить... 52 А когда мы с отцом сели на телегу и уже немного отъехали, Мама протянула вперед руки, словно хотела забрать меня из телеги, прижать к груди и никогда никому не отдавать. Я услышал только одно ее слово: — Напиши... Я тогда часто посылал письма в свою Шелковскую хату. Но все они получались телеграфные и довольно сухие: живздоров, чего и вам желаю, сало, присланное вами, уже на исходе... Вот только теперь пишу настоящее послание Маме. Но уже... на тот свет. А может, ктонибудь, прочтя его, отложит все дела, возьмет билет в родную деревню и поедет навестить родителей, послушать шепот калины под окнами. И уже этим я буду счастлив... Когда дописывал эти строки, в утреннем небе, затянутом серой пеленой, неожиданно загрохотал гром. Мне показалось — это салют моим мыслям, это телеграмма от Мамы. Значит, правильно начал день. Значит, хорошо, что и сегодня не проспал рассвет. И тут — толстый конверт из Шелкович. Первым писал отец. Он на одну зиму больше, чем Мама, учился у учителя, чаще брался за ручку. Старательно выведенными буквами излагал свое мнение: «Дорогой сын Володя, погуляй еще, ты молоденький, рано еще влезать в ярмо. Посмотри вокруг, может, есть и другие девчата. Ты ведь только окончил техникум, хотел учиться дальше. Как же ты будешь учиться среди пеленок, на чужбине, не имея своего угла?..» Логика и мудрость в словах отца были, но поздно он прислал письмо. Мы подали уже заявление в Городейский поселковый совет. Спасла и вдохновила меня мамина приписка в конце письма, о которой, чувствую, отец не знал. Видимо, он поручил Маме купить у почтальонки конверт и отправить письмо. А сам пошел пахать на волах. Тут Мама и нарисовала свои несколько слов: «Сынок, если понравилась — бери. И привези, покажи...» Так мы и сделали. После регистрации приехали погостить в Шелковичи. И получили благословение родительское. 75 77 Вместе с Алексеем Пысиным, как молитву, задаю один и тот же вопрос своей Маме: I гадоў пражыў нямала, А не знаю, як тады: Дзе ты брала, намывала Залацінкі дабраты? 76 Одно мое письмо в Шелковичи получилось длинным. Это была моя юношеская исповедь, лирическое признание в серьезном намерении. Теперь уже имею право пошутить, что свою биографию вмещаю в одну строку: «Сколько себя помню — все время женатый». А тогда я описывал родителям их будущую невестку, а мою любимую девушку, какая у нее красивая коса, какая милая улыбка, будто встретил само солнышко, и оно позволило взять себя в руки. «Мама и папа, — писал я, — моя Нина выросла только с мамой, отца не знает, умеет все делать. Родом из такой же глухой деревни, как и наши Шелковичи. Хочу жениться на ней: вряд ли встречу когданибудь лучшую...» Мне тогда уже стукнуло двадцать лет. Почувствовал себя самостоятельным. И стал готовиться к свадьбе. Редкая фотография. На лавке около нашей хаты в Шелковичах сидят: Мама, отец, мамины сестры Анюта и Агата, муж Агаты Винка. А возле них — море внуков, правнуков. Все веселые, радостные, а Мама — как ангел. Голова беленькая. Руки сложила крестнакрест, и лежат они ржаным перевяслом на худеньких коленях. Лицо заостренное, глаза запавшие. Смотрит в какуюто свою даль. Винка привстал, рассказывает чтото веселое, все смотрят на него, слушают, им весело, а Мама не с ними. Живет в своем мире. Думает о своем. Вот таким седым, земным ангелочком и ушла она в свою вечность. Рассматриваю фотографию и хочется оживить ее, признаться во всем. Рассказать Маме о том, чего она не знает в своем поднебесье. Сама собой составляется телеграмма в Царство небесное: «Мама любимая! Вчера был предпоследний день лета. Солнышко, как божий фонарик, благословляло нас целый день. И мы копали бульбу под Минском, на Лысой горе, где у нас с Ниной свой деревянный домик. Он почти такой же, какой был у нас в Шелковичах. С резными ставнями, с печкойлежанкой и балками под потолком. Целехонький день помнил тебя, Мама, как ты каждой осенью перебирала своими ручками ого- 53 род, как ты терпеливо выкапывала бульбу из каждой борозденки, как радовалась каждой новой корзине, какой утехой было для тебя, если ктото из детей занимал рядом борозду. Можно было работать и бесконечно разговаривать, расспрашивать. С тобой, Мама, интересно было беседовать, самую незначительную новость ты принимала сердцем. Вот и я на своем поле не чувствовал себя одиноким. Рядом копались Нина, наши дети Игорь, Марина и муж Марины Лёня. Но со мной была и ты, моя незабываемая Мама. Я молча копал бульбу и молча докладывал тебе. У твоих шестерых деток, Мама, своих восемнадцать детей, а твоих внуков. Два из них — Шурики, Лидин и Петров, мало пожили на свете. Петров Шурик недалеко от вас, на Шелковском кладбище, а Лидин Шурик — под Гомелем. У тебя, Мама, двадцать шесть правнуков и четыре праправнука. Хочу, чтобы они знали о тебе и помнили. Хочу, чтобы любили своих матерей так же, как я люблю тебя». 78 Слышишь, Мама, Марию из Марьиной Горки посадили в тюрьму на три года. За что? А за то, Мама, что она издевалась над своими детьми. Родила Лену, Свету, Таню, Люду и... запила. Да так «зачернилила», что стала посылать дочерей на заработки. Таскала их за волосы, колотила табуреткой, выгоняла из дому. Есть материнский угол, да не мил он детям. Дети растут в казенных детских домах. И вспоминают материнский, как страшный ад. Мамочка моя родненькая, приснись марьиногорской волчице, избавь ее от лукавого, вбившегося в ее душу, верни ее детям, которых она вынашивала и рожала. Расскажи ей, родная, как ты оберегала нас, больших и малых, от своих шлепков, от отцовских матов, от весеннего голода, от грома и молнии, от кашля и кусачих пчел. Расскажи, Мама, как ты, усталаяпреусталая, укрывала нас одеялами, укладывала спать, а сама всю ночь ткала полотно нам на одежду. Расскажи, моя светлая, как ты отдавала нам последний кусочек хлеба, а сама вытирала иссохшиеся губы мокрым платочком, как сама, голодная, радовалась, что поели мы. Приснись, Мама, той женщине, мысли о которой не дают мне покоя. Наставь грешницу на путь праведный. И пусть она ужаснется при встрече с тобой. Пусть проснется от пьяного угара и пере- крестится. Пусть помолится за своих дочерей, станет перед ними на колени, поцелует их ручкиножки и начнет вымаливать прощение. Мама, ты на Небе, ты святая и всемогущая, сделай так, как прошу я. 79 Сегодня, Мама, как раз тот день, когда я тридцать восемь лет назад женился. С твоего благословения, родная. Ага, если тебе сейчас сто, то тогда было шестьдесят два. Бог мой, и я уже приближаюсь к этой черте, к той жизненной границе, на которой ты встретила меня с Ниной. Я помню вашу с отцом золотую свадьбу. Вы сидели за столом седыми голубками, слезливые и улыбчивые. А вокруг вас — голубята, взрослые и малые, дети и внуки. Вот и твой меньшенький, Мама, подвигается к такому золотому застолью. Я все сегодняшнее утро думаю об одном: что есть у человека между рождением и смертью? Приходит он в этот мир беспамятный. И оставляет мир беспамятным. А в промежутке — что? Ночь и день, слезы и смех, бедность и сытость, грусть и радость. Зачем эти контрасты, перепады, если жизнь — одинединственный миг вечности? Так, может, правда, что вечность не на Земле, а в Царстве небесном? И кто обретает там вечность? Неужели только святые? Их так мало на земле. Все больше беспробудные грешники. Их варят в котлах? Может быть, от того дыма и гуляют по небу черные тучи? Из них сыплются на нас дождь и град, они посылают бури, метели, ураганы. А мы все не перестаем грешить. Сегодня, кажется, я чтото понял в жизни. И за это кланяюсь тебе, моя святая Мария. 80 Сидит на диване наша Маша и громко плачет: — Хочу маму!.. Я, нянька, объясняю ей: — Мама твоя и папа пошли по делам. Скоро придут. А Маша опять: — Хочу маму!.. Ротик открыт, глаза закрыты и из них катятся слезы. Боже, мой Боже, как я завидую этой плаксивой девчушке! К ней вотвот вернется мама. Приласка- 54 ет, приголубит, поцелует. А моя Мама, плачь не плачь, уже никогда не вернется ко мне. Если бы знала, Машенька, какая ты счастливая со своими слезками?! 81 Моя старшая сестра Клава живет сейчас в Калинковичах, недалеко от известных деревень Малые и Большие Автюки. Она мне как Мама. Когда ни заеду, пусть это будет утро или поздний вечер, она готовит мамино блюдо — колдуны. А в моей семье колдуны готовлю я. Никому не доверяю. И не потому, что не сумеют. Но когда я колдую над ними, кажется, рядом сидит Мама, любуется мной, поваром, подсказывает, как лучше сделать. Выдаю секрет вкуснейшего блюда. Чистим картошку. Желательно одного размера и не очень маленькую. Острием ножа выкручиваем в каждой картофелине дупло. Чем больше, тем лучше для едоков. Ведь в это дупло закладывается фарш. А он состоит из выкрученных картофельных кусочков и мяса, порезанного на мелкие кубики, проперченного и просоленного. Начиненный картофель складывается в чугун и ставится в печку. Потерпите минут сорок, поглотайте слюнки. И вы будете вознаграждены. Не верите? Попробуйте сами сделать колдуны. Рецепт рассекречен. Написал это, а в окна заглядывает серое утро. Меня приветствует новый день. В календаре он не красный. Запланирован будним, рабочим. А почему бы не сделать его праздничным? Ведь Мама в гостях. Она только что напомнила о своем блюде. На цыпочках, чтоб не разбудить никого, пробираюсь на кухню, начинаю готовить мамины колдуны. Выкручиваю картофель и думаю: «Вот если бы сегодня всевсе дети встали утром и приготовили мамино блюдо...» Спасибо, Мама, за завтрак, за праздничное начало нового дня! 82 Сегодня, Мама, наша Беларусь отмечает День Матери. А я принимаю в Детском фонде заплаканных матерей. Одна просит защитить права ее приемной доченькисиротки. Стояли с ней в очереди на квартиру. Настал желанный миг получить жилье, но их квартиру взял себе начальник стройки. Вторая просит помочь выгнать из дома бывшего мужа. Развелись с ним три года назад, но раз- водник не собирается оставлять тещин дом. Терроризирует всех, хочет отвоевать себе угол, в строительство которого не забил ни одного гвоздя. Третья жалуется на родную дочь: — Вырвала я ее из своего сердца. Вырвала и забыла. Не хочу даже видеть. И не дождусь, когда она умрет... Мама родная, как слушать такое? Как развязать эти жизненные узлы? Как пробиться к Богу, чтобы он помог им? В ушах звучат поэтические строки Анатоля Сербантовича: Нада мной падковай шчасця — месяц. Толькі б дацягнуцца і дастаць... Дай же Бог силы всем родителям и детям. Помоги им дотянуться и достать небесный месячик, похожий на подкову счастья. 83 Вымаливаю у Царя Небесного силушки для земных матерей, обиженных и оступившихся. Таких, к сожалению, очень много. Думаю, кто придавал силы моей Маме? Если сказать, что ее муж Степан, то будет так и не так. Он всю жизнь бился, чтобы был свой угол, а в нем — тепло и неголодно. Но ужиться с его крутым характером могла только Маня, моя терпеливая Мама. Может быть, мы, дети, подпитывали ее? Так и не так. Каждый из нас посвоему любил Маму, но каждый и тянул из нее жилы. Изза нас она проливала слезы, недосыпала, полуголодная шла в поле. Кажется, я разгадал тайну маминой силы. Только теперь дошло до меня. Воспитанная в большой семье, сызмальства приученная работать на земле, она поняла, почувствовала, что ее назначение в этом мире — стать Мамой. Дать надежду и веру детям и этим оправдать свою земную жизнь — вот простая мудрость моей Мамы. Боже, она слуговала нам день и ночь, и в этом была ее жизнь. Всех своих детей она научила любить землю и людей, и это стало ее главным уроком нравственности. Всех дочерей выдала замуж. Увидела невесток, а с некоторыми и прожила не один год. От всех детей дождалась внуков. Подержала их на руках, понянчила. И мне кажется, она не просто держала их на руках, прижимала к груди. Она передала им свое биополе, свою живительную энергию. И только тогда угасла свеча ее жизни... Правда, одну внучку она не успела увидеть. Но 55 знала, что у нас с Ниной должно быть пополнение в семье. Мы ждали доченьку, а сын у нас уже был. Видимо, этого ждала и моя Мама. И родилась у бабы Мани внучка Маринка, наша дочь. Она уже встала на ноги. Заимела свих Машеньку и Толика. Стала привлекательной женщиной, доброй и нежной. Наблюдаю, как она нянчит детей, как вертится у плиты, как мило провожает своего Леню на работу, как ходит и улыбается, и мне каждый раз кажется, что наша Маринка — копия моей Мамы. Она вернулась на землю в образе моей дочери. Боже, неужели это так? 84 Бруснику люблю всю жизнь. Ягоды, как бусинки, хочется нанизать на золотую нить и подарить Маме. Она никогда не имела дорогих украшений, никогда не знала парфюмерии. А иногда ягоды брусники кажутся мне звездами небесными. И снова мне хочется собрать их для Мамы. Хочется усыпать ими тропинки, по которым ходила моя Богиня. В бруснике, иногда кажется, прячутся солнечные лучи. Зеленые ягоды притянули их, вобрали в себя и сами засверкали на зеленом кустике. Их гроздья видны издали. Они светятся яркокрасными светофорами, как бы предупреждая: дальше проход запрещен. Остановись, ягодник. Каждый раз, встретив полянку брусники, сажусь на лесную самобранку. Летят воспоминания в далекую осень, когда Мама в последний раз угощала меня брусничным вареньем. Разве знал я тогда, что это ее сладкое угощенье так горько будет отзываться в душе? Мама была уже слабенькая, часто и тяжело дышала. Но я не мог смириться, что она прощается с жизнью. Да она и сама обнадежила: пошла в лес и насобирала брусники. Представляю: ходит по березнику Мама, тропинку ногами щупает, оглядывает все кругом. На голове — белый платочек, волосы седые, лицо заостренное, бледновосковое. На плечах — зеленая кофточка, застегнутая на все пять пуговиц. На ней — черная юбка и цветастый фартук. На ногах — черные кожаные тапочки. Вот она увидела бруснику, поклонилась ей. Подоткнула уголки фартука за пояс. Начинает снимать ягоды с ветки. Пальцами осторожно нащупывает красные бусинки, берет их в горсть, кладет в подол. Лесную добычу Мама принесла в хату. Прицепила на нос Степины очки, они служили обоим, и перебрала ягоды. Сварила из них варенье. Им и угостила меня, когда я из командировки по Гомельщине заглянул, наконец, в Шелковичи. Вкуснее варенья я не ел в жизни. Оно было густое и сладкое, как мед. А в этой солнечной плазме золотыми бусинками застыли ягоды брусники. Оторваться от такой вкуснятины было невозможно. Я, наверно, был похож на ВинниПуха, аппетитно уплетающего мед из горшочка. Мама сидела напротив. Вся светилась радостью, что так угодила меньшенькому сыночку. И все повторяла: — Ешь, Володька, ешь... Сама собирала бруснику... Сама варила варенье... Я иду по жизни со вкусом маминого брусничного варенья на устах. Брусника для меня — мамина ягода. 85 Вчера целый день, с шести утра до полуночи, ездил в шикарном автобусе. Рядом со мной — важные государственные люди. Побывали в Барановичах, Березе, Кобрине, Бресте. Посещали детские муравейники, смотрели, что делают взрослые, чтоб у детей было здоровое детство. Целый день со мной была Мама. С ней легко думается. Она помогает понять и оценить любую жизненную ситуацию. Она подсказывает, где и что сказать, какой задать вопрос. Она учит, как быть, как жить. Она, святая, ведет меня через будни и праздники, прорубая просеку, если надо, прокладывает гать в завтрашний день. А все думают, что это я сам по себе такой. Нет, друзья, я просто живу по законам маминой совести. И вам того желаю. В поддержку моего совета назову вот эти цифры, привезенные из Бреста. Детям разных возрастов (940 человек) задали вопрос: «К кому вы обращаетесь за поддержкой в сложных жизненных ситуациях?» Более половины детей признались, что совета и поддержки просят у своих матерей, отцов и других членов семьи. К педагогам обращаются только 0,9 процента, к представителям власти — 0,5 процента. Думайте, чешите затылки, учителя и чиновники. Вы ведь тоже родители. Может быть, не нужно делить детей на своих и чужих? Все они — НАШИ! 56 86 Не знаю, как кто, а я люблю подарки. Может, это Мама к ним приучила? Чем ни угостит при встрече, что ни даст в дорогу, — все вкусное, памятное, дорогое. Однажды подарила домотканый рушник, выбеленный в жлукте и выглаженный самодельной зубчатой качалкой. Так я каждое утро им вытирался. Пока не износился. А если, бывало, подарит низочку белых сушеных грибков, так я вывешивал их на самое видное место в кухне и любовался лесными дарами, собранными Мамой. Даже ревновал, когда Нина отрывала несколько боровичков для супа. Но, если честно, подарком подарков всегда были орехи. Мамины орехи — самые полные, самые хрусткие, самые крупные и самые загорелые. Орешника вокруг наших Шелкович тьма. И на каждом кусте орехов — что блох у соседского Мурзика. Мы те орехи мешками носили. Но мы, детвора, да и более взрослые рвали орехи зелеными. Не могли дождаться, пока они поспеют и станут вылущиваться. А Мама шла за орехами, когда уже никто не ходил, когда все уже забыли о них. Начинает желтеть и опадать лист, тогда и наступает мамина пора. Ходит под ореховыми кустами, разгребает листья, траву, ищет орехи. Они висели себе на ветках, «мундирчики» их желтели, сохли и однажды... повылузывались орехи. И, как желуди, пошпокали на землю. Вот эти лузанчики Мама и собирала. Зернышки в них подсохшие, упругие — на всю скорлупу. В последнюю свою осень Мама также сходила за орехами. Как бы прощалась с орешником, лесом, начинающимся сразу за нашим пригуменьем. Собрала горстку орехов, завязала в платочек и положила под подушку. А когда я приехал навестить ее больную, она глазами показала мне спрят и тихо сказала: — Тебе, Володька, сберегла... К ним Петины девочки подбирались. Колины мальцы просили... Пусть простят. Собирала для тебя... Видно, последние... Та горстка маминых орехов — незабываемый подарок. Где бы ни был, покупаю фундук и не стесняясь хрупаю и на улице, и в автобусе, и дома. Простите, люди, я встретился с Мамой. мойное деревянное ведро. — Ведь говорила, не пей, — тихо укоряет мужа. — Маанькаа... Поомруу яа... — плачет отец, а мне смешно: такой здоровый, а нюни распустил. Я был с ними на той гулянке. Метельские выдавали замуж дочь. Отец там и напился. А потом пошел плясать, аж половицы ходуном заходили... Топнет, топнет сапогами и кричит: «Эээх!..» Мама с женщинами сидела на кровати, беседовали о чемто своем, женском. Помню ее слова о мужеплясуне: — Пусть погуляет... Не все ж пахать да косить... Отец был выносливый в труде, как вол. Все умел делать. Мама ценила его за это. Жалела своего Степана. Пьяного, когда горела душа, отца помню редко. После работы, уставший и обмякший, мог опрокинуть рюмочку. Но всегда с согласия Мамы. Когда попросит, а иногда Мама и сама расщедрится. Теперь, с высоты прожитых лет, могу с уверенностью сказать: умели наши родители выпивать, умели предостеречь от водки детей. Не дай Бог, если кто нарушит их запрет. Совсем не понимаю тех, которые постоянно живут в пьяном чаду, творят разбой, гвалт, чураются своих кровинок, предают их ради пустой забавы. В Сенненском районе пьяный отец ударил о стенку полуторагодовалую дочь. Потом качалбаюкал, чтобы та уснула. А она и не очнулась от его «ласки». В Несвижском районе пьяный отец изнасиловал свою трехлетнюю дочь и лег спать. На суде бормотал, что о той ночи ничего не помнит. В Речицком районе школьные работники изнасиловали и убили пятилетнюю девочку... Боже, разум не хочет воспринимать такое изуверство. Рука отказывается записывать такое. Как же терпишь ты, Боже, таких нелюдей? Нам на страх? Нам для науки? Так ведь очень много развелось таких «учителей». Боже, молю тебя, очисти души людских нечестивцев. Вложи, Господи, в их головы страшную правду: за грехи родителей будут страдать дети и проклянут их, и сами разложат огонь под котлом с кипящей смолой... 87 88 Лежит Степан на полатях у печки и стонет: — Манька, тяжко мне... Манька, помру я... Голос жалостливый, распевный, чуть не плачет. Лежит на спине, одетый, руки то сложит на груди, то кинет вразброс. Мама несет рушник, смоченный в холодной воде, кладет ему на лоб. Подставляет к полатям по- Мама! Твоя наследница, внучка Марина, родилась через четыре месяца после того, как ты отошла в вечность. Нет тебя среди нас. А я каждый денек вспоминаю тебя, молюсь за твою светлую память. И этим живу. И вдохновляюсь этим. И верю: ты помога- 57 ешь мне во всех моих земных заботах. Я и сегодня проснулся с твоим именем, Мама. Иду поздравлять Марину, так похожую на тебя. А вечером, за праздничным столом, Марина сказала такое: — Хочу, чтоб наша Маша обожествляла нас с Леней так же, как мой папа свою Маму Марию... Мама, правда, я канонизировал тебя в святой образ. Поверил в это сам. Признали это мои дети. Пусть наша душевная повязь длится в веках. 89 Наш гость Юзеф Павлович Янушевский про мою Маму: — Если пошло на то, если просишь рассказать, то слушай. Мой отец и твоя мать — родные. Отца моего загребли ежовцы, еще перед войной. И началась наша безотцовщина. Войну помню так: все время жрать хотелось. Однажды нашел у Михальчихи, соседки, куриное гнездо. Все яйца выпил. Она заметила, погналась за мной. Я остановился, говорю: «Тетка, не бейте, я голодный. Меня мама сама убьет, если узнает...» Отпустила. После войны — опять голодуха. Лес наш немцы вырубили. Деревня Великий Лес, а стало кругом как в пустыне. Вот мать и говорит: «Сходи к тетке Мане в Шелковичи, собери ведро черники». Я и попер туда, за двадцать километров. Как твоя мать обрадовалась: «Ой, Юзичек, из такой дали пришел!..» И обцеловала, и к груди прижала, и накормила, и спать уложила. Боже, откуда у нее такая душа?.. Она ростом маленькая, худенькая, а душа — бесконечно большая. Таких людей не встречал... Вернемся из ягод, она пожалеет: «А мои вы детки, устали. Садитесь к столу...» Вот кухарка была! У нее все вкусное. Бульбу и ту как сварит — рассыпается, сама в рот лезет... Я тебе вот что скажу, хоть я и мало в школу ходил, она мне не давалась, а в людях разбираюсь. Твою мать Марию Адамовну полюбил с первой встречи. Другие родственники меня не замечали, а у твоей матери я — желанный гость. Меня, пацана, принимала как самого уважаемого человека. Я в своей деревне считался сорвиголова. А твоя мать полюбила меня. Я вернулся в Великий Лес другим человеком. Вот так и состоялось наше знакомство с теткой Маней, твоей матерью. А как протекали ее последние годы, я не знаю. Запомнил только на всю жизнь доброту, что подарила мне в детстве. Мой отец и твоя мать — в одном корыте росли. Отца не помню, только на фотке видал. Красивый, представительный. Говорили, как пойдет плясать, земли не касался. Может, и он был такой добрый, как твоя мать?.. 90 От когото из шелковцев услышал: «Степиха, твоя мать, не влазила в деревенские сплетни. Всем говорила: «Когда в деревне все обговорят, тогда и до меня дойдет...» Она, как помню, уважительно принимала всякую новость. Могла без зависти порадоваться за когото. Могла повздыхать и поплакать над чьимто горем. Умела поделиться последним с погорельцем, голодным, любым, попавшим в беду. Не слышал, чтобы когото обговаривала или проклинала. Не знаю, чтобы на когото повысила голос. Разве что на кота Ваську, который нахально в присутствии Мамы норовил залезть усатой мордой в сковороду с колбасой. У Мамы не было времени да и желания трепать языком по «беспроволочному» деревенскому телефону. Не любила собирать сплетни. У нее к этому, говоря шелковским словом, не было хибета, не было такой склонности. Она, выходит, жила по Божьим заповедям: не свидетельствуй лживо на ближнего своего; не пожелай себе ничего из того, что принадлежит ближнему твоему; не сотвори себе кумира и всякого подобия его, ни того, что вверху, на небесах, ни что на земле и ниже земли, в водах, не поклоняйся им и не служи им. 91 Рисую портрет Мамы. Разными красками пользуюсь. А сегодняшним утром хочу почемуто взять веселую краску. Улыбчивую. Не помню, чтобы Мама шутила, рассказывала анекдоты, пела частушки. Слушать умела. Ей нравилось веселое настроение. В минуты радости лицо ее мгновенно светлело. На него хотелось смотреть. Оно становилось похожим на утреннее пасхальное солнышко, от которого не отвести глаз. У меня есть редкий снимок. Мама держит на руках годовалого внука Игорька. Бутуз только что проснулся. В маечке. Глазки сонные. Во рту — соска. А бабуля вся светится. Улыбка молодая. Два ряда белых, как чеснок, зубов. И глаза лучатся. Так Мама радовалась своему маленькому внуку. Так же светилась радостью, когда я заглядывал в родную хату, когда на пороге появлялись гости, когда наступал праздник, когда почтальон приносил письмо от детей. Бог мой, я настроился в это утро рисовать Маму веселыми красками. А их понадобилось так ма- 58 93 ло. Прости, Мама, что редко приезжал к вам, редко писал. 92 Мама родная! Дай силушки не лопнуть от радости. Благослови и успокой. Утешь добрым словом. Посади рядом с собой, возьми за руку, как ты это делала в моем детстве, и не отпускай от себя, пока не расскажу обо всем, что произошло вчерашним днем в Минске. А все произошло так, как напророчила газета «Звязда». Национальная библиотека Беларуси стала местом паломничества тех, кто носит фамилию Липские. Приехали Липские из Москвы, Гомеля, Витебска, Столина, Ельска, Хойников, Барановичей, Молодечно, Жабинки. Много Липских собралось из самого Минска. Среди них — белорусы, поляки, русские, украинцы, евреи. И профессии у всех самые разные: врач, строитель, инженер, косметолог, учитель, ревизор, бухгалтер, биолог, артист, библиотекарь, предприниматель... Всех, Мама, позвала на встречу моя книга «Я». В ней попробовал ответить на вопрос: что за люди живут под фамилией «Липские»? И забрался в такое далекое прошлое, откопал таких Липских, о родстве с которыми и не снилось. Александр Липский был кардиналом, Анджей Липский — канцлером короля Польского, Адам Липский — хорунжим, Самуэль Липский — помещиком, он основал город Липск и деревню Липье. Ксаверий Липский в 1812 году служил мэром Минска, а Юзеф Липский был послом Польши в Германии... В книге, Мама, есть и твоя фотография. Дворянка Мария Адамовна с гордостью смотрит на читателей, словно говоря: «Уважаемые, это я родила Володьку, чтоб он прославил вас всех в этой книге». Правда, Мама, я оченьочень благодарен тебе, что открыла для меня белый свет, напоила своим молочком, вдохновила жить и щедро наделила своей красотой. А чтоб передать весь разговор Липских в главной библиотеке Беларуси, нужно быть не очень скромным. Люди хвалили меня за сделанное и написанное. Но ведь ты, Мама, научила меня не пускать похвалу дальше ушей. Так я и сделал на съезде Липских. Я понял одно: все мы на земле — родня. Однофамильцы — родня близкая. Мы все — от Евы и Адама. И нам нужно чаще встречаться, крепче дружить. Вместе учиться людьми зваться. В Минском лицееколледже современные вундеркинды рисуют на компьютерах. Не красками, не кисточкой рисуют, а с помощью клавишей «выжимают» из машины всевозможные цвета, невероятные линии, фигурки. Получаются разные пейзажи, натюрморты — в полной зависимости от вкуса и фантазии «художника». Я использовал право гостя и попросил учеников нарисовать с помощью компьютеров своих мам. Задумались. Сосредоточились. Через час держал в руках восемь чернобелых портретов. Захотелось разгадать, с каким чувством дети создавали образ своей мамы. Вот первая «компьютерная» мама. У нее — только голова. На голове выделены три «объекта»: прическа, глаза и губы. Прическа короткая, ежиком. Глаза большие, с подрисованными, возможно, наклеенными ресницами. Губы толстые, подкрашенные. На лице улыбка. Дочери нравятся мамина красота и доброта. На втором портрете — мама строгая. Взгляд колючий, губы поджаты. Прическа скромная. Платье однотонное, с длинным узким воротником. Мама озабочена. Чем? Судьбой сына? Мизерной зарплатой? Поведением мужа? Чтото мучает ее. И это передалось ребенку. Андрей С. «создал» свою маму из геометрических фигурок. Голова — круг, а в нем — ностреугольник, глазашары. На голове еще один треугольник. Это — платок. Ниже головы — треугольникплатье. Губы изогнуты в тонкую, сдержанную улыбку. А в глазах вместо зрачков — экраны компьютерчиков. У своей мамы Игорь М. определил, как главное, глаза. Они у нее огромные, черные. Из этой черноты смотрят на мир и на сына Игоря две лазерные точки. Возможно, и правильно, что дети на портретах своих мам прежде всего рисуют всевидящие глаза. Они ведут их по жизни неутомимо и терпеливо, все видят и многое прощают. Самая скромная мама у Андреева И. Маленький штриховой портретик в рамочке. Прическу сделала сама. На лице — никакой косметики. Как есть. И подпись: «Моя Мама». А за подписью — восемь восклицательных знаков. С восклицательными знаками писал и я образ своей Мамы. Стремился рисовать ее самыми разными красками. Да чувствую, без черной не обойтись. Боюсь ее, но что поделать, вынужден выжать из души горькие воспоминания. 59 94 Первой «просигналила» сама Мама. Единственное ее письмо храню как самую дорогую реликвию. Представляю, как нелегко ей давалась каждая буква, как ей много хотелось сказать. Подводила рука, которая так редко держала ручкусамописку. Подводили глаза, которые долго не могли смотреть на буквы. Видимо, Мама писала свое письмо несколько дней. И вот что получилось: «Володя, Нина, Игорь, здравствуйте. Этим письмом хочу встретить вас в добром здравии и веселом настроении. Пару слов о себе. Жизнь наша идет постариковски. Здоровье плохое. День отец лежит, день я лежу. Залезем на печь, а кот — третий, там и греемся. Ждем, чтобы быстрее весна. У Пети нашего свадьба окончилась спокойно. Еще у нас новость. Колька Трацевский женится. На Новый год будет свадьба. Берет девушку из Узножи. Бригадиркой она работает, а сама откудато из Могилевщины. Оставайтесь здоровыми. Крепко целую вас всех. Ваша мама Мария». Это письмо долго носил с собой. Перечитывал почти каждый день. Радовался маминой весточке. А в душе поселилась тревога: никогда не писала, почему взялась за ручку? Жалуется на здоровье. Ждет весны... Боже, нужно лететь к Маме... 95 Пока собирался в дорогу — новое письмо. На этот раз из Добужи, от сестры Любы: «Володя, я только что из Шелкович, от Мамы. Она очень слабая. Лежит, не встает. Видимо, такое ее счастье. Приказала мне написать вам письмо, чтобы не пугались, что она больная. Очень хотела побывать у вас, но сказала, уже не придется. Очень сильно стучит в груди. Кушать совсем ничего не берет. И все просит, чтоб не плакали...» Зовет Мама. Мама в беде. Я бросил все служебные дела, попросил у начальства машину и поехал в Шелковичи. За двести пятьдесят километров дороги передумал всю свою деревенскую жизнь. Какой я был счастливый! Каждый день видел Маму, слышал ее слова, брал из ее рук хлеб. С ней было мило, ласково и все понятно. С ней жил, как за неприступной горой, где всего вволю и никто особенно не докучает. Так было до семнадцати лет, пока я не окончил десятилетку. Все дальнейшие годы я только наведывал родительский дом. И с каждым разом все больше впивались в сердце поэтические строки Максима Богдановича: I зноў пабачыў я сялібы, Дзе леты першыя прайшлі: Там сцены мохам параслі, Вясёлкай адлівалі шыбы. Усё ў пылу. I стала мне Так сумна, сумна ў цішыне... 96 Маму трудно было узнать. Глаза глубоко запали. Нос заострился. Губы и лицо побелели. Седые волосы реденькой куделькой торчат изпод платочка. Увидела меня, протянула вперед сухонькие руки, скупо улыбнулась. Из груди вырвалось одно слово: — Сынок! Будто к ней явился всемогущий лекарь, волшебник с живой водой, богатырьзаступник. Схватила мою руку, сжала ее своими холодными пальцами и не отпускала от себя, пока обо всем не расспросила. Ей интересно было знать любую мелочь из моей жизни. Чувствовал, как она гордится мной, своим меньшеньким. И очень переживала, чтоб какойнибудь серый кот не перебежал мне дорогу. Мама потеряла аппетит. Не могла придумать, что бы съесть. От моих городских гостинцев не отказалась, а, может быть, не хотела меня обидеть. Съела ломтик докторской колбасы с батоном, пососала шоколадную конфету. И впервые за долгие дни ее организм принял эту пищу. Обессиленная, тихо уснула, не выпуская мою руку... Три дня, что пробыл я в родительском доме, стали последним свиданием с Мамой, прощанием с ней. Но тогда в это не верилось. Я не мог смириться и представить, что она уснет навек. Такого просто не могло быть. Когда собрался уезжать и уже простился, вышел на улицу и садился в машину, вдруг увидел Маму в окошке. Я оторопел. Она ведь не вставала с кровати! А это даже к окну подошла. Мама поманила меня пальцем. Я пулей бросился в хату. Боже, она хочет сказать мне чтото важное и таинственное, чего не сказала за три дня, когда я сидел на краю ее кровати. Что она забыла мне сообщить? Я ворвался в хату, подбежал к Маме. Она опустилась на табурет и, тяжело дыша, сказала: 60 61 — Сынок, ты не забудь взять в Минск дочь Митрофановича. Свете мой ясный! Я ждал, что Мама скажет чтото более важное. Мы еще раз горячо расцеловались. Она махнула мне рукой. На пороге я снова услышал ее голос: — Не забудь взять... Бог ты мой, она заботилась о девчонке, которой нужно было ехать в Минск. Она не родня нам. Но Мама слышала, что я обещал взять ее в машину. Она напомнила мне. Это была последняя просьба Мамы. Расцениваю ее теперь как самый главный завет: дал слово — сдержи, заботься о ближнем и делай добро людям, что отдал, то и твое. Мама родная, так и живу, как ты напророчила. Нелегко выполнять твой милосердный завет в жестоком и обалдевшем мире. Но иного выбора не дано. И я благодарен тебе, Мама, за свое трудное счастье... Неужели Мама не выйдет встречать? Неужели не заговорит больше со мной? Неужели не испечет своих пухлых блинов? Может, эта телеграмма — нелепая ошибка? Ведь бывает... Черные, страшные слова телеграммы «Умерла Мама» разрывали сердце. А ночь такая длинная. Когда же утро? Неправда, что в июне самые короткие ночи. Наконец, белым ситцем засветлел небосвод. Словно Мама постелила перед солнцем свой новый платок. Огромное, огненное, оно выкатилось на небо. И рассыпалось золотом над зеленой землей. Начинался такой же суматошный день, как и вчера, и позавчера. Обычный и добрый для многих. Только не для меня. Я собирался в дорогу. Я ехал проститься с Мамой... 99 97 Телеграмма из Шелкович: «Срочно приезжайте. Умерла Мама. Передайте тете Агате. Петя. 15 июня 1972 года». Сестра Клава рассказывала: — Маму возили в больницу. А умирала она дома. Позвала, чтобы пришли дочь Лида и сестра Анюта. Спросила у них: «Где Степа?» — «Косит за канавой». — «Пусть бросает косить...» Когда отец вошел в хату, Мама спросила: «Ты печь сегодня топил?» — «Топил». — «Воду поставил греться?» — «Поставил». — «Какой чугун?» — «Малый». — «Ставь большой чугун...» Мама отошла на вечный покой вечером. Перед короткой летней ночью... 98 Кто сказал, что в июне самые короткие ночи? Одна из них была для меня самой длинной. И запомнилась на всю жизнь. Она тянулась так медленно, она так тяжело давила меня своей тьмой, что, казалось, не доживу до утра. Почти ежеминутно зажигал ночник, снова и снова брал в руки телеграмму с отметкой «срочная». Я наизусть знал, что там написано. Но не верил ни одному слову. Не хотел верить. Да и как примириться с тем, что моей Мамы нет? Разве может такое быть? Мне передали телеграмму поздно вечером, когда все поезда и автобусы в направлении Светлогорска уже ушли. Нужно ждать утра. Первым автобусом уеду в Шелковичи. «Дорогой братка, через две недели после похорон Мамы я была в Шелковичах. По дороге заехала на кладбище. Как ни голосила, Мама не отозвалась. Ее могилка самая свежая. Зашла в нашу хату. Как дико и пусто в ней. Нельзя спокойно смотреть на кровать, где болела и умирала Мама. На ней сейчас спит отец. Мы с ним плакали, сколько было слез. В Шелковичах я была в пятницу, а в субботу приехал Коля с сыном Витей из Гомеля и Клава наша с дочкой Любой из Калинковичей. Поставили оградку, покрасили в синий цвет. Мама любила такую краску...» Это письмо прислала сестра Люба из Добужи. Из Шелкович написал отец: «Сынок, я пока что жив, но хочу попросить, чтобы ты заказал мне надмогильную плиту. В нее вставь мою фотокарточку, как у матери, и сделай на ней такую надпись: «Товарищи! Вы все живете в гостях, а я — дома. Друг мой Мария рядом почивает, но мне ничего не сообщает». И подпиши — Липский Степан Иванович. Только сделай это красивыми буквами, чтобы сырость не повредила. Крест на мою могилу не ставьте. И не плачьте обо мне. Я желаю почивать рядом с моей женой, твоей матерью. Без нее на этом свете я не жилец...» 100 Моя святая Мама Мария! Как сумел, оживил твой образ. Вставляю его в золотую рамку памяти. Собираю у семейного алта- 62 ря всех твоих наследников, малых и больших, молодых и старых. Встаю перед всеми на колени и молю об одном: помните! Ни на секунду не забывайте, люди, кто дал вам жизнь, кто бережно носил вас под своим сердцем, кто в муках рожал вас, кто за руку вел по жизни. Верю, сам Бог возрадуется, увидев, что мы, каждый у своего семейного алтаря, молимся за Маму. Она — Божья посланница на земле. В ней — святой дух. Ей поручено большое дело, начатое Богом после сотворения мира. Помните, он задумал сотворить себе подобного. И получился Адам. Из его ребра, имея уже опыт, создал Еву и поручил ей быть Мамой. Славьте, люди, своих Мам. Сумейте увидеть и полюбить в них своего Бога. И это окрылит Мам, придаст им силы и веры. Мама — защита и сила, помощь в беде. Она лелеет нас и угождает нам, платя за это своим здоровьем, бессонницей, любовью. Она хвалит хорошие поступки, поощряет добрые желания. Так очнитесь, ленивые, и возблагодарите Бога за то, что увидели новый день. Очнитесь, сытые, и перед тем, как сесть к столу, вспомните Маму, а если она рядом — улыбнитесь ей, поцелуйте, скажите ласковое слово. Просить прощения у ее могилы — запоздалая и никому не нужная ласка. Давайте, люди, очистимся перед Мамами. Попросим прощения у тех, кого обидели. Одновременно и сами простим всех, кто нас в чемлибо обидел. Сам Иисус Христос учил: «Просите да и воздастся вам». Но надо помнить: просить надо с верой; Сын Божий удовлетворит только такую просьбу. Молитвы не все знают, и не все ходят в храм. И моя святая Мама не ходила бить поклоны в церковь. Но я чувствовал, у нее были внутренние, молчаливые молитвы. Может, и нам надо бы почаще обращаться к чистейшей Матери Божьей, а в ее образе представлять и свою Маму, как ангелахранителя, как заступницу нашу. Давайте будем обращаться к небесам не только в горе, беде, унынии, но и в радости, при всякой удаче. Чем больше радости приносим Мамам, тем дольше живут они на земле в живом образе и живой памяти. Счастливее давать, чем брать. Так научимся, люди, искренне отдавать всем свою доброту, ласку, сочувствие, милосердие. Пусть из уст наших исходит благословение, а не проклятие. Пусть руки на- ши умеют творить только хорошие дела. Научимся веселиться с теми, кто радуется, и плакать с теми, кто страдает. Мое особое слово к современным мамам. Милые и хорошие, от вашего «сева» зависит «жатва», жизнь на земле. Посеете самолюбие, распущенность, блуд, идолопоклонство, ненависть, споры, зависть, гнев, убийство, пьянство, то же взойдет и в ваших детях, внуках. Давайте, родные, научимся сеять только хорошее: любовь, радость, спокойствие, терпеливость, благожелательность, верность, нежность. Библия учит, что на таких сеятелей нет запретных законов. Так почему же не почувствовать, мамы, что вы сами боги на земле, что от вас во многом зависит жизнь, будет она у вас райской или адской?.. Нельзя вытащить себя из воды за волосы. Но можно и нужно, а это никогда не поздно, остановиться, если один раз споткнулся, и убрать с дороги преграду. Давайте научимся исповедаться, избавляться от греховности. Сделать это никогда не поздно. И в любом возрасте можно вернуться к праведности, очистить сердце, обновить дух, попросить прощения. Мама родная! В год твоего столетия я наново пережил свою жизнь. Увидел то, что замшело от времени. Почувствовал то, от чего отвык, но отвыкать не должен. Прошел тропинками, которые заросли травой. Нашел ключи от сейфов памяти, открыл их и утолил душу воспоминаниями. Как пчелка — нектаром. Как жаворонок — пением. Как белка — орехами. Как ребенок — солнышком. И за это благодарю тебя, Мама. Ты — живая вода для меня, источник духовного богатства. Ты — путеводная звезда, по которой сверяю свой путь на земле. С твоим образом буду и впредь встречать восход солнца, радоваться каждому подаренному мне денечку. И не устану делать это до тех пор, пока будет гореть моя свеча. Крепи, Мама, меня в вере, надежде и любви. Будь и впредь мудрой советчицей на моем жизненном пути. Охраняй от всякого зла, стерегущего живых на каждом шагу. Приснись, чтоб упредить беду, явись на небе мерцающей звездой — как знак моей безопасности. Мама! Ты в сердце моем. Ныне и каждый день, и во веки веков. Аминь. Перевод с белорусского Л. КУДРАВЕЦ 63 УЧИТЕЛЮ И УЧЕНИКУ Тезисы к диалогу: Владимир Липский, «Мама. Молитва сына» По традиции, в конце каждого номера редакция публикует тезисы, вопросы для обсуждения прочитанного произведения — в классе, на уроке внеклассного чтения, в библиотеке, в кругу семьи или друзей. Ведь хорошая литература всегда вызывает отклик в душе читателя, трогает и волнует. Наши «тезисы» — это как бы своеобразная помощь учителю и ученикам. На этот раз в журнале «Путеводная звезда. Школьное чтение» №4 за 2015 год опубликована повесть «Мама. Молитва сына» известного белорусского писателя Владимира Степановича Липского. Надеемся, это лирическое, очень личное произведение не оставит равнодушными ни одного нашего читателя. Итак, вопросы для обсуждения: 1 Владимир Липский назвал свое произведение «Мама. Молитва сына». Как вы думаете почему? Что такое молитва? К кому обычно обращены молитвы, какие чувства и мысли в них выражаются? Найдите в тексте произведения слова, которые и делают его «молитвой сына». 2 Автор говорит о своей матери, Марии Адамовне, «дитя Матери Божьей», «Мама — сама Весна», «мастерица», «неизменная и незаменимая кухарка, официантка и хозяйка»… Вдумайся в эти слова. Объясните, какой смысл вкладывает в них автор? 3 «Мамины уроки ясны и просты», — пишет автор. Какие из них вы запомнили? Найдите в тексте произведения наставления матери своему маленькому сыну. 4 Дорогие ребята! Вот уже двадцатый год «Путеводная звезда. Школьное чтение» продолжает постоянно действующий конкурс сочинений школьников, гимназистов, лицеистов, учащихся колледжей, педагогических и иных училищ на лучшее сочинение по поводу каждого произведения, опубликованного в журнале. Итоги конкурса мы подводим в конце года. Как правило, присуждается больше 10 премий. И это, конечно же, роскошно изданные книги. Хорошо, если учебные заведения станут присылать эти сочинения организованно. За что просит прощение сын у матери? За какие поступки, совершенные в детстве, ему стыдно до сих пор? 5 О Марии Адамовне вспоминает не только сын Владимир, автор произведения, но и другие ее дети, а также близкие ей люди. Какие истории вам запомнились? 6 Даже после того, как мамы не стало, она, признается Владимир Липский, «ведет меня через будни и праздники, прорубая просеку, если надо, прокладывает гать в завтрашний день». Как вы понимаете эти слова? 7 Постарайтесь сами продолжить эти слова писателя, обращенные к читателям: «Люди, братцы, если у вас Мама живая, берегите ее, летите к ней, чтоб насмотреться, наговориться. Милые мои, с ней вкусна и сухая корочка. Без нее горек самый сладкий пирог...» 64