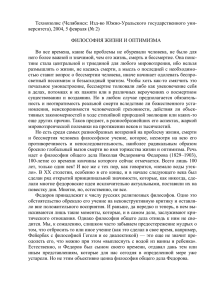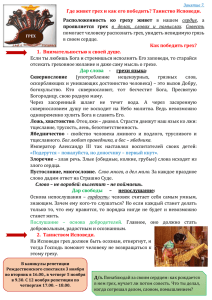Грех, смерть и свобода воли в учении Н. Ф. Федорова
реклама

27Там же. Ф.29. Д.68. Л.18. 18об. “ Там же. Ф.29. Д.68. Л.21, 21об. 29Там же. Ф.68. Л.24 об. SUMMARY Comical Folklore In the Manuscripts Collected In the Urals In the 19th Century The article analyses the comical folklore of five manuscripts which were collected in the Urals and forwarded to the Russian Geographical Society in 1848— 1871. The majority of the comical art works Is known due to the recordings made In other regions because the population of mining and metallurgical plant villages was formed by the migrants from different areas of Russia mainly from Its central and north-eastern regions. One can, however, observe that the plot of some comical art works reveal their close connection with the Urals realities. V. V. Blazhes Б. В. Емельянов, М. Б. Хомяков ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ О СМЕРТИ, ГРЕХЕ И СВОБОДЕ ВОЛИ В ФИЛОСОФИИ Н. Ф. ФЕДОРОВА Осмысление и изучение философского наследия Н. Ф. Федорова затруднено в силу ряда обстоятельств, одно из которых — отсутствие системы категорий, что, в свою очередь, связано с тем, что его философия — не система, а некоторое проективное построение. Отталкиваясь от уже известных определений ее содер­ жания (в частности, С. Голованенко в свое время писал: “Философия Николая Федоровича — философия смерти, и, как истинная философия смерти она хочет быть философией бессмертной жизни, философией религиозной, философией христианской, православной”1, обозначим нашу исследовательскую задачу как анализ федоровских представлений о смерти, грехе и свободе воли. Итак, философия Федорова есть учение о воскрешении мертвых и, как таковая, есть философия религиозная, по собственной же оценке мыслителя философия христианская, что уже позволяет нам вписать построения мыслителя в контекст христианской мысли, сравнить наполнение им основных категорий религиозной философии с их рассмотрением другими христианскими мыслите­ лями. Любое обращение к теме воскресения (воскрешения) мертвых предполага­ ет вопрос о смерти, т.е. об объекте воздействия воскрешающих энергией — мертвом человеке. В свою очередь, в христианской мысли вопрос о смерти неразрывно связан с темой греха, свободы воли, искупления человеком довлею­ щего над ним греха и через это возвращения к светлому состоянию нетленности, бессмертия, непорочности. В этих категориях вращается любая мысль, именую­ щая себя христианской, особенное понимание именно этих понятий определяет собою особый стиль и федоровского дискурса. Для всех без исключения христианских мыслителей смерть — следствие первородного греха, преступления божественной заповеди. Всякий грех для христианского сознания — грех против Бога, и смерть — его результат. “В поте лица своего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой взят; ибо прах ты и в прах возвратишься” (Быт. 3, 19) — проклятие, сказанное Адаму, и есть начало смерти. Грех же, в свою очередь, — результат не­ правильного употребления человеком свободной воли, данной ему от Бога; таким образом снимается проблема теодицеи — вопрос об оправдании Бога, обвиняе­ мого в творении зла. В таком изложении учения нет еще камня преткновения, и разногласия возникают скорее не в интерпретации самих понятий, но в точках их соприкосновения, то есть в различном описании их связи друг с другом. К примеру, каким образом грех влечет за собою смерть? Это может происходить либо в силу некоторого вложенного в природу вещей закона, и в этом случае отношение грех — смерть строится по типу естественной каузальности; либо — в силу воздействия на природу человека карающей десницы Господа, и в таком случае речь идет о причинности скорее юридического, нежели натурального свойства. Очень распространенное понимание смерти, которое можно найти в любом катехизисе, сводится к следующему. Смерть есть кара за грех, наказание человеку, необходимое либо в силу Закона Справедливого Воздаяния, либо — в силу попечения Бога о твари. Ведь смерть человека, с этой точки зрения, есть смерть греховного существа, смерть греха, и она необходима для того, чтобы воспрепятствовать греху в его распространении. Но в этом случае Бог, по Писанию, смерти не создавший, оказывается Творцом ее; ведь именно его карающей десницей смерть вносится в мир. Однако при таком понимании, как уже было сказано, смерть воспринимается либо как зло, наносимое злу, а следовательно, добро, и в силу этого Бог оказывается творящим все равно лишь добро; либо теодицея строится по принципу юридической процедуры. Так, в юриспруденции причиной наказания, причиняемого виновному, объявляется преступление, им совершенное, а не карающий его судия. То же в богословии: причина смерти — грех, коренящийся в злоупотреблении свободной волей, а вовсе не справедливость, воплощенная в карающем и милующем Господе. Образец подобного понимания можно найти хотя бы у знаменитого епископа Игнатия Брянчанинова: “Смерть — разлучение души с телом вследствие нашего падения, от которого тело престало быть нетленным, каким оно первоначально создано Создателем. Смерть — казнь бессмертного человека, какою он поражен за преслушание Бога”2. Здесь почти нет метафизики. Терминология, да и само это понимание в целом взяты из юридического обихода, и картина, здесь нарисованная, есть идеал Справедливого Суда. Грех как моральное зло не имеет какой-то особой, отличающей его от зла правового природы. То и другое оказывается тождественным. Понятно в таком случае, что необратимость греху придает именно кара, сделавшая бессмертного смертным, сам же он вряд ли что-то серьезно меняет в природе человека. Однако устранение смерти, как наказания требует некоего особого акта милости — благодати; и воскрешение, конечно же, должно оказаться некоторым новым актом творения, могущим происходить от единого Бога. Юридическое понимание смерти предполагает и немалую роль собственной человеческой деятельности. Закон справедливого воздаяния оказывается здесь единственным законом и единственной волею Бога. А как таковой он не может мириться с несправедливым милосердием; поэтому искупление греха — дело самого человека. Только имея определенные заслуги, человек может обрести спасение. И более того, имея таковые, он гарантированно обретает его. Именно только в связи с таким пониманием смерти стало возможным католическое разделение должных и сверхдолжных заслуг и, как следствие, — продажа индульгенций — заслуг святых, которые были уже излишни для собственного их спасения, но полезны для церковной казны. Поэтому епископ Игнатий совер­ шенно уверен, что “христиане, одни православные христиане, и притом про­ ведшие земную жизнь благочестиво или очистившие себя от грехов искренним раскаянием, исповедью пред отцом духовным и исправлением себя, наследуют вместе со святыми ангелами вечное блаженство. Напротив того, нечестивые, т.е. неверующие во Христа, злочестивые, то есть еретики й те из православных христиан, которые проводили жизнь во грехах или впали в какой-либо смертный грех и не уврачевали себя покаянием, наследуют вечное мучение вместе с падшими ангелами”3. Система проста и доходчива. Грех, вернее, наказание за него, необратимо, для его искупления обязательно наличие благодати, но само это наличие ставится в зависимость от некоторых земных, эмпирически фик­ сируемых факторов; и уже при этой жизни возможно сказать, кто наследует Ад, а кто — Рай. Главной движущей силой, посредством которой становится возможной вся эта жесткая структура, является здесь, конечно, воля Творца. Детерминантой другого подхода к проблемам смерти, воскресения и спасения, связываемого обычно с именем знаменитого восточного богослова Оригена, является ничем не ограниченная свобода человеческой воли. Именно из-за этой свободы человек пал. Благодаря ей же, в конечном итоге, произойдет воскре­ сение н спасение всех, включая и Самого Врага человеческого рода — Диавола. В этой концепции, получившей в истории богословия наименование апокатастасиса, благодаря свободе совершится новое падение, новый грех, новая смерть, искупление, апокатастасис, и — круговорот превращений уходит в бесконеч­ ность. Оригенизм, осужденный на пятом Вселенском Соборе как ересь, виновная в неоплатонизме, безусловно, глубоко метафизичен в отличие от первого, юрндпческого понимания рассматриваемых проблем. Грех коренится в свободе, а потому в ней же должно быть укоренено и спасение. Иначе говоря, нет ничего необратимого. Грех — не качество, но только состояние бытия, и свободная воля в силах превозмочь это состояние, переместить человека на другой уровень сущего. Картина напоминает метемпсихозу: грешники после смерти превраща­ ются в животных или в демонов, праведники — в ангелов, и так происходит до тех пор, пока все не становятся праведниками и не воссоединяются с Богом. Это и есть апокатастасис, всеобщее восстановление, возглавление Творцом всего Сущего. Но и в этом блаженном состоянии свобода остается прежней, она несет в себе возможность греха, а в бесконечности времен возможность обязательно станет действительностью, грех совершится и новое падение послужит причиною нового творения и нового цикла. Таким образом, “... души управляются свободой произволения, и как свое совершенствование, так и свое падение производят силой своей воли. В самом деле, в своих действиях и желаниях души не управляются каким-либо (внешним) движением...; напротив, души (сами) на­ правляют движение своих поступков туда, куда склоняется свобода их собствен­ ного разума”4. Или “... причина различия и разнообразия во всех тварях заключается не в несправедливости Распределителя, но в более или менее ревностных или ленивых движениях самих тварей”*. Таким образом, Бог здесь — уже не Судия, но Распределитель, и благодать его — не милость к твари, не акт помилования добрых, ко своего рода Вселенская Карма, закон, неотличимый от естественного, поставляющий существо в зависимости от его заслуг на ту или иную ступень мировой лестницы совершенств. Благодаря понятию безусловной свободы, которая состоит в том, что добро присуще разумным существам не по природе, “... то есть не субстанционально, но в силу случайного свойства...”6, грех совершенно обратим. Падение немало не портит природы человека; акциденциальное всегда остается таковым. Бог же, в особенности ипостась Сына, понимается Оригеном прежде всего как путь — и не только в смысле 44подражания” Христу, но и в натуральном смысле кармического закона мироздания. Конечно, у Оригена, там, где это возможно, данный момент “естественности” благодати постоянно смягчается. Так, говоря о существах, объединенных с Богом, он заявляет, что те “...достигли этого окончательного блаженства не своею силою, но благодатью Божией”7. Но эти оговорки имеют совершенно фразеологический характер: если чин дается по заслугам, то благодать просто сливается с совершенно натуральным законом, в силу которого определенная заслуга влечет за собой тот или иной шаг вверх по лестнице совершенств. В этом отношении понимание отличается от “юридической концепции” перенесением основного упора с благодати-милости как краеугольного камня последней на собственные заслуги свободного человека в первом. Другими словами, если при “юридической” концепции заслуги имеют значение лишь постольку, поскольку их учитывает справедливая воля судии, в оригенизме сама благодать значима лишь поскольку она утверждает собственные человеческие достижения. Таким образом, совершенно ясно, что оригенизм несет в себе возможность аннули­ рования всякого значения благодати и поставления на ее место другого, чисто уже природного закона. Это понимание смерти, конечно, не чувствует зла. Для него любое зло не способно затмить искру Божию, тлеющую в любом, даже достигшем самого дна падения существе. Бог создал тварь для жизни, а потому никакое зло не способно стать причиною полного уничтожения. Да и как акциденциальное свойство смогло бы стать причиной субстанциального уничтожения существа0 Оригенизм, несмотря на критику его со стороны Православия, несмотря на анафематизмы пятого Вселенского Собора, оказался чрезвычайно жизнеспособ­ ным и даже общехристианским явлением. Из вполне православных мыслителей подобных взглядов придерживался, к примеру, великий капподокиец Григорий Нисский. Подобное оригеновскому нечувствие ко злу можно обнаружить в писаниях и знаменитого Дионисия Ареопагита. Вот как комментирует этот вопрос Г. Флоровский: “У Дионисия становится неясным, какова последняя судьба зла... Но очень характерно, что о зле он говорит только мимоходом, как бы в скобках”8. В пятом же веке к оригенизму восходит и широко распростра­ ненная ересь Пелагия, которая состояла “...в фундаментальном преувеличении роли человеческой воли в достижении спасения и, как следствие, в преумень­ шении функции сверхестсственной благодати. Согласно пелагианству, человек по природе вполне способен волить и совершать благо. Так как падение Адама не изменило реально статуса человеческой расы, нет такого состояния, как первородный грех... Благодать Божия есть только украшение религиозной жизни, делающее добродетельное деяние более легким, но она вовсе не является абсолютно необходимой для человеческого спасения”9. Ересь эта существовала в различных вариантах на протяжении всего пути развития христианского вероу­ чения и философской мысли. Так, одного из родоначальников христианского учения о всеединстве, Иоанна Скота Эриугену, еще при его жизни на соборах в Валенсии (855 г.) и Лангре (859 г.) обвиняли в принадлежности к ереси Пелагия и Оригена. Все учения, говорящие о всеобщем спасении, апокатастасисе, или всеединстве, так или иначе отмечены подобным нечувствием отрицательной мощи греха. В любом случае речь идет или о безусловной свободе и всепобеж­ дающей силе человеческой воли, или о безмерном милосердии Бога к твари, милосердии, вполне затемняющем справедливый, юридический характер Суда. Отголоски подобной концепции пустили богатые корни в русской философии, вошедши туда через учение о всеединстве ее основателя Влад. Соловьева. И разочарование Соловьева в конце жизненного пути — все эти “Три разговора”, “Повесть об Антихристе”, все эти видения диавола, злых и могучих сил мира сего — связаны, на наш взгляд, как раз с реакцией философа на тот неограниченный эсхатологический оптимизм, который столь ярко светится, например, в “Чтениях о Богочеловечестве”. Как бы то ни было, в отношении православности подобных концепций лучше прислушаться к мнению как бого­ словского, так и философского русского авторитета. Так, С. Булгаков, ссылаясь на учения Оригена и Св. Григория Нисского, заявляет, что последнее “...никогда не было осуждено и на этом основании сохраняет права гражданства, по крайней мере как авторитетное богословское мнение в Церкви” . Крайне противоположный концепции Оригена взгляд на грех и смерть мы находим у Блаженного Августина. Прошедший через соблазн манихейства в юности, Августин всегда испытывал повышенный интерес к этим проблемам. Разбору и опровержению ереси о свободе воли — пелагианства — он посвятил свой труд “О природе и благодати”11. Для Августина слишком очевидна страшная реальность первородного греха, слишком видна испорченность челове­ ческой природы — следствие грехопадения, испорченность настолько, что человек “не может не грешить”. А раз так, то свобода после падения оказывается призрачной, утерянной, как утеряно первобытное блаженство Рая. Грех как таковой, однако же, коренится в свободной воле человека12. Грех совершается свободно, к нему ничего не принуждает. Однако воля человека в силу первородного греха имеет некую склонность ко злу, и эта склонность столь велика, что ее не в силах побороть без помощи Божией ни один человек. При таком понимании оказывается, что единственное, чего можно заслужить, так это огненной геенны. Человек своими силами вообще не способен на заслуги. Все, что можно описать как благо или как заслугу, есть дело Божие, совершенное через человека. Таким образом, всякий, кто спасается, спасается благодатью Божией. Подача же этой благодатной помощи зависит только от воли Творца; подача даже не есть, собственно, помощь, но — новый акт творения, восстанавливающий утерянную цельность человеческой природы. Воля Бога не детерминирована, свободна, а потому спасение есть, по сути, избрание. Господь избирает не спасаемых от числа праведников, что было бы, конечно, несправедливо и не приличествовало бы Богу, но — праведников из грешного человечества. Из­ брание, таким образом, состоит в избрании тех, кому суждено стать пра­ ведником: грешит человек самостоятельно, но благие дела совершает Творец. Для Августина поэтому апокатастасис — еретическое учение, ставящее тварь на место Творца, человека — на место Бога; последователи этого учения през­ рительно именуются им “жалостниками”. Грех, считает Августин, необратим, он принес с собой в мир что-то настолько мощное, что ему не в силах противиться слабая человеческая воля. Как таковой он — следствие свободного избирания человеком зла и имеет своим результатом разрыв процесса становления челове­ ческой природы. Как передается этот грех, для Августина неясно, поскольку неясно происхождение человеческой души13. Представление о грехе, свободе воли в “Философии Общего Дела” Н. Ф. Фе­ дорова тесно связано с учением о смерти и бессмертии. Английский исследова­ тель творчества русского мыслителя Ст. Лукашевич, проанализировав тексты “Философии Общего Дела”, выделяет двенадцать определений смерти и бес­ смертия у Федорова. Эти определения сводятся к следующим: 1. Смертность — ощущение разрушения себя, бессмертие — самосоздание. 2. Смертность — результат неудачи человека как художника в создании из себя самого произведения искусства. 3. Смертность — либо слияние одной личности с другой, либо — рознь этих личностей; бессмертие же — многоединство. 4—8. “Бессмертие — результат вездесущия человека (неограниченности в пространстве), его всемогущества (неограниченности в деятельности), повсемест­ ности (неограниченности в движении), вечности (неограниченности во времени) и всезнания (неограниченности в знании)”14. 9. Смертность — продукт сексуальности, бессмертие — “положительного целомудрия”. 10. Смертность есть результат борьбы в половом подборе и естественном отборе. 11. Смертность — результат вины от неудачи либо индивидуальности, либо социабильности человека. 12. Бессмертие — богоподобие, смертность — отсутствие такового. Эти определения Лукашевич увязывает в единую психоаналитическую кон­ цепцию, считая сознание Федорова сознанием страдающего от вины и комплекса неполноценности неудавшегося художника. Определения эти представляются разрозненными цитатами, так и не схватывающими что-то основное в учении философа. Неудача Лукашевича, слишком очевидная для всякого, знакомого с текстами русского мыслителя, связана с его рационализирующим структурным подходом к “Философии Общего дела”, не желающим замечать ее безусловно христианской направленности. Мы же, не выделяя подробно определений смерти у русского мыслителя, постараемся представить его позицию как раз исходя из основного представления этой оригинальной русской мысли как мысли христиан­ ской, а потому связанной с теми проблемами смерти, греха и свободы воли, решения которых в произведениях некоторых других христианских мыслителей мы коснулись выше. Итак, если смерть — результат греха, что есть последний для Н. Ф. Федоро­ ва? “Падение человека, назначенного управлять слепою мировою силою, сос­ тояло в том, что он отдался своим похотям вместо исполнения воли Божией, а мир стал предан своей слепоте”15. Таким образом, падение, грех, первозло есть недеяние, отказ от обладания землею, а тем самым нарушение заповеди, данной Богом при введении человека в Рай, ибо “взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтоб возделывал его и хранил его” (Быт. 2, 15). Н. Федоров устанавливает жесткую иерархию в мире: Бог, человек, неразум­ ная природа. Жесткость этой иерархии состоит в том, что только человек есть проводник божественных энергий в мир, только человек — посредник между тварью и ее Творцом. Отказ человека от этой роли разорвал иерархию мира: Бог замкнулся в себе, а человек попал под власть тех сил, повелителем которых был поставлен. Мир, созданный неспособным к самостоятельному развитию, стал распадаться, потеряв свою душу, свой разум — человека. Природа превратилась во что-то стихийное, слепое, несущее смерть и разрушение. Этот процесс разложения происходит совершенно естественно, в силу природы каждого из членов иерархии; воля имеет лишь значение первотолчка: человек свободно выбрал недеяние, естественно повлекшее за собою смерть. Такой грех может быть необратим лишь в случае полного забвения человеком своей задачи, которое было бы окончательным отказом от Божественной заповеди о руковод­ стве миром. В том и состоит истинная функции религии, чтобы напоминать человеку о смерти и его долге. Все догматы и обряды православия интерп­ ретируются Федоровым именно как такое напоминание, даже страшная необ­ ходимость Голгофы связана с задачей прояснения для человека его истинной роли в мире, единственной его цели в творении. . Итак, для русского мыслителя “не завершение лишь, не полнота совершенст­ ва, но и самый процесс совершенствования нуждается в помощи Божией”16. Но эта благодатная помощь имеет совершенно натуральный характер. Здесь нет и речи о мистическом преображении человека, о благодатном восхищении и обожении. Речь идет лишь о напоминании. Поэтому, как очевидно, у Федорова дидактическая и коммеморативная функции обряда вытесняют его главную для христианского сознания функцию — символического обожения действитель­ ности, функцию сакраментальную. Поэтому, рядом с догматом о Троице, как помощь Творца, как Его откровение, Федоровым ставится, к примеру, верти­ кальное положение человека . Последнее, расширяя “...круг знаний человека ... в то же время делает необходимым соединить части, и это-то соединение частей, ассоциация и рождает память”. А “что субъективно — память, то объективно — сохранение связи, единение, что субъективно — забвение, то объективно — разрыв, смерть, что субъективно — воспоминание, то объективно — воскре­ шение18. Сам же процесс возвращения к начальному состоянию совершенства — дело собственных рук человека. Да это и понятно. Если несовершенство “...заключается во взаимном отчуж­ дении, в отсутствии разумной связи...” между частями Вселенной и силами, ею управляющими, то зло — некое недолжное смешение элементов целого, некий ивременный беспорядок”, неупорядоченность структуры иерархии1 . Такое сме­ шение ничего необратимо не меняет в мире; уничтожение, вплоть до того ничто, из которого мироздание было сотворено Богом, невозможно; смерть — лишь временная холодная маска на цветущем лице жизни, недо-разумение. Поэтому преступления, в том числе и убийство, и война оказываются у Федорова “шалостями” . Человеческий род несовершеннолетен, человек — пока еще неразумное дитя. Но, в отличие, скажем, от Августина, для которого переход в совершеннолетие есть благодатное обретение духовного тела, Федоров понимает: достижение этого совершеннолетия опять-таки весьма натуралистично, по крайней мере, имманен­ тно. Грех не нарушил процесса совершенствования, он ограничил разве что его только в отношении индивида (так как со смертью, конечно, прерывается и совершенствование), однако человеческий род еще вполне может прийти к такому совершеннолетию, другими словами, вполне способен не грешить. Совер­ шеннолетний человек и есть помнящий о смерти и жаждущий жизни человек, сын человеческий. Вообще говоря, Н. Федорову трудно постичь смерть как таковую, в ее мистическом измерении. Его практический ум знает не смерть, но умерших, поэтому уничтожение смерти должно быть для него воскрешением, оживлением, а не преображением. Духовной смерти при жизни физической Федоров не знает. Для него пустой звук мистические рассуждения о таинствен­ ном обожеиии, втором — в Духе, по благодати Божией, — рождении и пр. Смерть — вполне вещественная неупорядоченность — преодолевается также вполне материальным структурированием; она вовсе не бездна, уходящая своими корнями в свободу, или в Ничто. Федоров проповедует апокатастасис. Его излюбленная евангельская притча — о потерянной драхме, по мнению мыслителя, достаточно свидетельствует против теорий вечного Ада, вечного разделения людей на праведников и грешников. Православие, по его мнению, не знает ни Ада, ни Рая, но только — Чистилище, которое и есть здешняя земная жизнь, посвященная делу воскрешения. Итак, “или полное одиночное заключение, или всеобщее воскрешение... Иначе — или ни Бога, ни мира, ни людей, или все это в совершенной полноте”21. Конечно, раз в разрушении мира повинен человек и раз он может самостоятельно исправить свой грех (с некоторой, правда, очень неясно осознаваемой Божией помощью), то он, безусловно, обгзан сделать это. Немного повторяясь, укажем еще раз на смутность и неясность места благодати в деле воскрешения у Федорова, привлекая к этому свидетельство одного из ближайших учеников мыслителя В. А. Кожевникова, который считает, что “... для приурочения учения Н. Ф-ча к христианству в установленном церковным учением смысле пришлось бы доказывать, что Н. Ф. Федоров приписывал непосредственному божественно­ му действию... несравненно большее значение, чем сколько можно заключить по выраженному в писаниях Н. Ф-ча. Это обстоятельство было мною не раз указываемо и самому Н. Ф-чу при беседах с ним. В этих последних в полупил впечатление о том, что для него действие благодати являлось скорее вспомога­ тельным, нежели основным в процессе спасения. Так, однажды на мое замечание о трудности задач (общего дела) для сил только человеческих он ... ответил: ”Но ведь надо же принять во внимание и то, что Бог поможет”22. Конечно, раз благодать — не есть основная сила в “общем деле”, воскрешен­ ное творение не есть “тварь нова” (2 Кор. 5, 17), ибо “... для чего же воскрешение, если нужно новое творение! По поводу этого последнего утверждения Федорова на страницах журнала “Вопросы философии и психо­ логии” разгорелась оживленная дискуссия между кн. Е. Трубецким и еще одним федоровским учеником — Н. П. Петерсоном. Первый, защищая В. С. Соловьева от обвинений в симпатии к учению Н. Федорова, утверждал как раз этот самый идеал новой твари, преображенной божественным светом, идеал материи, избавившейся от своей косности и непроницаемости24. В приватном же послании к Петерсону Трубецкой вообще поставил жесточайшую дилемму: “Ввиду решительной необходимости выбрать между Федоровым и Евангелием, я, разу­ меется, не колеблясь ни минуты, выбираю последнее”25. Так ставить вопрос, конечно, было несправедливо — Федоров основал свое учение на евангельских фактах и заповедях. Однако поскольку для русского мыслителя казалось совершенно неприемлимым принять осуждение грешников на вечные муки (тоже вполне евангельская по духу мысль), Федоров не смог принять и действия божественной благодати в качестве фактора, основного в деле воскрешения мертвых, поскольку этим бы снижалось значение собственной человеческой деятельности, а потому ставилась бы под вопрос и сама возможность всеобщего спасения. То, что Федоров выносит на первый план человеческую стихию, вытесняя и затемняя ею божественность, есть, очевидно, дух времен. Конец XIX — начало XX вв. вывел на арену истории массы, близился век идеологий, “великих свершений”, научно-технической революции и прочих идолов нашего века. Н. Федоров переосмысливает христианство практически, поняв эту практику как “общее всех”, то есть массовое дело. Стиль Федорова во многом — стиль лозунга, плаката, недаром его учение было столь любимо многими боль­ шевиками. Вот как об этом аспекте “Философии Общего Дела” пишет проф. Устрялов: “Не нужно быть ”федоровцем", чтобы почувствовать в этой социаль­ ной систему нечто незаурядное и захватывающее. Думаю, не будет ошибкой сказать, что она таит в себе возможность большого социального успеха. ... она словно просится на трибуны и в микрофоны”26. Идеология Кламарской группы евразийцев, кажется, достаточно свидетельствует о справедливости такой оцен­ ки. Поэтому представляется вполне логичным, что “Философия Общего Дела” вместо божественной благодати ставит именно человеческую активность, но активность специфическую, внешне—оформляющую, производительную, то есть труд. Заповедь обладания землею и была заповедью о труде. И “дело... человека заключается в обращении всего рождающегося ... а потому и смертного — в трудовое, а потому бессмертное”27. Федоров увидел в труде человеческую, очеловечивающую неживое деятельность, которая единственно может служить достижению общей цели. Это труд всечеловеческий, братский, бескорыстный, совершающий метафизическую реформу мира. Таким образом, Федоров не просто интерпретирует христианство с точки зрения хозяйства; он переос­ мысливает и само хозяйство, что очень хорошо увидел С. Булгаков28. Федоров жаждет по-христиански преобразить мир, но его трезвость (несмотря на кажу­ щуюся параноидальность многих его построений) заставляет его говорить о реальном, вещественном, имманентном преображении. Главное здесь у Федоро­ ва — этический, нравственный, т.е. практический момент, и необходимость апокатастатиса диктуется именно этикой, а не метафизикой, которой, впрочем, Федоров чурается, пророча гибель всякого философствования. Этим его апоката­ стасис глубоко чужд метафизическому “всеобщему восстановлению” Оригена: нравственно-практическая философия труда противостоит здесь метафизике абсолютной свободы. Поэтому “жалостники” Августина более приложимо не к оригенистам, а к федоровцам. Действительно, очень часто почему-то не замеча­ ется, что оригеновский круговорот миров увековечивает не только блаженство Рая, но и муки Ада: они сменяют друг друга в круговращении Вселенной. Оригенизм в этом совершенно чужд этики, круговорот индифферентен к добру ■ злу, единственное, что здесь имеет значение, — так это абсолютная свобода человека. Для Федорова же на первом плане стоит вопрос о страдании мира, живущих, а не о существовании сущего. Страстный этический пафос учения Федорова можно увидеть хотя бы из его знаменитого “Необходи мого допол­ нения*' (листок с таким названием был обнаружен среди бумаг Федорова В. А. Кожевниковым): “От детских лет сохранились у меня три воспоминания: видел я черный-пречерный хлеб, которым (говорили мне) питались крестьяне в какой-то, вероятно, очень голодный год. Слышал я с детства объяснение войны (на мой вопрос о ней), которое привело меня в страшное недоумение: ”иа войне люди стреляют друг в друга”. Наконец, узнал я не о том, что есть и не родные, а о том, что сами родные — не родные, а чужие”29. Отсюда и весь психологизм Федорова, постоянное ощущение вины, долга, попытки психологического воз­ действия на читателя и т.д. В этом, конечно, Федоров как философ совершенно непрофессионален, поскольку он вообще не есть философ; его “философия” — нравственно-практический проективизм, а не спекулятивная метафизика. Принижение роли благодати в деле воскрешения, имманентная “патрофикация”, конечно, требовали от Федорова переосмысления пророчеств о Страшном Суде. С этим связано знаменитое федоровское учение об “услов­ ности” апокалиптических пророчеств. “Славным” для русского мыслителя было именно первое пришествие Христа. К нему же он относит и Суд, находя указание на это в евангельских словах “Ныне Суд миру сему”3 . Таким образом, суд над миром уже свершился, и его решением было всеобщее воскрешение. Иначе говоря, “воскрешение — не мысль только, но и не факт, она — проект, и, как слово или заповедь, как божественное веление, оно есть факт свершившийся, а как дело исполненное оно есть еще акт незаконченный; как Божественное оно уже решено, как человеческое — еще не произведено”31. Однако, будучи свободен, человек может окончательно забыть о своей задаче, и это будет катастрофой для рода человеческого. Об этом и говорит Откровение Иоанна Боголослова: что случится, если человек не о т к л и к н е м с я на божествен­ ный зов ко всеобщему воскрешению всех отцов, если забвение долга окончатель­ но превратит его в блудного сына, родства не помнящего. Однако, если имманентное вызревает постепенно, то трансцедентное вмешательство потому и катастрофично, происходит во мгновение ока, что это именно вмешательство, “Бог из машины” как заключительный акт мировой трагедии. А потому то ‘‘чаяние воскресения мертвых и жизни будущего века”, которое звучит в последнем члене Символа Веры, понимается Федоровым активно, имманентно, проективно. Чаять для него — не значит ждать или надеяться, но именно проектировать, осуществлять или стремиться к такому осуществлению. Поэтому и “фатальная развязка есть вымысел книжников ... эта фатальность, этот deux ex machina вносит неразрешимое противоречие в богословие”32. Само это второе пришествие Христа на “облацех небесных” (Матф. 24, 30) у Федорова оказыва­ ется возможным проектировать... Итак, в качестве итогов этого небольшого исследования мы можем сказать следующее: 1. Основные интуиции и главные категории федоровской мысли суть кате­ гории христианского сознания — понятия смерти, греха и свободы воли. Как таковое учение о воскрешении мертвых примыкает к христианским концепциям всеобщего спасения, апокатастасиса. Кроме того, глубокий этический пафос этого учения отделяет его от метафизических ересей типа оригенизма, имея своим истоком сострадание к страждущим в этом мире, больном рознью, небратством и смертью, сострадание христианское, православное, евангельское. 2. Однако непроясненность понятия божественной благодати на фоне посто­ янного акцентирования главенствующего положения труда, чисто человеческой активности в деле воскрешения хотя и позволяет Федорову открыть новые горизонты для христианской мысли (вопрос о соотношении культа и хозяйства), оказывается определенно плодом “мира сего”, преддверием нарождающихся массовых идеологий века XX. 3. Однако христианство, культовое и мирское, хозяйственное в федоровском учении не остаются чем-то разорванным. Русский мыслитель пытается прет­ ворить их разъединенность в новый синтез—"проект", и философия Федорова может быть названа проективизмом по преимуществу. ПРИМЕЧАНИЕ 'Голованснко С. Философия смерти и воскрешения//Богословский вести. 1914. Алр. С.665. 2Еп. Игнатий Брянчанинов. Слово о смерти//Соч. СПб., 1905. Т.3. С.70. 3Там же. С.72. 4Ориген. О началах. Самара, 1993. С.104—105. 5Там же. С.84. ^Там же. С.50. 7Там же. С.103. Флоровский Г. В. Восточные отцы V—VII вв. Париж, 1933. С. 112. 9Vernon I. Bourke. Augustin's Quest of Wisdom. Minwankee, Wis., 1945. P. 175-176. 10Булгаков С. H. Православие. М., 1991. С.388—389. 11Aurelius Augustinus. De natura et Gratia//Patrologiae cursus completus/ Ed. I.P. Migne. Ser. latina. V. 32. P. 247—290. 12Cm.:Aurelius Augustinus. De libero arbitrio//Ibid. V. 32. P. 1271. 13Cm.: Vernon I. Bourke. Augustin's Quest of Wisdom. P.100. Autelius Augustins. De libero arbitrio. P.1299. u Lukashevich S. N.T. Tedorov (1828—1903): A study of russian eupsychian and utopian thought. N.Y.; L., 1972. P. 298. ^Федоров H. Ф. По поводу статьи Соловьева о воскрешении//ОР РГБ. Ф.657. К.9. Ед. хр. 45. 16Там же. 17См.: Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982. С.501-521. 18Там же. С.511. 19См.: Голованенко С. А. Имманентизм и христианская философия//Бого­ словский вести. 1914. Июль-авг. 20См.: Федоров Н.Ф. По поводу статьи Толстого “Не убий!”//О Р РГБ. Ф.657. К.9. Ед. хр. 49. 21Федоров Н. Ф. Сочинения. С.386. и ОР РГБ. Ф.657. К.9. Ед. хр. 58. ^Федоров Н. Ф. По поводу статьи Соловьева о воскрешении. 24См.: Вопросы философии и психологии. 1913. Май-июнь. С.420. О ^Трубецкой E. Н. Письмо к Петерсону Н .П .//О Р РГБ. Ф.657. К.9. Ед. хр.63. 26Проф. Устрялов. Из письма//Вселенской дело. Рига, 1934. Вып.2. С.162. 27Федоров Н. Ф. Сочинения. С.452. ^См.: Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990. С.102, 103, 217, 230. *9Цит. по: Петерсон Н. П. О религиозном характере учения Федорова. М., 1915. С.7. ^См.: Федоров Н. Ф. Сочинения. С.394. 31Там же. С.208. 32Там же. С.394. SUMMARY Sin, Death and Free Will In the Teaching of N.E.Fyodorov The article examines a solution of the basic problems of Christian metaphysics as argued by the Russian thinker In his “Project of Resurrection". The authors put N. Fyodorov’s “Common Cause Philosophy" Into the context of Christian metaphysics. Including in their research, along with the “Project", some of the orthodox Christian doctrines by Ignaty Bryantchaninov, Orlegen and St.Augustine. Such an approach enables the authors to comprehend the “Common Cause Philosophy" as a Christian one as well as to reveal Its difference from traditional interpretations of the problems of Sin, Death and Free Will. В. V. Yemelyanov, М. B. Khomyakov H. А. Купина КАТЕГОРИИ ТОТАЛИТАРНОГО МЫШЛЕНИЯ В ЗЕРКАЛЕ ЯЗЫКА. 1917 год — год краха Российской империи и образования империи советской, монополизировавшей идеологию, объединившей на своей громадной территории народы, которым было навязано тоталитарное мышление, нашедшее свое вопло­ щение и в русском языке. Русский тоталитарный язык — это язык эпохи тоталитаризма от 1917 года до начала перестройки, разбившей “кривое зеркало” тоталитарной идеологии (ме­ тафора Ю. Н. Караулова и А. Н. Баранова). Русский тоталитарный язык — это искусственно идеологизированный язык, основная функция которого связана с официальными идеологическими (дог­ матическими) предписаниями. При этом слово-идсологема (например, заклей­ мить, чистка, троцкистский и др.) несет в себе идеологизированное суждение и выражает тенденциозную оценку. На базе идеологем развиваются мифы. Русский тоталитарный язык — это язык советской эпохи, сформировавшийся под давлением официальной языковой политики на базе речевой апологетики тоталитаризма (литература социалистического реализма, публицистика, совет­