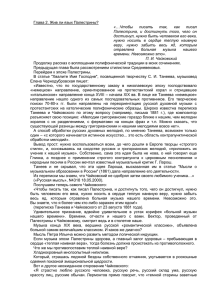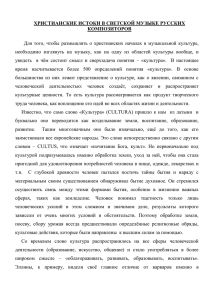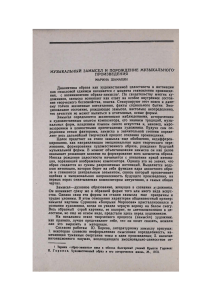Терещенко Владимир Петрович МУЗЫКАЛЬНАЯ АЛЛЕГОРИЯ В
реклама
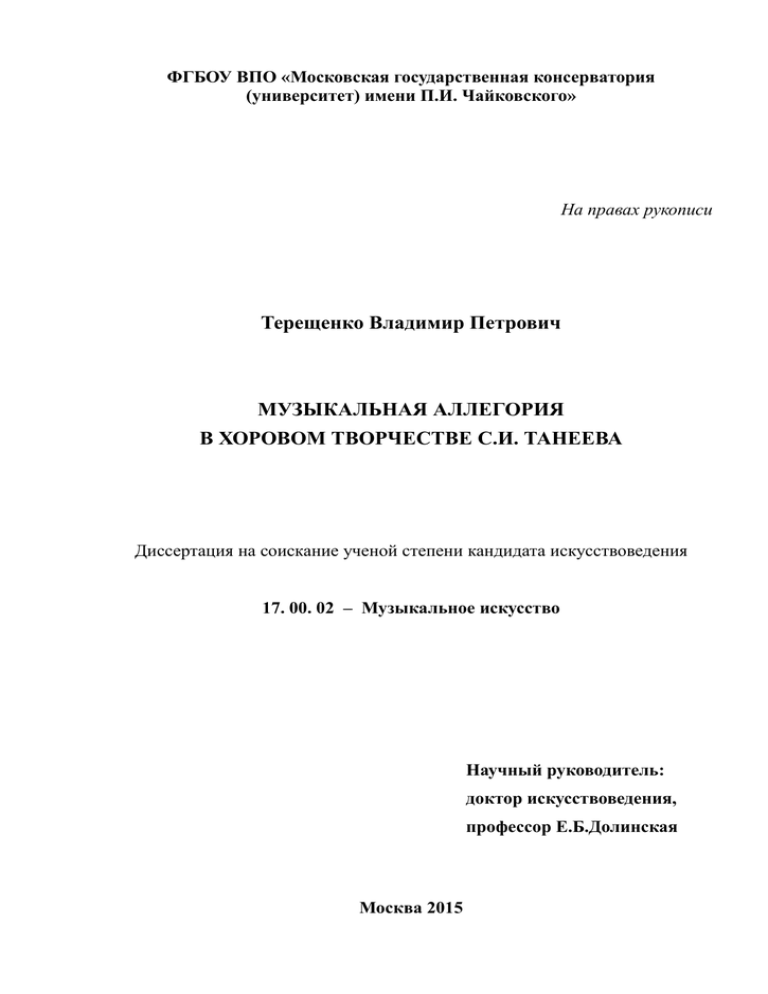
ФГБОУ ВПО «Московская государственная консерватория (университет) имени П.И. Чайковского» На правах рукописи Терещенко Владимир Петрович МУЗЫКАЛЬНАЯ АЛЛЕГОРИЯ В ХОРОВОМ ТВОРЧЕСТВЕ С.И. ТАНЕЕВА Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения 17. 00. 02 – Музыкальное искусство Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор Е.Б.Долинская Москва 2015 ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………...……………………………………..3 ГЛАВА I. Формирование аллегории (иносказания) как категории музыкознания………………………………………………………………….. 18 1.1. Происхождение, значение и функции аллегории в культуре и искусстве………………………………………………….…..………….......18 1.2. История развития понятия аллегория в зарубежной и отечественной музыкальной науке…………………………………….…37 1.3. Музыкальная аллегория и ее характерные особенности…………47 ГЛАВА II. Музыкальная аллегория в хорах a cappella С.И. Танеева.........................................................................................................56 2.1. Аллегоричность творческого мышления С.И. Танеева………..…56 2.2. Иносказательные образы в раннем хоровом творчестве………….61 2.3. Социальная направленность музыкальной аллегории в хорах «На корабле», «Молитва», «Прометей» из цикла Двенадцать хоров a cappella для смешанных голосов на слова Я.П. Полонского………...69 2.4. Аллегорическое содержание в Шестнадцати хорах a cappella для мужских голосов на слова К.Д. Бальмонта …………………………..…91 ГЛАВА III. Музыкальная аллегория в кантатах С.И. Танеева……...….112 3.1. Кантата «Иоанн Дамаскин»: аллегория смерть-рождение...........112 3.2. Кантата «По прочтении псалма»: аллегория человека и мироздания………………………………………...………………….........122 ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………….………………165 БИБЛИОГРАФИЯ………………………………………………………….…179 ПРИЛОЖЕНИЯ.………………………………………………………….…...192 2 ВВЕДЕНИЕ Творчество Сергея Танеева стало своеобразным связующим звеном двух эпох отечественной культуры. В его музыке с одной стороны – нашли органичное претворение традиции русской школы (Глинки, Чайковского) и по-особому были восприняты и воплощены черты западноевропейской музыки, с другой – по тематике, жанрам, особенностям музыкального языка композитор во многом предвосхитил ключевые тенденции музыки XX века. Как новатор музыкального языка и создатель индивидуального композиторского стиля Танеев внес свой вклад практически во все музыкальные жанры, существующие в его время. Искусство Танеева развивалось в мощной парадигме русского музыкального романтизма и в большей степени является ее частью, однако истоки индивидуального стиля Танеева лежат в гораздо более широком историческом контексте. В его творчестве глубоко и органично ассимилировались музыкальные стили эпох Возрождения, барокко, венского классицизма. Рассматривая фигуру Танеева невозможно также не учитывать, что последнее десятилетие жизни и вершина его творческого пути совпала с периодом особого духовного и творческого подъема русской культуры, получившего впоследствии наименование Серебряный век. Хотя, как верно отмечает исследователь: «в глазах молодежи Танеев не был одним из них, не братом по крови, а скорее представителем "учительной" (морализующей) культуры второй половины XIX века» [147, с. 60]. В то же время, являясь ярчайшим представителем творческой среды, композитор внимательно следил за художественными процессами своего времени и проявлял большой интерес к таким современным стилевым направлениям как символизм и импрессионизм. О непосредственной включенности композитора в интенсивный художественный мир Серебряного века свидетельствует обращение в своем последнем хоровом 3 цикле a cappella и ряде романсов к поэзии Бальмонта. Творчество Танеева во многом соприкасается с новыми художественными тенденциями, а в таких чертах как философский концептуализм, историзм, неоклассицизм и опора на рациональные основания в искусстве также предвосхищает развитие музыкальной культуры XX столетия. Не учитывая этих многочисленных стилевых связей, невозможно всецело воспринять содержание, концепции и особенности музыкального языка сочинений Танеева. Широта стилевых истоков танеевского творчества, их обращенность к высочайшим образцам прошлого во многом контрастировали с эстетическими воззрениями большинства его современников. Композитор принадлежал к совершенно особому типу художников. В гораздо большей степени его музыке было присуще прочное рациональное основание, нежели проповедуемое романтиками стихийное воплощение творческой фантазии и опора на интуитивное, чувственное познание искусства 1. Внешняя замкнутость, сдержанность, но при этом особая внутренняя эмоциональность – характерные черты личности композитора, которые всецело воплотились в его музыке. При жизни творческие изыскания Танеева отнюдь не вызывали однозначно положительной оценки. Многие его идеи и интересы воспринимались критически, казались странными, ретроградными, чуждыми современной художественной реальности. Его музыка нередко оставалась не понятой, а потому, и неоцененной по достоинству. Композитора часто обвиняли в эмоциональной холодности и интеллектуальной сухости. Асафьев с сожалением констатировал: «Многим его музыка казалась лабиринтом теоретических мудрствований, смысл которых заключался в том, чтобы скрыть бедность материала и скудость воображения сочинителя» [15, с. 7]. Подлинное осознание глубины и значения творчества Танеева началось лишь 1 Отсюда известный эстетический спор Танеева с Чайковскоим с его наставнической рекомендацией писать музыку «как Бог да душу положит…». 4 спустя несколько десятилетий после его смерти. Музыкальное наследие композитора заняло достойное место в репертуарах исполнителей. Полифония, как квинтэссенция творческих и научных интересов композитора, стала фундаментом его новаторских поисков. Апология полифонии была сознательно декларирована Танеевым как обращение к незыблемым универсальным принципам общеевропейского музыкального мышления, которые композитор намеренно реализовывал в стилевом поле русской национальной музыки. Танеев доказательно утверждал: «Мелодические и гармонические элементы подчиняются влиянию времени, национальности, индивидуальности композитора. Но формы имитационные, канонические и сложного контрапункта, и применяемые, и возможные, являются вечными, не зависящими ни от каких условий» [127, с. 5]. Как известно, композитор декларировал необходимость восполнить пропущенный этап полифонического развития отечественного национального мелоса как исторически необходимого звена музыкальной культуры европейских стран. Особым вниманием и популярностью пользуется хоровая музыка Танеева с ее богатством образного содержания, философской глубиной мысли, яркой лирической выразительностью, непревзойденным мастерством полифонической фактуры. Именно хоровая музыка, полифоничная по своей природе, стала для композитора одной из главных творческих лабораторий, и именно в этом направлении он достиг небывалых ранее высот. Жанры хоровой музыки на светский поэтический текст определяют ключевые смысловые и стилевые парадигмы творчества Танеева. Вслед за величайшими мастерами Возрождения и барокко сама полифоничность мышления Танеева воплотилась не только на уровне организации фактуры, но особенно самобытно в системе смыслов и значений, глубинного содержания музыкального произведения. В музыке Танеева обнаруживается ряд стилевых черт, приближающих ее по принципам смысловой организации к эпохе барокко. Если для романтической музыки характерно глубоко личностное, субъективное переживание, это музыка, 5 непосредственно выражающая чувство, то музыка барокко имеет эмоционально более сдержанную, умопостигаемую природу. Содержащееся в произведении чувство скорее не выражается, а обозначается определенными музыкальными приемами. При этом композитор барокко действовал в рамках установленных традиций, что обуславливало более объективистское основание искусства. В то же время эти традиции позволяли передавать в музыке определенное содержание, так как подготовленный слушатель той эпохи, воспитанный на устойчивых стилистических приемах, например, таких как музыкально-риторические фигуры или цитирование известной мелодии, воспринимал произведение не только чувственно, интуитивно, но и осознано, рационально. В западном музыковедении выражение посредством музыки некоего скрытого содержания получило определение музыкальная аллегория. В силу того, что эстетические принципы полифонических эпох, и в особенности, наследие Баха являлось определяющим стилевым основанием композиторского credo Танеева, представляется закономерным аналитический подхода к творчеству Танеева с точки зрения раскрытия его аллегорического содержания. Известно, насколько тщательно Сергей Иванович изучал наследие великого кантора, уделяя внимание при этом не только композиционно-технической, но и содержательной стороне. Н.А. Симакова отмечает: «Связь музыки и текста – одна из центральных проблем, интересующих Танеева в кантатном творчестве Баха. Она проработана им на материале многих сочинений… На полях нот много ссылок на труды Швейцера и Пирро, подробным образом рассматривающих вопрос звукописи» [110, с. 116]. Другим важным критерием, позволяющим судить об аллегоричности хоров Танеева, выступает определенный спектр поэтических текстов, избранных композитором. Как правило, литературная основа его вокальнохоровой музыки сконцентрирована в особом содержательном поле, где за архетипическими поэтическими мотивами 6 (образами природы, мифологическими и религиозными сюжетами) всегда сокрыты глубокие внутренние нравственно-философские подтексты. Глубина поэтического слова предопределяет у Танеева организацию музыкального материала, как многомерной смысловой структуры, вступающей в тонкое взаимодействие с содержательной многослойностью стихотворения. В этом синтезе, как правило, рождается глубинный аллегорический смысл, становящийся главным содержанием произведения, но изначально как бы и не находящий простого объяснения. Порой иносказательный смысл не проступает сразу будучи скрытым за сложностью стиля Мастера, неожиданностью его музыкальных решений. Особые аллегорические принципы организации музыкального материала в равной степени проявились как в отдельных хорах a cappella, так и в крупных хоровых циклах и кантатах, что и позволило избрать их в качестве наиболее показательных примеров для детального анализа аллегорического содержания в центральных главах работы. Все эти жанры выступили для композитора полем ярких новаторских достижений. Танеев стал родоначальником в русской музыке лирико-философской кантаты. Впервые нравственно-философская и религиозная проблематика была воплощена в столь сложных и монументальных кантатно-ораториальных сочинениях, как «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма». В жанре хора a cappella Танеев значительно обогатил фактуру и выразительные возможности хора и достиг невиданной ранее художественной высоты. Неслучайно цикл Двенадцать хоров на слова Я.П. Полонского был назван Асафьевым «высшим достижением классического стиля русской светской хоровой культуры дореволюционной эпохи» [13, с. 132]. В самом деле, по сложности музыкального выражения и глубине философского содержания жанр хора a cappella на светский текст был возведен Танеевым до уровня симфонического мышления. По меткому замечанию классика современной отечественной музыки С.М. Слонимского «Танеев, в сущности, первый первый придал форме хоров симфоническое, 7 аллегорическое значение – то есть для него каждый крупный хор a cappella равноценен симфонической поэме. Он не писал аллегорических симфонических поэм, как Лист, он писал вот такие хоровые поэмы, если угодно, его некоторые хоры можно назвать поэмами. Тем самым, он опять предвосхитил многое в XX веке» [132, с. 143]. Творческое наследие Танеева не обойдено вниманием со стороны ученых-музыковедов. За вот уже почти столетие после его смерти круг исследований охватил все жанры его творчества, в том числе и хоровую музыку. Научные исследования и публикации, ставшие опорными в работе над диссертацией, можно классифицировать по трем группам. К первой отнесем работы, позволяющие судить о свойствах личности композитора, его эстетических взглядах и убеждениях, методах и приемах композиторской работы. Прежде всего – это литературное наследие самого композитора, его научные работы, переписка и дневниковые записи. Также к этой группе можно отнести довольно многочисленные воспоминания современников Танеева – близко общавшихся с ним коллег и учеников. Большинство из этих мемуаров представляют собой небольшие эссе, написанные в первые годы после смерти композитора. Среди их авторов С. Рахманинов [102], А. Гречанинов [38], Б. Яворский [155, 156, 157], Ю. Энгель [151], К. Эйгес [148], А. Гедике [35], А. Гольденвейзер [37] и др. Особую ценность представляет масштабный труд Л. Сабанеева «Воспоминания о Танееве» [106]. Изданная Рахманиновым в 1930 г. за рубежом, широкому отечественному читателю книга стала доступна лишь в новом издании 2003 г. Во вторую группу можно выделить крупные монографические исследования, посвященные композитору. Прежде всего – это фундаментальный труд Г. Бернандта «С.И. Танеев» [23]. Работа имеет биографический характер, в ней освещается жизненный путь композитора, его эпоха, взаимоотношения с современниками, обстоятельства создания музыкальных произведений. Особую 8 ценность представляет работа Л. Корабельниковой «Творчество С. И. Танеева: Историко-стилистическое исследование» [58]. Автор, во многом опираясь на архивные материалы, рассматривает творческий метод композитора в широком социальноисторическом и культурологическом контексте. Также следует отметить монографии более популярного характера С. Савенко [107] и Т. Хопровой [140]. К третьей группе относятся многочисленные аналитические исследования, охватывающие отдельные грани творчества Танеева. По ним можно проследить эволюцию научной мысли о композиторе на протяжении XX века. Патриархом танееведения несомненно можно считать Б.В. Асафьева. Его первые статьи о произведениях композитора появились в 1914 году. В книге «Русская музыка», завершенной ученым в 1928 году, Танееву посвящены страницы, изобилующие емкими аналитическими умозаключениями, справедливость которых подтверждена временем. Многие суждения относительно творчества Мастера фактически стали отправными точками для будущих поколений исследователей. Творчество Танеева было в поле зрения ученого на протяжении всей жизни. Одна из последних работ Асафьева, посвященная 30-летней годовщине со дня смерти Танеева, представляет собой одно из лучших музыковедческих эссе о его творчестве. Особый музыковедческий подход проявляется в Воспоминаниях о Танееве Б.Л.Яворского [155]. В своей работе ученый одним из первых осмысливает творческие и эстетические принципы Учителя в теоретическом аспекте. Важной вехой в изучении творческого наследия композитора стало появление сборника статей и материалов «Памяти Сергея Ивановича Танеева», выпущенного в 1947 году к 90-летию со дня рождения. Хоровое творчество Танеева освещено в нем в статье С.Попова, статья А.Степанова содержит аналитический разбор кантаты «По прочтении псалма». Особый интерес представляет эссе «Творческий путь С.И. Танеева» В.В Протопопова. 9 В дальнейшем ученый впервые предпринял попытку осмысления полифонического стиля Танеева. В главе «Полифония Танеева» многотомной «Истории полифонии», автор уделяет значительное место выявлению особенностей развития тематического материала в многоголосных формах. Исследователь подчеркивает национальную природу танеевской полифонии, в которой использование вариационных приемов образует систему полифонических вариаций. Для понимания особенностей полифонического стиля Танеева ценными также являются работы С.С. Скребкова [114, 115], в которых автор выдвигает тезис о «синтетических чертах» фуг Танеева. По его наблюдениям, в произведениях композитора фуга проявляется как форма, способная трансформироваться и вбирать в себя признаки других форм в зависимости от художественного замысла. Иной подход к понятию «стиль Танеева» представлен в исследованиях М.К.Михайлова [83]. Ценность его работ состоит в том, что в них присутствует новый – исторический ракурс претворения классицистских тенденций в творчестве Танеева. С точки зрения характеристики исторического значения творчества Танеева интересна книга Т.Н.Левой «Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи» [67]. Автор отмечает охранительные тенденции творчества Танееева, предвосхищающие классицистские течения XX века. Рассмотрению фигуры Танеева в ракурсе художественной культуры Серебряного века посвящена диссертация О.А. Штейнер [147]. В последние десятилетия, после снятия идеологических барьеров на проникновение духовных тем и идей в академическую науку, особый интерес ученых привлекает религиозно-философская сфера в музыке композитора. Наконец-то стало возможным осмыслить в музыковедческих исследованиях глубинные смыслы творчества, ранее безоговорочно отвергавшиеся под штампом танеевского атеизма. В этой связи особый интерес представляют 10 работы Г. Лукиной (Аминовой) [3-8; 73], Л. Серебряковой [109], Н. Коваленко [54], В. Крыловой [61; 62]. Значительным научным достижением стал ввод в научны обиход неизданных ранее духовных сочинений композитора, осуществленный усилиями Вл. Протопопова и Н. Плотниковой. Таким образом, глубина и многоплановость музыки Танеева продолжает раскрываться во времени. На протяжении вот уже века после смерти композитора, интерес ученых сосредотачивался на различных аспектах его наследия (историко-стилистическом, композиционно- техническом, образно-содержательном и др.), и каждый из исследователей открывал для себя новые грани танеевского гения. Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что, несмотря на обилие литературы о Танееве, аллегоричность, как особая черта его хоровой музыки пока не получила достаточного освящения в музыкальной науке. Иносказательный смысл часто неочевиден и скрыт за сложностью музыкального стиля Мастера, неожиданностью его музыкальных решений. Заметим, что в вокально-хоровых сочинениях Танеева обращают на себя внимание именно некоторые особые меты индивидуального композиторского почерка, изначально как бы и не находящие простого объяснения. Такова, в частности, специфика воплощения в музыке литературного текста, как исходно определяющего ее суть и смысл. Как известно, сама эта неординарность музыкального мышления часто притягивает внимание и как бы вовлекает слушателя в своеобразную когнитивную игру. Отступления от канона могут наблюдаться как в крайней сложности полифонических приемов, так и в необычности формообразования или тонального плана. Обнаруживая необычность подхода Танеева к трактовке жанров или введение цитат известных музыкальных тем, многие исследователи хорового творчества Танеева порой классифицируют подобные принципы как некие недостатки музыки Танеева, приписывая ей излишнюю ученость, сухость, интеллектуальность стиля. 11 На наш взгляд, именно изучение иносказательной составляющей композиторского стиля Танеева позволяет раскрыть глубинные смыслы многих его сочинений. В диссертации предпринята попытка анализа хоровых произведений композитора с точки зрения их аллегорического содержания. Такой метод позволяет более объемно воспринять их музыкальную суть, ярче высвечивает целостность и стройность авторского замысла. Кроме того, сам подход выявляет соподчиненность всего спектра музыкально-выразительных средств выражению некоего аллегорического содержания, рождающегося во взаимодействии литературного и музыкального смыслов. Наделяя свои произведения определенным иносказательным содержанием, Танеев как бы приглашает исполнителя, а вслед за ним и слушателя к своеобразному интеллектуальному диалогу. Это интертекстовое общение происходит не только на уровне структуры – то есть самой музыкальной материи, но и на уровне смыслов и значений, рождающихся из синтеза слова и музыки. Таким образом, в произведении не только эмоционально выражается его буквальное содержание, но и передается при помощи аллегорических свойств музыки иной, неявный смысл. Рассмотрение литературной и музыкальной составляющих произведений Танеева в их семантическом взаимодействии позволяет обнаружить заложенные в ней метафорические формулы, прочесть авторский замысел, как правило, не ограниченный лишь содержанием литературного текста. Это приводит к переосмыслению музыкального наследия композитора, раскрытию глубины и неординарности его творческого мышления. Объектом исследования становятся хоровое творчество Танеева различных жанров и периодов: ранние хоровые произведения, вершинные хоровые циклы и кантаты. В качестве объекта исследования осознанно не рассматриваются хоры на канонические православные тексты. На наш взгляд, Танеев, следуя традициям русской духовной музыки, учитывал их особую сакральность и не рассматривал в качестве основы для музыкальной 12 аллегории. Более подробно роль этих сочинений освещена в заключении диссертации. Предметом исследования является аллегорическое содержание хоровых произведений Танеева. Материалом исследования избраны хоровые сочинения, в которых аллегорическое содержание проявляется наиболее ярко. Среди них ранние хоры юмористического характера и шуточная кантата «Апофеоз художника», центральные номера цикла Двенадцать хоров на стихи Полонского (ор. 27) («На корабле», «Молитва», «Прометей»), Шестнадцать хоров на стихи Бальмонта (ор. 35), кантаты «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма». Целью диссертации является раскрытие аллегорического содержания – своего рода «эзопова языка» в хоровых произведениях Танеева, что в свою очередь требует разработки специфических методов анализа. Отсюда в задачи диссертации входит: охарактеризовать понятие аллегория в историческом и культурологическом аспектах; рассмотреть аллегорию, как универсальную категорию культуры, проявляющуюся в таких ее областях как риторика, философия, религия, живопись, литература и музыка; обосновать использование аллегории как одного из характерных художественных приемов в музыке Танеева; разработать приемы анализа музыкальных произведений с точки зрения раскрытия в них аллегорического содержания; выявить иносказательные образы в раннем хоровом творчестве Танеева; проанализировать аллегорическое содержание в отдельных номерах цикла Двенадцать хоров на стихи Я. Полонского и целиком в цикле Шестнадцать хоров на стихи К. Бальмонта; 13 раскрыть сложные аллегорические концепции кантат «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма». Методология исследования основана, прежде всего, на целостном музыкальном анализе, направленном на раскрытие аллегорического содержания произведения, и выявляющем семантическую соподчиненность всего спектра выразительных средств. Также используются историкостилевой метод, методы сравнительного, текстологического, структурного и контекстуального анализа. В работе применен междисциплинарный подход, включающий достижения следующих наук: музыковедение, литературоведение, эстетика, философия, богословие, история культуры и искусства. В качестве основы взяты научные концепции музыкальной аллегории, представленные в работах зарубежных ученых: А. Швейцера, М. Букофцера, Э. Бодки, П. Монтальбано, Э. Чейфа, Т. Язинского и других. В отечественном музыкознании проблема музыкальной аллегории не получила специального освещения, тем не менее в диссертации привлечены исследования отечественных музыковедов, касающиеся музыкальной семиотики и теории музыкального содержания. Среди них работы Б. Яворского, Ю. Холопова, И. Степановой, Т. Владышевской, М. Сапонова, Е. Левиной, Р. Берченко, В. Холоповой, Л. Казанцевой и других. Также важными составляющими методологии выступают авторские концепции анализа музыкального текста, принадлежащие М. Арановскому и Л.Акопяну. При рассмотрении понятия аллегории с точки зрения ее общекультурного и исторического значения использованы труды по истории искусств, литературоведению, философии и эстетике У. Эко, М. Холла, Ю. Лотмана, В. Микушевича, И. Протопоповой и других. Новизна данного исследования определяется следующими положениями: впервые в отечественном музыкознании обосновываются принципы и закономерности существования понятия аллегория по отношению к музыкальному искусству; 14 разрабатывается инновационная концепция анализа музыкального произведения с точки зрения его аллегорического содержания. хоровое творчество Танеева в аспекте музыкально-аллегорического содержания анализируется впервые; Достоверность исследования определяется опорой на архивные материалы из наследия Танеева. Один из ключевых ракурсов изыскательской работы был связан с поиском и дальнейшим вводом в научный обиход неизвестных, неопубликованных хоровых произведения композитора. В силу сложившихся исторических причин танеевский архив оказался разделенным подчас случайным образом. Большая часть музыкальных рукописей Танеева хранится в Государственном доме-музее П.И. Чайковского в Клину (ГДМЧ), другая их немалая доля содержится во Всероссийском музейном объединении музыкальной культуры им. М.И. Глинки (ВМОМК), небольшая часть попала в Российский Государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Нередко эти части архива композитора комплементарно соотносятся друг с другом. Так, черновик неопубликованной шуточной кантаты «Апофеоз художника» был найден в ГДМЧ, а чистовая рукопись – во ВМОМК. Анализ произведения, представленный в работе, обновляет представление о трактовке композитором данного жанра, дополняя известные лирико-философские кантаты, и значительно расширяет знания об интересной и мало изученной области наследия Танеева – его музыкальном юморе. На основе чистовой рукописи, хранящейся в ГДМЧ в диссертации публикуется и анализируется малоизвестный хор «Тишина №2» из цикла Шестнадцать хоров на стихи К.С. Бальмонта. Данная миниатюра рассматривается в контексте всего цикла, что позволяет более полно взглянуть на его структуру и содержание. В работе впервые представлена расшифровка рукописи Танеева, обнаруженной в ГДМЧ, которая представляет собой подготовительную работу со стихотворениями Бальмонта, предназначенными для хорового 15 цикла. Многочисленные пометы в поэтическом тексте, сделанные рукой композитора, позволяют приоткрыть тайну его творческого процесса, понять принципы структурирования и расстановки смысловых акцентов в литературном первоисточнике. На защиту выносятся следующие положения: аллегоричность – одна из характерных черт творческого мышления Танеева, ярко воплотившаяся в его хоровых произведениях; аллегорические образы в ранних хоровых миниатюрах приобретают роль ключевых для всего творчества Танеева; в аллегорическом содержании циклов хоров на стихи Полонского и Бальмонта имеет отражение социальная тема, связанная с историческими событиями в России начала XX века. кантаты «Иоанн Дамаскин» и по «Прочтении Псалма» содержат сложное многоуровненвое аллегорическое содержание, восходящее к ключевым вопросам философии и религии. Теоретическая значимость диссертации состоит в расширении известных представлений о музыкальном содержании хоровой музыки Танеева, в перспективе использования разработанной методики анализа на другие вокально-хоровые сочинения композитора, а также на музыку других композиторов XX века. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования материалов диссертации в вузовских курсах истории русской музыки, истории хорового исполнительства, анализа музыкальных произведений, в занятиях по специальности дирижирование академическим хором, а также в музыкально-исполнительской работе дирижеров. Поставленные проблемы предопределяют структуру диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении дано научное обоснование темы диссертации, обозначена методология исследования. В первой главе освещены генезис, значение и функции аллегории в культуре и искусстве, рассмотрена история развития понятия 16 аллегория в зарубежной и отечественной музыкальной науке, выявлены характерные особенности музыкальной аллегории. Во второй главе проанализировано аллегорическое содержание в хорах a cappella на примерах ряда наиболее характерных сочинений. В третьей главе произведен анализ аллегорического содержания кантат «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма». В заключении подведены итоги исследования и обозначены дальнейшие перспективы данного аналитического метода. диссертации прилагается список литературы три и В конце приложения, представляющие собой расшифровки неопубликованных рукописей Танеева: тексты Бальмонта с пометами композитора, хор «Тишина №2» из цикла Шестнадцать хоров на стихи Бальмонта, партитура кантаты «Апофеоз художника». 17 ГЛАВА I Формирование аллегории (иносказания) как категории музыкознания Иносказание существовало с древнейших времен как неотъемлемая часть человеческой культуры, как один из способов осознания и творческого отражения действительности. Понятие аллегория впервые было сформулировано и осмыслено в античной риторике. Позже этот термин занял прочное место в античной философии, христианском богословии, изобразительном искусстве и литературе. Иносказание, как универсальное свойство человеческого мышления, находило отражение также в музыкальном искусстве. Однако, в музыкальной науке изучение аллегории, как особого композиционного приема, началось лишь в начале XX века и первоначально связывалось преимущественно с сочинениями композиторов эпохи барокко. 1.1. Происхождение, значение и функции аллегории в культуре и искусстве Слово аллегория греческого происхождения, и этимология его не вызывает сомнений: alla в буквальном переводе – иное, другое, agoreyo – говорить. Таким образом, дословным русским аналогом понятия аллегория является слово иносказание. Согласно исследованию И. Протопоповой [101], первое известное упоминание аллегории принадлежит Деметрию Ритору или Деметрию Фалерскому (350-283 гг. до н.э.) – греческому философу, ученику Аристотеля. В «Трактате об эпистолах» он объясняет значение вполне понятного греческого слова «иносказание» следующим образом: «Аллегорический вид письма – это когда мы хотим, чтобы тот, кому мы пишем, понимал одно, обозначаем же это через другое» [цит. по 101]. Таким образом, подразумевается особая роль аллегории в передаче скрытого смысла, 18 доступного ограниченному кругу посвященных людей. Позже, римский философ и государственный деятель Цицерон (106-43 гг. до н.э.) в своем знаменитом трактате «Оратор» дает такое определение аллегории: «когда текут многие продолженные метафоры, то это такой род речи, который греки называют аллегорией» [цит. по 101]. Отсюда, у Цицерона аллегория выступает в качестве риторического построения, которое состоит из многих метафор. У знаменитого римского педагога, литературного критика и систематизатора риторики Квинтилиана (35-100 н.э.) встречается более развернутая характеристика аллегории. Сначала он дает общее определение аллегории, сходное с тем, что было у Деметрия: «в целом же аллегория подобна тому, как если говоришь одно, а хочешь, чтобы поняли другое» [цит. по 101]. Но далее, продолжая мысль Цицерона, Квинтилиан пишет, что аллегория – это непрерывная цепь метафор. И уточняет то, что когда пишешь об одном предмете, надо чтобы метафоры были из одной области. Некрасиво, например, для описания мятежа сначала использовать метафоры наводнения, а заканчивать метафорами пожара. Квинтилиан также отмечает, что чрезмерно темная аллегория есть энигма, загадка, и ратует за большую прозрачность и доступность аллегории для восприятия. Таким образом, у различных античных авторов термин «аллегория» приобретает каждый раз новые смысловые нюансы, она рассматривается, прежде всего, как риторический прием или троп (украшение). Через аллегорию выражается не только какая-либо отвлеченная, абстрактная идея, но и конкретный смысл. В дальнейшем, начиная с I века, понятие аллегории используется не только в работах по риторике, но и прочно закрепляется в философских текстах. К первому веку н. э. относят произведение греческого философа и историка стоической школы Гераклита «Гомеровы вопросы», посвященное аллегорическому истолкованию «Илиады» и «Одиссеи». В этом произведении Гераклит делает вывод: то, что Гомер говорит о богах, надо рассматривать как аллегорию. После этого он предлагает философское 19 истолкование творчества Гомера с позиций стоиков: Зевс – эфир, Гера – воздух и т. д. Следовательно, у Гераклита понятие аллегории отходит от сугубо риторического истолкования ее как тропа, и переходит в ранг философской категории, вследствие чего, образы греческих богов трактуются уже как отвлеченные понятия. Характерно, что различными философскими школами образы одних и тех же богов истолковывались по-разному. Так пифагореец Феаген Регийский толковал богов как природные элементы (например, Аполлон-солнце, Артемида-луна) и как свойства души: Афина мудрость, Арес – мужество и т.д. По Метродору из Лампсака (конец V в. до Р. Х., ученик Анаксагора, находившейся под влиянием натурфилософии и медицины) описанные Гомером боги означают части человеческого тела, а люди – элементы природы. Понятие аллегории используется в различных философских учениях по-разному. Так, если в физическом аспекте боги могут означать определенные и взаимосвязанные элементы космоса, а взаимоотношения богов, описанные в тексте, целиком отражать сочетания и борьбу этих элементов, то в моралистическом ракурсе битва богов в «Илиаде» понимается как борьба разных частей человеческой души между собой: Афина как мудрость и разумная часть души вступает в борьбу с безрассудным мужеством, с гневной частью души, то есть с Аресом. Но эти же боги в других своих аспектах могут трактоваться по-другому. И, пожалуй, наиболее яркий пример того, каким сложным образом могут быть опосредованы их аллегорические истолкования, демонстрируют пифагорейцы, ставящие богов в соответствие математическим понятиям. Таким образом, в основе аллегории, как философского термина лежит истолкование текстов, имеющих статус священных или просто высокоавторитетных для данной традиции. Для философской аллегории характерна вариативность истолкований одного и того же образа, при этом, как правило, отсутствует какая бы то ни было аналоговая связь между образом и приписываемым ей смыслом. В зависимости от теоретических построений будет меняться и значение того же самого образа. Такая 20 аллегория вырастает из стремления обнаружить скрытое в текстах знание философского характера. Для философской аллегории (как и для философии вообще) характерно оперирование широкими отвлеченными понятиями. Это хорошо прослеживается в приведенных примерах из поэм Гомера. Те или иные боги, являясь, с одной стороны, определенными личностями и литературными персонажами, с другой, в трактовке различных философов могут означать такие понятия как эфир, воздух, мудрость, мужество, душу, гнев, ум, силу, и т. д. Богословский уровень прочтения Гомера и мифов очень тщательно разрабатывали неоплатоники: у них Кронос, например, это «целостность умопостигаемой монады Ума», Зевс – «умозрительная монада в аспекте демиургии, то есть творения», а Дионис – «божественная монада, распавшаяся и превратившаяся в чувственную сущность». Итак, еще в эпоху античности складываются различные подходы к понятию аллегории – в риторическом, в философском и в богословском аспектах. Основное отличие риторической аллегории в том, что она вопервых, всегда однозначна, то есть может быть трактована определенным образом, во-вторых, она может означать как отвлеченное, так и конкретное понятие. Философская аллегория, напротив, многозначна и всегда апеллирует к отвлеченным образам. Богословская аллегория исходит из философской, но базируется преимущественно на категориях морали, нравственности, духовности. В современном понимании аллегория приобретает широкое значение, вырастая главным образом из этой триады областей знания: риторики, философии и богословия. Разночтение термина обусловлено во многом их взаимовлиянием. Это сказывается, в частности, в следующем вопросе: может ли аллегория выражать конкретное значение через конкретный образ, или же только отвлеченное понятие через конкретный образ. На протяжении исторического развития человеческой мысли термин «аллегория» несколько видоизменял свое значение, переходя из одной 21 области знаний в другую. В настоящее время понятие «аллегория» с одной стороны принадлежит искусствоведению, а с другой, оно прочно закреплено в философии и богословии. Такой объемный диапазон понимания этого термина требует уточнения его значения в данной работе. Рассмотрим, каким образом определяется это понятие в наиболее авторитетных энциклопедических и справочных изданиях: 1. «Аллегория (греч. – иносказание) – выражение абстрактного объекта (понятия, суждения) посредством конкретного (образа)» [69]. 2. «Аллегория (греч. allegoría – иносказание), условное изображение в искусстве отвлечённых идей, которые не ассимилируются в художественном образе, а сохраняют свою самостоятельность и остаются внешними по отношению к нему» [28]. 3. «Аллегория – условное изображение абстрактных понятий в наглядных образах искусства» [146]. 4. «Аллегория ж. греч. иносказание, инословие, иноречие, околица, обиняк, проображение; речь, картина, изваяние в переносном смысле; притча; картинное, чувственное изображение мысли. Весь вещественный, чувственный мир не иное что, как иносказание, по соответствию, мира духовного. Аллегорический, аллегоричный, иносказательный, переносный, окольный, обинячный; аллегорист м. иносказатель» [39]. 5. «Аллегория. Условная форма высказывания, при которой наглядный образ означает нечто "иное", чем есть он сам, его содержание остается для него внешним, и оно однозначно закреплено за ним культурной традицией» [134, с. 22]. Все эти определения можно подразделить на две группы, где в первой (с 1-ого по 3-е определение) акцентируется абстрактно-отвлеченное понимание аллегории, а во второй – такой акцент отсутствует. Возможно, такая путаница возникла из-за разности трактовок самого термина в связи с его использованием в нескольких научных областях. Разночтения возникают даже в рамках одного издания. Так, Энциклопедический словарь Брокгауза и 22 Ефрона дает следующее определение: «Аллегория – художественное обособление отвлеченных понятий посредством конкретных представлений. Религия, любовь, справедливость, раздор, слава, война, мир, весна, лето, осень, зима, смерть и т. д. изображаются и представляются как живые существа. Прилагаемые этим живым существам качества и наружность заимствуются от поступков и следствий того, что соответствует заключенному в этих понятиях обособлению…» [152, с. 461]. Здесь автор сводит аллегорию лишь к отображению отвлеченных понятий, что соответствует в основном философскому значению термина. Кроме того, сделан акцент на аллегорическом толковании живых существ, что наиболее характерно традиции античной мифологии. Но в этой же энциклопедии есть другая статья, посвященная аллегории: «Аллегорическое изложение – называется такое изложение письменного документа или иначе высказанного учения, при котором предполагается, что автор думал и желал дать понять нечто другое, чем то, что говорят непосредственно слова и форма его речи, обыкновенно – нечто более отвлеченное. В собственном и определенном смысле это изложение бывает применяемо только к письменным сочинениям религиозного содержания, так как в них легче всего удержать принцип аллегорического изложения относительно почитаемого большею частью вдохновенным свыше документа и вместе с тем избежать противоречия с изменившимся религиозным убеждением» [152, с. 460]. В данном случае определение уже ближе к риторике, слово «отвлеченное» дано в конце предложения, и с оговоркой «обыкновенно». Однако здесь выдвинут тезис об использовании аллегории только в сочинениях религиозного содержания. И наконец, в отличие от 86-томной энциклопедии, Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона дает совсем другое, риторическое понятие аллегории: «Аллегория, греч., иносказание, выражение одного понятия или представления другим; изображения, в которых слова и понятия, кроме прямого смысла, имеют и другой подразумеваемый (напр., в басне). – 23 Аллегорические лица – художественное воплощение олицетворенных понятий» [76]. Очевидно, что философская традиция наложила отпечаток на трактовку этого термина, что отразилось во многих известных словарях и вызвало определенную путаницу в определениях. Несомненно, что риторическая аллегория не может быть ограничена абстрактным понятием. Она способна отражать не только отвлеченные понятия, но и вполне конкретные образы. В качестве доказательства можно привести пример из 19-ой песни «Одиссеи» Гомера2. Налицо все признаки риторической аллегории. Во-первых, есть ряд метафор: сильный орел – Одиссей, слабые гуси – женихи. Во-вторых, эти метафоры из одной области и объединены в последовательный ряд событий образующих единое иносказание. Отметим, что получившаяся аллегория не оперирует отвлеченными понятиями, а указывает на конкретные образы и события. Другой пример из Гомера относится ко второй книге «Илиады», где рассказывается о чудесном знамении, которое получили ахейцы в Авлиде перед отплытием в Трою3. Аллегория здесь снова означает конкретные образы и события. В современном искусствознании существует некоторая неоднозначность в использовании термина аллегория в соотношении его с такими понятиями, как метафора с одной стороны, и символ – с другой. Следует отделить друг от друга эти близкие по значению понятия. Само слово метафора впервые ввел и определил Аристотель. В своих знаменитых работах «Риторика» и «Поэтика» он наглядно объясняет технику образования переносного смысла. «Метафора – перенесение слова с измененным значением из рода в вид, из вида в род, или из вида в вид, или по аналогии» – говорит он в Поэтике [цит. по 101]. Из этих четырех родов метафор наиболее 2 3 Пенелопа видит сон, что прилетевший внезапно орел заклевал гусей. Потом этот же орел человеческим голосом говорит, что он Одиссей и что так он расправится с женихами. Во время жертвоприношения из-под алтаря выполз кроваво-рыжий змей и забрался на дерево, где сидело воробьиное семейство. Змей съел сначала восьмерых птенцов, а затем и их мать. Сразу после этого, Зевс превратил змея в камень. Прорицатель Калхант истолковал это знамение так: девять проглоченных змеем птиц – это девять лет; столько будут воевать ахейцы под Троей; на десятый же год Троя будет разрушена. 24 привлекательными Аристотель считает именно те, которые основаны на аналогии. Аналогия у него – то же, что пропорция: то есть второе слово относится к первому так же, как четвертое к третьему. Он приводит пример: «что старость для жизни, то вечер для дня». Второе слово – жизнь можно поменять местами с четвертым – день. Тогда получим две метафоры: старость дня (вечер), и вечер жизни (старость). Одинаковое отношение в пропорции определяется общим родовым понятием: завершение чего-либо. Все последующие определения метафоры опираются на учение Аристотеля. Так в литературной энциклопедии дается следующее определение: «метафора – вид тропа, употребление слова в переносном значении; словосочетание, характеризующее данное явление путем перенесения на него признаков, присущих другому явлению (в силу того или иного сходства сближаемых явлений), которое таким образом его замещает» [69]. Аналогичное, но более конкретное определение дается также в энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «Метафора (греч. Μεταφορα, лат. Translatio, "перенесение") – не в собственном, а в переносном смысле употребленное картинное или образное выражение; представляет собой как бы концентрированное сравнение, причем вместо предмета сравниваемого ставится непосредственно название предмета, с которым желают сравнить, например: "розы щек" – вместо "розовые (т. е. розоподобные) щеки" или "розовый цвет щек"» [153, с. 166]. Нет необходимости цитировать большое количество определений метафоры, все они будут примерно схожи. Как античные, так и современные исследователи близки в трактовке этого понятия. Таким образом, термин «метафора» относится к небольшому построению – слову или словосочетанию, взятому в переносном значении по принципу сходства по отношению к другому понятию, имеющему прямой смысл. «Своеобразие метафоры как вида тропа в том, что она представляет собой сравнение, члены которого настолько слились, что первый член (то, что сравнивалось) вытеснен и полностью замещен вторым (то, с чем сравнивалось)…» [69]. В отличие от метафоры, в аллегории, во-первых, отсутствует прямой смысл, это 25 сплошное иносказание, следовательно, и отсутствует сравнение, которое лишь подразумевается. Во-вторых, аллегория обычно более крупное построение, чем словосочетание, и представляет собой систему взаимосвязанных иносказательных образов. Аллегория имеет принципиальные отличия и от символа. На них указывают многие авторы современных энциклопедий: «В отличие от аллегории смысл символа неотделим от его образной структуры и отличается неисчерпаемой многозначностью противоположность своего многозначности содержания» символа, смысл [29]. «В аллегории характеризуется однозначной постоянной определённостью и раскрывается не непосредственно в художественном образе, а лишь путём истолкования содержащихся в образе явных или скрытых намёков и указаний, то есть путём подведения образа под какое-либо понятие (религиозные догматы, моральные, философские, научные идеи и т. п.)» [28]. «Различие состоит в том, что символ более многозначен и органичен, в то время, как смысл аллегории существует в виде некоей рассудочной формулы, которую можно "вложить" в образ и затем в акте дешифровки извлечь из образа. С этим же связано то, что о символе чаще говорится применительно к простому образу и мотиву, а об аллегории – применительно к цепи образов, объединенных в сюжет…» [134, с. 22]. Итак, смысл аллегории, в отличие от многозначного символа, однозначен и отделен от образа; корреляция между значением и образом устанавливается посредством выстраивания ассоциативных связей на основе какой либо эстетической модели (мифология, религия, философия, народная традиция и т. д.). Общее, что отличает аллегорию от метафоры и символа то, что аллегория обычно не единичный образ или понятие, а целая система взаимосвязанных образов, часто выстраивающихся в сюжет. В результате может быть выстроена следующая триада: метафора – аллегория – символ, в которой аллегория занимает центральное место. Между этими элементами триады прослеживается 26 четкая диалектическая приемственность. Сначала появляется метафора как сравнение схожих образов. Затем, из цепи метафор, объединенных в единую систему образов, рождается аллегория, которая, в отличие от метафоры, предполагает внутреннее движение мысли от буквального образа к означаемому. По мере усложнения образного строя и его абстрагирования, аллегория переходит в символ, с его множественностью значений. Заметим, что именно такое движение человеческой мысли происходило в историческом процессе рождения этих категорий, и именно в таком порядке они занимали главенствующее положение в методах художественного творчества на определенных исторических этапах. От метафоры и аллегории античной риторики шло развитие к философской и богословской аллегории в позднюю античность и средневековье, а от нее – к символу, вышедшему на первый план в искусстве рубежа XIX – XX веков. Понятие аллегория распространяется не только в риторике, философии и богословии, но также в литературе, изобразительном искусстве и, значительно позже, в музыке. Литературную аллегорию принято представлять в виде системы взаимосвязанных метафор, объединенных в сюжет и образующих новый уровень смысла. Изначально выступая как языковой феномен, аллегория основывается на следующем механизме мышления: слово, обладающее конкретным значением, одновременно в сознании человека порождает сложную ассоциативную цепь, обнаруживая другой, скрытый или подразумеваемый семантический ряд. Причем, как правило, эти ассоциации носят не случайный характер, а обусловлены устойчивыми культурными традициями. Преимуществом языкового выражения мысли является то, что слово всегда обладает конкретным лексическим значением, из которого выстраивается первый – буквальный уровень восприятия текста, являющийся фундаментом для остальных. Именно на соотношении буквального уровня восприятия художественного образа и его иносказательного смысла строится аллегория. 27 Несмотря на то, что сугубо языковой генезис аллегории отражен в самой этимологии этого слова (иное говорить), как термин, так и само явление иносказательности широко распространено в изобразительном искусстве. Однако изобразительная аллегория имеет принципиальное отличие от аллегории литературной. Это отличие заключается в том, что материалом для восприятия буквального смысла в данном случае служит не вербальный текст, а визуальный образ. Но, невзирая на совершенно иную природу изобразительного искусства, слово все же присутствует в нем. Оно заключено в названии произведения, которое заставляет активно работать ассоциативное мышление и осознавать определенное аллегорическое содержание. Название вовсе не обязательно должно быть специально дано автором. Есть аллегории, основывающиеся на типичных сюжетах, закрепленных в рамках определенной культурной традиции. Кроме того, существуют сугубо авторские аллегории, порожденные индивидуальной творческой фантазией художника. Примерами могут служить такие насыщенные атрибутами и символами многофигурные живописные композиции, как «Аллегория Достоинства» А. Корреджо, «Аллегория Жизни и Времени» Б. Анджело, «Аллегория плодородия» Й. Якоба, «Аллегория весны» С. Дали и другие. Название произведения в изобразительном искусстве позволяет раскрыть смысловую перспективу и глубину визуальных образов. Итак, объект изобразительного искусства, обладающий достаточной степенью реалистичности для буквального зрительного восприятия и расшифровкой своего иносказательного смысла через конкретное название, несет в себе как прямой, так и аллегорический смысл. Здесь можно указать на парадокс использования термина аллегория по отношению к изобразительному искусству, так как говорится здесь как раз в прямом, а не в переносном смысле, иносказательный же смысл заключен в наборе определенных традиционных символов и атрибутов, содержащихся в художественном произведении. 28 Художественные элементы в изобразительной аллегории складываются в устойчивую систему. В рамках такой системы символы могут утрачивать свою многозначность и приобретать однозначно закрепленное за ними культурной традицией значение. Например, в античности Фемида, как богиня правосудия, изображалась с повязкой на глазах, и в руке держала весы. Повязка аллегорически означала непредвзятость, а весы – справедливость. Фундаментальной чертой аллегории, как в литературе, так и в изобразительном искусстве является то, что она всегда представляет собой двухуровневую конструкцию, состоящую из буквального и иносказательного смысла. Причем носителем буквального смысла в обоих видах искусства является сам его «материал», средства выразительности: в литературе – вербальный текст, в изобразительном искусстве – визуальный образ. Однако между аллегорией в литературе и в изобразительном искусстве есть принципиальная разница. Иносказательный смысл в литературе не овеществлен; он существует лишь в области общего ассоциативноиносказательного кода между субъектами: передающим и воспринимающим текст. Подлинный смысл сообщения лишь подразумевается. В изобразительном искусстве иносказательный смысл также может возникать благодаря общим культурным ассоциациям, но может быть и заранее предопределен названием, поясняющим замысел художника. Таким образом, аллегория – это универсальная категория культуры, которая обнаруживается в различных ее сферах на протяжении многих веков. В основе иносказания лежат разнообразные ассоциативные связи, возникающие между художественным образом и выражаемым им значением. Смысловой диапазон аллегории может простираться от конкретного значения до абстрактных понятий. *** Аллегоричность мышления – неотъемлемое свойство человеческой психики. Под аллегоричностью понимается способность сознания к переносу значения с одних предметов и явлений на другие, которые не связаны с ними 29 непосредственно, а лишь позволяют раскрыть их истинное значение через ассоциацию. При этом характерной чертой аллегории является взаимосвязь ее элементов: не отдельный знак или символ, а определенное и, как правило, устойчивое их сочетание образуют иносказание. Хотя термин аллегория был сформулирован в эпоху античности, иносказательность как явление была свойственна всем этапам существования человеческой культуры. При этом аллегорическое мышление имело две основные функции. Во-первых, раскрытие сложных абстрактных понятий, воплощенных в конкретных художественных образах. Во-вторых, сокрытие какой-либо важной информации, которая должна быть доступна определенному кругу избранных и недоступна профанам4. Первая функция аллегории – раскрытие сложных абстрактных понятий, воплощенных в конкретных художественных образах – играла огромную роль на протяжении всего исторического развития. Истоки этого явления гораздо глубже, чем функция сокрытия истинного значения, и уходят корнями в первобытное общество. Приобретая свойства личности, человек начинал осознавать себя в окружающем мире природы и постепенно учился отделять себя от нее. Принципиальным отличием человека от мира животных стало умение особым образом воздействовать на окружающую среду: преобразовывать, адаптировать ее под себя не на основе инстинктов, а посредством своего разума. Усваивая опыт предшествующих поколений, человек каждый раз пытался находить новые решения задач, которые ставила перед ним жизнь. И здесь явилась еще одна принципиальная черта человека – его творческое начало. Осознание окружающего мира происходило через попытку собственного моделирования реальности, то есть через творчество. Самыми ранними дошедшими до нас произведениями искусства являются, вероятно, наскальные рисунки первобытных людей. С течением времени все более и более возрастала коммуникативная функция графических изображений, благодаря чему стало возможным возникновение 4 Profanus (лат.) – непосвященный. 30 одного из величайших изобретений человечества – письменности. И здесь ключевую роль сыграла аллегоричность мышления, как характерное свойство человеческого разума. Сначала человек изображал графически ровно то, что хотел передать. Например, рисунок ноги означал ногу, а изображение солнца могло значить солнце и ничего более. При этом несколько простых изображений складывались в композицию – пиктограмму, наделенную определенным зашифрованным смыслом, а по сути – в картинную аллегорию. Постепенно пиктограммы стали превращаться в идеограммы – рисунки, которые обозначали не только то, что было на них изображено, но и идеи, ассоциативно связанные с этими предметами. Так солнце могло уже представлять такие понятия, как «день», «время», «тепло», «свет», «энергия», а рисунок ноги – такие действия, связанные с этой частью тела как, «стоять», «прогуливаться», или «уходить». Здесь уже в полной мере сказалось способность человека к аллегорическому мышлению. При этом внутри определенной культурной традиции складывалась четкая закрепленность значений за теми или иными комбинациями знаков в идеограммах. Позже на основе идеограмм складывались первые иероглифические системы письменности. Таким образом, можно сказать, что письменность родилась из изобразительной аллегории. В эпоху античности осознание абстрактных идей происходило через их персонификацию в образах мифологии. Греческие боги олицетворяли собой такие понятия, как мудрость (Афина), свет (Аполлон), любовь (Афродита), справедливость (Фемида). Наряду с литературой, о которой уже говорилось ранее, персонажи античной мифологии нашли свое яркое отражение в изобразительном искусстве. При этом формировалась традиция закрепленных аллегорических атрибутов, близкая по своей технологии древним идеограммам. Как известно, боги и богини Олимпа изображались в основном в виде прекрасных мужчин и женщин, довольно слабо отличавшихся друг от друга своими физическими данными: ростом, 31 возрастом, внешностью. Для их идентификации служил какой-либо характерный предмет, связанный со сферой их деятельности: например, Гераклу всегда сопутствовала палица и львиная шкура, Диане – лук со стрелой и лань, Гермесу – крылатый шлем, высокие сапожки с крылышками и кадуцей в руках, Нептуну – рыба и трезубец, Афине – эгида и сова, Фемиде – повязка на глазах и весы и т. д. Аллегорическое мышление, свойственное человеческой психике и сопутствующее ему на протяжении всех исторических этапов, наибольшую силу набирает в эпоху Средневековья. Для средневекового мировосприятия характерен бесконечный поиск соотношений явлениями, осмысление окружающей между предметами действительности. Нет и ничего случайного или незначительного, во всем таится глубинный смысл. Парадокс средневекового человека в том, что благодаря христианству оказались сформированы идеалы нравственности, морали, позволяющие подняться личности в высокие сферы самосознания, но были еще слабы естественнонаучные знания. Отсюда страстное стремление к познанию окружающего мира, понятию его устройства и постижению смысла. Реализуется же это стремление на основе все той же религиозной догматики. В результате мир предстает перед средневековым человеком «словно книга, написанная перстом Божьим» [150, с. 123], это «собеседование, которое Господь Бог ведет с человеком» [150, с. 115]. Он населен тайными значениями, иносказаниями, переносными смыслами и Божьими знамениями, заключенными в окружающих вещах. В то же время в аллегоричности средневековой схоластики продолжает существовать характер мифопоэтического творчества античной эпохи, вырабатывая новые образы и ассоциативные связи в согласии с христианским вероучением. Аллегорическое отношение к природе наглядно отражено в средневековых бестиариях – трактатах о животных и их аллегорическом значении. В трактовке того или иного животного могут учитываться его внешние свойства. Так страус является аллегорией справедливости, поскольку имеет 32 совершенно одинаковые перья. При отсутствии должных зоологических знаний возможно истолкование животного исходя из предполагаемых качеств. Важна при этом не достоверность описания свойств или поведения животного, а красота и поэтичность аллегорического образа. Поскольку считалось, что пеликан кормит своих птенцов, вырывая куски мяса из собственной груди, он олицетворяет Христа, который жертвует человечеству собственную кровь и плоть в виде хлеба Евхаристии. Наряду с реальными животными представлены и мифологические. Единорог, которого по приданию возможно поймать, если только его приманит дева, на груди которой он засыпает, становится вдвойне символом Христа, как аллегорический образ Сына Божьего и Единородного, вышедшего из лона девы Марии, взятого под стражу и осужденного на смерть. Его единственный рог означает единство Христа с Богом-Отцом, а девичья грудь уподобляется церкви. Приведенный пример ярко показывает аллегоричность средневекового мышления. Аллегория в эпоху средневековья, таким образом, складывается как сложное построение. Отдельные символы, объединяясь в цельную композицию, теряют свою многозначность и трактуются определенным методом. Очень точная характеристика средневекового аллегоризма дана выдающимся исследователем У. Эко. В работе «Эволюция средневековой эстетики» он пишет: «…существует универсальная аллегория, восприятие мира, как божественного творения, где каждая вещь, кроме своего буквального значения, обладает еще значениями моральными, аллегорическими, мистическими. То, что обычно называют "средневековым символизмом", на поверку, как правило, называется человеческой склонностью к аллегориям» [150, с. 121]. Еще одной стороной аллегории как функции восприятия абстрактных понятий через наглядные образы искусства была проповедническая деятельность церкви. Язык аллегории, оперирующий конкретными и яркими образами, оказался способным выразить христианскую доктрину, которая 33 часто оказывалась недоступной сознанию большинства в своей отвлеченной форме. Те же евангельские притчи, которые изначально имели цель сокрытия христианских идей, теперь играли роль наглядного их объяснения. Грандиозная просветительская работа опиралась на любовь простого люда к образам и аллегориям. С одной стороны, простолюдины легко преобразовывали свои верования в образы, с другой, сами теологи занялись переложением на язык образов тех идей, которые обычные люди не могли усвоить в форме теории. В эпоху средневековья, когда большинство людей не были грамотными, наглядным учебным материалом церкви для воспитания людей были аллегории изобразительного искусства. Как отмечает У. Эко: «По словам Гонория Отенского, вдохновенного решением Аррасского Синода 1025 года, живопись является чтением для простецов» [150, с. 117]. Статуи порталов, рисунки витражей, храмовая роспись и даже сама архитектоника собора – все аллегорически передает сюжеты, образы и идеи священного писания. У. Эко отмечает также, что: «Искусство воспринимается, как хорошо разработанная конструкция, состоящая из переносных смыслов» [150, с. 128]. Изобразительная аллегория рождается из сопряжения определенных фигур и атрибутов, действующих лиц и эпизодов священного писания. Так пророки узнаются благодаря форме головного убора, царица Савская, которую народная легенда преобразила в королеву Гусиные Лапки, имеет перепонки между пальцами ног, Авраам попирает ногами ягненка, а рядом Исаак, стоящий на коленях смерено скрещивает руки и т. д. Наряду с определенными образами и сюжетами изобразительная аллегория может также передавать абстрактные понятия. Опираясь на античные добродетели: мудрость, мужество, умеренность, справедливость, средневековые схоласты добавили к ним еще три: веру, надежду и любовь. Все эти семь основных добродетелей изображались в виде человеческих фигур, в основном молодых женщин в длинных одеждах, но у каждой были свои атрибуты – одушевленные и неодушевленные. Так, Мудрость имела два лица: старое и молодое, а у ног ее сидел дракон; Мужество держало в руке 34 жезл, а другой рукой ломало колонну надвое, у ног же его сидел лев. Умеренность изображалась с двумя небольшими кувшинчиками в руках, из одного очень экономно – капля по капле – вытекала вода, а другой сохранялся в неприкосновенности. У ног Умеренности сидела собака, смотрящая в вылизанную до зеркального блеска тарелку, в которой она даже отражалась. Справедливость держала в одной руке меч, в другой весы, а возле нее стоял журавль на одной ноге, зажавший камень в поднятой другой. Он олицетворял бдительность, настороженность. Вера изображалась держащей в одной руке хрустальный кубок, а в другой – крест. У ног ее сидела собака. Кубок и крест символизировали христианские догматы, а собака олицетворяла верность. Надежда складывала руки в жесте мольбы и устремляла свой взор к солнцу, а у ног ее сидела птица Феникс на начинавшем гореть костре. Любовь одной рукой сыпала семена на землю, а другую прижимала к сердцу. У ног ее пеликан кормил собственной кровью птенцов. Также как литературная аллегория представляет собой систему взаимосвязанных метафор, аллегория изобразительного искусства складывается из взаимного согласования и соподчинения символов, утрачивающих однако при этом свою многозначность. При этом существует огромная разница между символами средневековья и символами «символизма». Это различие ярко отмечено в статье В. Микушевича: «"Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным" [Мк. 4:22] – такова мудрость, вдохновлявшая средневековье. "Нет ничего явного, что не сделалось бы тайным" – возражает позднейший символизм» [78; с. 236]. Средневековый символ призван раскрывать смысл, абстрактность – главная опасность на пути толкования мира. Рассмотрим вторую функцию аллегории – сокрытие какой-либо важной информации, которая должна быть доступна определенному кругу избранных и недоступна профанам. Известно, что с древних времен в истории человечества существовали различные секретные общества, закрытые философские и религиозные учения, адепты которых для передачи 35 сакральных истин использовали свой собственный язык аллегорий, который был известен только посвященным. Помимо передачи информации в посланиях, тайная мудрость заключалась в литературных произведениях. Религиозные и философские сочинения всех народов также полны так называемых акроаматических криптограмм, тайного смысла, зашифрованного в притчах и аллегориях. В отличие от других видов тайнописи, как например секретный алфавит, буквенный или цифровой шифр, акроаматическое письмо имело существенные преимущества. Вопервых, текст мог быть перепечатан, переведен на другой язык, и при этом не происходило никакого искажения смысла. Во-вторых, в таких текстах мог быть зашифрован не только подлинный смысл, но и сам факт его сокрытия. Первые известные нам крупные сочинения, наполненные глубоким аллегорическим смыслом, относятся к эпохе античности. Так, согласно мнению крупного исследователя в области истории философии Менли П. Холла сочинения Платона и Аристотеля, «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия, «Метаморфозы» Апулея и «Басни» Эзопа являются выдающимися примерами аллегорического изложения, в которых скрыты глубочайшие и самые возвышенные истины античной мистической философии» [136, с. 311]. Особенно интенсивное развитие язык аллегорий получает в многочисленных тайных организациях эпохи средневековья. М. П. Холл также, в частности, отмечает: «…исследователи Герметизма, Розенкрейцерства, Алхимии и Масонства всегда должны искать скрытое значение в притчах и аллегориях или же зашифрованные сообщения в числах, буквах и словах» [136, с. 310]. Другим случаем функции сокрытия значения через аллегорию можно считать преодоление политической либо религиозной цензуры, существовавшей на протяжении всех исторических эпох. Известно, что многие из великих ученых, философов и религиозных проповедников не смели напрямую высказывать свои идеи из-за их оппозиционности к официальной власти. Чтобы сохранить свои интеллектуальные достижения, 36 они часто скрывали их в аллегорических текстах, надеясь быть понятыми своими единомышленниками. Отсюда, как известно, произошел так называемый «эзопов язык» – язык басен и притч. Эта функция аллегории – сокрытие подлинного смысла – ярко прослеживается в эпоху раннего христианства. Как известно из Евангелия, Иисус Христос часто выстраивал свои проповеди в форме притч. Каждая такая притча, по сути, представляла собой сложную литературную аллегорию. Возьмем для примера притчу о сеятеле5. Завершая ее Христос произнес: «Кто имеет уши слышать, да слышит!» [Мф. 13:9] – подчеркивая тем самым цель сокрытия истинного значения притчи от профанов. Истинный же смысл Христос открывает лишь узкому кругу учеников6. Таким образом, в двух основных функциях аллегории выявляются огромные возможности в плане раскрытия смысловой перспективы восприятия мира и произведения искусства человеческим сознанием. Это способствует устойчивому механизму репрезентации аллегории в самых разных сферах знания и творчества на протяжении многих веков. 1.2. История развития понятия аллегория в зарубежной и отечественной музыкальной науке Проблема аллегории в музыке была впервые затронута в зарубежном музыковедении в начале XX века, и интерес к этой теме не угасает до настоящего времени. Характерной особенностью подавляющего большинства 5 «Вот, вышел сеятель сеять; и когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то; иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и, как не имело корня, засохло; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его; иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать» [Мф. 13:3-8]. 6 «…семя есть слово Божие; а упавшее при пути, это суть слушающие, к которым потом приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись; а упавшее на камень, это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают; а упавшее в терние, это те, которые слушают слово, но, отходя, заботами, богатством и наслаждениями житейскими подавляются и не приносят плода; а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении» [Лк. 8:11-15]. 37 западных исследований является рассмотрение понятия аллегории преимущественно по отношению к музыке эпохи барокко. В начале XX века значительно возросло внимание исследователей к наследию И.С. Баха. Крупным научным достижением стала монография выдающегося немецкого мыслителя и гуманиста Альберта Швейцера. Несмотря на то, что за прошедшее время некоторые положения его книги были уточнены и пересмотрены, вплоть до настоящего времени данная работа является одним из наиболее полных и авторитетных исследований о Бахе. Эстетическая концепция Швейцера была нова и оригинальна для того времени. Он решительно опровергает распространенное тогда суждение о музыке композитора как о так называемом «чистом искусстве», то есть о музыке ради самой музыки, о наслаждении лишь ее эстетическим совершенством и об отсутствии в ней содержательного начала. В противовес таким воззрениям Швейцер выводит тезис о наличии у Баха своеобразного музыкального языка, способного выражать конкретные мысли и идеи. Автор настаивает на необходимости целенаправленно изучать этот язык с целью понять содержание музыкального произведения: «…всякий язык существует только благодаря соглашению, в силу которого известные соединения звуков соответствуют тем или иным чувствам или представлениям. Не иначе обстоит дело и в музыке. Кто знаком с языком композитора и знает, какие образы он выражает определенными сочетаниями звуков, тот услышит в пьесе мысли, которые непосвященный не обнаружит, несмотря на то, что эти образы заключены в ней» [145, с. 320]. Швейцер анализирует музыкальный язык Баха, выделяя в нем семантически осмысленные фигуры. Эти так называемые «образные и символические изображения» исследователь обнаруживает в различных элементах музыкальной фактуры. Большинство из них обозначены как мотивы. Например, мотивы шага, покоя и скорби, радости и тревоги, утомления и т. д. Также ученый использует такие термины как «картинные темы» и «ритмы блаженства». Примечательно, что анализируя музыкальную семантику Баха, Швейцер не использует 38 термины метафора и аллегория. Тем не менее, можно с уверенностью утверждать, что его методология музыкального анализа произведений Баха стала фундаментом для последующих исследований музыкальной аллегории. Первое известное исследование, непосредственно посвященное музыкальной аллегории, принадлежит знаменитому немецкому музыковеду, впоследствии иммигрировавшему в Америку, Манфреду Букофцеру. В 1939 году было опубликовано его эссе «Аллегория в музыке барокко» [159]. Автор опирается на терминологию, относящуюся к риторике и, в частности, использует термин «метафорические фигуры». Подчеркивая их взаимосвязь в структуре произведения, он также отмечает определяющую роль слова в создании аллегорического значения музыки. Таким образом, Букофцер заложил основные методологические принципы рассмотрения аллегории в музыкальном произведении. Также, несомненна близость его понятия «музыкально-метафорическая фигура» к термину «музыкальная фигура» у Швейцера. Букофцер опирается на научные изыскания Швейцера при составлении «словаря музыкальных фигур», которыми мастерски пользовался И.С. Бах для создания аллегорий, объединяя их в едином художественном замысле. Специальному рассмотрению проблемы аллегории посвящена глава в фундаментальной работе крупного американского исследователя Э. Бодки «Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха». Однако в работе Бодки понятие аллегории отождествляется с музыкальной фигурой, музыкальным символом и эмблемой. В его исследовании они используются как синонимы. В частности, в качестве примера «аллегорических эмблем» им приводится пятнадцатый номер из Гольдберг-вариаций И.С. Баха, содержащий, по мнению автора «линии распятия», а также символ «капель слез», представленный последовательностью парных секунд [27, с. 227-228]. Так называемые «светские аллегории» Бодки обнаруживает в баховском «Каприччио на отъезд возлюбленного брата». В нем, по его мнению, «среди символов, помогающих изобразить различные сцены есть "лесть друзей", 39 пародийный "океан слез" в Lamento, мелодия "рожка почтальона" и его "кнута"» [27, с. 233]. Приводя примеры семантически осмысленных музыкальных оборотов, Бодки не подчеркивает их взаимосвязь в структуре цельного иносказательного сюжета. Однако, такой оборот, взятый отдельно, по сути, не может являться аллегорией в полном смысле слова, так как он передает отдельный образ, а не воплощает цельный сюжет. Также он не может быть причислен к символу из-за конкретности и однозначности своей трактовки. Уместнее всего было бы называть его музыкальной метафорой – оборотом, приобретающим определенный переносный смысл в контексте сюжетной программы произведения. Метафора же, в свою очередь, может являться структурным элементом аллегории. В 1982 году вышла в свет статья американского музыканта и исследователя Петера Монтальбано «Аллегория: определяющий элемент музыки барокко» [162]. В своей работе он дает комплексную характеристику культурной среды, из которой выросла эпоха барокко. Он рассматривает роль аллегории в европейской драматургии того времени, а также влияние на цели и методы искусства христианской церкви, которая, по его мнению, «веками способствовала использованию аллегории как метода включения языческих традиций в свои доктрины» [162]. Монтальбано также отмечает, что аллегорическое выражение сыграло существенную роль в рождении оперы, а также в развитии стиля rappresentativo, предполагающего использование музыки для передачи переносного смысла. Автор делает акцент на самой специфике эстетики барокко и ее отличии от современного восприятия искусства: «Музыка барокко не подобна современной музыке – языку чувств, которые выражаются напрямую, это своего рода иконология звука. Гуманизация музыки посредством динамичного эмоционального понимания ее природы появляется только в течение первой половины XVIII столетия, когда церемониал барокко – ящик шаблонных эмоций – уступил дорогу так называемым естественным чувствам» [162]. По его мнению, современная 40 эстетика большей частью наследница эпохи романтизма, а барокко и романтизм основаны на различных и антагонистических концепциях: «Где более поздняя музыка, например, Бетховена, могла сама охарактеризовать "радость" или "печаль", в музыке барокко печаль, радость и другие эмоциональные состояния выражались музыкальными понятиями, которые были связаны, но не совпадали с самими чувствами. Сами понятия были столь же независимы от этих состояний, как роза независима от любви. Следовательно, понятие аллегории есть важнейший определяющий элемент музыки барокко, и время, когда аллегория уступает место другим формам выражения, мы называем окончанием эпохи барокко» [162]. Таким образом, аллегория рассматривается этим автором как метод, определяющий саму эпоху барокко, утрата которого ознаменовала смену эстетической парадигмы и наступление эпохи романтизма. В 1991 году в Америке было издано фундаментальное исследование крупного американского ученого профессора Эрика Чейфа «Тональная аллегория в вокальной музыке И. С. Баха» [160]. Эта объемная монография специально посвящена вопросу аллегории в кантатно-ораториальном наследии композитора. Особенность взгляда Чейфа на музыку Баха состоит в том, что он тщательно подходит к теологическому содержанию текстов баховских вокальных произведений с позиции лютеранского учения и анализирует принципы его воплощения в музыке. Он рассматривает так называемую «тональную аллегорию» как фундаментальный принцип выражения духовного содержания барочной музыки. Автор тщательно анализирует кантаты всех периодов творчества композитора, Пассионы, Рождественскую ораторию и некоторые светские произведения с точки зрения применения Бахом принципов тональной аллегории. Чейф приходит к выводу об определенных закономерностях тональных планов внутри частей и в соотношениях тональностей между частями. Связывая тональные процессы с теологическим содержанием текста, аллегорическое значение. 41 исследователь выявляет их Среди зарубежных исследований последних лет, посвященных проблеме музыкальной аллегории можно отметить работу польского музыковеда Томаса Язинского «Музыкальная аллегория в творчестве композиторов эпохи барокко» [161]. Автор анализирует вокальные и хоровые произведения Хенрика Щютца, Клаудио Монтеверди, Бартоломея Пекиела, Лоренцо Ребело, Иоганна Кунау и И. С. Баха. В отличие от Чейфа, Язинский рассматривает музыкальную аллегорию, как комплексную структуру, компонентами которой могут быть музыкально-риторические фигуры, технические приемы музыкальные цитаты, (intellectual контрапункта, так constructions), называемые приемы нумерологические символы, «мыслительные построения» «междисциплинарных подтекстов» (interdisciplinary connotations) и т.д. Множество элементов, соединяясь вместе последовательно или одновременно в разнообразных конфигурациях, формируют семантически наполненный вербальный и звуковой образ. Аналитический подход к форме и композиционным принципам музыкальных аллегорий позволяет исследователю глубже проникнуть в суть специфических черт музыки барокко и обнаружить в ней семантическое, символическое, теологическое и эстетическое измерения, а также затронуть сферу ее аксиологии. В отечественном музыковедении практически не существует исследований, специально посвященных изучению музыкальной аллегории. Тем не менее, это явление прямо или косвенно затрагивается в работах, посвященных анализу содержания музыкальных произведений. Одним из первых отечественных ученых, вплотную занявшихся этой темой, по праву считается выдающийся музыковед Болеслав Леопольдович Яворский. В отличие от западных ученых, ограничивающих изучение аллегории преимущественно вокально-хоровой музыкой барокко, в центре интересов Яворского становится клавирное творчество И.С. Баха. Уникальность и новаторская смелость его концепции заключалась в том, что он выдвинул идею наличия конкретного содержания в чисто инструментальных, не 42 связанных с литературным текстом произведениях. Величайшим из достижений Яворского можно считать содержательную трактовку прелюдий и фуг «Хорошо темперированного клавира» Баха [24]. По мнению ученого, каждое произведение в этом цикле связано с неким «ассоциативным образом» на определенные события из Священного Писания. В этом «ассоциативном образе» аналогии устанавливаются между сопоставляемыми явлениями через систему взаимоотношений, образующих определенный смысловой контекст. На тот или иной сюжет Священного Писания в произведении могут указывать: цитата хорала, система риторических фигур и особых «баховских символов», тональная семантика и другие средства музыкальной выразительности. Складываясь в определенные взаимоотношения, они теряют свою многозначность и работают на раскрытие конкретного содержания. Следует отметить, что Яворский не называет свои трактовки музыкальными аллегориями, а предпочитает термин «ассоциативный образ», однако, сами принципы аналитического подхода Яворского близки к принципам его западных коллег и современников – Швейцера и Букофцера. В основе их метода лежит нахождение семантически наполненных элементов музыкальной ткани, которые взаимосвязаны и подчинены созданию конкретного аллегорического значения музыкального высказывания. Отличительной чертой отечественных исследований, затрагивающих тему аллегории в музыке, можно отметить выход за рамки западноевропейского барокко и обращение также к другим историкокультурным образцам. Большой интерес в этой связи представляет работа выдающегося отечественного музыковеда Ю. Н. Холопова «Канон. Генезис и ранние этапы развития». В ней автор обращается к одному из интереснейших жанров старинной музыки – загадочным канонам, в которых запечатлены яркие образцы аллегорического мышления эпохи Ренессанса. Особый интерес в отечественном музыковедении представляет исследование аллегорических принципов в русской православной певческой 43 традиции. Аллегоричность здесь проявляется в самой графике древнерусской знаменной нотации. В отличие от западноевропейской музыкальной нотации, которую можно сравнить с алфавитной письменностью (один нотный знак соответствует одному музыкальному звуку) знаменная нотация близка принципу иероглифического письма: один знаменный знак мог означать традиционный мотив или целую мелодическую попевку. При этом, как отмечает И. В. Степанова: «…многие знаки и их имена отражали характерные детали звучания или символический подтекст. Исключительное значение в создании графики знака имела сакраментальная символика» [118; с.89]. По мнению известного отечественного медиевиста Т. Владышевской «за каждым знаком стояло множество ассоциаций и значений: музыкальное (мелодико-ритмическое), графическое, терминологическое, теологическое» [32, с. 105]. Среди работ последних лет вопрос аллегории в музыке затрагивается в монографии М.А. Сапонова «Менестрели», посвященной светской музыке средневековой Европы. Большинство работ о средневековой музыке отличаются некоторой однобокостью, так как рассматривают музыкальное искусство преимущественно в рамках церковной письменной традиции. Уникальность и новизна исследования Сапонова состоит в том, что оно проливает свет на малоизученную область профессионального светского и, главным образом, устного музыкального творчества. Автор отмечает, что роль аллегорического выражения в искусстве менестрелей велика, равно как и во всей средневековой культуре. Аллегорические представления или аллегорические сцены были одними из традиционных видов зрелищ, устраиваемых менестрелями на крупных празднествах. Часто произведения менестрелей обладали аллегорическим содержанием, изобилуя аллегорическими фигурами и иносказательно повествовали о реальных личностях их современников. Аллегорическим смыслом наполнялись и сами средства музыкального выражения. Сапонов пишет, что этим старым мастерам «свойственна особая, исторически 44 самобытная форма осознания композиции, вещи, которая часто понималась как авторитетная сентенция, как аллегория проповеди или складного умозаключения, притчи, пословицы, истолкования» [108, с. 23]. Исследователь приводит примеры, где музыкальная пьеса «выступает в виде аллегорической фигуры, откровенничающей с нами, звучит как бы "голос вещи"» [108, с. 23]. Так, бесконечный канон выдающегося менестреля Бода Кордье «сам» обращается к исполнителю: «Я весь скомпонован циркулем» – при этом его текст указывает и на «круговой канон», и на «аллегоризованный графизм в самой рукописи: пьеса записана на фигурном нотоносце в форме круга» [108, с. 23]. Сапонов приводит другие интересные примеры, в которых звучит «монолог автора, держащего перед нами свою вещь, доводимую им до совершенства» [108; с. 24]. Так, Аймерик де Пегильян и Арнаут Даниель, согласно тексту их песен, оттачивают и подпиливают слова с помощью «подпилка». Сапонов отмечает, что «все эти изготовленные циркулем Бода Кордье или подпилком Арнаута Даниеля "песни-вещи", персонифицируясь, выступают в качестве веселой аллегории какого-либо навыка своего автора» [108; с. 24]. Аллегорическим содержанием наполнялось также звучание инструментов. Сапонов пишет, что средневековый певец-слагатель эпоса нуждался в инструментальной линии «как метафорической параллели речитации, как тембровом иносказании, варьирующем и переокрашивающем чувствительные точки повествования. <…> Затухающая вибрация струны выступала как аллегория свободно речитирующих голосовых интонаций, а щипковая атака звука и артикуляционные штрихи своеобразно пародировали чередования согласных фонем» [108, с. 161-162]. В тексте комментария к эстампиде «Начало мая» Раймбаута де Вакейраса говорится о «прекрасной музыке виел», и это, по мнению Сапонова, – «аллегоризирующая параллель к любовным чувствам Раймбаута, о которых все догадываются» [108, с. 166]. Таким образом, как видно из исследования Сапонова, уже в искусстве средневековых менестрелей существуют характерные формы проявления 45 аллегории в музыке: аллегоричность текста вокального произведения, аллегоричность самих выразительных средств музыки, аллегорическая трактовка различных инструментальных тембров. В отечественном искусствоведении, помимо работ, посвященных музыке времени средневековья и барокко, есть труды, где освещается тема аллегории в музыке XX века. В этой связи представляется интересной статья Е. Левиной «Притча в искусстве XX века (музыкальный и драматический театр, литература)». Автор утверждает, что именно жанр притчи «в силу своих специфических свойств, как в капле воды, отразил важнейшую тенденцию века – иносказательную» [68, с. 23]. Левина выявляет разнообразные формы существования этого древнего жанра в различных областях искусства XX века. Она пытается выявить общие закономерности и дать по возможности подробную классификацию образцов литературы и музыкально-драматического искусства, имеющих жанровые признаки притчи. Автор затрагивает большое число произведений, полностью соответствующих жанровому определению притчи или имеющих ее отдельные черты. Критериями классификации многообразия примеров выступают обращение к древнему традиционному или современному сюжету, серьезное или ироническое отношение автора литературного текста, краткость или развернутость формы, аллегорическая ясность или философская символическая глубина. Левина старается выявить глубинные историко-культурные предпосылки, влияющие на иносказательную тенденцию в искусстве XX века. Она отмечает, что нашу эпоху отличает «осознание знаковой семантики культуры», что по выражению Ю. Лотмана, является доказательством ее «осознано риторического характера». При этом многозначность текста становится свойством искусства, а иносказание – важнейшим принципом художественного языка. По мнению Левиной, для современной эпохи характерно стремление к «новой нормативности», «тоска по организованности», что является реакцией на смену культурной парадигмы XX века, когда хаос стал пониматься как норма жизни. За 46 авангардной ломкой всяческих систем наступает стабилизация, отражающаяся в тяготении к объективизму, упорядоченности, что и проявляется в тяготении к жанру притчи: «Преобладающий тип ее – конструкция, где важнее современное, а не "каноническое" содержание, но которое уводит в "вечность"» «интеллектуализации следующие: искусства» главенство [68, с. 37]. Среди других XX века нравственной исследователем проблематики, причин названы взаимодействие художественного и философского сознания, антиромантическая волна, историзм мышления, апелляция к культуре прошлого. Таким образом, притча, по мнению автора, предстает как один из вариантов воплощения общезначимой тенденции искусства XX века. Исходя из проведенного анализа исследований, посвященных музыкальной аллегории, можно заключить, что иносказание, как одно из свойств творческого мышления широко представлено в музыкальном искусстве и обнаруживается в произведениях различных исторических периодах и жанров. Хотя термин аллегория используется в работах музыковедов, он имеет значительные различия в трактовке и пока не получил общепринятого определения. 1.3 Музыкальная аллегория и ее характерные особенности В связи с тем, что аллегория до настоящего времени в музыкальной науке не имеет однозначного определения, попробуем выявить ряд характерных особенностей функционирования этого понятия в музыке. Возникает вопрос: что следует понимать под музыкальной аллегорией? Проводя аналогию с другими сферами бытования аллегории (философией, богословием, литературой, предположить, что изобразительным музыкальная аллегория искусством) также содержит уместно набор характерных свойств: представляет собой двухуровневую конструкцию из буквального и иносказательного смысла; 47 связана с вербальным источником; складывается из структурных элементов, которые можно обозначить как «музыкальные метафоры». Для образования аллегорических представлений в музыке необходимо нахождение прямого, то есть буквального смысла. Аллегория всегда рождается из способности восприятия слушателей к нахождению ассоциативных связей между конкретным и подразумеваемым содержанием. Для сужения семантического поля музыкальных выразительных средств, подобно ситуации с оригинальными авторскими аллегориями в изобразительном искусстве, на помощь приходит слово. Существуют различные пути синтеза вербального текста и музыки. Прежде всего – это наличие слова в вокальном произведении. Также словесный текст может присутствовать в программном названии или эпиграфе. Особый путь проникновения слова в музыку – цитата известной вокальной мелодии со строго закрепленным текстом, например, включение темы средневековой секвенции Dies irae в инструментальное произведение. Определяющую роль слова подчеркивают как отечественные, так и зарубежные исследователи музыкальной аллегории. Вне связи с текстом музыкальные фигуры могут быть трактованы лишь как многозначные символы, не передающие конкретного содержания. На особую роль текста указывает известный зарубежный исследователь, один из первых затронувший проблему аллегории в музыке, М. Буковцер: «Необходимо решительно подчеркнуть, что сами по себе музыкальные фигуры неясны: они допускали различное толкование и приобретали определенное значение только в музыкальном контексте, а также благодаря тексту или названиям произведений» [27, с. 208]. Крупный американский исследователь музыки И. С. Баха Э. Ботки в своей монографии так объясняет особую аллегоричность хоральных прелюдий для органа: «Бах писал их с вполне оправданным предположением, что органисты, как и все прихожане, знают 48 слова гимна и, слушая эти прелюдии, могут оценить аллегорический смысл его музыки» [27, с. 222]. В отечественных исследованиях, посвященных музыкальной семантике, авторы также подчеркивают решающую роль слова в определении конкретного смысла музыки. Так И. В. Степанова в фундаментальном исследовании «Слово и музыка: диалектика семантических связей» отмечает: «В вокальной музыке в роли фактора, конкретизирующего значение музыкального приема, выступает, помимо контекста, слово. …Слово, с одной стороны, провоцирует, а с другой, высвечивает в звуковом материале экстрамузыкальные свойства» [118, с. 14]. Как уже было отмечено, литературная аллегория складывается из системы взаимосвязанных метафор образующих цельный сюжет. Проводя аналогию, подобное же выстраивание аллегории из отдельных иносказательных элементов следует находить и в музыке. Так, М. Букофцер в своем труде «Аллегория в музыке барокко» [159] отмечает, что баховская звуковая символика – это одна из разновидностей аллегорий. Автор использует термин «метафорические фигуры», подчеркивая их взаимосвязь в структуре произведения: «Само по себе наличие метафорических фигур никоим образом не отличало музыку Баха от того, что писали другие композиторы барокко, и уж не делало ее автоматически хорошей. Именно мастерское и в высшей степени утонченное объединение в целое музыкальной структуры и метафорического значения – вот что наделяло музыку Баха уникальной силой» [27, с. 209]. Родственные связи музыкального искусства и литературы явственно осознавались в различные эпохи. Музыкальная риторика XVII века заимствовала принципы и терминологию античной словесной риторики. В наше время одна из интенсивно разрабатываемых тем в музыковедении – взаимосвязь слова и музыки в вокальных произведениях, и здесь также происходит активное заимствование литературоведческих терминов. Так, И. В. Степанова использует термины музыкальная синонимия, музыкальная 49 антонимия, идеографическая музыкальная омонимия, мелодическая лексема, вертикальный оксюморон. Аллегория – термин, который, прежде всего, связан со словесностью, и чтобы понять природу музыкальной аллегории, следует расширить терминологическую проекцию и привнести в музыку понятие о тропах. Метафора, как известно, вид тропа, основанный на принципе сходства. По определению литературной энциклопедии, троп – «художественное осмысление и упорядочение семантических изменений слова, разнообразных сдвигов в его семантической структуре» [69]. По аналогии с литературой, под музыкальным тропом таким образом можно понимать такой оборот или композиционный прием, который вызывал бы особое художественное осмысление или семантический сдвиг относительно словесной программы произведения. Как в литературе, так и в музыке некоторые виды тропов, главным образом метафоры, могут выступать в качестве составного элемента аллегории. Однако отдельный семантически осмысленный музыкальный оборот не может считаться аллегорией, так как он передает единичный образ, а не воплощает цельный сюжет. Также он не может быть причислен к символу из-за конкретности и однозначности своей трактовки. Уместнее всего было бы называть его музыкальной метафорой, которая представляет собой некий семантически значимый музыкальным оборот, приобретающий определенный переносный смысл в контексте вербальной программы сочинения. Таким образом, под музыкальной аллегорией следует понимать содержательный подтекст произведения, выстраивающийся из ряда взаимосвязанных музыкальных метафор, соподчиненных выражению общей иносказательной идеи или сюжета. Рассмотрим на конкретных примерах различные варианты взаимодействия слова и музыки при образовании музыкальных аллегорий. К первому – наиболее простому варианту относятся произведения на литературный текст, заведомо подразумевающий аллегорическое содержание, при этом слово выступает носителем как буквального, так и аллегорического 50 смысла, а музыка не рождает и не видоизменяет аллегорию, а лишь позволяет более ярко ее раскрыть посредством собственных выразительных средств. В отечественной музыке к таким произведениям, например, можно отнести хоровые и сольные сочинения на тексты басен И.А. Крылова, среди которых для голоса с фортепиано: «Осел и соловей», «Квартет» А.Г. Рубинштейна; «Волк и мышонок», «Прохожие и собаки» Ц.А. Кюи; «Музыканты», «Крестьянин и овца», «Орел и пчела», «Обед у медведя», для хора a cappella «Лягушка и вол», «Лебедь, рак и щука» А.Т. Гречанинова. Также аллегорический текст используется в кантате И.Ф. Стравинского «Проповедь, притча и молитва» Среди зарубежных авторов можно назвать сценическую кантату Х.В. Хенце «Нравоучения» (Moralities) по басням Эзопа. Ко второму – более сложному варианту взаимодействия слова и музыки относятся музыкальные аллегорические произведения, написанные на изначально неаллегорический текст. При этом аллегория рождается средствами самой музыки, и слово получает возможность совершенно новой «расшифровки» иносказательными средствами музыкального языка. Для того чтобы рассмотреть механизм подобной аллегории в музыке на конкретных примерах, обратимся к одному из интереснейших жанров старинной музыки – загадочным канонам, в которых запечатлены яркие образцы аллегорического мышления. Как отмечено Ю. Холоповым, под каноном в то время понималась не непрерывная имитация, что соответствует современному толкованию этого слова, а «форма с выводимыми голосами, то есть форма, которая строится при помощи чтения ненотированного голоса (голосов) по партии нотированного голоса (голосов)» [137, с. 144]. Недостающие голоса должны были выводиться исполнителем в соответствии со специальной «надписью-изречением», предпосланной произведению. Как правило, такие «надписи-изречения» представляли собой емкие афоризмы часто на библейскую тематику, которые аллегорически указывали на какой-либо полифонический прием, необходимый для выведения ненотированных голосов. Ю. Холопов приводит несколько примеров таких 51 загадочных канонов. Так изречение «Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и опьяняйтесь ею» при расшифровке предполагало инверсию исходного голоса в шестикратном увеличении; «Где альфа, там омега, где омега, там конец» означало ракоходное движение мелодии; «Возвышающий себя да унизится» подразумевало проведение мелодии в зеркальной инверсии. Раскроем механизм возникновения аллегории между музыкальным и вербальным началом в этих произведениях. Беря во внимание своеобразие данного жанра, представляющего собой музыкальную головоломку, можно прийти к следующему выводу. Так как изначально исполнитель имеет лишь тему пропосты и загадочное изречение, то, следовательно, это изречение и несет буквальный смысл, аллегорическим содержанием которого является указание на необходимый полифонический прием. Яркие музыкальные аллегории содержатся в оратории Г.Ф. Генделя «О радости, печали и мудрости»7 (L'Allеgro, il Pensieroso ed il Moderato). Подобно аллегориям изобразительного искусства, воплощающим в характерных образах людей и природы различные качества человеческой души (пороки и добродетели) здесь в красочных музыкальных аллегориях перед слушателем предстают три различных мировосприятия. Каждый персонаж излагает свое credo не в форме отвлеченных рассуждений, а путем описания конкретных жизненных ситуаций, воспеваемых в соответствии с присущими ему убеждениями. Интересным примером музыкальной аллегории, приведенным Э. Бодки, может служить часть Quodlibet из «Гольдберг-вариаций» И. С. Баха. Известно, что она выстроена на темах двух немецких народных песен. Содержание их таково: «Я так долго не был с тобою, подходи ближе. Капуста и свекла увели меня так далеко. Если бы моя мать приготовила мяса, я оставался бы дольше» [27, с. 233]. Бодки, опираясь на исследование Фрица 7 Такое несколько условное название оратории, но достаточно точно передающее ее содержание дано в отечественном издании под общей редакцией Дж. Далгата. 52 Мюллера, приводит следующее истолкование этого текста: «Народные песни следующим образом возвещают о возвращении арии: "я" (тема) долго не был с "тобою" (исполнителем), поскольку капуста и свекла (вариации) увели меня. Если бы мать приготовила мяса (Если бы Бах оставался ближе к теме), я бы не уходил. Возвращение темы в первоначальном виде и есть то самое страстно желаемое "мясо"» [27, с. 233]. Таким образом, музыкальная аллегория воплощена здесь И.С. Бахом в композиционных приемах построения вариаций и связана с формообразованием цикла в целом. Особенностью этой яркой музыкальной аллегории, отличающей ее, например, от загадочных канонов, является то, что словесный текст в данном случае никак не зафиксирован в нотах, а выявляется опосредованно, через цитату традиционной мелодии, с которой он связан. Другие примеры наличия музыкальной аллегории можно обнаружить во многих прелюдиях и фугах «Хорошо темперированного клавира» Баха. Так, например, прелюдия и фуга B-dur из I тома, по мнению Яворского, последовательно воплощает текст Евангелия от Луки, повествующий о поклонении пастухов новорожденному Христу. При этом определенные музыкальные обороты исследователь наделяет конкретным смысловым значением. Так, в прелюдии через характерную лютневую фактуру воплощается образ ангелов, возвещающих о Рождестве. Их полет передан через стремительные пассажи, а пение – аллюзией на хорал «Gloria in excelsis Deo». Тема фуги этого цикла, согласно Яворскому, содержит интонации, передающие приветственные поклоны пастухов и подражающие игре на волынке. Столь конкретная трактовка отдельных музыкальных фигур не позволяет причислять их к категории символов, так как известно, что для символа характерна многозначность и неисчерпаемость художественного образа. Следовательно, многое из того, что традиционно называется «баховскими символами», по сути, следует называть музыкальными метафорами, так как именно метафора, в отличие от символа, обладает самостоятельностью образа и однозначностью его трактовки. Таким образом, 53 можно сделать вывод, что музыкальная аллегория, подобно литературной, образуется из системы взаимосвязанных метафор, формирующих иносказательный сюжет. Можно дополнить, что аллегорические музыкальные произведения на неаллегорический текст можно встретить не только в эпоху барокко, но и у композиторов XX века, при этом нередко авторы включают слово «аллегория» в название или жанровое определение произведения, чтобы особо подчеркнуть его иносказательный смысл. Среди таких произведений можно назвать балет-аллегорию «Поцелуй феи» Стравинского, «Аллегорическую симфонию» А.П. Соге, аллегорию с музыкой «Император Гелиогабл» Х.В. Хенце и другие. Перечисленные примеры объединяет то, что главную роль в создании аллегорических аналогий в них играют выразительные средства музыки. Другими словами, аллегорическая связь с текстом запечатлевается непосредственно в звучании произведения. К особой разновидности можно отнести случаи, в которых созданию аллегорических аналогий служат не собственно выразительность звучащей музыки, а в большей степени ее графическое изображение посредством нотной записи. Так в загадочных канонах предписание «Обрати ночь в день» означало, что «черные» ноты должны были стать «белыми»; «Ut requiesunt a laboris suis» («Да отдохнут от трудов своих») требовало пропустить звуки, отмеченные слогами ut и re [137]. К чисто графической аллегоричности можно отнести также традицию И. С. Баха писать в кантатах на слове Kreuz (крест) ноту с диезом, поскольку по-немецки слова «крест» и «диез» являются омонимами. Уместно также заметить, что и традиционная тема креста в баховской музыке также имеет графическое обоснование своей семантики: крест получается при соединении линиями первой ноты с четвертой, а второй с третьей. Интересно, что традиция наделения аллегорическим смыслом музыкального знака существовала не только в нотном письме, но и в 54 знаменной традиции. Т. Владышевская считает, что в знаке «два в челну» запечатлен христианский образ корабля, в знаке «чаша» отразился священный предмет богослужения, прообразом «подчашия» послужил ритуал накрытия чаши во время литургии [32, с. 102]. Автор приводит примеры аллегорического истолкования отдельных знаков, отражающих концепцию «богодухновенного, данного свыше христианского искусства, как искусства откровения, которое не содержит ничего случайного, в котором все наполнено смыслом» [32, с. 105]. Так, знаменный знак «змийца» толковался как «земные славы и суеты мира сего отбегание», «голубчик» – «гордости и всякия неправды изничтожение», «ключ» – «ключ спасению се есть не осуждати никогоже» и т. д. Таким образом, традиция аллегорического толкования теологического смысла музыкальных знаков, существовавшая в русской православной традиции, показывает отношение к ним как к аллегориям, отражающим особенности христианского мировоззрения. К третьему относится наиболее сложный вариант взаимодействия слова и музыки. Он возникает в произведениях, где аллегорический смысл содержится как в литературном первоисточнике, так и в музыкальном его воплощении. Иносказательность музыки при этом может по-разному соотноситься с текстовой аллегорией – противоречить ей, видоизменять или как-либо «эксплуатировать» ее смысловое поле. При этом синтезируется новое значение, интеллектуального которое акта не лежит расшифровки на поверхности, в результате а требует сопоставления определенных знаковых элементов музыки и текста. В итоге может выстраиваться новая смысловая концепция понимания произведения, которая не могла бы быть выявлена только в литературном первоисточнике. Эта, так называемая «двойная аллегория», которая, как правило, не закреплена культурной традицией, а порождена индивидуальным творческим сознанием автора, а потому она более сложна для восприятия. Такая аллегория требует гораздо более детального анализа и будет рассмотрена нами в дальнейшем на примерах хоровых произведений Танеева. 55 ГЛАВА II. МУЗЫКАЛЬНАЯ АЛЛЕГОРИЯ В ХОРАХ A CAPPELLA С.И. ТАНЕЕВА В истории мировой культуры существовали целые эпохи, когда в силу тех или иных причин аллегория выступала основополагающим принципом в искусстве. У гениальных творцов аллегория становилась доминантой художественного мышления (Данте Алигьери, И. Босх, Ф.Х. Гойя, И.С. Бах, С. Дали и другие). Подобной ярчайшей фигурой русской музыки рубежа XIX – XX веков является С. Танеев. Особенно рельефно аллегоричность его творческого мышления проявилась в хоровых жанрах, где само танеевское мышление предопределяет особое напряжение – каждое чувство осмыслено, каждая мысль одухотворена. 2.1. Аллегоричность творческого мышления С.И. Танеева По своему художественному мышлению Танеев опережал свое время, и в связи с этим во многом был не понят и неоценен по достоинству современниками. Его часто обвиняли в холодности и излишней интеллектуальности музыкального стиля. Подлинное осознание глубины и значения его творчества началось лишь через несколько десятилетий после смерти композитора, и можно с уверенностью сказать, что и по сей день нам продолжают открываться новые грани и глубины его творческого гения. Делом всей жизни Танеева было изучение и научная систематизация полифонического наследия мастеров эпох Возрождения и барокко. Автор фундаментальных работ по полифонии, он последовательно претворял исследовательский опыт в своем творчестве. Однако его музыка отнюдь не была стилизацией старинных форм и жанров. В соответствии со своими эстетическими воззрениями, контрапунктические принципы западноевропейского искусства он преломил через богатейшую культуру русской музыки. Таким образом, стиль Танеева представляется синтезом рационального, интеллектуального начала, идущего от века полифонии, 56 вершиной которого является творчество Баха, и ярко эмоционального, во многом унаследованного им от русской музыки XIX века. Чтобы точнее понять суть музыкального мышления автора, необходимо тонко проникнуться самой его личностью. Внешняя сдержанность, но при этом особая внутренняя эмоциональность – характерные черты композитора, которые всецело воплотились в творчестве. Его музыка есть способ особого танеевского мышления. Эмоции глубоко скромного человека подобно сжатой пружине несут напряжение через призму разума и рационального начала. Отсюда содержание произведения воплощается не непосредственно в вихре прямого эмоционального порыва, а передается несколько опосредовано, как бы в зашифрованном, закодированном виде через кропотливую работу композиторского ratio, выражающегося, прежде всего, в полифоническом письме. Таким образом, можно говорить об аллегоричности, как одной из характерных черт творческого мышления Танеева. Принцип функционирования аллегории предполагает, что автор при ее создании проходит определенный интеллектуальный путь от непосредственного значения мысли к форме ее иносказательного воплощения. Воспринимающий же аллегорию должен пройти тот же путь, но уже в обратном направлении – от формы воплощения мысли к ее значению. Тот же принцип применим и к музыке Танеева. Чтобы всецело воспринять подлинную мысль, заложенную в его произведениях, необходимо пройти путь, по которому эта мысль облеклась в столь замысловатую форму его музыки. Об аллегорической особенности мышления композитора можно судить не только по его музыке, но и по самим свойствам личности и характера композитора. Помимо высочайших этических качеств Сергею Ивановичу, по свидетельствам современников, были свойственны скромность, сдержанность, некоторая замкнутость, и в то же время, большое чувство юмора, страсть к всевозможным каламбурам, версификациям и пародиям. Характерные черты личности проявились еще с детских лет. «На его детском личике, – пишет в своих воспоминаниях А. Я. Александрова57 Левенсон, – во всем его образе уже тогда лежала печать серьезности и скромности, черты, столь характерные для него, сопровождавшие его до гробовой доски» [158, с. 13]. Танеев снискал огромное уважение, почет и даже преклонение среди своих учеников и друзей, но, несмотря на широчайший круг общения можно сказать, что он был довольно замкнутым человеком и особенно близко ни с кем не сближался8. Большее время он проводил в одиночестве, в колоссальной и многосторонней интеллектуальной работе9. Творческий метод Танеева предполагал долгий и кропотливый труд. В этом он был близок Бетховену. Вот как сам композитор охарактеризовал свои действия в случае возникновения какого-либо затруднения: «…я не прерываю работу, а продолжаю работать над тем же материалом, извлекая из него те комбинации, которые он в состоянии дать… При этом постоянно случается, что хотя значительная часть мною написанного не входит вовсе в сочинение, но среди написанного встретишь, может, две – три комбинации, которые сразу дадут направление мыслям и сразу разрешат встретившееся затруднение, которое при отсутствии такой работы, быть может, на долгое время явилось бы непреодолимым препятствием к окончанию сочинения» [126, с. 181]. Изысканность средств музыкального воплощения, и как следствие – сложность его языка обусловлена самими свойствами и масштабом личности Танеева. Как известно, он не относился к типу композиторов, пишущих «как Бог на душу положит»10, ловящих свое вдохновенье на лету. Его музыка не стихийное воплощение творческой фантазии, а результат кропотливой 8 По воспоминаниям ученика Танеева А. Т. Гречанинова: «Чтоб избавить себя от докучных, мешавших ему работать, посетителей, он вывешивал тогда на двери записочку подобного содержания: "С. И. Танеев болен, никого не принимает и звонок не звонит". Это было не особенно гостеприимно, но зато великолепно достигало цели. Иногда С. И. забывал снять эту записку, когда уже и выздоравливал. Однажды на вопрос пришедшего к нему ученика, что же он не снимает записки, он отвечал: «А разве она еще висит? То-то я думал, почему ко мне никто не заходит. Ну и пускай еще повисит» [38, с. 262]. 9 Чтобы оценить масштаб самоорганизации композитора, уместно упомянуть известный факт его биографии. После своей первой поездки за границу успешный концертирующий пианист и молодой начинающий композитор Танеев составил для себя план самообразования до пятидесятилетнего возраста. Много позже, почти в конце своей жизни он признался в разговоре с Гольденвейзером, что тот план он уже выполнил и сейчас занимается составлением другого – на вторые пятьдесят лет. К сожалению, судьбой не было суждено осуществить его [37]. 10 Выражение из письма П. И. Чайковского к С. И. Танееву [141, с. 63]. 58 интеллектуальной работы. Очень точно творческое Танеева credo сформулировал Б. Асафьев: «На музыке его лежит отпечаток мудрой сосредоточенности и принципиальности: путь искателя истины. Каждая мысль принимает у Танеева облик зрелого, обдуманного высказывания. Словно прежде, чем оказаться зафиксированной на нотной бумаге, она прошла длительный искус в тайниках сознания, пока не получила разумно отточенной, вычеканенной формы. Однако за этой строгой выправкой, казалось бы, отметающей эмоциональное "я" композитора, каждый внимательный и чуткий слушатель заметит, что не хладное равнодушие далекого людям ученого отшельника руководит строителем столь замысловатых музыкальных концепций, а живая, творческая мысль, прячущая сокровища большого сердца» [15, с. 7]. Другой фундаментальной чертой Танеева, обуславливающей аллегоричность его творчества, было неподражаемое по своей изысканности чувство юмора. Отдельные шедевры его остроумия впоследствии существовали еще много лет, как своеобразный фольклор в музыкантской среде, передаваясь из уст в уста. Особой любовью пользовались его каламбуры. Вот некоторые из них: «На имение нужно наиболее денег»; «Овес может быть сеян несколько раз, человек же может быть только раз сеян. Впрочем, и человек может быть несколько рассеян»; «Один у него недостаток – излишество в употреблении вина, если только излишество может быть недостатком» [цит. по 23]. Столь замысловатый танеевский юмор – еще одна сфера реализации его особого аллегорического мышления. Вот еще несколько шедевров остроумия Танеева, но уже непосредственно связанных с музыкой: «Музыкальный календарь, – праздники: интродукция во храм; транспозиция мощей; фуга евреев из Египта; модуляция евреев через Черное море; купюра главы Иоанна крестителя» [цит. по 23]. Несмотря на то, что это всего лишь остроумная шутка, приведенный пример очень показателен, он обнажает стиль аллегоричностью: мышления композитора музыкальные термины 59 и примечателен связываются своей здесь с определенными событиями из священного писания. Повод для шутки находился и в повседневной педагогической работе. По воспоминаниям К. Эйгеса однажды ученик Танеева, скрипач и композитор Юлий Конюс пожаловался: «Ох, какое это бесконечное Adagio!» – о медленной части fismoll из сонаты B-dur Бетховена op. 106, на что последовал ответ: «Как, неужели вы хотели бы к нему еще приписать конец!?» [148, с. 272]. А вот как иронически отозвался Танеев о Третьей симфонии Скрябина: «В первый раз вижу композитора, который вместо обозначения темпов пишет похвалы своей композиции. Смотрите: "Divin", "Grandiose", "Sublime"11» [106, с. 154]. Юмор композитора воплотился и непосредственно в музыкальном творчестве. Ряд его шуточных произведений будет рассмотрен в следующем разделе. К закономерностям музыкальных стилей прошедших эпох Танеев обращался не только в пародийном ключе. Рациональное начало музыки Возрождения и барокко было близко ему по духу. В частности, это проявляется в сознательном обращении к некоторым методам музыкальной риторики. Наряду с употреблением традиционных музыкально-риторических фигур, широко распространенных в музыке эпохи барокко, Танеев вырабатывает свой собственный интонационный словарь, тесно связанный с определенным излюбленным кругом поэтических образов, к которым обращается композитор. Можно сказать, что при работе с литературным текстом в полной мере проявился иллюстративный характер искусства эпохи барокко. Однако это несколько иная иллюстративность, чем, например у Баха, который следовал в своем творчестве теории аффектов. Иллюстративность Танеева имеет романтическую основу. Он стремится подчеркнуть каждое изменение эмоционального строя или поворот сюжета. Нередко произведение строится на резких контрастах. Часто, выделяя отдельное слово как образный мотив, он облекает его в яркую мелодическую форму и посредством контрапунктических приемов извлекает из него основу для крупного музыкального построения. 11 «Божественно», «Грандиозно», «Возвышенно». 60 В обширном вокально-хоровом наследии Танеева обращает на себя внимание определенный круг образов и сюжетов, избираемый им для своих произведений. В большинстве своем их можно отнести к области философской лирики, где литературный текст нередко аллегоричен. Претворение в музыке высоких этических идеалов было одной из ключевых творческих задач композитора. По словам Асафьева «…ряд произведений С. И. Танеева стоит на грани интеллектуального становления музыки, как философии» [15, с. 8]. Подавляющее большинство его камерно-вокальных и хоровых произведений написано на тексты Тютчева, Полонского, Хомякова и Бальмонта. В аллегорических образах природы, человека, мифологических или религиозных мотивах Танеев обнаруживал глубинную реальность бытия, которую мог мастерски воплотить в своей музыке. Итак, аллегоричность – как одна из характерных черт, проявляется как в самих свойствах личности Танеева (эмоциональная сдержанность, рационализм мышления), так и в его творчестве (юмор и страсть к каламбурам, поиск эстетических основ в образцах риторических эпох, обращение к поэтическим текстам особого содержательного склада). В хоровой музыке композитора аллегоричность мышления проявляется в самых разных жанрах и периодах творчества. В рамках последующих аналитических разделов и глав диссертации будут рассмотрены наиболее показательные примеры музыкальных аллегорий в ранних хоровых сочинениях юмористического содержания, в отдельных хорах из цикла на стихи Я. Полонского, в цикле на стихи К. Бальмонта, в двух крупных кантатах на стихи А. Толстого и А. Хомякова. 2.2. Иносказательные образы в раннем хоровом творчестве Яркие примеры музыкальной аллегории можно обнаружить в ироничных хоровых миниатюрах, написанных Танеевым в 1880 году для любительского юмористического журнала «Захолустье», издаваемого силами 61 обитателей и гостей имения Масловых – близких друзей композитора. Для этого журнала Сергей Иванович под псевдонимом Эхидона Ивановича Невыносимова или Ядовитова написал около пятидесяти произведений преимущественно камерно-вокальных жанров. В смеховой культуре Танеева ярко проявились ключевые качества его творческого мышления: аналитизм и комбинаторика. Он был способен усматривать самые неожиданные связи и аналогии в, казалось бы, несоединимых вещах, обращая их в форму емкой и отточенной шутки. Средства выразительности при этом остаются традиционными, отдельные кирпичики, из которых строится шедевр остроумия те же, что характерны для серьезного, стилистически строго выверенного творчества композитора, однако их сочетание и степень интенсивности приобретает совершенно особое значение. Парадокс заключается в том, что в шуточном опусе отдельные конструктивные элементы помещены с заведомо нарушенным чувством меры и логики их сочетаемости. В связи с этим, танеевская шутка не стала доступной для всех. Она рассчитана на интеллект подготовленного слушателя, способного поместить ее в контекст собственного музыкантского опыта и знания музыкального стиля композитора. Смеховой эффект кроется в субъективном ощущении стилевого диссонанса воспитанным музыкантским слухом. В своих хоровых миниатюрах-шутках Танеев часто использовал в пародийном плане разнообразные полифонические жанры. Сочетание преувеличенно выпуклой музыкальной стилизации и заведомо несерьезного литературного текста – прием, традиционный для шуточных произведений композитора. При этом словесный текст в семантическом поле этой музыкальной стилизации приобретает иной, музыкальный подтекст. В результате синтеза слова и музыки происходит подмена функций: новый – иносказательный смысл начинает претендовать на роль основного. Одно из таких произведений – шуточный хор-фуга на текст афоризма Козьмы Пруткова: «Специалист подобен флюсу, полнота его одностороння». 62 Это небольшое по масштабу произведение, формально являющееся трехголосной фугой, представляется как ученическое упражнение выполненная с тщательной нарочитостью и – строгостью стилизация полифонической фактуры эпохи барокко. Лаконичная пафосная тема C-dur декламационного склада, витиеватое противосложение, характерные барочные каденционные обороты с опеванием – все эти достаточно нейтральные музыкальные средства придают музыкальному ряду гротесковый подтекст именно в сочетании со словом Пруткова (пример 1). Учитывая тонкий юмор и самоиронию композитора, данное произведение можно трактовать как своеобразный музыкальный автопортрет. Сам Танеев – знаток и апологет полифонии, избравший ее основой своей научной, композиторской и педагогической деятельности, просматривается в образе «специалиста», мыслящего и решающего все задачи в одном четко заданном направлении. Пример 1 Другое произведение из этого ряда – «Фонтан», также на текст Козьмы Пруткова. Данный хор представляет собой двойную трехголосную фугу с раздельной экспозицией. Первая тема со словами «Если у тебя есть фонтан» совершенно противоречит образу струй воды, бьющих вверх под напором. Размеренная a-moll’ная диатоническая мелодия, изложенная крупными длительностями в темпе moderato здесь создает скорее ощущение бесконечной широты, нескончаемой тягучести (пример 2 а). 63 Пример 2 а) 2 б) Вторая тема C-dur со словами «заткни его…» построена на двух призывных восходящих кварто-квинтовых интонациях (пример 2 б). Завершается фуга строгим хоральным построением на словах «дай отдохнуть и фонтану», композитор подражает риторической фигуре барочной музыки noema (основная мысль). Весь комплекс музыкальных приемов в сочетании с текстом призваны выразить у Танеева иной смысл произведения. В аллегоричном изречении Козьмы Пруткова под фонтаном подразумевается беспрерывная никчемная болтовня, но в контрасте остроумного афоризма и излишне академичного, нарочито усложненного музыкального языка рождается совершенно другой подтекст хора. Это пародия и наглядное предостережение от композиторского графоманства, от излишества и сложности выразительных средств при скудности художественного содержания. Как известно, к этой проблеме искусства Танеев был далеко неравнодушен и неоднократно высказывался на эту тему. Еще одну своеобразную полифоническую стилизацию Танеев создает в хоре «Лежа в кровати» на собственные слова. В данном случае просматривается пародия на музыку барокко. В хоре дается нарочито 64 пародийная трактовка подразумевающей посредством художественных выражение традиционно тех принципов или иных закрепленных теории аффектов, душевных состояний музыкально-выразительных средств. Здесь контрастно сопоставлены два типа интонационности: ламентозно-мадригальной (связанной с болезненным состоянием), и торжественно-гимнической (олицетворяющей здоровье). В первой части болезнь и связанный с ней аффект страдания выражается минорной тональностью, прихотливым изломанным ритмом, подчеркиванием вводных тонов к тонике и доминанте, многочисленными нисходящими задержаниями (пример 3). Пример 3 Короткие восходящие пассажи шестнадцатыми с последующим широким нисходящим скачком словно изображают человека, пытающегося подняться, но тут же падающего от бессилия. Во второй части звучит гимн здоровью. Мажорная тональность, темп allegro, простой четкий ритм в размере четыре четверти, опора на тонику – все музыкальные средства призваны создать ощущение радости и бодрого состояния духа (пример 4). Подобная нарочито подчеркиваемая традиционность музыкальных приемов при тривиальности словесного содержания создают смысловой подтекст этого хора – предостережение от 65 штампов в музыкальном творчестве, от избитости и банальности выявить смысловую выразительных средств. В приведенных произведениях можно закономерность в выборе текста и его художественного решения. Данные хоры объединены общей тематикой – это своеобразные советы или даже, если можно так выразиться, заповеди, касающиеся композиторского творчества: предостережение от пустого, бессмысленного графоманства, от банальности, от зацикленности и односторонности мышления. Афоризмы словесные, благодаря их творческому переосмыслению, превращаются в афоризмы музыкальные. При этом остроумные выражения (в не менее остроумной музыкальной оправе) приобретают новый содержательный подтекст. Пример 4 В архиве ВМОМК им. М.И. Глинки удалось обнаружить еще одно интересное произведение Танеева из серии приложений к «Захолустью», это кантата «Апофеоз художника», написанная в июле 1881 года [166]. В ГДМЧ в Клину хранится ее черновик, на заглавной странице которого можем прочесть: «Посвящено Егору Николаевичу Савелову, которого жена Зинаида Филипповна Савелова называла Ионичка»12 12 [164]. Благодаря этому Савелова Зинаида Филипповна (1862-1943) – музыковед, библиограф, переводчик, доктор искусствоведения. Ученица и друг С.И. Танеева. С 1909 г. библиотекарь, затем заведующая академической 66 посвящению становится понятен литературный текст кантаты, написанный вероятно самим Танеевым, в нем прославляется «Величайший из художников» Иона Зинин. Кантата состоит из двух номеров: речитатив баса и хор (приложение 1). В общей сложности все сочинение имеет протяженность в 62 такта. Именно столь неожиданной трактовкой жанра ему придан комический аспект. Это не фрагмент, и тем более, не проявление минимализма, композитор создает законченную форму, однако важнейшие ключевые признаки кантаты отражены в минимальном объеме. В этом состоит основной прием пародийности. Сочетание преувеличенно строгой музыкальной жанровости и заведомо несерьезного литературного текста – еще один метод, традиционный для шуточных произведений Танеева. Нарочито напыщенный пафос литературного текста заключен, прежде всего, в обращении к атрибутам античной культуры. Это и само название «Апофеоз», и Аполлон, которому «любезен сей художник», и Парнас, вершин которого он достиг, и венок, возлагаемый на его главу. Столь же несоразмерная пафосность присуща и музыкальному языку кантаты. В рамки нескольких страниц композитор стремится втиснуть богатый арсенал традиционных музыкальных штампов монументального жанра. Первый раздел – речитатив баса отличается нарочитой размашистостью, вычурностью музыкального высказывания. На протяжении небольшого раздела, выполняющего функцию вступления, композитор применяет перенасыщенный спектр речитативных мелодических формул. Партия солиста содержит скачки на широкие неустойчивые интервалы, поступенное движение, движение по звукам трезвучия, остановки на длинных высоких нотах, при этом происходят постоянные отклонения в библиотекой общества "Музыкально-теоретическая библиотека", одним из самых деятельных организаторов которого был С.И. Танеев. С 1914 также работала в библиотеке Московской консерватории, в 1924 г. эти библиотеки были объединены. Среди работ: С.И. Танеев в его библиотеке, в кн.: С.И. Танеев. Личность, творчество и документы его жизни, М.-Л., 1925; Мои воспоминания о С.И. Танееве, в кн.: С.И. Танеев. Материалы и документы, т. 1, М., 1952. 67 побочные тональности, а для динамического плана характерен охват крайних градаций. Второй раздел представляет тонкую пародию на жанр славильного хора, типичного для масштабных заключительных оперных сцен. На протяжении сорока двух тактов композитор успевает развернуть трехчастную репризную форму с хорально-гимническими крайними частями и имитационно-полифоническим средним разделом. В качестве гипотезы осмелимся предположить, что в необычном названии кантаты композитором заложена аллюзия на одноименную драматическую поэму И.В. Гёте «Künstlers Apotheose». В ней повествуется о молодом художнике, тщетно пытающимся путем копирования картин знаменитого мастера достичь вершин искусства. В диалогах с проходящими мимо посетителями галереи он размышляет о природе таланта и различных путях постижения тайн мастерства. Один собеседник наставляет ученика, делая упор на трудолюбии, второй – призывает больше работать с натурой и черпать свое вдохновение от природы, третий – настаивает на том, что стихийные порывы художника следует подчинять требованиям разума. Кантата «Апофеоз художника», несмотря на изначальную несерьезность, не только дополняет список танеевских музыкальных шуток и пародий, составляющих отдельную область его вокально-хорового творчества, но и находится в контексте всего его музыкального наследия. Очевидно, что в ней, как и в других хоровых юморесках прослеживается одна из ключевых для Танеева тем: размышление о роли и призвании художника в обществе, о значении подлинного искусства в жизни человека и путях постижения посредством него высоких этических истин. Эти мотивы проходят сквозной нитью через все его творчество и так или иначе раскрываются как в хорах a cappella, (таких как «Ночь» на слова Н. Языкова, «Вечерняя песня» на слова А. Хомякова, «Эхо» на слова А. Пушкина, «Прометей» на слова Я. Полонского), так и в кантатах («Я памятник себе воздвиг», «Иоанн Дамаскин», «По прочтении псалма»). 68 2.3. Социальная направленность музыкальной аллегории в хорах «На корабле», «Молитва», «Прометей» из цикла Двенадцать хоров a cappella для смешанных голосов на слова Я.П. Полонского Хоры Танеева «На корабле» и «Молитва» из цикла Двенадцать хоров a cappella для смешанных голосов на слова Я. П. Полонского имеют тесную смысловую взаимосвязь. На уровне поэтического текста первый хор представляется сюжетным продолжением второго. Хор «На корабле» заканчивается обращением к Богу, следующая за ним «Молитва» всецело разрабатывает этот мотив. Эти два хора объединены также в архитектонике всего опуса. Во-первых, следует отметить их центральное положение (№ 5 и № 6), а точнее, завершение первой половины цикла. Во-вторых, выделяется их особое смысловое значение, связанное с ролью повествующего лица. Как наблюдательно отметила Л. Корабельникова, только в этих двух произведениях ведется обращение от первого лица множественного числа. В связи с этим исследователь делает ценный вывод: «В этих метафорических, полных общечеловеческого смысла произведениях возникает ярко выраженная коллективная эмоция» [58, с. 206]. В обобщенном смысле можно сказать, речь здесь ведется от лица народа или точнее, общественного большинства. С этих позиций исключительное место занимает хор «Прометей» – единственный, в котором речь ведется от первого лица единственного числа, то есть от имени самого героя-автора. Во всех остальных номерах цикла – обезличенное повествование. Обратимся к поэтическому первоисточнику – стихотворению Полонского «На корабле» и попытаемся выявить аллегорию поэтических образов. Корабль – общераспространенный символ, имеющий в различных культурных традициях варианты своего аллегорического толкования. В древнейшей мифологии можно выделить два основных значения образа корабля. Во-первых, корабль – символ поиска, так как в мореплавании воплощается стремление человека выйти за границы собственного бытия. В 69 восточной мифологии это значение претворяется в образе великого мореплавателя Синдбада-морехода, преодолевающего пространство в поисках неведомых земель и противостоящего ограниченности человеческого существования. Во-вторых, корабль – символ возврата. Олицетворение этого значения – Одиссей, который является своеобразной антитезой Синдбаду в античной мифологии. В образе Одиссея воплощен путь человека к своим истокам. Возвращение домой символизирует возврат к исходной точке, отсутствие эволюции. Глубокий и многогранный символ, каким был корабль в мифопоэтике, всегда широко использовался поэтами и художниками более поздних эпох в многочисленных аллегорических сюжетах. Так, в живописи эпохи Возрождения известен сюжет – «корабль дураков». Это аллегория бесцельного странствия, и сумасшествия тех, кто отправился в него. Аллегорический образ корабля с давних времен активно использовался в политической сатире. Так, в творчестве древнеримского поэта Горация корабль, претерпевающий бедствие в бурном море означал государство в раздорах и междоусобных распрях. Близкое по смыслу толкование находим и у древнего китайского философа Сунь-Цзы: «Правитель – это лодка, народ – это вода. Вода несет лодку, но вода может и опрокинуть ее» [59, с. 304]. Образ корабля, переживающего грозу, именно в таком, политическом контексте воплощен и в стихотворении Полонского13. На аллегорический смысл этого Б. Эйхенбаум: стихотворения «Полонский указывает, в частности, литературовед обращается и к политической темам современности. Типично стихотворение "На корабле". Возглас "Заря… Друзья, заря! " имеет явно иносказательный смысл» [91, с. 25]. Но учитывал ли Танеев аллегорический смысл этого стихотворения, избирая его для своего хора? 13 Повествование в нем ведется от лица матросов, переживающих ночную грозу в море. Положение их не завидно. Корабль поврежден, разбит фонарь, в безлунную ночь они сбиты с пути. Переломным моментом становится заря. Появление первых лучей солнца позволяет матросам оценить последствия бури. Яркий свет вселяет в людей оптимизм и веру в спасение, помогает собраться с силами для восстановления корабля, поврежденного бурей. 70 Прежде всего, обращает на себя внимание то, что данный цикл был создан в 1909 году, в период суровой политической реакции после Кровавого воскресения 1905 года. По свидетельствам современников, Танеев тяжело переживал эти события. Он сочувствовал революционно настроенным студентам консерватории, материально помогал семьям бастующих рабочих. В какой-то степени революция 1905 года повлияла и на перелом, произошедший в судьбе самого Танеева, когда из-за своих демократических взглядов он был вынужден оставить работу в Московской консерватории. Примечательно также то, что цикл Танеева на слова Полонского посвящен Хору Московских Пречистенских курсов для рабочих. В этом есть некоторая парадоксальность. Могли ли рабочие, участники самодеятельного хора исполнить эти сложнейшие полифонические полотна? Вероятно, нет. Это подтверждают и исторические факты. Отдельные номера цикла были впервые исполнены Русским хоровым обществом под управлением М. М. Ипполитова-Иванова и П. Г. Чеснокова, а также Академическим хором Государственной филармонии под управлением М. Г. Климова. Однако данное посвящение приобретает особое значение, если предположить, что за буквальным смыслом произведений скрывается и другой, аллегорический. Известно, что Пречистенские курсы для рабочих под легальным предлогом просветительской подпольную и общеобразовательной политическую агитацию и, деятельности по словам проводили Е. Чемоданова: «…воспитывали массы рабочего населения в революционном духе и готовили бойцов революции» [143, с. 59]. В этом аспекте обращение Танеева к сюжету о терпящем бедствие корабле становится вполне закономерным. Обратимся теперь непосредственно к музыкальному содержанию хора и рассмотрим, каким образом композитор воплощает в музыке поэтический сюжет Полонского. Стихотворение состоит из двух строф по десять строк, но двухчастную строфичность композитор преобразует в сложную трехчастную контрастно-составную форму. При этом характерным приемом сочленения отдельных достаточно крупных разделов хора становится композиционный 71 эллипсис. Вследствие этого как первый, так и второй разделы, не выстраиваются в логически завершенные построения, а заканчиваются внезапно. Посредством особого распределения поэтического текста по этим разделам музыкальной формы Танеев выделяет в своем хоре следующие сюжетные моменты: первый раздел (А) воссоздает картину грозы, второй раздел (В) – эпизод рассвета, третий раздел (С) – восстановление корабля (схема 1). Схема 1 А Сонатная форма без разработки. ГП ПП ГП ПП В Сквозная форма по типу контрастного сопоставления. a b c d e С 3-х частная простая репризная форма. f g (fg)1 17 т. 10 т. 10 т. 8 т. c c g ges 20 т. (8+8+4) As 17 т. c 54 т. 10 т. (5+5) es 6 т. 5 т. 11 т. cesc 40 т. cEs Es As 20 т. C 58 т. 18 т. C Весьма неординарна композиция первого раздела. По структуре – это «перевернутая» сонатная форма (с обратным тональным планом) без разработки. Характерным признаком, позволяющим говорить о сонатности, становится транспозиция побочной партии из c-moll (экспозиция) в g-moll (реприза). Однако такой тональный план противоречит традиционному пониманию сонаты: в экспозиции тональный контраст между главной и побочной темой отсутствует, в репризе же, напротив, происходит тональное отдаление партий. Таким образом, выстраивается «перевернутая» сонатная форма, где экспозиция меняется местами с репризой. В таком структурном решении (следуя композиционной логике композиторов эпохи Возрождения) возможно усмотреть аллегорический замысел произведения. Композитор побуждает музыкального знатока к тонкой интеллектуальной игре, ведущейся на уровне соотношения текстовой и музыкальной семантики. Через систему обратного тонального плана автор замысловатым образом указывает на иносказательность произведения, его смысл. 72 переиначенный, «перевернутый» Рассмотрим музыкальные фигуры, которые Танеев использует в качестве музыкальных метафор. Метафора «волны» – стремительные гаммаобразные пассажи в главной теме первой части, звучащие со словами «Те ж волны бурные» (тт. 6-9). Если представить это движение графически, то получится изображение гребня волны (пример 5). Пример 5 Метафора «качки» – повторяющаяся секундовая интонация, появляющаяся впервые на словах «с вечера плескали не закачав» (т. 10), и впоследствии приобретающая главенствующее значение в побочной партии. Метафора «нерешительности» капитана – продолжительное звучание уменьшенного септаккорда в конце первой части (тт. 51-54) на словах «наш капитан впотьмах стоит, раздумья полн…». Метафора «фанфар» – восходящее движение по звукам трезвучия и фанфарный ритм, подражающий звучанию медных духовых (тт. 55-62) соответствуют возгласам «Заря!.. Друзья, Заря!». Метафора «беспросветности» – появление мотива «качки» на словах «и гребни черных волн» (тт. 66-72) в нарочито минорном звучании. При этом в Es-dur «проникают» такие далекие звуки, как des, ces, ges, fes. Ощущение беспокойства усиливается 73 длительным звучанием доминантового органного пункта в басах не получающим разрешения (пример 6). Пример 6 Метафора «усталости и беспомощности» – крайняя неустойчивость гармонического языка и «запредельность» использованных тональностей «бемольной сферы» (ces-moll, des-moll) соответствует тексту «Кто болен, кто устал, кто бодр еще, кто плачет» (тт. 73-78, пример 7). Пример 7 Метафора «сомнения» – многочисленные синкопы, гармонический эллипсис (трезвучие седьмой низкой минорной ступени), остановка на доминанте на словах «Но не погибли мы!.. И много спасено…» (пример 8). 74 Пример 8 VII Метафора «регресса» – 5 3 стилистический сдвиг от свободной полифонизированной фактуры в первых частях к использованию строгих полифонических приемов (cantuts firmus, бесконечный канон), а также применению старинного (характерного для строгого стиля) размера 2/2 в последней части хора на тексте «Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем» (тт. 95-110; 135-144). Метафора «сомнения веры» – использование прерванного оборота с разрешением в уменьшенный септаккорд, выделенный сфорцандо на слове «Господь» (т. 128). Молитва как бы не достигает цели: логика гармонического развития упирается в напряженный диссонанс (пример 9). В целом, цепь музыкальных метафор в синтезе с поэтической аллегорией, выстраивается в логичный иносказательный сюжет. Так фразы поэтического текста приобретают скрытый аллегорический смысл. «Стихает» (буря революции), «Ночь темна» (состояние общества в России), «Еще вчерашняя гроза не унялась» (кризис не преодолен и продолжает будоражить общество), «Наш капитан впотьмах стоит, раздумья полн…» (правитель государства нерешителен и не имеет плана действий). «Заря!.. Друзья, заря!» 75 (играют фанфары и приближенные «рапортуют» сомневающемуся правителю о якобы оптимистичной перспективе). «Глядите, как яснеет – и капитан, и мы, и гребни черных волн» (славословие правителю, словно по указке, постепенно подхватывается всеми, однако в этих возгласах сквозит беспросветность и неуверенность в будущем). «Но не погибли мы и много спасено…» (пессимистическая ирония над трагизмом ситуации). Пример 9 По сюжету стихотворения, команда, собравшись с силами, занялась восстановлением корабля и с молитвой готовится к продолжению плавания. Содержание текста всецело поддержано и в музыкальном решении финала. Постепенно все более утверждающаяся тональность C-dur замыкает логику тонального плана хора, определяемую классическими традициями (с-moll→C-dur – «от мрака к свету»). Фанфарные мелодические ходы, восходящие квартовые интонации, каноническая секвенция с повышающим секундовым шагом: все эти средства призваны воплотить коллективное состояние единения духовных и физических сил для дела общего спасения. Однако при этом в трактовку финала композитор музыкально- метафорическими средствами вкладывает еще один аллегорический подтекст. Использование метафоры «регресса» (обращение к более строгим старинным стилистическим средствам) и «сомнения веры» (гармонический эллипсис на слове «Господь») позволяет судить об искренних и самоотверженных усилиях 76 команды (аллегория общества) не как о развитии, движении вперед, а как о восстановлении, реставрации прежней устаревшей, отжившей свое системы. Таково было ощущение, возникшее от политической реакции после событий 1905 года. В контексте произведения стилизация строгого старинного гимна звучит как возврат к старому, давно не актуальному. Так «корабль государства» образно сближается с «кораблем Одиссея», все время возвращающегося к исходной точке. Если попытаться проанализировать критерии отбора Танеевым для хорового цикла тех или иных стихотворений Полонского, то на первый взгляд может показаться странным появление «Молитвы» среди стихотворений философского плана, нацеленных на глубокие аллегорические обобщения через образы природы и вселенной. «Молитва», относящаяся к области христианской религиозной поэзии Полонского, на этом фоне выделяется контрастом. Содержание текста этого хора даже провоцировала редакторов в советское время варварски исключать его из публикации по идеологическим причинам (например, в издании 1978 г.). Однако и в то время некоторые исследователи, в частности Корабельникова, отмечали нерелигиозный смысл этого хора: «"Молитва", как и "По прочтении псалма", – это, собственно, не обращение к богу, а призыв к братской любви на земле…» [58, с. 207]. В связи с этим в советской музыковедческой литературе практически всегда возникала тема атеизма Танеева. Как известно из писем и воспоминаний, композитор неоднократно заявлял, что он неверующий и поэтому не может писать церковной музыки14 [92, с. 138]. Однако вопрос отношения Танеева к религии далеко не так прост, учитывая то место, которое занимают в его творчестве тексты религиозного-философского содержания. Быть верующим в понимании композитора означало не только иметь определенные убеждения, но и участвовать во всех таинствах веры, 14 Тем не менее, как известно, Танеев писал хоры на церковные тексты. Подробнее о роли и значении этих сочинений для русской музыки будет сказано в заключении диссертации. 77 чего он, вероятно, не делал. По воспоминаниям ученика композитора Ю. Н. Померанцева: «…назваться православным он не считал себя в праве, как не исполнявший обрядов, требуемых православной церковью; ни к какому же другому вероисповеданию причислить себя не мог» [23, с. 177]. По этой причине во время переписи населения в графе «вероисповедание» Танеев писал «крещен в православной вере». Чаще всего (за исключением хоров на канонические тексты), обращаясь к религиозной тематике, Танеев создавал своеобразные синтетические варианты, пронизанные духом светской религиозности. В «Молитве», как и в других подобных произведениях, его интересовала, прежде всего, возможность выражения собственных мыслей и идей, часто выходящих за рамки буквального содержание литературного первоисточника. Проанализируем аллегорическое содержание этого хора. Первые слова стихотворения Полонского: «Отче наш!» – вызывают моментальную ассоциацию с одной из главных молитв христианства, обращенной к БогуОтцу. Но стихотворение в целом не является поэтическим парафразом этой молитвы. Здесь встречается отдельное обращение к каждой из трех божественных ипостасей Троицы: Богу-Отцу (1-я строка), Богу-Сыну (5-я строка) и Богу-Духу Святому (9-я строка). Можно предположить, что источником вдохновения поэта явились следующие строки из Евангелия от Иоанна: «…народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» [Иоанн 12:40]. Стихотворение Полонского – словно молитвенный ответ этих духовных слепцов на негодование Всевышнего. Молящиеся люди просят именно того, в чем их здесь обличает Господь. Рассмотрим подробнее возникающие параллели. 1) В Евангелии речь идет о целом народе, у Полонского – обращение от множественного лица. 2) В Евангелии: «…окаменил сердце свое…», у Полонского: «Сердце Ты в нас освежи, обнови!». 78 3) В Евангелии: «…не уразумеют сердцем…», у Полонского: «Разуму жаждущему / Ты вожделенные тайны открой!». 4) В Евангелии: «…ослепил глаза свои…», «…да не видят глазами…», у Полонского: «…И ужаснувшуюся / Мрака и зла и неправды людей!». 5) В Евангелии: «…и не обратятся, чтобы Я исцелил их», у Полонского: «Вставших на глас Твой услыши мольбу». Первое, что обращает на себя внимание в хоре Танеева – то, что музыка здесь не соответствует стилистике православной церковной традиции. В танеевской «Молитве» можно констатировать избыточность средств музыкальной выразительности. Во-первых – пятиголосный склад фактуры с двумя теноровыми партиями вместо традиционного хорового четырехголосия. Во-вторых – крайняя полифонизация голосов. Дробление текста в контрапунктирующих голосах и сложное наложение голосов по вертикали приводит к размыванию воспринимаемого смысла молитвы. Ритмический и текстовый унисон возникает только при обращении к БогуОтцу или Богу-Духу Святому. В-третьих, предельная хроматизация голосов приводит к гармонической неясности, нечеткости, эфемерности гармонической вертикали, доходящей подчас до парадоксальной трактовки тональности. Так, в цифре 10, после двойной тактовой черты, происходит смена ключевых знаков с четырех бемолей на один бемоль, однако реально звучащая тональность, которая устанавливается при этом – гармонический a-moll (пример 10). В цифре 12 знаки снова меняются на четыре бемоля, при этом реально звучит F-dur (пример 11). В целом, избыточность и сложность музыкально-выразительных средств, их противоречие стилистике жанра молитвы создают ощущение нестройности, неестественности выражения структурных границ произведения. 79 мысли, «размывания» Пример 10 Пример 11 Помимо этого, композитор прибегает к отдельным музыкальным метафорическим фигурам, которые также служат созданию единого аллегорического содержания. Их можно разделить на две категории. Одни фигуры синонимичны литературному тексту, с их помощью музыкальновыразительными средствами подчеркиваются наиболее важные, ключевые слова. Так, в тактах 21-22 на слове «распятый» в альтовой партии появляется риторическая фигура «креста», интонационно тождественная знаменитой ВАСН, но построенная от звука «ми». В тактах 71-72, также в альтовой партии данная анаграмма звучит в измененном варианте ВАНС на словах «спаси душу». 80 В такте 34 в партии альтов слово «освежи» подчеркнуто у Танеева восходящим октавным скачком. Еще один раз за все произведение такой мелодический ход встречается в такте 61 на слове «открой». Таким образом, за восходящей октавой закрепляется метафорический смысл «духовного обновления». В тактах 67-68 метафора «порабощенной воли» выражена перекрещиванием голосов в партии теноров на слове «цепей», чем композитор, возможно, хотел донести мысль о противоестественности всяких оков для человека. В тактах 76-78 особо выделены слова «зла и неправды». Метафора «зла» здесь выражена через восходящий (в партии первых теноров) и нисходящий (в сопрано) скачок на уменьшенную септиму; метафора «неправды» – через в восходящую (у первых теноров) и нисходящую уменьшенную квинту. В такте 78 слова «зло» и «неправда» звучат в вертикальном наложении, что подталкивает на мысль о равенстве этих понятий для Танеева: неправда – как зло. При этом между хоровыми голосами образуются диссонансы, создающие непривычно резкое звучание гармонической вертикали (пример 12). Пример 12 В тактах 26-30 между тенором и сопрано образуется бесконечный канон в октаву на словах «ожесточаемое, 81 оскудеваемое». Так в четырехкратном повторении одного и того же мотива во всех голосах передается метафорический смысл «скудости идей». Другие метафорические фигуры вступают взаимодействие с текстом, в результате чего в семантическое синтезируется новое, иносказательное значение. К этой группе относится использование музыкально-риторической фигуры catabasis, традиционно наделяемой смыслом «нисхождения», «падения», «смерти» в сочетании с контрастным ей по содержанию текстом: «Сына моленью внемли…» (тт. 4-6, пример 13), «услыши мольбу» (тт. 84-86), «разбуди на святую борьбу» (т. 93-96). Молитва, обращенная к Богу, оказывается низвергнутой, в ее музыкальном воплощении образуется метафора «неистинности». Пример 13 При обращении к Богу-Сыну (т. 20-25) на четыре такта внезапно замолкает басовый голос, хоровая фактура звучит неполно, без гармонического «фундамента». Так Танеев проводит мысль об утрате людьми главного оплота христианской религии – веры в Иисуса Христа. Подобное происходит и при обращении к Богу – Духу Святому (тт. 37-41), где пропадает ассоциирующийся с данным образом сопрановый голос. Внезапное исчезновение важных в смысловом отношении голосов можно назвать метафорой «потери веры». Метафорой «темноты ума» и «убогости» можно считать «ноющие» малосекундовые интонации в сопрановых и альтовых голосах, возникающие на словах «открой» (тт. 52-55) и «спаси душу» (тт. 69-70). Здесь уместно возникает аллюзия на известный Мусоргского «Борис Годунов». 82 лейтмотив Юродивого из оперы Метафорой «неискренности» можно обозначить нисходящие мелодические скачки в верхних голосах на уменьшенные интервалы на словах «дай силу страждущему» (тт. 43-45). Такое же значение приобретает фигура passus duriusculus в басу на словах «разуму жаждущему». В общем контексте произведения все метафорические фигуры взаимосвязаны и подчинены общему аллегорическому смыслу произведения. Этот смысл можно обозначить как молитва в состоянии крайней болезненности и смятения души, молитва, не приводящая к утешению. Это молитва духовных слепцов, не ведающих Света Истины и блуждающих во мраке духовной темноты и пустоты. Афористично аллегорический смысл данного хора можно передать цитатой из Евангелия от Матфея: «…если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму» [Матфей 15:14]. Эта «слепота» иносказательно воплощена Танеевым в противоречии между ключевыми знаками и истинной тональностью: исполнители словно «не видят» предписанную им тональность и реальное звучание оказывается совершенно другим. А «падение в яму» выражено на протяжении всего хора троекратным нисхождением басового голоса в диапазоне полутора октав, приводящим к нижней границе диапазона хора. Хор №8 «Прометей» завершает вторую тетрадь и находится в точке золотого сечения, являясь кульминацией цикла. Это наиболее крупное по масштабу и наиболее сложное по композиционной технике музыкальное полотно. Миф о Прометее15 стал одним из излюбленных сюжетов европейской культуры и получил множество интерпретаций в литературе и искусстве. Уже начиная с античности данный сюжет традиционно наделяется целым рядом аллегорических смыслов, так в трагедии Эсхила «Прометей прикованный» к 15 В основе стихотворения Полонского «Прометей» лежит древнегреческий миф о герое, который сотворил первых людей, вылепив их тела из смеси земли с водой, и вдохнул в них жизнь. Однако это были существа жалкие и беспомощные, похожие на животных и не обладавшие никаким знанием, так как они были еще лишены разума – божественного света. Тогда Прометей похитил с Олимпа небесный огонь и отдал его людям. В наказание Зевс приковал Прометея к утесу Кавказских гор, где коршун (у Полонского – ворон) каждый день раздирал ему грудь и пожирал его печень, которая за ночь вновь вырастала. Эта пытка продолжалась многие века до тех пор, пока его не освободил Геракл. 83 мотиву похищения огня прибавилась трактовка Прометея как первооткрывателя всех культурных благ, сделавших возможным развитие человеческой цивилизации. В контексте стихотворения Полонского, а вслед за ним и в хоре Танеева особо подчеркнем два важных аллегорических плана. Первый широко обозначим как художник и общество. Нравственная ответственность творца перед людьми, его роль открывателя истины, вера в спасительную силу разума и искусства – одни из ключевых мотивов танеевского творчества. Второй важный аллегорический подтекст хора – взаимоотношение общества и жестокой деспотичной власти, роль художника как защитника от произвола и тирании, его способность на самопожертвование. Данный содержательный аспект, пожалуй, впервые появляется у Танеева в хоровом цикле на стихи Полонского, и вероятно становится художественным осмыслением исторических событий в России – кровавого воскресения 1905 г. и последующей политической реакции. В более широкой постановке тема взаимоотношений общества и власти иносказательно проявляется и в других хорах данного опуса, а позднее приобретет особенно яркое творческое выражение в последнем хоровом цикле композитора Шестнадцать хоров a cappella для мужских голосов на стихи К. Бальмонта. Музыкальная драматургия хора «Прометей» выстраивается на контрасте двух эмоционально-образных сфер, отражающих, с одной стороны, повествование героя о своем подвиге, и с другой – страшный гнев богов. Форму хора в целом можно определить как сквозную по типу контрастного сопоставления (по классификации, предложенной И.В. Лаврентьевой). Она строится на чередовании относительно крупных и внутренне оформленных контрастных эпизодов (схема 2). Схема 2 A B C A1 C1 D 22т. 33т. 18т. 15+20т. 17т. 6+17т. 84 A2 (coda) 34т. На протяжении всего произведения прослеживается теснейшая взаимосвязь поэтического и музыкального содержания. Все эпизоды делятся на два образных плана, основанные на аккордовой (хоральной) фактуре (A, A1, A2) и полифонической (B – тройная фуга, C, C1 – фугато, D – имитация). Характерно, что все хоральные эпизоды связаны с образом Прометея и его повествованием от первого лица: «Я шел под скалами…», «Мир земной, я знаю, пересоздан…», «Пусть в борьбе паду я!», «Ярче будет… образ мой светиться…», а коллективный образ богов, их ярость в ответ на преступление Прометея и образ преследующего ворона нашли отражение в полифонических формах – фуге и двух фугато. Таким образом, посредством музыкальной фактуры сопоставлены две противоборствующие силы: свободная творческая личность, представленная в своеобразном хоровом речитативе, и совокупный образ карающей разъяренной власти, музыкально воплощенный средствами полифонии. При чередовании полифонических и хоральных эпизодов Танеев пользуется средствами музыкальной риторики, опираясь на традиции эпохи барокко. Так происходит в эпизоде «Я иду и свет мой светит…» (ц. 16) и в эпизоде «Пусть в борьбе паду я» (ц. 25), где бурное полифоническое развитие внезапно обрывается и звучит хорал, доносящий до слушателя эти наиболее значимые слова (музыкально-риторическая фигура noеma – основная мысль). Характерной чертой формы является ее рондообразность. Раздел А играет роль рефрена, несмотря на то, что по ходу развития претерпевает весьма значительные изменения. Общими остаются лишь отдельные мелодические элементы и характерные ритмические формулы. Пронизывая весь хор, варианты рефрена выполняют важную функцию скрепления крупного полотна в единое целое, создают мощную поддерживающую арку, придавая форме симметричность и логическую ясность. Именно в рефрене представлен аллегорический образ главного героя – художника, несущего людям свет знаний, любовь, свободу и готового на самопожертвование ради своих идеалов (пример 14). 85 Пример 14 Особый интерес для анализа представляет собой второй раздел хора (В), являющийся тройной фугой с совместным экспонированием трех тем. По мнению Л. Корабельниковой, это «одно из самых сложных и насыщенных в полифоническом отношении мест в танеевских хорах и в русской хоровой литературе вообще» [58, с. 213]. Три темы звучат одновременно, и каждая имеет свой текст. При этом возникает парадокс между обычной требовательностью композитора к эстетическим достоинствам текста и невозможностью для слушателя воспринять его в сверхнасыщенной полифонической фактуре. На наш взгляд, в данном случае композитор преднамеренно нивелирует, делает неразличимым фрагменты поэтического текста, связанного с сюжетикой мифа и персонализацией сил жестокого возмездия. Для него несущественна музыкальная конкретизация Зевса, черного ворона, богов и богинь, все это лишь обобщенный образ разъяренной карающей власти. Характерной чертой этой танеевской фуги является непрерывное сквозное развитие музыкальной ткани. Здесь, в отличие от хоральных эпизодов, преобладает стремительное поступенное движение, гаммаобразные взлеты от вводного тона до VII натуральной ступени с последующим постепенным возвращением к тонике, опора на интервал уменьшенной септимы (с поступенным заполнением) и уменьшенные октавы (пример 15). 86 Это привносит в эмоционально-образное содержание особую активность, порывистость, драматизм. Такими средствами воплощен здесь гнев богов. Пример 15 По своей форме фуга весьма нетипична и имеет целый ряд особенностей. Прежде всего, затруднено деление фуги на самостоятельные разделы. Происходит слияние экспозиции и разработки. Нетипично также противосложение, звучащее в партии 1-х теноров раньше проведения в нем какой-либо из тем, что не характерно для фуги. Другое отступление от правил построения экспозиции фуги состоит в том, что каждая из трех тем не проходит во всех пяти голосах. Вероятно, Танеев не посчитал это возможным из-за громоздкости самих тем, проведение которых во всех голосах весьма перегружало бы фугу. Разработка фуги отличается тональной неустойчивостью и весьма развитым противосложением в басовом голосе, в то время как остальные голоса развивают основной тематический гармоническое развитие разработки венчается материал. Интенсивное виртуозной по своей полифонической технике магистральной стреттой на материале 3-й темы, которая выполняет функцию драматургической и тональной подготовки репризы фуги. Реприза начинается в тональности субдоминанты. По масштабу она уступает предыдущим разделам и относится к разновидности репризы-коды, представляя собой краткое и емкое построение, выполняющее функцию резюме. В репризе используется только первая тема в зеркальной инверсии, но она содержит в себе интонационно-ритмические элементы всех трех тем экспозиции. 87 Анализируя форму и тональный план фуги, а также следующего за ней фугато, следует сказать о присутствующем здесь композиционном эллипсисе. Реприза из-за своего масштаба и тональности фактически не замыкает форму фуги. Это короткое построение в тональности субдоминанты внезапно обрывает фугу на неустойчивом доминантовом трезвучии, после чего следует очередной раздел – первое фугато, звучащее в основной тональности фуги – d-moll. Фугато фактически выполняет функцию тональной репризы, но в то же время не относится к разделу фуги, так как строится на совершенно новом тематизме, приобретающем в последующем свою линию развития. В драматургии всего хора композиционный эллипсис обусловлен принципом сквозного развития. Максимальная слитность и внутренняя диффузия разделов формы фуги и последующего фугато служит здесь созданию обобщенного образа зла. Второе фугато представляет собой динамизированную реминисценцию первого и несет максимальный драматический накал. Тема здесь содержит два тритона и уменьшенную септиму, темп меняется на более скорый (Allegro agitato вместо Allegro moderato), изменяется тональность (g-moll вместо dmoll), используется стреттное вступление тем. Динамизация непосредственно соотносится с мифопоэтическим образом. Если в первом фугато ворон только послан богами наказать героя, то во втором он уже настигает Прометея и рвет ему грудь когтями и клювом. Если в эпизодах, характеризующих силы жестокой кары за подвиг Прометея, Танеев посредством крайне сложной и насыщенной полифонии нивелирует конкретику поэтического текста, лишает его детализации, создает лишь обобщенный образ, то в эпизодах прямой речи Прометея, декларирующего этическое credo художника, напротив, фактура приобретает черты хорового речитатива. Здесь композитор проявляет максимальное внимание к ясности поэтического текста, стремится ярко передать смысловые оттенки. Особыми гармоническими красками подчеркиваются такие метафорически-значимые слова, как «божественный свет», «от страха и чар», 88 «святого огня». Смысловой детализации текста способствует и богатая штриховая палитра (staccato, staccato под лигой, акцент). Дважды в произведении речь Прометея излагается одноголосно, таким образом, в сочетании с фугированными эпизодами достигается предельный фактурный контраст, обусловленный противопоставлением образных сфер. Кроме того, оба этих фрагмента объединены общей мотивной аркой с характерным фригийским оборотом и представляют собой своеобразную рифму кульминаций. Первая – тихая кульминация, как предвестник будущей победы света звучит в соло альтовой партии на словах «Я уж знаю тайну, что не вечны боги» (пример 16 а). Вторая – проводится в унисон всего хора на фортиссимо с акцентами в апофеозном финальном эпизоде на словах «И что тогда боги, что сделает гром с бессмертием духа, с небесным огнем?» (пример 16 б). Такая комбинация фактурных и драматургических приемов позволяет композитору привлечь максимальное внимание к определенным фразам текста, возвести их в ранг ключевых, сокровенных. Пример 16 а) б) Логически выстроенный тональный план хора является сильным централизующим средством формообразования (схема 3). 89 Схема 3 разделы тональности A B-dur B d>g C >d A1 C1 D B > g > b> A2 (coda) B Основная тональность B-dur связана с образом Прометея (хоральные эпизоды). Она является тональным центром произведения и стягивает вокруг себя остальные тональности. Тональности полифонических эпизодов – это медианта и субмедианта тональности B-dur. Таким образом, эпизоды, связанные с силами зла, не только тонально контрастируют с образом Прометея, но как бы «окружают» его, «сжимают» со всех сторон, «приковывают» его к скале, делая неподвижным. Наиболее отдаленная, тональность скорби – одноименный b-moll – это фрагмент страданий Прометея (ц. 27). «Ноющая» интонация восходящего и нисходящего поступенного движения по b-moll в пределах VII–V ступеней затем усиливается еще более щемящими хроматическими нисходящими движениями (фигура passus duriusculus), имитациями у сопрано, теноров и басов. Примечательно, что тональный план содержит «рифму» тональностей. Как фуга, начинаясь в d-moll, имеет репризу в g-moll, так и первое d-moll‘ное фугато получает затем реминисценцию в g-moll. Следовательно, эпизоды гнева богов имеют одинаковый «тональный вектор»: от d-moll к g-moll. Хор «Прометей», через виртуозное владение полифонической техникой, тонкое использование гармонических хоровых красок и мастерство композиционной драматургии, явился у С. Танеева прекрасным музыкальным воплощением иносказательного содержания, заложенного в стихотворения Я. Полонского. В нем затрагивается крайне важная для Танеева тема: предназначение художника, отстаивающего ценой самопожертвования идею превосходства созидательного и творческого начала над силами зла и невежества. 90 Самого Сергея Ивановича можно назвать Прометеем русской культуры рубежа XIX – XX веков. Всю свою жизнь композитор, названный современниками «музыкальной совестью Москвы» нес людям «божественный свет и жажду познанья, и творческий дар». 2.4. Аллегорическое содержание в Шестнадцати хорах a cappella для мужских голосов на слова К.Д. Бальмонта Шестнадцать хоров a cappella для мужских голосов на стихи К. Бальмонта (ор. 35) – предпоследний опус композитора и последний хоровой цикл. В нем, наряду с Двенадцатью хорами a cappella для смешанных голосов на слова Я.П. Полонского мастерство полифонического письма Танеева достигает наивысшего расцвета. При анализе аллегорического содержания следует учитывать два важных обстоятельства создания данного цикла: сам факт обращения композитора к поэзии Бальмонта и значение личности поэта в общественнополитической жизни России того времени. Отметим, что в отличии, например, от творчества Тютчева, Полонского или Фета, поэзия Бальмонта не так часто становилась литературной основой танеевской музыки. До этого композитор обращался лишь к переводам Бальмонта английского поэта Перси Биши Шелли: имеются в виду несколько романсов из ор. 17 и «Колыбельная песня» для голоса с фортепиано. В цикле ор. 35 Танеев впервые избирает бальмонтовские стихотворения для хорового сочинения. Известно, что поэт принимал активное и непосредственное участие в общественно-политической жизни начала XX века. Еще в марте 1901 года Бальмонт сочинил стихотворение «Маленький султан», где в завуалированной форме критиковал не только режим установившегося террора в России, но и непосредственно Николая II. А после кровавых событий 1905 года, боясь ареста, он был вынужден уехать в Париж. Там поэт откликнулся на события первой русской революции выпуском двух своих 91 сборников – «Стихотворения» и «Песни мстителя». Оба оказались запрещенными к распространению в России. Некоторые стихи, такие как «Наш царь», «Царь-ложь», «Николаю Последнему» буквально пропитаны ненавистью и оскорбительными эпитетами по отношению к императору. Приведем стихотворение «Наш царь», в котором зловещие заключительные строки стали поистине пророческими: Наш царь – Мукден, наш царь – Цусима, Наш царь – кровавое пятно Зловонье пороха и дыма, В котором разуму — темно. Наш царь — убожество слепое, Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел, Царь — висельник, тем низкий вдвое, Что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует с запинкой, Но будет, час расплаты ждет. Кто начал царствовать — Ходынкой, Тот кончит — встав на эшафот. Поэт смог вернуться в Россию лишь в 1913 году, благодаря политической амнистии по случаю 300-летия Дома Романовых16. Знаменательно, что именно в 1913 году Танеев пишет хоровой цикл на стихи Бальмонта. Конечно, композитор не стремился сочинять на злободневнообличительные стихотворения поэта. Но очевидно, что размышления о состоянии современного общества не могли не волновать композитора, что нашло, на наш взгляд, отражение в музыке. Учитывая творческую склонность Танеева к иносказательному осмыслению бытия, в контексте произошедших исторических событий, 16 Его возвращение вызвало заметный общественный резонанс. На Брестском вокзале представителями московской интеллигенции ему была устроена торжественная встреча. В его честь были организованы приемы во многих творческих объединениях, в том числе, в «Обществе свободной эстетики» и «Литературно-художественном кружке» [17]. Бальмонт заслуженно воспринимался современниками как один из самых выдающихся и авторитетных поэтов своей эпохи. 92 можно предположить, что многие из избранных Танеевым стихотворений Бальмонта имеют аллегорический смысл. В выстраивании структуры крупного хорового полотна композитор продолжает следовать принципам, выработанным им в предыдущем цикле – на слова Полонского (ор. 27). Также как и Двенадцать хоров, данное произведение состоит из нескольких малых циклов, из которых складывается идеально «квадратная» композиция: четыре тетради по четыре хора. Многоуровневость и концептуальность, характерные для творческого мышления Танеева, представлены не только в плане структуры, но и на уровне художественного содержания. К сожалению, из шестнадцати номеров цикла в сборниках хоров Танеева были изданы лишь восемь, составляющих первую и третью тетради. В 2002 г. в музыкальном альманахе Новосибирской консерватории А.Г. Михайленко опубликовал (в собственной редакции) найденный им хор №13 (№1 из III тетради) [80]. В приложении 3 представлен уртекст данного хора, расшифрованный автором диссертации из рукописи Танеева [163]. От остальных хоров сохранились лишь эскизные записи или рукописные фрагменты, не позволяющие воссоздать музыкальный текст в полном объеме. Тем не менее, о целостном замысле композитора можно судить по поэтическим текстам, избранным для Шестнадцати хоров. В архиве Танеева в Клину хранится интересный документ, свидетельствующий о подготовительном этапе работы композитора со стихотворениями Бальмонта. В рукописях раскрываются методы их творческой переработки и подготовки для использования в хорах цикла. Это перепечатанные на пишущей машинке тексты стихотворений поэта с рукописными пометами Танеева [165]. Пометы представляют собой подчеркивания в виде горизонтальных квадратных скобок (нередко две или три скобки частично перекрывают одна другую), заключение в круглые скобки тех или иных слов и словосочетаний, вертикальные разделительные черты между словами. В Приложении 2 93 представлена точная расшифровка этой рукописи. Заметим, что большинство этих помет, так или иначе, впоследствии были реализованы в музыке. Из данного документа становится ясным, что для своего цикла Танеев избирает пятнадцать стихотворений (одно из них использовано дважды для разных хоров), написанных Бальмонтом в разные годы и относящихся к трем поэтическим сборникам: «Под северным небом» (1894), «В Безбрежности» (1895) и «Тишина» (1897). Отбирая из большого количества бальмонтовских опусов определенные разрозненные стихотворения и компонуя их в новой последовательности, композитор создает в хоровом цикле определенную драматургическую линию: Тетрадь I 1) «Тишина» («Тишина», № 30) 2) «Призраки» («В Безбрежности», № 24) 3) «Сфинкс» («Тишина», № 66) 4) «Заря» («Под северным небом», № 35) Тетрадь II 5) «Молитва» («Под северным небом», № 4) 6) «В пространствах Эфира» («Тишина», №35) 7) «И Сон и Смерть равно смежают очи...» («В безбрежности», №88) 8) «Небесная роса» («В безбрежности», №83) Тетрадь III 9) «Мертвые корабли» («Тишина», №2) 10) «Звуки прибоя» («В безбрежности», №30) 11) «Морское дно» («В безбрежности», №31) 12) «Морская песня» («Тишина», №12) Тетрадь IV 13) «Тишина» («Тишина», № 30) 14) Гибель («В безбрежности», №9) 15) Белый лебедь («Тишина», №10) 16) Лебедь («В безбрежности», №15) 94 Анализируя литературные тексты танеевского цикла можно выделить ряд образов-символов, проходящих сквозной нитью через все произведение и позволящих судить о тематике, интересовавшей композитора. Различные оттенки одних и тех же поэтических символов, представленных в хорах, коррелируют друг с другом, складываясь в особую систему аллюзий и смысловых связей, и формируют в итоге определенный иносказательный смысл. В их основе лежат две ведущие архетипические сферы, характерные для большинства номеров цикла: ночь (вечер, тьма) и ее противоположность – заря (утро, рассвет, день); сон, и как его синоним в контексте данного произведения, – смерть. Еще одна интересная особенность Шестнадцати хоров – наличие во многих номерах цикла образов различных мистических существ. Это ангелы в хорах «Тишина» (№1), «Небесная роса» (№ 8), «И Сон и Смерть равно смежают очи» (№7); призраки в одноименном хоре (№ 2); нимфы (№ 2); эльфы (№2), «Заря» (№ 4); сфинкс (№ 3); «Богиня Рассвета» (№4), «светлые духи» в хоре «В пространствах Эфира» (№6) и другие образы. По содержательной направленности все хоры на слова Бальмонта можно разделить на две контрастные сферы: субъективную и объективную. Первая – это хоры, наполненные таинственными, мистическими образами. Данная переживаний сфера лирического иносказательно героя цикла. отражает Его мир душевное внутренних состояние характеризуется отстранением от суровой реальности, погружением в мир романтических иллюзорных ощущений, и в то же время (особенно во второй половине цикла), осмыслением смерти и забвения. Это находит воплощение в №1 «Тишина», №2 «Призраки», №6 «В пространствах Эфира», №7 «И Сон и Смерть равно смежают очи...», №8 «Небесная роса», №13 «Тишина», №15 «Белый лебедь», №16 «Лебедь». Вторая сфера иносказательно подразумевает внешний, объективный мир. Здесь прочитываются аллегории общества и государства в периоды неурядиц или масштабных потрясений. Это хоры, содержащие грандиозные 95 или даже зловещие образы, проникнутые суровым трагическим пафосом. К ним относятся номера «Сфинкс» (№3), «Заря» (№4), «Молитва» (№5), «Мертвые корабли» (№9), «Звуки прибоя» (№10), «Морское дно» (№11), «Морская песня» (№12), «Гибель» (№14). Посредством музыки композитор по-своему трактует содержание данных образов-символов, расставляет особые смысловые акценты, наполняет определенными аллюзиями и аллегориями. Четыре хора из Тетради I, помимо однотипного хорового состава (трехголосный мужской иносказательной раскрываются хор), образности. различные объединены В каждом стадии ночи, также из них общим кругом последовательно получающие определенное аллегорическое наполнение. Рассмотрим каждый из номеров. «Тишина» – это пасторальная картина вечерних сумерек, погружение в ночь. С помощью ряда музыкально-выразительных средств здесь рисуется царство сна и успокоения: сдержанный темп, прозрачная фактура, характер dolce, движение параллельными терциями, преобладание ясной гармонической основы, секвенционное развитие мелодического материала. Но при этом тишина здесь хрупкая, настороженная, ночная природа наполнена таинственными существами – купавами и наблюдающими за всем происходящим ангелами. Ощущение некоей настороженности воплощено, прежде всего, гармоническими средствами: частые секундовые задержания, хроматизмы, неожиданные тональные отклонения. В единой драматургии цикла данный хор играет роль вступления и вводит в круг мистических иносказательных образов иллюзорного пространства. «Призраки» в содержательном отношении развивает предыдущую художественную линию: то же место действия – ночной лес и те же персонажи – фантастические ночные существа. Однако музыкальное решение здесь контрастно хору «Тишина». Мнимое успокоение полностью разрушено, на первый план выходит безудержная захватывающая игра фантастических ночных обитателей леса. В музыке это выражено крайне 96 быстрым темпом Vivace fantastico ( =168), подвижной мелодикой с характерными стремительными гаммаобразными движениями, насыщенной подголосками и имитациями фактурой, использованием исполнительского штриха staccato. Если в № 1 предполагаемый лирический герой цикла лишь созерцает таинственный ночной мир призрачных существ, словно ощущая на себе их взгляд, то в № 2 он уже полностью околдован и упоен их игрой: в хоре особо выделены и многократно повторены подобно гипнотическому воздействию резюмирующие строки: Выше истины земной, Обольстительнее зла, Эта жизнь в тиши ночной, Эта призрачная мгла. Таким образом, в первых двух номерах цикла отражается субъективное стремление героя уйти от реальности, спрятаться в призрачном эфемерном мире ночных призраков. «Сфинкс» открывает другой иносказательный план – зловещей, страшной ночи. Причем, «Безмолвный сфинкс, царящий на фоне ночи» в стихотворении Бальмонта не мифологическое существо, а чудовищная гигантская статуя, возведенная ценой жизней многих рабов. Она выступает аллегорией жестокой и бессмысленной абсолютной власти. Удивительно емки и эмоциональны поэтические метафоры в тексте: «…кошмар в граните, … враг обычной красоты, …сон слепой немой и безобразный». Крайне сильный и неординарный по своей иносказательности образ в стихотворении Бальмонта еще более усилен и подчеркнут в музыке Танеева. В хоре очень ясно прослеживается диспозиция двух контрастных образов: правитель – рабы. Сфинкс воплощен звучанием всего хора в унисон с крайне жесткими, неустойчивыми скачками и хроматическими ходами в мелодии. Посредством унисона здесь метафорически воплощено единовластие, а 97 изломанность и неустойчивость мелодии передает идею деспотизма и неестественности такой власти (пример 17). Унисонному звучанию контрастно противопоставляется хоральная хоровая фактура, при этом малоподвижная мелодия тяготеет к псалмодированию, – здесь усматривается аллюзия на строгое церковное пение, выступающее в данном контексте как аллегория страдающего порабощенного народа. Интересно, что по музыкальному решению данный номер соотносится с хором «Развалину башни, жилище орла…» из цикла на слова Полонского, построенном на таком же чередовании двух типов фактур, что позволяет судить об определенной близости их содержания. Пример 17 Следующий, заключительный номер первой тетради – «Заря» – отражает победу над злом ночи, в поэтическом тексте здесь звучит оптимистический гимн свету, добру и красоте, надежде на изменения к лучшему. Примечательно, что к иносказательному образу зари или восхода как аллегории победы над злом Танеев в своем творчестве обращался неоднократно. Вообще, тема оппозиции света и тьмы – одна из центральных в его хоровой музыке. Достаточно вспомнить такие сочинения как «Ночь» на 98 слова Н. Языкова, «Вечерняя песня» на слова А. Хомякова, «Восход солнца» и «Альпы» на слова Ф. Тютчева. Однако в контексте данного хорового цикла образ-символ зари отнюдь не воспринимается как торжественный гимн свету, добру и красоте. Композитор словно дискредитирует этот образ, придавая ему характер тревожности и неустойчивости. Так, начиная со строки, где впервые появляется слово «заря» («Мчится заря благовонного лета…»), первоначальный спокойно-повествовательный темп Andante sostenuto ( .=68) сменяется на весьма скорое движение Allegro animato ( .=136). В крайних голосах хоровой фактуры проводится остинатная мелодическая фигура, в основе которой лежит нисходящий тритон (пример 18). Эта же фигура, но в партии первых теноров, появляется далее на словах «Кончилась Ночь! Пробудилась Заря!». Пример 18 Трагическим пафосом наполнены также следующие музыкальные строки: «Следом за ней / Легкой гирляндою эльфы несутся, / Хором поют: "Пробудилась Заря!"». При этом не только меняется тональность, но и появляются мелодические контуры средневековой секвенции «Dies irae» (в басовой партии, пример 19). В контексте всего цикла аллегорический смысл данного хора можно определить как неоправданность, иллюзорность светлых ожиданий. Примечательно, что такая иносказательная трактовка образа-символа зари возникает у Танеева не случайно. У Бальмонта в его антимонархическом 99 стихотворении, посвященном событиям 9 января 1905 года под названием «Царь – Ложь», также встречается поэтическая метафора зари-обмана: Народ подумал: вот заря, Пришел тоске конец. Народ пошел просить царя. Ему в ответ свинец. В дальнейшем, в художественной концепции всего танеевского цикла, – особенно в хорах Тетради III,– общий социально-политический подтекст хора «Заря» станет еще более очевидным. Пример 19 Хоры Тетради II не сохранились. Тем не менее, содержание поэтических текстов, отобранных композитором, имеет особое значение для понимания целостной драматургии цикла. Представленная здесь художественная образность приобретает иносказательный смысл в контексте своего дальнейшего развития – в номерах Тетради III. Рассмотрим основные темы Тетради II, получающие позже широкое развитие. 100 В стихотворении К. Бальмонта «Молитва», предназначенного для хора №5, в контексте образного круга хорового цикла выделяются строки о борьбе, произнесенные от лица молящихся людей: Господи Боже, склони свои взоры К нам, истомленным суровой борьбой… Не искушай нас бесцельным страданьем, Не утомляй непосильной борьбой,… Тема борьбы появляется здесь впервые, однако в будущем, – в хорах Тетради III, – она получит значительное развитие. Именно там мотив борьбы человека с разгулявшейся стихией выступит аллегорией противостояния личности и жестокости окружающей действительности. Также в «Молитве» затронута иносказательная антитеза день/ночь, проходящая красной нитью сквозь весь цикл: Тьму отделил Ты от яркого света… В тексте следующего хора «В пространствах Эфира» снова возвращается субъективная сфера героя и его светлые мечты об идеально прекрасном, но далеком мире, доступном лишь таинственным «светлым духам», видящим за далями новые дали и слышащим «новое эхо». В очередных двух стихотворениях «И Сон и Смерть равно смежают очи...» и «Небесная роса» развивается художественная образность внутреннего мира героя. Но при этом изменяется поэтическая тональность, происходит переосмысление символов ночи и сна. Если до этого они олицетворяли некое таинственное мистическое пространство, то здесь эти символы впервые становятся тождественными смерти. При этом смерть предстает желанной целью, как избавление от страданий, как успокоение души. Таким образом, слова, обращенные к Богу (№ 5), оказываются тщетными. Герой, не получая утешения в реальной жизни, своим единственным избавлением считает сон-смерть как окончательный уход в самозабвение, в трансцендентные миры. 101 В отличие от стихотворений Тетради II, поэтические тексты Тетради III объединены своей тематикой: морская стихия. Именно в них наиболее явно раскрывается заложенный композитором аллегорический замысел всего произведения. Они становятся ключом к новому прочтению и пониманию предшествующих номеров. Через образы морской стихии пасторальные и мистические образы приобретают более очевидный иносказательный подтекст. Содержание хора «Мертвые корабли», несомненно, соотносится с хором «На корабле» из цикла на слова Полонского, как бы становясь его продолжением. И здесь и там корабль – аллегория государства. Однако если у Полонского представлен достаточно реалистичный образ морской бури, переживаемой матросами на своем судне, то у Бальмонта этот иносказательный образ доведен до зловещей фантасмагории. Это уже корабль – призрак, который разрушен стихией и походит на «гигантский гроб, скелет плавучий», а его команда погибла. Тем не менее, этот корабль продолжает жадно стремиться к некой мнимой земле, вместо которой на его пути встает лишь «снегов и льдистых глыб громада». Хор имеет трехчастную композицию. В крайних разделах воссоздается образ погребального шествия. Очевидно, ключевыми для композитора здесь становятся поэтические символы смерти: «гроб», «похоронный факел», «скелет», «надгробная песня». В хоровой фактуре звучание пустых квинт, удвоенных через октаву, приобретает значение музыкальной метафоры пустоты и разрушенности корабля, от которого остался лишь остов. Переменность старинных размеров 2/2 и 3/2, темп lento pesante, строгий хоральный склад и остинатный пунктирный ритм одновременно апеллируют к жанрам и траурного марша, и сарабанды (пример 20). 102 Пример 20 Средний раздел более динамичен, это музыкальная аллегория напряженной, но бесцельной борьбы. Его насыщенная полифоническая фактура состоит из повторяющихся восходящих и нисходящих (часто перекрещивающихся) гаммаобразных движений. А в качестве cantus firmus звучит тема крайних частей. Завершается средний раздел зловещим унисоном всего хора на fortissimo с жесткими хроматическими ходами (passus duriusculus) на словах «И встала белою толпой снегов и льдистых глыб громада». Данная фактура становится аллюзией на образ, представленный в хоре «Сфинкс», где музыкальная аллегория злой непреодолимой силы решена точно таким же образом (пример 21). В данном номере обращает на себя внимание больше нигде не встречающаяся в музыке Танеева, обратная трактовка одного из основных сквозных символов – солнца. Если в хоре «На корабле»17 первые утренние лучи знаменуют надежду на спасение, на 17 Символ солнца в положительной коннотации присутствует также в хорах Танеева на стихи Тютчева «Восход солнца» (ор. 8) и «Альпы» (ор. 15 №2). 103 избавление от страха и страданий, то здесь солнечный свет выступает зловещим символом. И песни им надгробной нет, Бездушен мир пустыни сонной, И только Солнца красный свет Горит, как факел похоронный. Пример 21 Хор «Мертвые корабли» становится переломным в драматургии всего цикла: символика света теряет свое значение, а главенствующую роль в последующих хорах занимают иные символы – сон и смерть. «Звуки прибоя» – картина разгулявшейся разрушительной стихии, готовой поглотить все на своем пути, предчувствие тотальной катастрофы. Данный номер также расширяет тему заданную в предыдущем хоре, однако она усилена: уже нет ни самих мореплавателей, ни зари как символа надежды на спасение, лишь безудержная стихия, готовая разрушить все сущее – «взобраться в мир надзвездный». Здесь происходит смысловая инверсия, 104 относящаяся в данном случае к музыкальной семантике. Если в хоре «На корабле» музыкальная фигура «фанфары» (гармоническая вертикаль с движениями по звукам трезвучия) возникала на словах «Все ясно: Божий день, вставая зла не прячет», знаменуя надежду на спасение, то в данном случае фанфарные обороты возникают как торжество злой разрушительной силы на словах «Гремит морской прибой» (пример 22). Пример 22 В следующем номере «Морское дно» битва со стихией оказывается проигранной, герой потонул, место действия переносится на морское дно – в особое символическое пространство – царство тьмы, где «…на жизнь лишь бледные намеки, …вечный сон, пустыня тишины». В этом номере происходит смысловая инверсия еще одного сквозного символа цикла – Луны. Если в предыдущих номерах: «Тишина», «Призраки», «Сфинкс», «Морская песня», луна выступает как образ неясный, таинственный, мистический, то здесь она ласковая и олицетворяет воздух и вольную вышину, образ желанной дальней Красоты и противопоставляется морскому дну – безжизненному скованному пространству. После того, как оказывается опрокинутой символика света Солнца, ставшего «факелом похоронным», Луна, которая «Поит огнем кипучие приливы» выступает его своеобразным суррогатом. Данная смысловая инверсия, несомненно, была осознаваема композитором. Примечательны танеевские обозначения характера исполнения музыки Adagio tenebroso и Allegro caloroso. Как известно, композитору не было свойственно использовать в партитурах какие-либо 105 нетрадиционные, редкие указания (в отличие, например, от А. Скрябина). Таким образом, детализируя обозначения характера музыки, композитор усиливает символическую трансформацию наиболее важных художественных образов. Музыкальная композиция хора выстраивается на чередовании двух иносказательных пластов, характеризующих противоположные пространства: морское дно и поверхность, освещенная Луной. В первом пласте морское дно выступает аллегорией скованности, несвободы. Звучит фугато скорбного характера в барочном стиле, мелодическим зерном которого выступают тема креста (в несколько видоизмененном варианте, пример 23), элемент стилизации проявляется также в quasi баховской каденции (разрешение в одноименный мажор). Пример 23 Второй пласт связан с поверхностью, озаренной лунным светом. Это аллегория свободы, вольной вышины. Однако в музыкальном решении Танеева свобода предстает лишь мнимой. Композитор подчеркивает фальшивость луны как солярного символа. Тематической основой остается первоначальная тема креста, в басу появляется фигура passus duriusculus. Как элемент стилизации старинной полифонии происходит смена размера с 4/4 на 2/2. Это можно трактовать в виде метафоры поиска лучшего мироустройства в образах прошлого (пример 24). Завершает Тетрадь III «Морская песня». Это наиболее масштабный и единственный двухорный номер. Его композиция выстраивается из шести контрастных разделов, отражающих стремительно меняющийся ряд основных образов-аллегорий, сжато обобщающих драматургические линии всего цикла. 106 Пример 24 В первом разделе «Все, что любим, все мы кинем» воплощается, с одной стороны, идея борьбы с враждебной стихией, с другой – стремление к неким новым «сказочным целям», поиск неизвестного идеального мира. По содержанию он перекликается с номерами «Заря», «Мертвые корабли» и «Звуки прибоя». В следующем разделе «Рдяный вечер, догорая, тонет в зеркале небес…» отражается противоположное бурной стихии природное начало, образ красивой и таинственной вечерней природы. Он корреспондирует с номерами «Тишина», «Заря» и «Небесная роса». Очередной раздел «Вот он – новый мир чудес» характеризуется нарочитой бравурностью, плакатностью музыкальной темы. Подчеркнуто фанфарная, проводимая сначала в унисон, а затем имитационно мелодия звучит как лозунг, как внезапно обретенная очевидность. Желанная цель кажется найденной и ясной до тривиальности (пример 25). Пример 25 107 Однако тут же, в разделе «Все молчит, только вал морской звучит…» разрушается торжество найденной идеи простоты и незамысловатости истины: достигнутая цель оказывается иллюзией и утопией. Здесь хоровая фактура Танеева приближается к приему пуантилизма: поочередно появляющиеся в разных голосах выдержанные звуки на словах «все молчит» складываются в неустойчивые гармонии (пример 26). Реальностью снова оказывается разгулявшаяся стихия. Пример 26 В следующем разделе «Если мы вернемся вскоре» (реприза) снова возобновляется борьба со стихией и поиск нового мира, определяющими становятся слова «мы спешим к стране иной». За счет развитой имитации и внезапной остановки в кульминационной точке развития на фермате композитором особо подчеркивается фраза «и придет конец мечте». Последний раздел (кода) «И на дне в полусне будем грезить о волне» знаменует возврат в символическое пространство предыдущего номера – «Морское дно» и воплощает одну из ключевых идей цикла – уход во внутренний иллюзорный мир, растворения в грезах, сон и забвение. По 108 содержанию он корреспондирует с номерами «Призраки», «И Сон и Смерть равно смежают очи», «Морское дно», «Белый лебедь» и «Лебедь». Таким образом, в заключительном номере тетради III фокусируется общая аллегорическая идея всего цикла: поиски лучшего мира увенчиваются провалом и катастрофой. Танеев, вслед за Бальмонтом, в данном произведении воплощает свое трагическое предчувствие грядущих исторических потрясений в судьбе России. Весьма интересным представляется хор №13 – «Тишина №2» (так он обозначен в рукописи самим автором) [163]. Это весьма редкий случай, когда в рамках одного цикла композитор пишет два различных хора на один и тот же текст18. Поражает контраст музыкальной образности двух хоров. Если первый – пасторальная картина ночной природы, овеянной таинственным сном, то «Тишина №2» имеет характер скерцо. На первый взгляд кажется удивительным, что среди произведений по большей части драматичного содержания, иносказательно воплощающих картины общественных потрясений и тяжелых личных переживаний появляется хор легкого, даже игривого содержания. Музыка здесь кажется не соответствующей тексту, однако такое кардинальное переосмысление поэтического образа встает в один ряд с другими смысловыми инверсиями цикла. При этом отметим следующее: если в ряде других хоров переосмыслялись лишь отдельные ключевые символы, то в данном случае посредством музыки пересматривается смысловая направленность стихотворения. На наш взгляд, в этом хоре подчеркивается одна из функций аллегории как средства преодоления цензуры, способ высказать мысли и идеи, произносить вслух которые запрещено. Тишина в данном случае – аллегория общего договора на умолчание, намек на сокрытие некой всем 18 Как известно, у Н.К. Метнера есть два разных романса на стихи А.С. Пушкина «Я пережил свои желанья» ор.3 №2 и ор. 29 №5, однако в отличие от Танеева, здесь мы имеем дело с переосмыслением поэтического текста на другом этапе жизни и творчества. В письме к Н.Г. Райскому Метнер пишет: «Только об одном прошу – не пойте "Я пережил" в особенности из ор. 3, то есть в первой концепции. Это, кажется, единственная вещь, которую я не терплю, – между нами – мне кажется, что там я ровно ничего не пережил, чего я не скажу ни про одну свою песню» [77, с. 194]. 109 известной тайны, которую не принято обнародовать, при этом все посвященные как бы игриво переглядываются и подмигивают друг другу, подразумевая определенный подтекст, отсюда скерцозный характер музыки. В контексте хорового цикла композитор как бы призывает задумываться глубже над содержанием своих произведений, наглядно показывая, что один и тот же текст может иметь иное прочтение. О содержании последних трех хоров можно судить лишь по стихотворениям Бальмонта. «Гибель» – глубоко поэтичный иносказательный образ цветущего сада, гибнущего от внезапной бури. Данный номер – еще одна картина природного катаклизма как аллегории общественной катастрофы. Последние два номера «Белый лебедь» и «Лебедь» объединены общим иносказательным образом и продолжают ряд номеров цикла, отражающих линию внутреннего личного мира художника, философское осмысление итога жизни, символ чистоты, честности и осознания смерти. «Белый лебедь» – аллегория поэта-творца, предназначение которого оставаться чистым душой, отражать красоту мира. Через ряд сквозных символов цикла таких как «сон», «глубь немая», «утренняя звезда», протягиваются смысловые нити ко многим предшествующим номерам. Лебединая песнь – одна из традиционных аллегорий осмысления смерти, последнее слово художника, его духовная готовность принять смерть как очищение души, примирение с миром. Таким образом, анализ аллегорического содержания последнего хорового цикла Танеева позволяет представить его как цельное музыкальное произведение, наполненное глубоким смыслом. Все тексты цикла объединены общим кругом иносказательных образов, при этом каждое последующее стихотворение дополняет или расшифровывает поэтический образ, созданный в предыдущих номерах. Одним из характерных приемов работы Танеева с текстом становится переосмысление или даже инверсия поэтических символов. В цикле очерчены два смысловых плана. Первый – внешний, это образы жестокой и трагической реальности объективного мира, 110 здесь ключевыми являются аллегории власти и общества, отображающие несовершенство социального устройства, предчувствие трагических потрясений. Второй – внутренний, это – мир субъективных, личностных переживаний художника. Он характеризуется уходом в себя, пессимистическим восприятием действительности, предчувствием смерти и ее философским осмыслением как избавления от страданий, от несовершенства мира. Учитывая обстоятельства и время создания цикла, уместным будет воспринимать его как аллегорию России, и человека в преддверии социальных катастроф XX века. Танеев, как один из гениальных творцов своего времени, тонко почувствовал глубокую иносказательную линию в поэзии Бальмонта и ярко претворил ее в своей хоровой музыке. 111 ГЛАВА III. Музыкальная аллегория в кантатах С.И. Танеева Хоровые кантаты занимают особое место в творчестве Танеева. Это своеобразные точки отсчета, вехи всего его композиторского пути. Хронологически два крупных сочинения в этом жанре обрамляют весь список произведений, удостоенных автором обозначения в виде самостоятельного опуса: «Иоанн Дамаскин» (op. 1) и «По прочтении псалма» (op. 36). Художественный масштаб данных сочинений позволяет воплотить не только отдельный аллегорический образ, как это было представлено в хорах a cappella, а создать целостное иносказательное полотно, где автором поднимаются глобальные вопросы мироздания, смысла и цели человеческого бытия. Отсюда в задачи третьей главы входит: анализ кантат «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» с точки зрения фундаментальной концепции их аллегорического содержания. 3.1. Кантата «Иоанн Дамаскин»: аллегория смерть-рождение Кантата Танеева «Иоанн Дамаскин» – одно из ярчайших и самобытнейших произведений в русской музыке. Во многих отношениях она явилась новаторским явлением в отечественной музыкальной культуре. Это первая русская кантата лирико-философского содержания и первое произведение в русской светской профессиональной музыке, в основу которого была положена мелодия церковного обихода. Уже традиционно за кантатой «Иоанн Дамаскин» закрепился эпитет «русский реквием». Это наименование, безусловно, оправдано, поскольку кантата посвящена памяти Н.Г. Рубинштейна – учителя и друга Танеева и впервые была исполнена 11 марта 1884 года в день трехлетней годовщины со дня его смерти. В то же время данное произведение содержит и другие – аллегорические подтексты: философский – связанный с личностью Иоанна Дамаскина и его ролью в христианской культуре; и глубоко личный автобиографический – коррелирующий с обстоятельствами жизни самого 112 Танеева. Чтобы осознать эти иносказательные смыслы, необходим комплексный анализ кантаты, предполагающий рассмотрение музыкального содержания произведения в контексте идей поэмы А.К. Толстого. Прежде всего, следует отметить особое значение данного произведения в творческом пути Танеева. Кантату «Иоанн Дамаскин» он написал в возрасте 27 лет, будучи уже состоявшейся личностью, профессором Московской консерватории, автором двух симфоний, множества вокально-хоровых и камерно-инструментальных произведений, однако, как известно, именно этому произведению он присвоил первый номер в обозначении опуса. В этом факте проявилась та основательность, с которой Танеев подходил ко всей своей жизни. Как известно из воспоминаний А.Б. Гольденвейзера [37, с. 304], еще будучи очень молодым человеком он составил перечень целей, которые наметил достичь до пятидесятилетнего возраста. Одним из главных пунктов в этом списке было стать композитором [23, с. 47], и лишь после написания «Дамаскина» крайне самокритичный автор позволил считать себя таковым, открыв нумерацию своих творений. Выбор сюжета кантаты оказывается удивительно продуманным и символичным, если осознать некоторые параллели между личностями Иоанна Дамаскина и самого Танеева. Как известно, Иоанн Дамаскин – выдающийся средневековый богослов и гимнограф, один из отцов церкви, систематизатор христианского вероучения19. Он рассмотрел и обобщил как естественнонаучные представления древних, так и догматы своих предшественников-богословов, благодаря чему были преодолены многие противоречия, и православное вероучение было приведено в стройную систему. Также, Иоанн Дамаскин вошел в историю как выдающийся поэт, автор множества церковных песнопений, введение которых в богослужение 19 Его фундаментальный труд «Источник знаний», объемлет весь круг наук того времени. Первая часть этой работы – «Диалектика» обобщает логику и физику по Аристотелю, Немезию, Порфирию и другим древним философам и богословам. Третья часть – «Точное изложение православной веры» представляет собой первый опыт научного христианского богословия, суммируя в систематическом порядке результаты всего богословствования отцов церкви и вселенских соборов и широко пользуясь для целей богословия данными естествознания и психологии. 113 Православной Церкви изменило весь его образно-поэтический строй. Ему принадлежат первая церковная система нот и составление большинства христианских песнопений в Октоихе. Задачи подобного масштаба, но применительно к области композиторского творчества и музыкально-теоретической науки, ставил перед собой и молодой Танеев. Подобно Дамаскину, он сочетал в себе равновеликие таланты ученого и вдохновенного творца. Как композитор, он задался целью скорректировать путь развития русского музыкального искусства, привив к отечественным национальным истокам многовековой опыт полифонического развития западноевропейской музыки. Как ученый, он явил миру грандиозный труд «Подвижной контрапункт строгого письма», в котором обобщил опыт старых мастеров с математическими методами и впервые создал универсальную теорию контрапункта. В качестве текста кантаты Танеев избрал фрагмент заупокойного тропаря Иоанна Дамаскина в свободной поэтической трактовке А.К. Толстого, и здесь усматривается еще одна параллель между Дамаскиным и Танеевым, позволяющая глубже переосмыслить тему смерти. Как нам известно из жития преподобного Иоанна Дамаскина, будучи уже известным церковным поэтом и богословом, он отказывается от своего высокого положения правителя города Дамаска и становится простым монахом. В качестве послушания ему было запрещено сочинять что бы то ни было. Иоанн долго мучился этим запретом, но когда один из иноков умер, то он не устоял и написал те высоко поэтические песнопения, которые и доныне поются в православной церкви при погребении умерших. За проступок Иоанн был сурово наказан, однако его наставнику во сне явилась Богородица, и сказала: «Зачем ты заградил источник, могущий источать сладкую и изобильную воду... Не препятствуй источнику течь... он всю вселенную протечет и напоит...» [79, с. 144-145]. После беспрепятственно предаться свободному творчеству. 114 этого Иоанн смог Таким образом, смерть приобретает здесь эсхатологическое значение. В христианском мировоззрении завершение жизни не является концом духовного бытия человека, а становится актом перерождения, перехода в новое состояние. «С возникновением представлений о бессмертии души смерть рассматривается как освобождение души из темницы тела» [53, с. 341] и ее одновременное рождение в новом качестве. В таком понимании смерть приобретает иносказательный смысл в судьбе поэта. Кончина инока в то же время является кончиной Иоанна в качестве покорного ученика и послушника и рождением в нем поэта и мыслителя, пробуждением огромной творческой силы, уже не скованной никакими рамками и запретами. Эта аллегория как нельзя лучше применима и к кантате Танеева. С одной стороны смерть Н. Рубинштейна стала формальным поводом к написанию кантаты, а с другой, в этом произведении произошла символическая смерть Танеева-ученика, и рождение могучей свободной творческой личности Танеева-композитора. Многолетняя кропотливая работа по изучению и совершенствованию композиторской техники увенчалась грандиозным Opus 1, подлинным шедевром, совершенным по форме и глубоко философским по содержанию. Именно при рассмотрении кантаты в таком иносказательном значении многие метафорические музыкальные фигуры становятся очевидными и выстраиваются в согласованное аллегорическое содержание всего произведения. В качестве музыкальных метафор могут выступать разнообразные средства музыкальной ассоциативные связи выразительности, при целостном вызывающие анализе определенные музыкального текста. Аллегорическое содержание произведения образуется при взаимодействии всего комплекса музыкальных метафорических фигур с внемузыкальным рядом – поэтическим текстом, обладающим собственным иносказательным и символическим значением. Сквозной нитью через всю кантату проходит тема традиционного заупокойного кондака «Со святыми упокой». Именно эта мелодия является 115 интонационным зерном кантаты. Она многократно проходит в различных полифонических сочетаниях с темами первой и третьей частей, следовательно, Танеев при сочинении основных тем кантаты изначально отталкивался от этой неизменяемой мелодии. В то же время композитор нигде не прибегает к точной цитате. В наиболее близком к церковному – хоральном варианте тема «Со святыми» звучит в оркестровом вступлении и в хоровом заключении, однако и здесь не сохранены целиком ни традиционная мелодия, ни ее обиходная гармонизация. Следует также отметить, что мелодия «Со святыми» не выступает в качестве основного тематического материала, а лишь как удержанное противосложение. Если взять также во внимание обстоятельства жизни Иоанна Дамаскина, то семантика темы кондака в контексте кантаты не ограничивается трагически-скорбным восприятием смерти, а состоит в творческом, философском ее переосмыслении. Мелодия «Со святыми» становится символом самого Иоанна, также как и Танеев, начавшего свой путь свободного творчества с погребального песнопения, а в более широком понимании – символом перерождения к новой жизни и беспрепятственному творческому выражению. Характерно также, что композитор, заимствуя мелодическое ядро известного песнопения, комбинирует его с другим словесным текстом. Вместо традиционных канонических слов «Со святыми упокой, Христе, души раб Твоих…» он использует поэтический перевод Толстого «Прими усопшего раба в твои небесные селенья». Такой синтез духовного музыкального материала и светского поэтического текста снова подчеркивает идею провозглашения свободного творческого выражения художника. Драматургия кантаты подчинена последовательному выражению основной ее иносказательной идеи – рождению новой свободной творческой личности. Каждая из трех частей обладает своим особым метафорическим рядом и играет собственную драматургическую роль. 116 Основная мысль первой части сформулирована в первой строке ее поэтического текста: «Иду в неведомый мне путь…». Предполагаемый персонаж здесь парадоксален, в буквальном смысле текст первой части представляет собой монолог умершего. Покойник только начинает осознавать свое новое состояние, при этом анализируя физиологические подробности: «мой взор угас, остыла грудь, не внемлет слух, сомкнуты вежды; лежу безгласен, недвижим…». В его размышлении еще отсутствуют категории вечности и духа, доминирующие чувства – страх перед неизведанным и надежда. Целый комплекс музыкальных метафорических средств подчеркивает идею неясности происходящего и неопределенности будущего. Плавные нисходящие триольные фигурации в оркестре, сопровождающие хор практически на протяжение всего номера создают характер неторопливого размеренного шага. Неопределенность проявляется на уровне формы, которую можно трактовать по-разному: как фугу и как сонатную форму с зеркальной репризой. Тематическая экспозиция и реприза фуги одновременно выступает как главная партия сонатной формы, а роль побочной партии играет интермедия, в которой чередуются полифонический и гармонический тип фактуры. В разработке преобладает фугированное развитие музыкального материала, однако в ее конце, перед репризой сонатной формы звучит фрагмент православного песнопения в традиционном хоральном изложении. В качестве еще одного варианта Корабельникова предлагает трактовать форму первой части, как двойную фугу [58, с. 60]. При этом тема cis-moll рассматривается как эпизод, а совместная экспозиция второй темы «Со святыми упокой» начитается от цифры 13. Протопопов, анализируя фугу, отмечает влияние куплетно-вариационных форм, развитие глинкинской традиции [98, с. 137]. Неясность будущего проявляется в отсутствии логичного мелодического и тонального вектора в самой главной теме первой части. Тема делится на четыре коротких 117 фразы, в каждой из которых осуществляется отклонение к новым тональным устоям. Алогизм гармонического движения темы выражается в эллиптическом обороте на словах «иду меж страха и надежды»: доминантовый квинтсекстаккорд к шестой ступени переходит в доминантовый секстаккорд к субдоминанте (пример 27). Пример 27 Идея зацикленности, бесплодного топтания на месте заключена в побочной партии, состоящей из двух элементов. Первый – короткое оркестровое построение аккордового склада. Многократное иступленное повторение двух гармоний создает аллюзию на речитативный церковный возглас «Упокой, Господи…». Характерно, что на протяжении всего номера этот элемент возникает как разрешение доминанты в шестую ступень. Прибегая все время к прерванному обороту, композитор нарочито избегает завершения каденции, как знака определенности. Второй элемент побочной партии продолжает воплощать идею замкнутого движения. Здесь автор прибегает к риторической фигуре circulatio, возникающей в виде коротких бесконечных канонов между различными голосами хора (пример 28). В разработке гармонический и тональный «поиск» продолжается с большей интенсивностью. Основным полифоническим приемом здесь становится стреттное проведение темы. Снова и снова подчеркиваются главные слова: «Иду в неведомый мне путь». В конце полифонического 118 построения разработки (ц. 16) композитор прибегает к риторической фигуре passus duriusculus, подчеркивая состояние душевных терзаний. Пример 28 Для репризы также характерна нетрадиционность, нелогичность тонального плана. Здесь не происходит тонального слияния главной и побочной партий, она звучит в тональности субдоминанты. А наступление главной партии сопровождается гармоническим эллипсисом: доминантсептаккорд к главной тональности переходит в доминантсептаккорд к субдоминанте. Сочетание смысла поэтического текста в контексте содержания поэмы Толстого и жития преподобного Иоанна Дамаскина с целым комплексом музыкально-метафорических средств создают аллегорическое содержание этой части. Художник начал свой творческий путь, но еще терзается страхом и сомнением, он всецело овладел мастерством, но еще не уверен в своей правоте, в силе и подлинности своего таланта. Если восприятие в тексте первой действительности, части преобладало которое материалистическое сводилось к описанию физиологических особенностей смерти, то в тексте второй – впервые появляются духовные категории. Ключевыми словами здесь являются «любовь» и «молитва». Осознав безжизненность своего тела, человек обнаруживает бессмертность своих духовных сил, он обращается к Господу. Вторая часть кантаты состоит из двух разделов. Тонкий душевный трепет и искренняя теплота струится в музыке первого раздела. Звучание хора 119 a cappella, гармонический склад, прозрачная тональность Des-dur, восходящие мелодические линии создают характер светлой молитвы, возникает образ чистой, невесомой души, стремящейся к небу. Смена тональности на cis-moll, острый пунктирный ритм в оркестре, скандирование хора придают музыке суровую торжественность и патетичность во втором разделе. Во второй части заключен ключевой элемент аллегорического содержания кантаты. Это момент обретения смысла творчества, его духовного наполнения любовью и божественным вдохновением. Высокое мастерство, лишенное подлинного глубокого содержания, подобно безжизненному телу, так подробно описываемому в тексте первой части. В кульминационном завершении второй части в оркестре появляется аллюзия темы фуги «Иду в неведомый мне путь». Она звучит троекратно, каждый раз все в более высоком регистре и чередуется с возгласами «Господь!» в хоре: доселе «неведомый путь» наконец-то прояснился, ответ на мучительный вопрос был обретен в молитве. Ключевой образ поэтического текста последней части кантаты – труба, возвещающая конец мира. Интересно, что в этом фрагменте Толстой допускает некоторую вольность по отношению к оригинальному тексту погребальных стихир Иоанна Дамаскина [90]. Основной их мотив – созерцание быстротечности человеческой жизни, тщетности всего земного, материального, при этом тема апокалипсиса и страшного суда не затрагивается. Между тем, в тексте Толстого очевидна аллюзия на сюжет восьмой главы Откровения Иоанна Богослова, где речь идет о трех ангелах вострубивших конец мира. Данный образ характерен для частей Dies irae и Tuba mirum католического реквиема, и всегда ярко использовался в музыкальных интерпретациях западноевропейских композиторов. Выстраивая музыкально-метафорический ряд финала кантаты, Танеев также отталкивается от образа трубы, группа медных духовых играет в оркестре главенствующую роль. Однако при этом композитор не рисует картину крушения мира. По форме, в отличие от первой части, финал представляет 120 собой строгую классическую фугу с опорой на традиции западноевропейской полифонии, что подчеркивает ее конструктивное, созидательное начало. Бодрая, четко ритмически организованная тема фуги построена на многократном повторении интонации восходящей кварты, семантика которой не связана с разрушением, напротив, традиционная ее значение – торжественность, гимничность, побуждение к действию. В разработке тема главным образом звучит в мажорных тональностях, подчеркивающих ее жизнеутверждающий характер. Особый колорит возникает в стретных построениях (цифры 13, 16), где игра наслаивающихся квартовых интонаций в различных партиях хора и оркестра в сочетании с тремоло струнных и блестящим стаккато духовых в высоком регистре вызывают ассоциацию с торжественным колокольным благовестом. Потрясающего колористического эффекта достигает композитор в оркестровой связке перед заключительным разделом фуги. Зарождаясь из одной точки – мерцающего на пианиссимо cis первой октавы, звуковое пространство постепенно разрастается до тремоло всего оркестра на фортиссимо, охватывающего широчайший диапазон. Идея единичного, личного разрастается до масштабов всеобщего вселенского значения. С высочайшим эмоциональным подъемом звучит следующий, кульминационный раздел финала. Происходит образная модуляция сквозной темы кантаты «Со святыми». Звуча в увеличении на фортиссимо в октавном унисоне оркестра, а затем всего хора, она теряет свой скорбный характер и приобретает значение всеобщего объединяющего гимна мироздания. Образный контраст содержания поэтического текста и музыкальнометафорического ряда труднообъясним с точки зрения траурно-погребальной трактовки произведения, однако такое образно-смысловое решение финала становится логичным в контексте аллегорического содержания кантаты. В этом смысле, третья часть несет в себе восторг и радость свободного творчества. После апофеоза фуги, в коде, в партии оркестра вновь появляется троекратная реминисценция темы первой части. Здесь она становится 121 символом новой перерожденной творческой личности, прошедшей этап духовного становления, получившей божественное благословение и взошедшей к вершинам своего нравственного совершенства. Кантата «Иоанн Дамаскин» явилась одним из величайших шедевров русской музыки. В своем Opus 1 Танеев проявил высочайшую творческую зрелость и вдохновенное мастерство. В этом произведении с удивительным мастерством кристаллизуется многолетние творческие поиски композитора. Здесь и мысли, высказываемые в переписке с Чайковским о путях развития русской музыки, и многочисленные опыты в области контрапунктической обработки русских народных и церковных напевов, и опыт изучения вокально-инструментальных сочинений Баха, сподвигший Танеева к созданию «православной кантаты» по типу баховских протестантских кантат. Все, что на протяжении нескольких лет декларировалось Танеевым как необходимый вектор в развитии русской музыки, нашло свое воплощение в этом великолепном творческом замысле. Тема, затронутая в кантате, стала одной из ключевых во всем творчестве композитора. Это всеобъемлющая любовь и высочайшая нравственность художника, способного своим талантом и мастерством изменить к лучшему окружающий мир. Эти же мотивы сквозят и в значительных произведениях последних лет жизни Танеева: в цикле хоров a cappella на стихи Полонского и в его грандиозном последнем опусе – кантате на стихи Хомякова «По прочтении псалма». 3.2. Кантата «По прочтении псалма»: аллегория человека и мироздания В наследии многих великих композиторов существуют фундаментальные произведения, в которых фокусируются ключевые идеи всего их творчества. Как правило, это произведения, написанные в последние годы жизни. В этих знаковых опусах с наибольшей силой реализуется мастерство, творческое credo, мысли и чувства, которые определяли весь жизненный путь композитора. Это мировые шедевры, представляющие собой 122 итог творческого пути гениев. У Моцарта это опера «Волшебная флейта» и «Реквием», у Бетховена – Девятая симфония, у Чайковского – Шестая симфония. В музыкальном наследии Танеева таким произведением является его последнее крупное сочинение – кантата «По прочтении псалма». Последняя композиторского кантата опыта стала итогом Танеева. Здесь всего в предшествующего тесном переплетении обнаруживаются черты самых различных жанровых интересов автора. По монументальности художественного решения кантата сопоставима с оперой «Орестея», по виртуозному владению вокально-хоровой полифонией – с a cappell’ным хоровым творчеством, по степени детализации поэтического слова в сольных эпизодах – с камерно-вокальными сочинениями, а по принципам оркестрового письма, бесспорно, – с симфонической музыкой. Литературный первоисточник кантаты – стихотворение Хомякова «По прочтении псалма», написанное в 1856 году, – имел для Танеева глубоко личное значение. Символично, что это стихотворение, созданное в год рождения самого композитора, ознаменовало итог всей его жизни. Более того, оно было одним из любимейших стихотворений его матери Варвары Павловны. От нее еще в детстве Сергей Иванович впервые его услышал и, впоследствии, хранил в своем сердце как самое дорогое воспоминание. Неслучайно, эту кантату он посвятил памяти матери. Идеи чистого сердца, любви и правды, воспетые Хомяковым, были очень близки Танееву. В самом названии стихотворения Хомякова указывается на первоисточник, вдохновивший автора – псалом. Таким образом, выстраивается трехуровневая последовательность художественных интерпретаций: библейский псалом, стихотворение Хомякова, кантата Танеева. Для того, чтобы глубже проникнуть в суть танеевского художественного замысла, обратимся сперва к анализу этих литературных первоисточников. Поэт не уточняет, о каком именно из 150 библейских псалмов идет речь но очевидно, что по своему содержанию данное стихотворение наиболее близко перекликается с псалмом № 49 «Бог Богов, Господь возглаголал». 123 Этот псалом примечателен тем, что здесь отсутствует обращение человека к Богу. Напротив, значительную его часть занимает прямая речь Бога, где Господь отвергает приносимых ему в жертву животных и изобличает человека в грехах. В стихотворении А. Хомякова Божественный глас звучит на протяжение 37 строк из 40. Он провозглашает тщетность роскоши обрядов религиозного служения – золота храмов, курений фимиама и возжигания огней. Бог ожидает от человека совсем иных даров. Отдельные фрагменты стихотворения А. Хомякова можно считать буквальным поэтическим пересказом строк псалма № 49. Приведем начальные строфы псалма: Бог Богов, Господь возглаголал и призывает землю, от восхода солнца до запада. С Сиона, который есть верх красоты, является Бог, грядет Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой: «соберите ко Мне святых Моих, вступивших в завет со Мною при жертве». И небеса провозгласят правду Его, ибо судия сей есть Бог. «Слушай, народ Мой, Я буду говорить; Израиль! Я буду свидетельствовать против тебя: Я Бог, твой Бог» [Псалтырь 49:1-7]. Содержание этих строф весьма лаконично, но очень точно и ёмко по образности передается в первых четырех строках стихотворения Хомякова: Земля трепещет: по эфиру Катится гром из края в край. То божий глас; он судит миру: «Израиль, мой народ, внимай!» Далее сюжет псалма и стихотворения разнится тем, что в псалме речь идет о ветхозаветном обряде жертвоприношения животных. Не за жертвы твои Я буду укорять тебя; всесожжения твои всегда предо Мною; не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо Мои все звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц 124 на горах, и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов [Псалтырь 49:8-13]? У Хомякова же говорится об обрядовости церковного служения. При этом поэт значительно расширяет масштаб и образный строй псалма. Отдельные моменты богослужения он уподобляет величественным силам природы как чуду божественного творения. Израиль, ты мне строишь храмы, И храмы золотом блестят, И в них курятся фимиамы, И день и ночь огни горят. К чему мне ваших храмов своды, Бездушный камень, прах земной? Я создал землю, создал воды, Я небо очертил рукой; Хочу, и словом расширяю Предел безвестных вам чудес; И бесконечность созидаю За бесконечностью небес. К чему мне злато? В глубь земную, В утробу вековечных скал, Я влил, как воду дождевую, Огнем расплавленный металл. Он там кипит и рвется, сжатый В оковах темной глубины; А ваши серебро и злато Лишь всплеск той пламенной волны. К чему куренья? Предо мною Земля со всех своих концов Кадит дыханьем под росою 125 Благоухающих цветов. К чему огни? Не я ль светила Зажег над вашей головой? Не я ль, как искры из горнила, Бросаю звезды в мрак ночной? Далее, и в одном и в другом текстах следует призыв Бога к человеку принести совсем иной дар, нежели все перечисленное. Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови Меня в день скорби; Я избавлю тебя, и ты прославишь Меня [Псалтырь 49:14-15]. Твой скуден дар. – Есть дар бесценный, Дар, нужный богу твоему: Ты с ним явись, и, примиренный, Я все дары твои приму. В последних строфах псалма человек обличается в его пороках, таких как лицемерие, злословие, коварство и клевета. Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя? Когда видишь вора, сходишься с ним, и с прелюбодеями сообщаешься; уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство; сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь; ты это делал, и Я молчал; ты подумал, что Я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои [грехи твои]. Уразумейте это, забывающие Бога, дабы Я не восхитил, – и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю Я спасение Божие» [Псалтырь 49:16-23]. Однако, Хомяков не использует данные строфы, отступая от пути прямого пересказа ветхозаветного текста. Вместо этого он формулирует в 126 заключительном четверостишии гениальный по поэтической емкости божественный призыв об идее «чистого сердца». «Мне нужно сердце чище злата, И воля крепкая в труде, Мне нужен брат, любящий брата, Нужна мне правда на суде». Таким образом, можно отметить, что в целом Хомяков смягчает и поэтизирует назидательный строй ветхозаветного текста, приближая псалом к философскому размышлению. Описание древних жертвоприношений и суровое обличение в страшных грехах он заменяет религиозно переосмысленными образами природных стихий и декларированием высших нравственных идеалов человечества – честности, трудолюбия, справедливости и братской любви. Нужно особо отметить, что Танеев не ставит перед собой задачу детального отражения литературного текста в музыке. Он использует текст, прежде всего, в качестве источника ярких образных ассоциаций, определенная последовательность которых позволяет ему выстраивать собственный сюжет всей кантаты. Премьера кантаты, состоявшаяся в 1915 году (11 марта в СанктПетербурге и 1 апреля в Москве), стала выдающимся событием музыкальной жизни России. Об этом можно судить по публикациям на эти концерты в прессе. В частности, Мясковский в своей развернутой рецензии писал: «Танеев предстает перед нами не только идеальным "мастером" искусства, не только запоздалым заполнителем полифонической страницы русской музыкальной истории,… но и великим музыкальным поэтом, художником на редкость вдохновенным, искренним, с душой возвышенной, ясной, чистой, цельной, необычайно богатой глубокими художественными идеями и эмоциями» [84, с. 4]. Также весьма высокий отзыв на кантату, предположительно принадлежащий И. Липаеву, дан в рецензии в «Русской музыкальной газете»: «Высокий, глубоко продуманный и прочувствованный 127 стиль кантаты, общая монументальность и величественность, изумительное мастерство в восполнении непосредственная теплота, построения которая замысла одна согревает и, и наконец, дает та жизнь произведению, – вот основные качества кантаты, в которой к тому же чрезвычайно удачно сочетаются моменты лирического и драматического характера» [104, с. 792]. Как видно из приведенных цитат, музыка Танеева весьма высоко и по достоинству была оценена его современниками. Начало исследовательского интереса к творческому наследию композитора приходится уже на советский период, и здесь можно встретить весьма неоднозначные и в целом тенденциозные суждения о значении и содержании кантаты. Это, очевидно, связано с жесткими идеологическими ограничениями того времени, когда явно религиозное содержание литературного первоисточника кантаты не могло быть адекватно воспринято и отражено в музыковедческих трудах. Так, весьма критичное мнение по поводу идейного содержания кантаты находим у А. Степанова: «Кантата №2 "По прочтении псалма", являясь вершиной творческого мастерства Танеева, – произведение весьма противоречивое. Созданная в период господства модернизма, она очень отвлечена по своей идее, в ней нет непосредственного отображения острых конфликтов современной Танееву жизненной действительности, ее заключение пассивносозерцательно. Но при этом давно волновавшие Танеева идеи нравственного совершенствования людей в труде и братской любви выражены столь ярко, столь совершенно по художественной форме, что невозможно не признать за кантатой крупного исторического значения» [116, с. 121]. Далее, содержание его работы «Кантата "По прочтении псалма"» сконцентрировано на подробном анализе музыкально-выразительных средств вне их связи с философским содержанием литературного текста. Встречаются также и явно негативные оценки содержания кантаты. Так, Ю. Келдыш, рассуждая об идеях, заключенных в этом произведении отмечает, что они «не только не поднимали на борьбу за действительно 128 передовые цели современности, а, напротив, бездеятельного, созерцательного пассеизма» служили оправданием [49, с. 97]. Близкое к этому 20 суждение находим и в первой монографии о Танееве Г. Бернадта: «В кантате "По прочтении псалма" с наибольшей противоречивостью обнажилась свойственная Танееву сфера отвлеченного гуманизма, осужденная еще Белинским "апофеоза абстрактной любви к человечеству", с ее нежизненным, бесплотным понятием этоса, туманными парализующими иллюзиями добра и справедливости» [23, с. 253]. В то же время в отечественном музыкознании советского периода можно обнаружить и другие точки зрения, исходящие из более глубокого осмысления кантаты «По прочтении исследовании Л. произведения рассматривается первоисточника: Корабельниковой в «Стихотворение, псалма». вопрос связи В монографическом философского содержания с анализом литературного выбранное Танеевым для кантаты, содержит обобщенную философскую мысль: смысл существования человека – не пассивное преклонение перед высшими силами, не воскурение фимиама божеству; единственный "дар бесценный" – утверждение нравственного идеала в жизни, в человеческой деятельности» [58, с. 226]. Как и в других исследованиях советского времени, в монографии Корабельниковой не акцентируется религиозный аспект стихотворения Хомякова. Замечательное высказывание содержится у В. Протопопова: «Кантата №2 Танеева для хора, солистов и оркестра явилась великолепным синтезом всех творческих устремлений композитора, ибо тут отражены проблемы, наиболее занимавшие его на протяжении всей его жизни (космос и личность, растворенная в общем потоке жизни; этические идеалы; устроение мира и гармонии в окружающей действительности)» [97, с. 99]. Яркую характеристику кантаты Танеева дает Л. Скафтымова: «Утверждение им общезначимых этических ценностей, ясность личного морального 20 Пассеизм - (от франц. passé — прошлое), пристрастие к прошлому, любование им при внешне безразличном, а на деле враждебном отношении к настоящему, к прогрессу; консерватизм. БСЭ. 129 самочувствия привязало его к проблеме культуры и природы, в их значении для сложения нравственных требований, какие ставит себе человек. Отсюда природа (и как высшая категория – космос) и личность в единстве и гармонии, в единстве взаимопонимания и взаимопроникновения – монотема Танеева. Именно с этим связана и единая концепция кантаты, декларирующая "волю крепкую в труде" и всеобщую братскую любовь». Однако, Скафтымова считает, что «декларация, возглашение в годы войны и рядом стоящего хаоса революции, незыблемости нравственных законов делают эту концепцию не связанной с жизнью, отвлеченной» [113, с. 40]. В исследованиях советского периода, написанных под влиянием штампа танеевского атеизма, как правило, умалчивался религиозный аспект произведения. Это нередко приводило к противоречивым и весьма критическим оценкам ее музыкального содержания. Совершенно по-новому глубинный содержательный пласт кантаты раскрывается в работах последних лет. Танеев предстает апологетом русской религиозно-философской мысли, воплотившим в своем крупнейшем хоровом произведении ключевые концепты христианского вероучения. Как справедливо отмечает Г. Аминова: «Музыка С.И. Танеева – составное звено в истории русской духовной культуры, неотделимой от Православия, его этоса и философии. <…> свою главную задачу композитор полагал в укоренении профессионального творчества на национальной основе путем создания "православной кантаты"» [3, с. 172]. «Идея духовного примирения человека и мира, человека и Бога, как концентрированное выражение самого Духа восточного христианства, пронизывает все наследие Танеева, от кантаты "Иоанн Дамаскин" – своеобразного эпиграфа ко всему творчеству композитора, вплоть до кантаты "По прочтении псалма" – вершины и итога его подвижнического пути» [3, с. 178]. В работе, написанной в соавторстве Л. Серебряковой и Н. Коваленко выявляется религиозно-философская концепция кантаты. По мнению авторов, в ней композитор выражает религиозную христианскую картину мира, состоящую из «космогонической и антропологической сфер». 130 Исследователи характеризуют «По прочтении псалма», как «произведение, в котором с истинно библейским размахом воплощены ветхозаветные картины вселенских катаклизмов, а также утверждается новозаветное духовнонравственное учение» [109, с. 246]. Не умоляя несомненную научную ценность и глубину содержательных трактовок кантаты с точки зрения ее религиозно-философского содержания, в настоящей работе предпринята попытка целостного музыкального анализа произведения с несколько иных позиций, а именно, с точки зрения ее аллегорического содержания. Данный подход, в частности, позволяет выявить различия между изначальным смыслом стихотворения Хомякова и его трактовкой в музыке Танеева. Эти различия не становились в музыковедении объектом пристального внимания, и требуют более глубокого изучения. На наш взгляд, для Танеева стихотворение Хомякова становится источником для воплощения собственной художественной идеи. Композитор превращает текст поэта в иносказательный, наделяя его особым содержанием. Эта иносказательность достигается как посредством работы с собственно литературным первоисточником, так и музыкально-семантическими средствами. К текстуальным средствам переработки стихотворения относятся: 1. распределение текста в соответствии с музыкальной формой кантаты, 2. повторы определенных слов и фраз, 3. изменения в поэтическом тексте. 1. В соответствии со структурой кантаты все стихотворение делится на девять фрагментов, каждый из которых соответствует одному номеру циклической формы. Здесь мы сталкиваемся с незаурядным в истории музыки случаем, когда небольшое и художественно цельное стихотворение, в котором отсутствует деление на отдельные строфы, послужило основой для грандиозного по масштабу музыкального произведения. Композитор формирует сложную трехчастную макроформу кантаты, где каждая из частей, в свою очередь, состоит из трех номеров (схема 4). 131 Схема 4 Распределение строк текста А. Хомякова в кантате С. Танеева Земля трепещет: по эфиру Катится гром из края в край. То божий глас; он судит миру: «Израиль, мой народ, внимай!» Израиль, ты мне строишь храмы, И храмы золотом блестят, И в них курятся фимиамы, И день и ночь огни горят. К чему мне пышных храмов своды, Бездушный камень, прах земной? Я создал землю, создал воды, Я небо очертил рукой; Хочу, и словом расширяю Предел безвестных вам чудес; И бесконечность созидаю За бесконечностью небес. К чему мне злато? В глубь земную, В утробу вековечных скал, Я влил, как воду дождевую, Огнем расплавленный металл. Он там кипит и рвется, сжатый В оковах темной глубины; А ваши серебро и злато Лишь всплеск той пламенной волны. К чему куренья? Предо мною Земля со всех своих концов Кадит дыханьем под росою Благоухающих цветов. К чему огни? Не я ль светила Зажег над вашей головой? Не я ль, как искры из горнила, Бросаю звезды в мрак ночной? №1 №2 I часть. №3 №4 II часть. №5 №6 №7 Твой скуден дар. – Есть дар бесценный, Дар, нужный богу твоему: Ты с ним явись, и, примиренный, Я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата, И воля крепкая в труде, №9 Мне нужен брат, любящий брата, Нужна мне правда на суде. 132 №8 III часть. Как видно из приведенной схемы, деление текста по музыкальным номерам весьма неравномерно. Величина фрагментов стихотворения, избираемых композитором для каждого из номеров, различна. Она колеблется от части одной строки (в № 7) до восьми полных строк (в № 3, 4, 8). Текст последних четырех строк используется в № 8, а затем повторяется в № 9. Таким образом, композитор особо подчеркивает важность последних строк, в которых содержится ключевая мысль всей кантаты. 2. Помимо особого деления текста композитор прибегает к неизбежным в столь крупном произведении многочисленным повторам отдельных литературных фраз. Это позволяет избирательно в соответствии со своим собственным замыслом высвечивать из контекста стихотворения тот или иной необходимый ему доминирующий образ и выстраивать на его основе развернутую музыкальную картину. В свою очередь из отдельных музыкальных картин складывается цельный иносказательный сюжет всей кантаты. 3. Особое внимание обращают на себя редкие моменты, когда Танеев, как правило, бережно относящийся к авторскому поэтическому тексту, прибегает к его изменению. Наиболее заметным моментом является замена слова «ваших» на слово «пышных». Вместо хомяковского: «к чему мне ваших храмов своды», в кантате звучит «к чему мне пышных храмов своды». Другой, менее заметной правкой является редактура знаков препинания, связанных с передачей прямой речи. Интересно, что лишь одна заключительная фраза из №1 оформлена в виде прямой речи Господа: «Израиль, мой народ, внимай!» Весь дальнейший текст в кантате обезличен, тогда как у Хомякова от имени Бога текст излагается до самого конца стихотворения. Работа с литературным источником раскрывает процесс определенного переосмысления содержания текста. Попробуем выстроить общую канву танеевского замысла и раскрыть глубину его творческой мысли. 133 В №1 использованы четыре начальные строки стихотворения, которые у Хомякова, по сути, играют роль вступления, предваряющего монолог Господа, и передают величие Божьего гласа, раздающегося громом по всей земле. Эти строки вызывают стойкую поэтическую ассоциацию с известным фрагментом из католического реквиема «Dies irae», где изображается картина конца света и Страшного суда. №2 кантаты включает в себя следующие четыре строки поэтического текста. В стихотворении – это начало монолога Господа, где говорится о храмах, со всем их благолепием, построенных человеком: блеском золота, курениями, огнями. Однако Танеев намеренно отстраняется от трактовки этого и последующего текста как прямой речи Бога и интерпретирует его как безличное повествование. Подтверждением этому служит расстановка кавычек в тексте партитуры кантаты. Ключевым поэтическим образом данного фрагмента становится храм. Как известно, храм земной – есть видимая проекция храма небесного – Царства Божия. Именно этот аллегорический образ – горнего мира, рая, а не земного архитектурного сооружения прорисовывается Танеевым во втором номере. Также аллегорическое значение приобретает здесь упоминание божественной стихии огня, традиционно символизирующей божественное начало: «И день и ночь огни горят». Как видно из сопоставления №1 и №2, сюжет кантаты разворачивается нелинейно. Художественное время кантаты словно проистекает из конечной точки истории мироздания к ее истокам: после картины апокалипсиса композитор обращается к изначальному божественному замыслу «совершенного мира». Следующие четыре фрагмента стихотворения с №3 по №6 имеют одинаковое строение. Все они логически делятся на два раздела: риторический вопрос-отрицание и ответ на него. В риторических вопросах последовательно отвергается божественный храм («Царствие Божие»), о 134 котором шла речь в №2, и его отдельные атрибуты. В риторических ответах им противопоставляются образы природы как «божественного творения». В №3 отрицается образ храма и широко очерчивается пространство земного, реального бытия человека. Здесь упоминаются три стихии неразрывно связанных с человеком: земля, вода и воздух. При этом отсутствует четвертая стихия – огонь, традиционно символизирующая божественное начало. В нескольких строках даны яркие метафоры широты пространства: «расширяю предел», «бесконечность созидаю». Замена слова («ваших храмов» на «пышных храмов») подчеркивает принципиальный для композитора смысловой момент. Танеев трактует эти слова не от имени Бога, а от имени человека, и отрицание храма есть отрицание человеком Царства Божия, образ которого был запечатлен в предыдущем номере. Таким образом, аллегорическое содержание этого фрагмента сопоставляется с известным библейским сюжетом книги «Бытие» и соответствует рассказу о грехопадении, изгнании человека из рая и его земной жизни. Ключевым поэтическим образом №4 снова становится пространство, но теперь подземное. Образы «глуби земной» и «утробы вековечных скал», несомненно, аллегорически трактованы Танеевым, как картина нижнего, инфернального мира, преисподней. Композитор несколько переосмысливает поэтическое содержание использованных здесь очередных восьми строк стихотворения, подчиняя их содержательной концепции кантаты. У Хомякова речь идет о ничтожности материальных ценностей человечества, стяжающего золото и могуществе Бога, влившего в земные недра «как воду дождевую, огнем расплавленный металл». Для Танеева здесь важна, прежде всего, образность темного порабощающего подземного пространства. Композитор остается верен своему принципу использовать поэтический текст целиком, однако он особым образом высвечивает необходимый ему словесный образ за счет неравномерного распределения и повторов стихотворного текста. В центральном и наиболее протяженном (43 такта) разделе номера – двойной хоровой фуге звучат две самых образно ярких строки: 135 Он там кипит и рвется, сжатый В оковах темной глубины. Обрамляют фугу небольшие декламационные хоровые речитативы (16 т. и 7 т.), в которых звучат остальные шесть строк данного номера. В целом, на протяжении данных трех номеров кантаты (с №2 по №4) выстраивается трехуровневая модель мироздания, соответствующая религиозной картине мира: Рай как пространство Бога; Земля как пространство человека после грехопадения; Ад как пространство дьявола. Следующие 3 номера кантаты с №5 по №7 отличаются более личностным содержанием. Среди них нет масштабных хоровых полотен, и широко используется квартет солистов. Эти номера на наш взгляд трактуются Танеевым как повествование о жизненном пути человека в окружающем мире. В поэтическом фрагменте №5 следует отметить, во-первых, сужение масштаба образности, во-вторых, возвращение к земному пространству человека. После космогонических образов апокалипсиса, демонстрации уровней мироздания поле зрения сужается до уровня взгляда одного человека. И перед ним открывается благостная картина пробуждающейся весенней природы. Внимание переключается на личность отдельного человека, его места и судьбы во вселенной. Прекрасные образы природы с весенней росой и благоухающими цветами аллегорически повествуют о самом начале жизни человека, его безмятежной, счастливой и наивной юности в этом прекрасном земном мире. Для поэтического фрагмента №6 характерно полное отсутствие повествовательных предложений. Он состоит из одних лишь риторических вопросов о тщетности красоты и величия мира. Все три вопроса связаны с различными образами света: огни, светила и звезды, сравниваемые искрами, и каждый из этих светоносных образов отрицается риторическим вопросом «к чему?». Как известно, свет традиционно воспринимается в качестве метафоры божественного начала, «Да будет свет!» – первые слова Творца при 136 сотворении мира. При этом отметим в указанном фрагменте стихотворения Хомякова сперва возрастающий масштаб носителей света: огни – свет земных источников, светила – свет солнца и земли, звезды – свет всей вселенной. В последнем же предложении происходит резкое обесценивание этого масштаба: звезды сравниваются с искрами из горнила, которые бросаются в «мрак ночной». Эта замечательная последовательность не слишком приметна в стихотворении Хомякова, но в кантате Танеева, однако, она четко структурно выделена и приобретает особый аллегорический смысл – обесценивание мира как Божественного Творения. В проекции на жизнь человека речь здесь идет о тяжелом пути его духовного становления. Пора безмятежной юности сменяется периодом его сложных духовных исканий, интеллектуального взросления и прозрения. Жизнь предстает своей темной стороной и ставит перед человеком серьезные нравственные вопросы. Неудачи и разочарования, зло, несчастье приводят человека к разочарованию в совершенстве и справедливости мира. №7 – это масштабное и драматургически сложное симфоническое полотно, в котором практически отсутствует текст. Всего три слова «Твой скуден дар» появляются лишь в самом конце. Они становятся итогом и выводом всего музыкального развития и, таким образом, в них формулируется смысловое содержание номера. В судьбе человека происходит духовный слом, надрыв после перенесенного горя, жизненных трагедий и неудач. Зловещие слова текста звучат как безутешный приговор. Происходит душевный надлом, выход из которого не найден, – таково содержание этого номера. В словах, звучащих в данном контексте от имени человека и адресованных Богу, происходит отречение от мира, от его божественного начала. Таким образом, эти три номера объединены единой смысловой канвой, в них показаны три значительных этапа на пути становления человеческой личности в этом мире. 137 Последние два номера раскрывают этап духовного поиска высших нравственных основ жизни, данных в заповедях божьих. В №8 звучат последние восемь строк стихотворения. Они играют особую роль в структуре произведения. Заканчивается риторическая вопросно-ответная структура, занимающая большую часть стихотворного текста, и звучит утверждение, в котором содержится нравственный императив, позволяющий найти опору и смысл бытия. При этом отметим два важных момента. Во-первых: нравственный закон представлен как мечта или идеал, который не достигнут, и к которому следует стремиться (употребляются глаголы будущего времени). Во-вторых: в нем ощущается огромная потребность (происходит усиление глагола «нужен», использованного в различных формах четыре раза). В последнем №9 композитор повторно использует заключительные четыре строки, резюмируя основную идею кантаты. Но при этом за счет музыкальных средств он расширяет идею духовного поиска с уровня судьбы одного человека до масштаба всего человечества. Исходя литературного из проведенного текста анализа Хомякова, переосмысления выстраивается особая аллегорических художественных образов кантаты (схема 5). 138 Танеевым система Схема 5 Система аллегорических художественных образов кантаты Земля трепещет: по эфиру Катится гром из края в край. То божий глас; он судит миру: «Израиль, мой народ, внимай!» Израиль, ты мне строишь храмы, И храмы золотом блестят, И в них курятся фимиамы, И день и ночь огни горят. К чему мне пышных храмов своды, Бездушный камень, прах земной? Я создал землю, создал воды, Я небо очертил рукой; Хочу, и словом расширяю Предел безвестных вам чудес; И бесконечность созидаю За бесконечностью небес. К чему мне злато? В глубь земную, В утробу вековечных скал, Я влил, как воду дождевую, Огнем расплавленный металл. Он там кипит и рвется, сжатый В оковах темной глубины; А ваши серебро и злато Лишь всплеск той пламенной волны. К чему куренья? Предо мною Земля со всех своих концов Кадит дыханьем под росою Благоухающих цветов. К чему огни? Не я ль светила Зажег над вашей головой? Не я ль, как искры из горнила, Бросаю звезды в мрак ночной? №1 Конец Света. №2 №3 Трехуровневая картина мира. №4 №5 Этапы жизни человека. №6 №7 Твой скуден дар. – Есть дар бесценный, Дар, нужный богу твоему: Ты с ним явись, и, примиренный, Я все дары твои приму. Мне нужно сердце чище злата, И воля крепкая в труде, №9 Мне нужен брат, любящий брата, Нужна мне правда на суде. 139 №8 Духовный поиск человека и всего человечества. Итак, эти три способа работы с литературным первоисточником а именно: 1) распределение текста в соответствии с музыкальной формой кантаты, 2) повторы определенных слов и фраз, 3) изменения в поэтическом тексте, внесенные композитором становятся методами и приемами формирования иносказательного смысла, то есть аллегории. Анализ работы композитора с литературным текстом может дать общую канву иносказательного содержания произведения, но наиболее интересным для анализа представляется аллегория, создаваемая собственно музыкальными средствами. Именно здесь проявляется вся уникальность и оригинальность творческого решения композитора, возводящего жанр кантаты до средства художественной реализации собственной философской картины мира. В музыкальном воплощении текста №1 Танеев прибегает к приему, который можно по аналогии с риторикой условно назвать музыкальной гиперболой. Под музыкальной гиперболой понимается значительное усиление, преувеличение поэтического образа посредством музыкальных средств. В данном случае Танеев существенно расширяет границы ассоциативного образа: природного ненастья, сопровождающего Божий Глас (первые две строки), доводя его до масштаба апокалипсиса. И, таким образом, по своему характеру звучания и эмоциональному строю 1 номер кантаты приближается к Dies irae из католического реквиема, где воспроизводится картина конца света и Страшного суда. Попробуем обосновать данную мысль с помощью анализа музыкальнометафорических средств, которыми пользуется композитор. Первоначальное приглушенное тремоло двух литавр в интервале квинты создает ощущение некоего пустого пространства – «трепещущего эфира». Последующая музыкальная ткань складывается из нескольких тематических построений, каждое из которых имеет свое метафорическое значение. На фоне литавр в таинственном тембре бас-кларнета звучит основная лейттема всей кантаты, традиционно определяемая исследователями, как тема «Божьего гласа» 140 (пример 29). Многократное проведение этой лейттемы на протяжении всего произведения в различном тембральном и ладотональном обличии, создает в кантате монотематическое единство драматургического развития. Божественная сущность этой темы-метафоры выражена в ее интервальном строении: троекратно проинтонированная в восходящем и нисходящем движении чистая квинта и устремленная вверх секста. Пример 29 Основная тема первого номера впервые появляется у скрипок (тт. 5-7). Ее начальные четыре звука представляют собой традиционный для западноевропейской полифонии мотив креста. Завершается тема восходящей большой септимой – риторической фигурой saltus duriusculus. В звучании хора эта тема соответствует словам «земля трепещет». Метафорическое значение данного построения можно определить как страдание и страх человека перед надвигающимся апокалипсисом (пример 30). Пример 30 Стремительные гаммаобразные пассажи флейт и кларнетов, заполняющие фактурное пространство между основным тематическим материалом, не выделяются в самостоятельный тематический материал, но являются звукоизобразительным средством в процессе создании единого музыкального образа. Их можно трактовать как мотивы завывания ветра в картине разбушевавшейся природной стихии (пример 31). 141 Пример 31 Особое внимание обращает на себя оркестровая тема в тактах 14-17. Здесь можно уловить музыкальную аллюзию на тему «Dies irae» из «Реквиема» Верди. Схожесть этих тем очевидна: характерная особенность, объединяющая их – восходящее движение мелодических линий по полутонам в диапазоне октавы на фоне тонического органного пункта в басу. При этом совпадают и другие музыкально-выразительные средства: пунктирный ритм, яркая динамика, темп (Allegro agitato и Allegro tempestozo), тактовый размер 2/2 (пример 32). При помощи данной музыкальной аллюзии композитор, на наш взгляд, целенаправленно указывает на аллегорическую трактовку № 1 кантаты в качестве «Dies irae». Пример 32 Вторая тема первого номера (тт. 70-74) проводится в унисонном звучании хора со словами «По эфиру катится гром из края в край». Здесь она впервые экспонируется в своем полном виде (ее краткий начальный мотив можно обнаружить ранее в оркестровом звучании). Для нее характерно стремительное падение мелодической линии от VII# ступени до тоники и 142 затем столь же стремительный гаммаобразный взлет на октаву. Метафорически эту тему можно охарактеризовать как внезапный провал, потеря устойчивой опоры, сотрясение земной поверхности. В следующем крупном полифоническом разделе, построенном на контрапункте этих двух основных тем, следует выделить эпизод, где в партитуру хора включается новая риторическая фигура, напрямую не связанная с главным тематическим материалом. В одной из местных кульминаций (тт. 86-93) мелодическая линия в партии сопрано доходит до своей вершины – a2 и удерживается на fortissimo на протяжении четырех тактов, после чего идет нисходящее хроматическое движение – passus duriusculus и нисходящий скачек на тритон – saltus duriusculus. Passus звучит duriusculus также в кульминационном завершении всего полифонического эпизода в партиях деревянных духовых и струнных оркестра (тт. 144-149), контрапунктируя с унисонным проведением темы хора. Данные риторические приемы можно интерпретировать как выражение страданий и страха. Таким образом, в создании аллегорического образа апокалипсиса помимо других средств композитор также обращается к традиционным приемам музыкальной риторики. В небольшой оркестровой интерлюдии, следующей после полифонического эпизода, тема «Божьего гласа» проводится у медных духовых инструментов на фоне разрастающейся по диапазону тремолирующей фактуры у струнных. Непосредственно моменту появления в поэтическом тексте слов Божьего Гласа предшествует тремоло треугольника (тт. 157-158). Этот инструмент приобретает у Танеева роль символа. Как известно, сама геометрическая фигура треугольника традиционно символизирует в христианстве божественное триединство. Прямая речь Господа в музыке воплощается стремительным восходящим пассажем у скрипок в диапазоне трех октав и фанфарным звучанием трезвучия D-dur (тт. 158-160). В хоре звучит элемент «темы Божьего гласа» – восходящая секста. Первый номер заканчивается словами 143 Бога: «Израиль, мой народ, внимай!», тема «Божьего гласа» впервые звучит в унисон всего хора на динамике fortissimo. Музыкальное содержание №2 в драматургии кантаты резко контрастирует с предшествующей сценой апокалипсиса. Здесь создается совершенно иной характер звучания: спокойствие, благость и умиротворение. В связи с этим текст Хомякова уже не воспринимается как продолжение монолога Бога, звучащего в №1. Танеев последовательно воплощает в музыке собственную концепцию и изображает здесь картину Рая – Царства Божия. Второй номер открывается нежным звучанием сопровождении деревянных духовых и арфы. женского Среди хора в основных выразительных средств: сдержанный темп, разряженная фактура, тихая динамика, гармоническая простота и ясность, нежный характер звукоизвлечения (dolce). Хоральная четырехголосная тема проводится попеременно в диалоге мужских и женских голосов. Такое разделение хора на два однородных состава с divisi во всех голосах придает звучанию особую легкость и возвышенность. Кроме этого, в данной хоровой фактуре реализуется идея разделения на мужское и женское начало, представленное в Библии образами Адама и Евы. Подобная трактовка подтверждается и некоторыми разночтениями в названии номера и записи хоровой партитуры в различных источниках. Так, в издании партитуры кантаты второй номер имеет заголовок «Двойной хор» [128, с. 63], однако в нотах мы видим один смешанный хор, четыре партии которого объединены общей акколадой, то есть название противоречит записи. В сноске после названия читаем: «Так в автографе и издании клавира. В автографе партитуры: "№2"» [там же]. Вторая сноска сообщает о различных вариантах нотной записи партитуры хора в разных источниках: «В издании клавира хоры изложены на восьми строках: I хор – Сопрано I, Сопрано II, Альты I, АльтыII. II Хор – Тенора I, Тенора II, Басы I, Басы II. В автографе партитуры оба хора объединены на четырех строках, как в настоящем издании» [там же]. Таким образом, в клавире, в отличие от 144 партитуры подразумеваются два отдельных однородных хора: мужской и женский, и название «Двойной хор» соответствует нотной записи. Все средства воплощение музыкальной аллегорического выразительности образа Рая. направлены Прежде всего, на это арпеджированный аккомпанемент арфы, которая символически «являет собой мост между небом и землей. Ее форма – мистическая звуковая лестница, соединяющая горний и дольний миры» [112]. Арфа выступает божественным атрибутом во многих религиозных традициях. В христианской иконописи это инструмент ангелов. В кантате Танеева арфа появляется здесь впервые и звучит на всем протяжении данного номера. Также во втором номере Танеев прибегает к одному из своих излюбленных приемов работы с литературным текстом – «высвечиванию» какого-либо важного для него слова посредством применения особых музыкально-выразительных средств. Так, при многократном повторении фразы «и храмы золотом блестят» последнее слово («блестят») повторяется дважды и при этом обыгрывается в хоровой фактуре поочередно в мужских и женских голосах. Красочная звуковая символика этого слова реализуется в оркестровом звучании – в трижды повторенном аккорде у деревянных духовых (трели в высоком регистре), арфы и треугольника (тремоло) (ц. 3). Тем самым композитор создает символ Божественной Троицы и ощущение нетварного небесного света в начале среднего раздела на словах «и в них курятся фимиамы» (цифры 8-9). Фактура оркестра и хора здесь значительно облегчена, звучат поочередно отдельные группы. Снова обращает на себя внимание символика числа три в пульсирующем триольном аккомпанементе флейты и кларнетов а также в триольном пассаже четвертными длительностями в партии арфы. Реприза (ц. 16) более сжата по масштабу и насыщенна. Динамика хора и оркестра tutti достигает fortissimo, но при этом за счет арпеджированной фигурации восьмыми сохраняется особая мягкость и воздушность звучания. В последнем кульминационном эпизоде (ц. 19) обращает на себя внимание 145 продолжительное, пронизывающее фактуру тремоло треугольника на forte в течение трех тактов, в последний раз особо подчеркивая слова хора «и храмы золотом блестят». Снова этот инструмент выступает в качестве символа божественного. Пример 33 №3 аллегорически воплощает момент грехопадения человека и последующее построение человечеством его самостоятельной земной истории. Тройная хоровая фуга предваряется небольшим хоровым вступлением, в тексте которого звучит отказ от Божьего храма. По своему интонационно-ритмическому строю вступление представляет собой яркое напористое высказывание и напоминает эмоциональный оперный речитатив, выражающий отрицание и протест. Для него характерны ходы на широкие интервалы, дробление на небольшие мелодические фразы, разделяемые паузами, прихотливый ритм, свойственный 146 мелодекламации. Образ грехопадения и изгнания человека из рая подчеркивается также музыкальнориторическими фигурами: в 3-м такте у сопрано нисходящий ход на уменьшенную кварту – фигура saltus duriusculus, у теноров и басов в это время звучит фигура passus duriusculus (пример 33). Танеев, следуя избранной им логике построения кантаты, рисует картину земного реального бытия человечества. Звучит грандиозная по масштабу и выдающейся по мастерству полифонической техники тройная фуга. В использованном здесь фрагменте стихотворения также повествуется о создании земли и ее окружения: вод и неба. Здесь следует отметить особую аллегоричность самой избранной композитором формы третьего номера. Бог создал человека по образу и подобию своему и одно из проявлений божественного образа в человеке, то, что отличает его от всего остального мироздания и роднит с Богом, есть способность к творчеству. Господь благословил человека на творческое созидание, и первым творческим актом человека, согласно библейскому преданию, было наречение всех, созданных Богом животных. После изгнания из рая человек вынужден самостоятельно благоустраивать переделывать под себя окружающий, враждебный к нему мир. Появляется человеческая история. Начинается развитие человеческой цивилизации и культуры во всей ее сложности и многообразии. Но все это возможно благодаря частице божественного логоса, заложенного в человеке, он строит свой собственный мир, продолжая божественное творчество и преобразовывая действительность в соответствии со своим рациональным началом и творческим даром. Одной из форм выражения человеческого творчества является и музыка, а наибольшим проявлением рационального начала в музыке можно считать полифонию, фуга же по праву является высшей полифонической формой. При этом ввиду чрезвычайной композиционной сложности во всем мировом музыкальном наследии можно встретить лишь единицы тройных фуг. Таким образом, тройную фугу можно считать высшим проявлением 147 рационального начала в музыке. Поэтому сама музыкальная форма несет здесь аллегорический человеческого мира смысл, фуга создаваемого выступает им, как воплощает модель земного сложность и многоплановость этот мира. Ключевые слова фуги: «Хочу и словом расширяю предел безвестных вам чудес» в контексте произведения Танеева читаются: «своим разумом расширяю предел своего познания». В фактуре фуги выделяются отдельные фигуры, явно несущие метафорический смысл. Так, после экспозиции в As-dur третьей темы и ее полифонического развития (ц. 12-14), внезапно звучит гармоническая вертикаль хора с точной имитацией ее в оркестре. На слове «созидаю» сопоставляются две далекие минорные тональности в соотношении большой секунды: f-moll и es-moll (пример 34). В светлой мажорной фактуре вдруг проступают трагические интонации. Пример 34 Аналогичный эпизод есть в репризе, но там сопоставляются ges-moll и e-moll (ц. 26). Данные музыкальные метафоры могут означать трагедии и 148 неудачи человеческого бытия. Гармонический эллипсис несет смысл того, что в развитии человеческого мира что-то вдруг пошло не так, произошел некий слом выстраиваемой гармонии. Сразу после трагического момента (ц. 15) звучит светлая оркестровая интерлюдия: мажорная восходящая секвенция завершается фанфарами медных духовых, знаменующих появление божественного участия. Тема фуги проводится в увеличении в унисон всего хора на три forte, в оркестре в это время звучит лейтмотив Божьего Гласа из первого номера. Еще раз лейтмотив Божьего гласа звучит в самом конце третьего номера. Таким образом, Господь не покидает человека в его земном мире. Особый ряд музыкально-выразительных средств служит созданию мрачной таинственной атмосферы инфернального мира в №4. Перед вступлением хора в первом такте в партии струнных звучат секстаккорды, изложенные шестиголосно, и на секстольном тремоло. До вступления хора данный аккорд успевает прозвучать трижды. Так появляется библейское «число зверя» – три шестерки, не столь различимые здесь на слух, но явственно предстающие в партитуре. Столь яркая нумерологическая эмблема, данная Танеевым в самом начале номера очевидным образом указывает на его аллегорическое содержание (пример 35). Пример 35 149 Для всего номера характерно монотематическое развитие, подчиненное определенной образности. Фактуру оркестра в различных группах инструментов пронизывает один характерный мотив: быстрый восходящий гаммаобразный пассаж с последующим скачком на широкий интервал (чаще на тритон). Данный мотив уместно охарактеризовать как музыкальную метафору вспыхивающих языков адского пламени (пример 36). Пример 36 В разделе вступления хор звучит зловещим унисоном в отсутствии партии сопрано (олицетворения высшего начала). Изобилуют нисходящие хроматические ходы (pasus duriusculus). Партия альтов, являющаяся здесь мелодическим голосом, доходит до крайних низких нот своего диапазона. Все это метафорически передает картину подземного мира. В конце вступления в унисон оркестра на фортиссимо троекратно звучит тритон – снова эмблема трех шестерок. Обе темы фуги звучат в совместной экспозиции с одинаковым текстом, но при этом эмоционально контрастны друг другу. Они метафорически передают два противоположных действия заложенных в поэтическом тексте. Первая тема экспрессивная, порывистая, соответствует тексту «Он там кипит и рвется…» Для нее характерны широкие восходящие мелодические скачки на неустойчивые интервалы, движение, устремленное к верхнему звуку, к логической вершине мелодии, что дополнительно подчеркивается подвижной динамикой. Вторая тема сковывает эмоциональный порыв первой, соответствуя второй половине текстовой фразы «…сжатый в оковах темной глубины». В ней преобладает нисходящее хроматическое движение (pasus duriusculus), нисходящие скачки на уменьшенную квинту. Начинаясь c вершины, общее мелодическое движение направлено вниз в диапазоне малой децимы. 150 Особая метафора темного царства создана при помощи ладотонального плана фуги. На эту интересную особенность обращает внимание А. Степанов: «Тональный план f – cis через посредствующее кратковременное отклонение в es-moll, а затем предкульминационное проведение в h-moll (тритон к тонике) создает целотоновое последование минорных тональностей, типичная характеристика мрачных сил, данная Танеевым поновому, – лишь общим тональным планом» [116, с. 131]. №5 «Квартет» открывает новую смысловую сферу, связанную с идеей становления личности человека (с №5 по №7). Он посвящен проблемам взаимоотношения человека с окружающим миром. В №5 происходит переключение художественной образности с космогонического масштаба на масштаб судьбы отдельного человека. В музыке это воплощается в ряде музыкально-метафорических приемов. Прежде всего, это значительное уменьшение звуковой массы за счет сокращения и изменения состава исполнителей. Впервые в кантате появляется квартет солистов: сопрано, альт, тенор и бас. Грандиозные хоровые фрески, воплощающие в предыдущих частях фундаментальные понятия мироздания, здесь сменяются камерным звучанием отдельных солирующих голосов. Значительное разряжение фактуры происходит и в партии оркестра. В противовес громогласному tutti предыдущего номера, здесь используются группы деревянных духовых и струнных инструментов, что придает звучанию особую легкость и воздушность. Другим музыкально-метафорическим приемом, подчеркивающим внимание к личности человека, является индивидуализация отдельных тембров. Звучание солирующих голосов, в отличие от хоровых партий, приобретает здесь ценность, прежде всего, как индивидуальная тембровая характеристика и воплощает самобытность человеческой личности. Этот смысл усилен также значительной полифонизацией и мелодической развитостью фактуры, а также наличием эпизодов solo каждого из голосов. 151 Данный прием свойственен и оркестровой партии, изобилующей solo отдельных инструментов (альта, гобоя, скрипки). Началу основного музыкального материала квартета предшествует довольно обширное вступление (т.т. 1-20), художественная функция которого заключается в плавном переключении от образов мрака к образам, наполненным светом и теплотой человеческих чувств. Благодаря поэтапному повышению регистра и изменению тембра (от низких струнных до высоких деревянных духовых), слушатель как бы переносится в новое художественное пространство и новый мир образов. Вступление состоит из трех небольших разделов, экспонирующих solo различных инструментов, каждый из которых имеет свое метафорическое наполнение. Первый раздел – solo виолончелей и контрабасов в унисон в низком регистре (т. 1-5) – это отголоски предыдущей части, метафора «глуби земной», представленная инструментами самого низкого диапазона звучания, и нотируемых на самых нижних строчках партитуры. Второй раздел – solo альта, продолжающего тему низких струнных, но уже в среднем регистре. На его фоне появляется экспрессивная тема у кларнета, символизирующая эмоциональный строй земного, человеческого мира. Данный раздел является связующим, переходным от подземного инфернального мира к земному – человеческому. Тембр солирующего альта несет здесь особый метафорический смысл. Как известно, до XX века альт крайне редко использовался в качестве солирующего инструмента и поэтому в партитуре Танеева он привлекает к себе внимание. На наш взгляд этот инструмент использован композитором как метафора середины, переходного момента: альт – средний по диапазону струнный инструмент, в партитуре занимает среднюю строку струнной группы оркестра, а альтовый ключ пишется на средней линии нотного стана. Наконец, третий раздел – соло гобоя, вырастающее из темы кларнета предыдущего раздела. Тембр гобоя также метафоричен, как известно, он традиционно представляет в симфонической музыке пасторальное начало, 152 ассоциируясь с пастушьей дудочкой. В дальнейшем эта тема играет важную роль в формировании целостного художественного образа. Так, например, она неоднократно появляется в качестве контрапункта к солирующим голосам, на ней же строится оркестровое заключение всего номера. №5 – это повествование о самом начале жизни человека, его безмятежной, счастливой и наивной юности в прекрасном окружающем мире. Этот смысл также аллегорически выражен в музыке Танеева посредством ряда музыкально-метафорических приемов. Прежде всего – это аллюзия на жанр романса возвышенного лирического характера. Зарождение музыкального тематизма лирического романсового склада происходит уже в начальных тактах вступления к квартету: в оркестровых мотивах восходящей большой сексты (т. 6), интонация которой играет в данном номере роль музыкальной метафоры и становится интонационной основой мелодики всех вокальных партий (пример 37). Пример 37 Аллюзия на данный жанр просматривается и в начале основного раздела квартета (т. 21): аккомпанемент оркестра представляет здесь простую гармоническую фигурацию из баса и восходящего арпеджио по звукам аккорда. Данная фактура типична для незамысловатого городского романса, широко распространенного в XIX веке в среде любительского салонного 153 музицирования, и в данном случае выступает метафорой наивного юношеского восприятия мира. Другим музыкально-метафорическим приемом, подчеркивающим необходимый Танееву иносказательный смысл этого номера, является нивелирование риторического вопроса, содержащегося в поэтическом тексте. Танеев принципиально использует весь текст стихотворения Хомякова, не подвергая его сокращению, при этом риторические вопросы звучат в четырех номерах кантаты (со 2-го по 6-й), однако драматургическая роль их совершенно различна. В данном номере композитор принципиально избегает влияния на музыкальное содержание риторического вопроса «К чему куренья?», который мог бы разрушить создаваемую им благостную, пасторальную картину жизни. Композитор достигает этого сразу несколькими способами. Во-первых, данная текстовая фраза лишена тематической самостоятельности, она звучит в первых тактах вступления и имеет функцию небольшого подголоска к оркестровой теме низких струнных. Во-вторых, мужской хор, исполняющий этот текст, не включен в заглавие, номер озаглавлен «Квартет», а не, например, «Квартет и хор» как это было бы логично. Наконец, в-третьих, полностью убеждает в незначительности данной фразы для композитора следующее примечание в партитуре: «При отдельном исполнении пятого номера эта фраза хора выпускается». Таким образом, здесь мы встречаемся с еще одним примером того, как Танеев, намеренно выключая определенные слова из смыслового поля кантаты, активно воздействует на стихотворный текст, наполняя его в итоге другим, аллегорическим содержанием. В №6 содержится повествование о формировании личности человека в окружающем мире. Период наивного восторга юности сменяется этапом духовного становления. Человек начинает критически осмысливать мир, видеть все его несовершенство, несправедливость, что приводит его к чувству душевного сокрушения. 154 Такое аллегорическое содержание воплощено здесь композитором посредством целого комплекса музыкально-метафорических приемов. Основным из них является гиперболизация риторических вопросов. В отличие от предыдущего номера, где единственный риторический вопрос был максимально нивелирован, спрятан в музыкальной фактуре, данный номер основан на нескольких риторических вопросах, играющих ключевую роль. Собственно говоря, здесь вообще отсутствуют утвердительные предложения, и литературный текст всего номера состоит исключительно из вопросов, доведенных композитором до максимальной степени драматизма. Очень интересно в шестом номере Танеев выстраивает последовательность светоносных образов, намеренно выделяемых им в данном фрагменте стихотворения. Логика их экспозиции заключается, вопервых, в постепенном увеличении масштаба светоносных источников: огни, светила, звезды. Во-вторых, в обесценивании, отрицании в последнем вопросе самого крупного из светоносных источников: «как искры из горнила, бросаю звезды в мрак ночной». Проследим за музыкальной драматургией этого номера. Тема первого вопроса «К чему огни?» хорального склада, достаточно сдержанного статичного характера, звучит на piano в хоре с минимальной поддержкой оркестра. Она экспонируется в самом начале номера (тт. 1-16). Неустойчивые гармонические обороты подчеркивают вопросительные интонации в мелодии. Построение завершается ниспадающим соло бас-кларнета. Вопрос как бы повисает в воздухе. Данную тему можно охарактеризовать как зарождающееся в душе героя сомнение. Ключевой вопрос повторяется семь раз, что подсказывает его особый сакральный подтекст. Тема второго вопроса «Не я ль светила зажег над вашей головой?» – динамически наполненная и порывистая; она представлена в имитационнополифоническом проведении у квартета солистов. По сравнению с первой, данная тема значительно динамизирована и представляет собой яркое протестное высказывание (пример 38). Эмоциональный напор достигается 155 также за счет сужающегося шага вступления имитирующих голосов. Отсюда вновь вступающие проведения все больше накладываются на звучание предыдущих, а сама тема как бы сжимается в «комок». Общее количество проведений второй темы во всех голосах в ее первоначальном построении (тт.. 21-35) также равно семи, что также подчеркивает ее сакральный смысл. Пример 38 В последующем развивающем полифоническом раздел уплотняется фактура, повышается тесситура и увеличивается динамика, а в зоне кульминации композитор использует гармонический эллипсис (тт. 53-54): доминантовое трезвучие переходит в трезвучие минорной субдоминанты. Тонально-гармоническое развитие приходит в неожиданно далекую тональность (из Des в fis). Данный эллиптический оборот в контексте номера приобретает определенный смысл, выступая музыкальной метафорой неразрешимости поставленных вопросов (пример 39). Пример 39 Примечательно, что третий вопрос «Не я ль, как искры из горнила, бросаю звезды в мрак ночной?», в отличие от первых двух, не имеет в музыке своей ярко выраженной темы. Впервые появляясь в кульминационной зоне (тт. 55-59) в хоре на интонационном материале второй темы, в дальнейшем на протяжении номера он звучит с различным музыкальным материалом. На 156 тексте третьего вопроса построено несколько развивающих полифонических разделов, при этом каждый раз с новым музыкальным материалом (тт. 69-81, 91-96, 127-136). Данный композиционный прием можно считать метафорой «мрака ночного». Как нечто невнятное, эфемерное, не имеющее индивидуальных очертаний третий вопрос все время изменяет свое музыкальное обличие. Помимо этого, только в тексте третьего вопроса композитор применяет прием вычленения из предложения отдельных фраз и слов, усиливая, таким образом, их значимость. Так, в среднем разделе (тт. 85-89) в имитациях между хором и квартетом солистов многократно повторяются слова «бросаю звезды». В заключительном разделе номера в сольных проведениях баса и альта (тт. 137-142) выделяется фраза «бросаю звезды в мрак ночной», а также во всех партиях солистов звучит отдельно фрагмент фразы «в мрак ночной». Помимо высвечивания из контекста общего смысла конкретных слов, данный прием дробления текста имеет также метафорическое значение рассеивания, растворения в темноте видимых очертаний предметов. Таким образом, в целом через выстраивание музыкальной драматургии и приемы работы с литературным текстом, Танеев подчеркивает последовательность возрастания и исчезновения светоносных образов: огни, светила, звезды, мрак ночной. От первого к третьему вопросу происходит усиление эмоционального накала, в кульминационной точке впервые появляется третий вопрос, после чего происходит постепенное «рассеивание», «растворение» музыкальной ткани. В комплексе с числовой символикой и музыкально-метафорическими фигурами раскрывается аллегорический смысл номера: глубокие нравственные вопросы, встающие перед человеком в период его духовного становления, не находят ответов и повисают в пустоте. № 7 – безутешный драматичный итог и развязка всего предыдущего развития. Музыкальными средствами здесь воплощено эмоциональное состояние человека, который находится в крайней степени душевного 157 надлома и разочарования. Для этих целей Танеев обращается к полной палитре выразительных средств симфонического оркестра. Хор, за исключением нескольких тактов в самом конце, в этом номере не задействован. Такое решение представляется закономерным. Хор, как носитель литературного текста, дает буквальный смысл, однако здесь композитору было необходимо передать тончайшие движения человеческого духа. Симфонический оркестр, лишенный литературного слова, во всей мощи своей драматической выразительности способен взывать к абстрактночувственному восприятию вне словесного выражения, обратиться к тонким струнам человеческой души. Троекратная реплика хора в самом конце «Твой скуден дар» лишь подводит итог, безутешный вывод всей душевной бури. В сложном и насыщенном симфоническом полотне синтезируется и преобразуется в новое качество музыкально-тематический материал почти всех предшествующих частей. Эти музыкальные темы слушателю знакомы и уже связаны с определенными иносказательными образами. Благодаря этому, через анализ последовательности, взаимодействия и преобразования этих тематических образов, выявляется аллегорическое содержание данного номера. Музыкальная форма номера состоит из девяти разделов, выстроенных по рондальному принципу. Весь тематизм номера можно условно поделить на две контрастных образных сферы: злого рока, концентрирующаяся в рефренах и добра и света, появляющаяся в эпизодах. Тематизм рока преимущественно заимствован из №1 и №4, а тематизм добра из №2, №5, №6. Происходит их столкновение, в итоге сфера рока превалирует над сферой добра, поглощает и трансформирует ее. Проследим драматургию номера. Первый раздел (тт. 1-40) экспозиция темы рефрена, вырастающей из основного лейтмотива кантаты. Среди ее выразительных средств унисонное звучание струнных и деревянных духовых в низком регистре, изменчивый, изобилующий синкопами ритм, мелодия направленная преимущественно к нижним звукам, скачки на неустойчивые 158 интервалы. Также в данном разделе использован метафорически значимый мотив завывания ветра (тт. 24, 27) из №1. Заканчивается раздел построением, основанным на мотивах «Dies irae», также заимствованных из №1. Таким образом, рефрен воплощает образ зловещей и непреодолимой надвигающейся силы, метафору злого рока. Второй раздел (тт. 41-71) представляет собой реминисценцию тем из №2 и №5. Темы представлены не целиком, они дробятся по отдельным мотивам, распределенным между разными группами инструментов оркестра. Между группами медных и деревянных духовых распределяется тема из №2 «Израиль, ты мне строишь храмы» (тт. 41-47, 55-71). У деревянных духовых появляются мотивы из №5 «Предо мною…» (тт. 47-54), в целом, звучание прозрачное и воздушное, на тихой динамике. Данный раздел представляет музыкальную метафору далеких воспоминаний о счастливом прошлом, фрагментарно всплывающем в сознании в виде образов прекрасного. В третьем разделе (тт. 72-98) происходит трансформация темы второго номера, она звучит на forte и за счет нового варианта гармонизации приобретает зловещую драматическую окраску. На эту тему контрапунктом наслаивается мотив из темы рефрена у тромбонов и тубы, мотив завывания ветра у высоких деревянных, а также тема «Земля трепещет» из №1 у фагота и низких струнных, данная в инверсии. В метафорическом смысле силы злого рока вторгаются здесь в сферу прекрасных воспоминаний, поглощают и трансформируют ее, наполняя особым драматизмом. Четвертый раздел (тт. 99-113) – рефрен первоначальной темы. Метафора непреодолимости сил злого рока снова представлена в своем первоначальном варианте. Пятый раздел (тт. 114-147) – очередной эпизод воспоминаний о счастливом прошлом. Он основывается на темах из второго и пятого номеров: здесь в контрапункте соединены темы «Земля со всех своих концов кадит дыханьем…» (из №5) и тема «И в них курятся фимиамы» (из №2). В конце раздела темы словно растворяются в тремолирующих аккордах на 159 piаnissimo у струнных и деревянных духовых. В метафорическом смысле светлые воспоминания исчезают, истаивают в неясной дымке. Шестой раздел (тт. 148-164) – это динамизирующая разработка тематизма злого рока. Здесь в контрапункте соединены сразу несколько его элементов: мотив «Dies irae», мотив завывания ветра, тема «Земля трепещет» из №1 и два отдельных мотива, выделенных из первоначальной темы номера. В метафорическом смысле здесь происходит приумножение сил злого рока. В седьмом разделе (тт. 165-187) звучит тема вопроса из №6 «Не я ль светила зажег над вашей головой?», но в весьма видоизмененном виде: динамика piano, штрих staccato, неустойчивый синкопированный ритм в триольном движении. Здесь нет протеста, пафосности, как в шестом номере, напротив – ощущается страх, неуверенность. В метафорическом смысле такое преобразование характеризует психологический надлом человека, который уже не в силах дать отпор настигнувшим его несчастьям. Восьмой раздел (тт. 188-203) есть апофеоз развития тем злого рока и кульминация всего номера. Происходит концентрация полифонической фактуры, звучит оркестровое tutti на максимальной динамике (sempre fortissimo). Помимо уже звучащей ранее темы «Земля трепещет», и мотивов первоначальной темы номера, здесь добавляется мотив из №4 «Он там кипит…» (образ «глуби земной» – пространства инфернального мира). В конце раздела звучат реплики хора «Твой скуден дар», подытоживающие содержание всего номера. В метафорическом смысле это торжество сил злого рока, их победа над человеческой волей. Девятый раздел (тт. 204-222) представляет собой рефрен первоначального построения, выполняющий функцию репризы-коды номера. Тема звучит целиком так, как она дана в 1-ом и 4-ом разделах. Метафорически – это подтверждение победы злого рока. №7 – драматический центр, кульминация всей кантаты и одна из ярчайших вершин в русской симфонической 160 музыке. Выдающееся мастерство симфонического развития и виртуознейшая полифоническая техника Танеева наполнены целым спектром острых человеческих чувств. Здесь переплетено и драматургически выстроено множество музыкальных тем, заимствованных из предыдущих частей кантаты. Благодаря этому, они приобретают ясный метафорический смысл и, в контексте содержания всей кантаты, позволяют сформулировать аллегорическое содержание номера. Это процесс внутренних терзаний человека, находящегося на грани своих душевных сил. Различные чувства возникают и нахлестываются одни на другие. Обрывки светлых далеких воспоминаний разбиваются о суровую и непреодолимую реальность – силу трагических обстоятельств. Эмоциональные силы человека иссякают, он душевно надломлен. В №8 «Арии» раскрывается последний и самый важный этап становления человеческой личности. После перенесенного тяжелого душевного потрясения, человек пытается обрести смысл и основу жизни в нравственном законе, данном в божьих заповедях. Метафорический смысл здесь несет сам жанр номера. Это единственная во всей кантате ария, что подчеркивает глубоко личный характер повествования, также данный смысл подчеркивают эпизоды солирующей скрипки, и камерность оркестрового звучания. В аллегорическом контексте здесь воплощен внутренний духовный поиск человека. Ария лишена открытой эмоциональности, свойственной многим предыдущим номерам; музыка носит характер сдержанно-торжественного повествования. Главные слова кантаты звучат декларативно, без пафосности, как библейский текст, знакомый человеку с ранних лет, но ярко всплывающий в сознании лишь в определенные важные моменты, как утешение, как опора в жизни. Номер в целом имеет трехчастную репризную структуру с инструментальным вступлением, кодой и контрастным эпизодом. В инструментальной коде (тт. 155-176) звучит оркестровое tutti и фактура приобретает масштабный величественный характер, предвосхищая финал. 161 Кода, основанная на музыкальном материале вступления, уравновешивает форму и может являться логичным завершением номера. Об этом свидетельствует и примечание автора о том, что «при отдельном исполнении 8-ой номер следует закончить этим аккордом» [128, с. 245] – то есть на коде (т. 177). Однако номер завершается внезапно вторгающимся заключительным инструментальным эпизодом (тт. 177-190), резко контрастирующим с музыкальным содержанием предыдущего материала и, фактически, разрушающим его характер. Этот эпизод становится особым разделом формы, играющим важную роль в раскрытии аллегорического смысла номера. Здесь на forte с акцентами в унисон деревянных и медных духовых инструментов звучит окончание зловещей темы «Земля трепещет…», используемой ранее в №1 и №7. В сумрачном звучании унисона струнных инструментов в нисходящей секвенции проводится начальный мотив темы финала, соответствующий словам «Мне нужно…». Заканчивается эпизод в тональности А-dur, модулируя на тритон от основной тональности арии (Esdur). Таким образом, в музыкальных цитатах, имеющих метафорическое значение, выражается настоящее состояние героя – страх и потребность в обретении духовной основы. После звучания эпизода вся предшествующая ария представляется скорее как сознательная, рациональная попытка поиска истины, но не ее обретение. Этическая максима, прозвучавшая в тексте, приобретает скорее декларативный характер, а не смысл констатации свершившегося душевного успокоения человека. В тексте последних восьми строк стихотворения глагол «нужен» используется четырежды. Посредством этого дополнения к арии композитор многократно усиливает необходимое значение, заложенное в тексте. Страх и духовная нужда – это настоящее человека, обретение духовного идеала – желаемое будущее. Содержание №9 – финала кантаты схоже с содержанием №8 с той разницей, что тема обретения нравственной основы жизни расширяется здесь до всечеловеческого масштаба. В музыке метафорически это выражено 162 следующим образом: тот текст, который в арии был изложен в партии солистки, в финале исполняется наиболее грандиозным во всей кантате вокальным составом – двумя четырехголосными смешанными хорами. Последние два номера кантаты тесно связаны по музыкальному тематизму. Все четыре темы фуги в №9 дублируют фрагменты мелодии арии №8, соответствующие одному и тому же поэтическому тексту. В этом композиционном приеме усматривается метафора архетипичности нравственных законов, их всеобщности как для отдельной личности, так и для всех людей. Особый аллегорический смысл несет крайне сложная полифоническая форма финала. Это четырехтемная фуга с совместной экспозицией для двух смешанных хоров. Ее структура представляет собой трехчастную репризную композицию, завершающуюся грандиозной кодой. Экспозиция основных тем (тт. 1-18) и их реприза (тт. 75-91) написаны по правилам фуги, в то же время форму в целом можно также рассматривать как сонатную. При этом указанные разделы выступают в роли главной партии, а роль побочной играют повторяющиеся интермедии (тт. 24-34 и 97-107), их музыкальный материал звучит в экспозиции в тональности доминанты, а в репризе – в тональности субдоминанты. В данном номере трудно выделить форму первого и второго плана, по сути здесь мы наблюдаем образец великолепного синтеза двух различных форм: фуги и сонаты. Эта структура уникальна в истории музыки. Сверхсинтетичная форма выступает метафорой сложности, труднодостижимости заветной цели – всеобщей, всечеловеческой жизни по заповедям Божьим. Автор через столь сложную композицию как бы декларирует саму возможность решения этой, кажущейся невыполнимой, задачи. На фоне торжественного, гимнического звучания финала привлекает к себе внимание эпизод, контрастирующий с его основным характером. Это оркестровое расширение перед кодой (тт. 108-117). В завершении репризы общее гармоническое движение устремляется к тонике (тт. 104-107), однако 163 далее появляется гармонический эллипсис: доминантсептаккорд переходит в секстаккорд минорной субдоминанты (g-moll), а первая и вторая темы фуги звучат в трагическом обличии на fortissimo с преобладанием медных духовых инструментов. Данный композиционный прием соотносится с аналогичным заключительным эпизодом восьмого номера и выступает метафорой трагического настоящего, относя тем самым грандиозную коду в сферу желаемого будущего. В коде (тт. 118-191) темы фуги поочередно проводятся в увеличении в унисон у двух хоров. Данный прием имеет явный метафорический смысл объединения всего человечества в идее всеобщей братской любви, чистосердечия и справедливости. Главные слова всей кантаты звучат здесь как общечеловеческий гимн, обращенный в будущее, как декларация конечной цели истории человечества, идеальной и возможно недостижимой, но соответствующей божественному замыслу. Кантата «По прочтении псалма» – высочайший шедевр, ставший итогом всего композиторского пути Танеева. В ней композитор стилистически продолжает традиции своей первой лирико-философской кантаты, но в гораздо более широком масштабе. В этом фундаментальном произведении сфокусировались ключевые идеи всего его творчества, с наибольшей силой реализовалось мастерство, творческое credo, мысли и чувства, которые определяли весь жизненный путь композитора. В последней кантате Танеев воплотил свое понимание модели мироздания и роли человека в этом мире, смысл и цель жизни которого в воплощении высочайших нравственных идеалов всеобщей братской справедливости. 164 любви, чистосердечия и ЗАКЛЮЧЕНИЕ Чем с более дальнего исторического расстояния мы всматриваемся в творчество Танеева, тем более очевиден его обращенный в будущее потенциал. В то время как безудержный дух новаторства охватывал художников всех рангов, охранительные, классицистские идеи Танеева были особо ценны с точки зрения их исторической перспективы. Обозревая XX век, как единое историческое пространство культуры, значение в нем музыки Танеева становится все более очевидным. Новаторство Танеева предопределило многие пути отечественного музыкального искусства. То, что современникам казалось сухим рационализмом, а иным и ретроградством, многократно доказало свою жизнеспособность и дало огромный импульс к развитию. Танеевское новаторство совершенно особого рода: оно заключено не в отрицании норм и правил в угоду необычности самовыражения, а в синтезе традиций. Танеевский индивидуальный композиторский стиль проистекает из нескольких исторических источников, среди которых: полифония строго письма, музыка эпохи барокко, венский классицизм, традиции русской музыки, включающие народно-песенный и церковный мелодизм. При этом все эти компоненты органично вплетены в парадигму русского музыкального романтизма, неотъемлемой частью которого стала музыка Танеева. В то же время в начале ХХ века многие его философские и эстетические устремления, такие как интеграция различных сфер духовной деятельности (философии, религии, науки, искусства), поиск рациональных оснований творчества, историзм мышления, оказались созвучными художественной культуре Серебряного века. Глубина и многоплановость музыки Танеева продолжает раскрываться во времени. На протяжении ХХ века интерес ученых сосредотачивался на различных аспектах наследия композитора, и каждый из них открывал для себя новые грани танеевского гения. Проведенное исследование привело к следующим результатам: 165 рассмотрение происхождения, значения и функций аллегории показало, что аллегория – это универсальная категория культуры, которая обнаруживается в различных ее сферах на протяжении многих веков. В основе иносказания лежат разнообразные ассоциативные связи, возникающие между художественным образом и выражаемым им значением. Смысловой диапазон аллегории может простираться от конкретного значения до абстрактных понятий. В двух основных функциях аллегории: раскрытии сложных абстрактных понятий через конкретные доступной художественные определенному образы кругу и сокрытии избранных, но информации, недоступной непосвященным, проявляются огромные возможности для восприятия смысловой перспективы между реальным миром и произведением искусства. Термин аллегория также давно используется по отношению к музыке, тем не менее как в зарубежном так и в отечественном музыкознании это понятие пока не получило общепринятого определения. В обобщенном понимании под музыкальной аллегорией подразумеваются различные механизмы наделения произведения неким иносказательным смыслом, не всегда очевидным в буквальном восприятии и требующем определенного аналитического подхода слушателя. Были выявлены основополагающие для Танеева принципы работы с поэтическим словом в хоровых сочинениях: В качестве литературной основы композитор избирает поэтические тексты особого содержательного строя, где под внешней пейзажностью, мифологическим или религиозным сюжетом в них сокрыт глубинный слой внутреннего иносказательного смысла. Огромное значение Танеев придает обобщенной образности текста, благодаря которой проявляется иносказательный смысл, закрепленный в художественных архетипах 166 человеческой культуры. Можно проследить определенные сквозные линии или даже говорить о монотематичности во всем хоровом творчестве. Так, несут особый смысл излюбленные Танеевым образы ночи, звезд, восхода солнца, моря (спокойного и бурного), многократно возникающие в хоровых произведениях, их трактовка далека от простой пасторали. Например, в образах ночи и звезд могут воплощаться такие идеи, как покой («Венеция ночью», «Серенада», «Тихой ночью»), одиночество («Ноктюрн», «Ночь»), поиск истины («Вечерняя песня», «Звезды»), самозабвение («Сонет Микеланджело», «И Сон и Смерть равно смежают очи»). Танеев работает с литературным текстом в рамках им самим определенной свободы. С одной стороны он сохраняет основную идею, образную целостность, словарный состав и форму стихотворения. В то же время, для композитора в хорах крайне важен малый масштаб смысловой детализации текста благодаря которому он высвечивает определенные иносказательные произведение собственным подтексты или аллегорическим даже наделяет смыслом. Богатые возможности для этого предоставляет особая танеевская хоровая фактура. Наделяются яркими красками, становятся особо выпуклыми ключевые слова, необходимые для выражения содержания. Для этого используется значительный арсенал музыкальных средств: подчеркивание нужного слова громкой, или же, напротив, внезапно тихой динамикой («тихая кульминация» по терминологии В. А. Цукермана), выведение важной фразы на первый план при многократном повторе в полифонической фактуре. Излюбленный композитором посредством прием – высвечивание метафорических фигур: при определенного смысла взаимодействия двух семантических полей – словесного и музыкального. Используя весь спектр полифонического письма (имитационность, подголосочность контрастная полифония, элементы микрополифонии), композитор 167 возвышает по сложности музыкального высказывания жанры кантаты и хора a cappella к симфоническому мышлению. Анализ иносказательного содержания хоровых сочинений Танеева, относящихся к различным периодам жизни и к разным жанрам показал, что аллегоричность – одно из ключевых свойств творческого мышления композитора, всецело проявившееся в его хоровой музыке. При этом в каждом периоде высвечивается определенный ряд наиболее характерных образов и сюжетов, становящихся лейттемами творчества. Яркие примеры музыкальной аллегории уже можно обнаружить в ранних хоровых миниатюрах композитора, написанных преимущественно для камерного музицирования. При этом, несмотря на изначальное предназначение, данные сочинения вполне находятся в содержательном контексте всего музыкального наследия композитора. В них прослеживается определенные, ключевые для Танеева темы: размышление о роли и призвании художника в обществе, о значении подлинного искусства в жизни человека и путях постижения посредством него высоких этических истин. В вершинных хоровых циклах на стихи Полонского и Бальмонта тема взаимоотношений личности и общества аллегорически воплощена на гораздо более драматичном уровне, чем в литературном первоисточнике. В данных сочинениях, находящихся в культурном и историческом шлейфе Революции 1905 г., впервые возникают аллегории социального характера: жестокой и деспотичной власти, сраженной и страдающей личности. Аллегорическое содержание в кантатах «Иоанн Дамаскин» и «По прочтении псалма» достигает подлинно философского уровня. Здесь происходит музыкальное осмысление фундаментальных вопросов мироздания: божественного начала, жизни и смерти, смысла и цели человеческого творчества. 168 Метод анализа музыкального произведения с точки зрения его аллегорического содержания представляется особенно перспективным по отношению к отечественной музыке XX века. Одной из важных предпосылок тяги творцов к иносказательности стала радикальная смена общественнополитического устройства России. После Октябрьской революции частью государственной политики стало подчинение искусства утилитарной цели – воспитанию человека новой формации, обладающего установленными художественными и идеологическими воззрениями. Жесткая цензура затрагивала как содержательную сторону произведения, так и саму эстетику музыкального языка. Художники оказались ограничены в самом, пожалуй, ценном для них – свободе творческого самовыражения. В этой ситуации иносказание становится одним из способов для творцов не писать «в стол», а попытаться донести свои подлинные мысли и чувства до публики. Востребованной оказывается одна из ключевых функций аллегории – сокрытие подлинного содержания от непосвященных с целью преодоления цензуры – так называемый эзопов язык. И.В. Степанова говоря о конъюнктурности многих хоровых произведения советского периода, отмечает: «…для нестандартно мыслящего художника создание произведения в лавине юбилейных музыкальных "приношений" является интересным творческим ребусом, тестом на способность автора сохранить в условиях жесткой предписанности "лица необщее выраженье"» [117, с. 320]. Нередко исследователи обнаруживают, что музыка подобных произведений содержательно гораздо глубже их литературного текста, или напротив, вовсе не соответствует ему, а определенные композиционные решения и риторические формулы могут выступать в качестве музыкальных метафор. В подобных случаях правомерным представляется предположение о наличии аллегорического содержания. Как справедливо подмечает Е. Б. Долинская: «В таких произведениях, как кантаты "К двадцатилетию Октября" и "Здравица", Прокофьеву приходилось переходить на эзопов язык, чтобы политическая концепция, которую, прежде всего, хотели увидеть и 169 проанализировать официальные лица, не показалась бы им неверной» [43, с. 279]. К сожалению, несмотря на все творческие ухищрения, в силу значительного отступления музыки Прокофьева от стилевых критериев социалистического реализма кантата «К двадцатилетию Октября» была запрещена к исполнению. Шквал критики вызвала также кантата Мясковского «Кремль ночью», в которой, при некоторой двусмысленности текста, образ Сталина подан с атрибутами восточного деспота. Свойства тайнописи, наличие в произведении некоего иносказательного смысла проявляется во многих произведениях советского периода. Несмотря на политику бесчеловечного подавления достоинства личности, подлинные Мастера находили в себе силы сохранить внутреннюю творческую свободу. Одним из важных художественных приемов при этом выступала музыкальная аллегория. С этой точки зрения наследие многих композиторов XX века, в особенности Прокофьева, Мясковского, Шостаковича, Свиридова представляется пока недостаточно изученным. Если один вектор танеевского творчества так или иначе обращен в прошлое – к восприятию и переосмыслению традиций, то другой – направлен в будущее, это поле новаторских прозрений композитора, ставших для XX века мощными импульсами развития музыкального искусства. «В самом деле, – отмечает Т. Левая, – предвидения Танеева заметно опередили свое время. Историзм мышления, рациональное отношение к творческому процессу, связующая сила контрапунктических форм – то, что лишь к 1910 – 1920-м годам стало явлением общекультурного масштаба, характеризовало его деятельность уже начиная с 80-х годов прошлого столетия. Очевидно, эти принципы могут быть расценены во многом как его личное завоевание, достигнутое не только талантом, но и универсальной образованностью и научной проницательностью» [67, с. 90]. Прежде всего, Танеев стоял в авангарде нового полифонического ренессанса освещающего весь XX век. То, за что многие современники 170 упрекали Танеева, – рациональный, с опорой на полифонию, метод творчества, впоследствии стал общепринятой основой музыкального мышления. Своими музыкально-теоретическими трудами и всем своим композиторским творчеством Танеев фактически предвосхитил фундаментальную смену эстетической парадигмы от романтизма века XIX к рациональному конструктивному мышлению века XX, пронизанного идеями неоклассицизма. Потрясающий парадокс заключен в том, что в своих научных изысканиях Танеев сквозь призму далекого прошлого провидчески заглядывает в будущее музыкального искусства. Так в своем труде «Подвижной контрапункт строгого письма», вышедшем в 1909 г., он фактически предвещает появление двенадцатиступенной хроматической системы и свободной атональности: «…наша тональная система теперь в свою очередь перерождается в новую систему, которая стремится к уничтожению тональности и замене диатонической основы гармонии хроматической» производных [127, с. 6]. Более того, танеевская классификации контрапунктических соединений предвосхищает учение Шенберга о четырех формах додекафонной серии (прямое движение, ракоход, инверсия, ракоход инверсии). Все эти факты не могут не поражать воображение исследователей. С нескрываемым восторгом высказывается об этом Ю. Холопов: «Танеев в этих своих взглядах учитывал самые, самые, самые последние для своего времени тенденции в музыке. Создается даже впечатление, что Танеев о некоторых явлениях современной ему музыки знал раньше, чем они возникали (!)» [138, с. 329]. Значительные новаторские достижения композитора в области хоровой музыки оказали значительное влияние на развитие хоровых жанров, занявших гораздо более важное место в широком спектре музыкального искусства XX века. Грандиозные социально-политические потрясения, произошедшие в России в 1917 г. стали причиной коренного перелома во всей музыкальной эстетике. Образы, лежащие в основании дореволюционного 171 хорового искусство, в большинстве противоречили идейным основам, насаждаемого новым политическим руководством страны. По этой причине подчас очень надолго прерываются многие ведущие линии хорового и кантатного творчества прежнего времени. К числу таких временно отвергнутых жанров относится также одно из значительнейших новаторских достижений Танеева – этико-философская кантата. В период, когда главным назначением музыки было признано ее служение в качестве средства агитации, на первый план выдвигались славильное и историко- патриотическое наклонение жанра. Но все же, в отдельных наиболее искренних кантатно-ораториальных сочинениях, а также примыкающих к ним симфониях с участием хора линию преемственности, идущую от кантат Танеева, можно проследить. Одно из таких произведений – 6-я симфония Мясковского (1923 г.), в хоровой коде финала которой как бы оживает образно-смысловой слой танеевского «Иоанна Дамаскина»: глубокое философское осмысление смерти и загробной участи души. Другим кантатно-ораториальным сочинением советского периода, продолжающим этико-философскую линию Танеева несомненно является «Поэма памяти Сергея Есенина» (1956 г.) Свиридова. Одна из ключевых идей кантаты, связывающих ее с танеевскими – размышление о взаимоотношениях творца (поэта) и окружающего мира. Как и у Танеева, творческая личность здесь предстает в двух планах: объективном и субъективном. С одной стороны, поэт является квинтэссенцией основополагающих этических начал народа, выразителем его художественного миросозерцания, с другой, он сам выступает как лирический герой произведения, глубоко переживающий трагическую судьбу родины. Кантаты Танеева можно считать основополагающими в становлении особого светско-духовного или духовно-концертного направления в жанровой типологии вокально-инструментальной и симфонической музыки. К этому направлению, получившему широчайшее развитие в XX веке, относятся произведения разнообразных 172 жанров, по замыслу не предназначенные для исполнения в церковной службе. Притом они, так или иначе, соотносятся с духовной музыкой в классическом ее понимании: в них могут быть использованы канонические тексты или мелодии, или же они могут нести духовную тематику в качестве программы. Значительнейшие из этих произведений дореволюционного периода – «Демественная литургия» Гречанинова, «Братское поминовение» Кастальского. Позже библейские темы и образы получают особое претворение у Стравинского в таких его произведениях как «Симфония псалмов», «Священное песнопение», «Плач пророка Иеремии», «Авраам и Исаак», «Потоп», «Заупокойные песнопения». Духовная тема становится фундаментом музыкального творчества для Свиридова. К вершинам его духовно-концертной музыки можно отнести Три хора к трагедии «Царь Федор Иоанович», хоровые поэмы «Ночные облака», «Песни безвременья», вокальный цикл «Отчалившая Русь», кантату «Светлый гость». Подлинный расцвет духовно-концертного стиля происходит в последнюю треть XX века в творчестве таких композиторов как Шнитке, Щедрин, Губайдулина, Денисов, Тищенко, Караманов, Сидельников, Эшпай, Буцко, Ларин и многих других. Нельзя также не подчеркнуть роль Танеева в развитии духовной музыки в ее непосредственном – церковно-прикладном варианте. Хоры композитора на канонические тексты долгое время оставались неизвестными. При жизни композитора они не были опубликованы и впервые вышли из печати в двух выпусках сборников Хоры без сопровождения 1989 и 1991 г. Однако в дальнейшем, благодаря усилиям музыковедов Вл. Протопопова и Н. Плотниковой в 1999 г. вышел сборник, включивший в себя духовные хоры, оставшиеся неопубликованными. Известно, что Танеев глубоко изучал русскую духовную музыку. В архиве Танеева (ГДМЧ, В1, № 513, 514) хранится тетрадь с записями лекций прот. Д. Разумовского о церковном пении в России. Композитору было известно «Руководство к практическому изучению древнего богослужебного пения православной российской церкви» Н. М. Потулова. В круг обширных интересов Танеева входила также 173 религиозная литература, о чем свидетельствуют его дневниковые записи. Кроме этого, Танеев принимал участие в деятельности Московского Синодального училища церковного пения, а в 1889 г. был избран членом Наблюдательного Совета при этом учебном заведении. Позднее Сергей Иванович участвовал в работе Совета Общества любителей церковного пения в Москве, был членом жюри конкурса на лучшее переложение знаменного распева. В стиле духовных песнопений Танеева соединяются приемы западноевропейской, имитационной, и русской, подголосочной полифонии, гармонический и полифонический способы обработки. В целом художественный результат такого уникального синтеза оказался органичным и убедительным. Несомненно, что идеи и непосредственный композиторский опыт Танеева по обработке церковных мелодий повлиял и на дальнейшее развитие русской духовной музыки. В конце 1880-х начале 1890-х годов направлению, выдвинутому Танеевым, стремились подражать. Кастальский так вспоминает свои первые композиторские опыты: «Мне предложили испробовать свои силы в гармонизации обиходных мелодий, но эти пробы были найдены неудовлетворительными, так как в этот период главенствовало мнение (кажется, Танеева), что наши церковные мелодии надо не гармонизировать, а контрапунктировать по образцу западных мастеров ХV-ХVI века. Я подобной техники, конечно, не имел, хотя и пробовал применять разные контрапунктические хитрости к нашим церковным напевам» [48, с. 229]. Очевидно, что эти первые пробы пера Кастальского не остались бесплодными, а сыграли свою роль в выработке его стиля «напевнополифонического», по выражению Асафьева. Очевидно, что горячо отстаиваемые Танеевым убеждения о необходимости полифонической обработки церковных мелодий и его творческие достижения в этой области были восприняты и развиты на новом качественном уровне композиторами «Нового направления». Ими был 174 выработан вершинный стиль русской духовной музыки, названный Смоленским «русской контрапунктикой». Это синтез элементов гармонии и полифонии, впитавший в себя особенности русского народно-песенного многоголосия. Отметим, что крупнейшие из этой когорты композиторов, среди которых А. Кастальский, А. Никольский, А. Гречанинов, С. Рахманинов были учениками Танеева. Танеев – один из родоначальников в русской музыке жанра хорового цикла a cappella на светский текст, в этой области он достиг особого художественного совершенства. Начиная с Танеева, утвердилась самоценность и равноправие светской хоровой музыка a cappella со всеми остальными ведущими жанрами. Очевидно, огромную роль здесь сыграла увлеченностью Танеева наследием западноевропейских мастеров полифонии, чье искусство наиболее полно выражалось именно средствами хора. В этом отношении Танеев выступил связующим звеном между традициями зарубежной и русской музыкальной культуры. Нельзя не отметить провидческий потенциал танеевского творчества. Особенно плодотворными для XX века оказались заложенные Танеевым принципы, сочетающие особую одухотворенность вокальной линии, глубокое осмысление поэтического слова, симфонические методы организации хоровой фактуры, динамизм и выразительность образов, масштабность формы. В десятилетия тяжелейших исторических потрясений в России (20-40-е годы XX века) танеевские традиции жанра лирико-философского хора a cappella были практически забыты. Хоровое искусство было всецело посвящено целям пропаганды, главенствовали преимущественно революционная и военная массовая песня. Однако, начиная с 50-х годов XX века, хор a cappella на светский текст вновь возвращается к своему высокому стилю и приобретает особую востребованность и актуальность. Одним из первых композиторов продолжившим танеевскую линию хорового стиля стал Шебалин. Его циклы на слова Пушкина, Лермонтова, 175 Танка стали определенной вехой на пути развития отечественной хоровой музыки. Композитор достигает здесь подлинных высот жанра. Преемственность этих сочинений с хоровой музыкой Танеева емко определяет Дмитревская: «…в них та же мужественная сдержанность глубокой эмоции, предпочтение косвенного высказывания непосредственному обнажению чувств, этическая чистота и серьезность» [41, с. 92]. В своих хорах Шебалин, опираясь на классические традиции фактурного, гармонического, тематического развития добивается тончайшей передачи смысловых оттенков поэтического образа. Другим, не менее знаковым произведением, по-своему продолжающим традиции Танеева, можно считать цикл Шостаковича «Десять хоровых поэм на слова революционных поэтов» ор. 88 (1951 г.). По масштабности формы, мастерству хорового письма и глубине содержания это произведение, так остро ставящее извечную тему жизнь-смерть, можно сопоставить с двумя крупнейшими циклами Танеева на слова Полонского и Бальмонта. Среди черт преемственности, прежде всего, следует отметить глубокую национальную природу этого цикла. Как отмечает Л.Лебединский: «Сюиту пронизывает благородный и возвышенный интонационный строй русской революционной песни (1905 года), связанной корнями с классической музыкой и поэзией, с русской крестьянской и городской песней» [66, с. 44]. Характерно, что творческим методом Шостаковича становится претворение русской романсово-песенной мелодики средствами сложной полифонической фактуры. Таким образом, здесь Шостакович придерживается творческого credo Танеева – сочетания полифонии с русским национальным мелосом. Общим драматургическим принципом выстраивания хорового цикла как и у Танеева, так и у Шостаковича, является контрастное сопоставление отдельных частей. Крупные по масштабу и развернутые по форме хоровые композиции эпического плана чередуются с более лаконичными. Так, яркие, драматически насыщенные хоры «На улицу!» и «Девятое января» перемежеваны с лирическими хорами «При встрече во время пересылки» и 176 «Казненным». Крупные хоровые номера Шостакович, вслед за Танеевым, выстраивает из нескольких относительно завершенных разделов, сочетающихся по принципу контрастного сопоставления. Особо характерен композиционный прием чередования гомофонно-гармонического и полифонического типов фактур, встречающийся в партитурах и Танеева и Шостаковича. Следуя танеевским принципам, Шостакович тяготеет к симфонизации хора a cappella. Бобровский справедливо отмечает: «Мастерство композитора позволило ему в значительной мере расширить выразительные средства хора, приблизив его к симфоническому и оперному искусству» [25, с. 26]. Глубокие взаимосвязи между хоровыми циклами Танеева и Шостаковича возникают также на уровне художественного содержания. Ряд ключевых темы и идей связывают сочинения двух композиторов – это отражение роли личности художника в обстоятельствах трагических событий истории, обличение насилия и деспотизма, утверждение высоких гуманистических идеалов. Начиная с 50-х годов XX века происходит подлинный расцвет хоровой музыки который продолжается вплоть до наших дней. Хор a cappella, привлекает пристальное внимание современных авторов, опережая подчас более традиционные инструментальные жанры. Салманов, Свиридов, Денисов, Сидельников, Бойко, Фалик, Щедрин, Слонимский и многие другие современные отечественные композиторы в той или иной степени продолжили заложенные Танеевым хоровые традиции. Однажды Прокофьев в ответ на заданный ему вопрос о классике в свойственной ему ироничной манере сказал: «Классический композитор – это безумец, который сочиняет вещи, непонятные для своего поколения. Ему удалось найти некую логику, еще неведомую другим, и потому эти другие не могут следовать за ним. Лишь через какой-то отрезок времени намеченные им пути, если они верные, становятся понятными окружающим» [96, с. 178]. Эти слова удивительным образом 177 созвучны другому прозорливому высказыванию Сабанеева: «Танеевское творчество и его труды – не для современников и даже не для ближайших потомков. Эта музыка, честно созданная и мастерски сделанная, – из тех, смысл, значимость и размеры которой становятся ясными только удаленным поколениям. <…> Пройдут годы, и русский классик Танеев станет для истории русской музыки явлением грандиозным, совершенно самобытным и единственным» [106, с. 7-8]. Рассмотрение синтеза словесного и музыкального текстов хоровых произведений Танеева в их семантическом взаимодействии позволяет проникнуть в сферу танеевской иносказательности, обнаружить заложенные в них смысловые структуры и выявить скрытый смысл. Все это приводит к более полному пониманию глубины и неординарности его творческого гения. Проведенный в данной работе анализ хоровой музыки Танеева с точки зрения ее аллегорического содержания стал очередной попыткой приблизиться к честным и великим трудам одного из величайших мастеров русской музыки. 178 БИБЛИОГРАФИЯ 1. Азадовский К.М. Бальмонт К.Д. // Русские писатели: Биобиблиографический словарь. / Том 1, А-Л, под ред. П.А. Николаева. – М.: Просвещение, 1990. – С. 57-61. 2. Акопян Л.О. Анализ глубинной структуры музыкального текста. М.: Практика, 1995. – 256 с. 3. Аминова Г.У. Жанр кантаты в творчестве С.И. Танеева (к вопросу о национальных истоках стиля композитора) // Художественные жанры: история, теория, трактовка. – Красноярск, 1996. – С. 172. 4. Аминова Г.У. Идея соборности в хоровом и симфоническом творчестве С.И.Танеева: Монография. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 2004, – 141 С. 5. Аминова Г.У. Интонационный мир кантат Танеева // Новое о Танееве. М.: ООО «Дека-ВС», 2007. – С. 256-265. 6. Аминова Г.У. Интонация любви в хоровом творчестве С.И. Танеева // Ученые записки факультета искусствоведения и культурологии. – Красноярск, 2000. – С. 59-66. 7. Аминова Г.У. Мировоззренческие основы творчества С.И. Танеева в свете русской религиозно-философской традиции Славянский мир на рубеже веков // Материалы международного симпозиума. – Красноярск, 1998. – С.142-144. 8. Аминова Г.У. Тема духовной любви в русской в русской философской мысли рубежа 19-20 вв. и ее преломление в творчестве С.И. Танеева на примере кантаты "Иоанн Дамаскин" // Русская музыка: наследие и современность. – Нижний Новгород, 1992. – С. 61-63. 9. Анненский И.Ф. Бальмонт-лирик // Анненский И.Ф. Книга отражений. – М.: Наука, 1979. – С. 93-122. 10.Арановский М. Музыкальный текст. Структура и свойства. – М.: Композитор, 1998. – 344 с. 179 11.Арзаманов Ф. С.И. Танеев – преподаватель курса музыкальных форм. – М.: Музыка, 1984. –97 с. 12.Асафьев Б.В. Избранные труды. Т. 1. – М.: Издательство Академии Наук СССР, 1952. – 400 с. 13.Асафьев Б.В. Русская музыка: XIX и начало XX века. – Л.: Музыка, 1979. – 344 с. 14.Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. – 376 с. 15.Асафьев Б.В. С.И. Танеев (к 30-летию со дня смерти) // Памяти С.И. Танеева: Сб. статей и материалов / под ред. Вл. Протопопова. – М-Л.: Музгиз, 1947. – С. 7-20. 16.Асафьев Б.В. С.И. Танеев. Кантата «По прочтении псалма» // О хоровом искусстве. – Л.: Музыка, 1980. – С. 53-56. 17.Банников Н.В. Жизнь и поэзия Бальмонта // Бальмонт К.Д. Солнечная пряжа: Стихи, очерки. – М.: Дет. лит., 1989. – С.4-9. 18.Баттистини М. Символы и аллегории: визуальные коды понятий в произведениях изобразительного искусства [пер. с итал. В.Ю. Траскин]. – М.: Омега, 2008. – 384 с. 19.Белза И. Национальные истоки творчества Танеева // С.И. Танеев и русская опера. – М.: Всерос. тетар. о-во, 1946. С. 5-57. 20.Белый А. Луг зеленый // Критика. Эстетика. Теория символизма: В 2-х томах. Т. 1 / Вступ. ст., сост. А.Л. Казин, коммент. А.Л. Казин, Н.В. Кудряшева. – М.: Искусство, 1994. 21.Белый А. Символизм как миропонимание. – М.: Республика, 1994. – 528 с. 22.Бернандт Г. С.И. Танеев. – М.: Музыка, 1983. – 288 с. 23.Бернандт Г. С.И. Танеев. – М.–Л.: Государственное Музыкальное Издательство, 1950. – 379 с. 180 24.Берченко Р. Э. В поисках утраченного смысла. Бореслав Яворский о «Хорошо темперированном Клавире». – М.: Классика-XXI, 2005. – 370 с. 25.Бобровский В.П. Песни и хоры Шостаковича. – М.: Сов. композитор, 1962. – 31 с. 26.Бобровский В.П. Функциональные основы музыкальной формы. М.: Музыка, 1977. – 332 с. 27.Бодки Э. Интерпретация клавирных произведений И.С. Баха. – М.: 1993. – 588 с. 28.Большая Советская энциклопедия (в 30 томах). Гл. ред.: А.М. Прохоров. Изд. 3-е. Т. 1 – М.: Сов. Энцикл., 1970. 29.Большой Энциклопедический Словарь. – М.: Сов. Энцикл., 1991. 30.Васина-Гроссман В.А. Камерная вокальная музыка // Музыка XX века: Очерки. Ч. 2, кн. 3. – М., 1980. 31.Васина-Гроссман В.А. Музыка и поэтическое слово. Ч. 2, 3. – М., 1978. 32.Владышевская Т. Азбучные знаки письменной нотации и их семиотические истоки // Музыкальная культура Средневековья. Вып. 1. – М., 1990. – С. 81-108. 33.Ганенко Н.С. Камерно-вокальное творчество С.И. Танеева: Опыт текстологического исследования. Дисс… канд. иск. – Санкт-Петербург, 2005. – 225 с. 34.Гартман Ф. Воспоминания о С.И. Танееве // Советская музыка. – 1965. – № 6. 35.Гедике А. Из воспоминаний // Новое о Танееве. М.: ООО «Дека-ВС», 2007. – С. 302-305. 36. Глинка М.И. Полное собрание сочинений. Литературные произведения и переписка. Т. II-Б.– М.: Музыка, 1977. 37.Гольденвейзер А.Б. Из моих воспоминаний // С.И. Танеев: материалы и документы. Т. 1: переписка и воспоминания. – М.: Издательство академии наук СССР, 1952. 181 38.Гречанинов А. Воспоминания о С.И. Танееве // Памяти С. И. Танеева: Сб. статей и материалов / под ред. Вл. Протопопова. – М-Л: Музгиз, 1947, с. 261-264. 39. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 томах. М.: Русский язык, 1999. 40. Демченко А.И. А.К. Толстой и музыка: лекции по культурологии и мировой художественной культуре. – Саратов: Саратовская гос. консерватория им. Л.В. Собинова, 2009. – 32 с. 41.Дмитревская К. Хоры a cappella Шебалина в свете традиций русской хоровой классики // Музыка и современность. Сборник статей. Вып. 7. – М.: 1971. 42.Долинская Е.Б. Николай Метнер. – М.: Музыка; П. Юргенсон, 2013. – 328 с. 43.Долинская Е.Б. Театр Прокофьева. Исследовательские очерки. – М.: Композитор, 2012. – 375 с. 44.Евсеев Е. Народные и национальные корни музыкального языка С.И. Танеева. – М., 1963. – 127 с. 45.Егоров А. Основы хорового письма. Л.-М.: 1939. – 171 с. 46.Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII века. – М., 1983. – 77 с. 47.Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. – М., 1985. – 232 с. 48.Кастальский А.Д. О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке // Русская духовная музыка в документах и материалах. – М.: Языки русской культуры, 1998. 49.Келдыш Ю.В. Новые книги о Танееве и Рахманинове / Советская музыка. 1948. №6. 50.Келдыш Ю.В. Русская музыка XVIII века. – М., 1965. – 464 с. 51.Келдыш Ю.В. История русской музыки Т. 1. – М.: Музыка, 1983. – 383 с. 182 52.Келдыш Ю.В. История русской музыки Ч. 3. – М., 1954. – 532 с. 53.Кириленко Г.Г., Шевцов Е.В. Краткий философский словарь. – М.: Слово, 2002. – 480 с. 54.Коваленко Н.Д. Духовная тема в творчестве С.И. Танеева и ее воплощение в кантате «По прочтении псалма». Дисс… канд. иск. – Екатеринбург, 2005. – 201 с. 55.Корабельникова Л.З. «Орестея» С.И. Танеева: Античный сюжет в русской художественной культуре второй половины XIX века // Типология русского реализма второй половины XIX века. М., 1979. 56.Корабельникова Л.З. Проблема цикла в поздних хорах Танеева // Советская музыка, 1981, № 12. 57.Корабельникова Л.З. С.И. Танеев в московской консерватории: Из истории русского музыкального образования. – М., 1974. 58.Корабельникова Л.З. Творчество С. И. Танеева: Историко- стилистическое исследование. – М.: Музыка, 1986. – 296 с. 59.Королев К. Энциклопедия символов, знаков, эмблем. – М.: Эксмо, 2005. – 608 с. 60.Котлер Н. Русская полифония и Танеев // Советская музыка. – 1947. – № 5. 61.Крылова В. Кантаты: Отражение духовных исканий // Новое о Танееве. М.: ООО «Дека-ВС», 2007. – С. 265-282. 62.Крылова В.Д. Духовный путь С.И. Танеева // Вестник ПСТГУ V: Музыкальное искусство христианского мира. – 2008. Вып. 2 (3). С. 101112. 63. Кунин И. Н.Я. Мясковский. Жизнь и творчество в письмах, воспоминаниях, критических отзывах. – М.: Советский композитор, 1981. – 192 с. 64.Лаврентьева И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. – М.: Музыка, 1978. – 77 с. 65. Ларош Г. Избранные статьи: В 4 т. – Т.4. – Л.: Музыка, 1977. – 320 с. 183 66. Лебединский Л. Хоровые поэмы Шостаковича. – М.: Сов. композитор, 1957. – 46 с. 67.Левая Т. Русская музыка начала XX века в художественном контексте эпохи. – М.: Музыка, 1991. – 166 с. 68.Левина Е. Притча в искусстве XX века (музыкальный и драматический театр, литература). // Искусство XX века: уходящая эпоха? Сб. Статей, Т. II, Нижний Новгород, 1997. – С. 23-39. 69.Литературная энциклопедия в 11 томах. – М.: Сов. Энцикл., 1929-1939. 70.Лосев А. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1995. – 319 с. 71.Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эстетических категорий. – М.: Искусство, 1965. – 374 с. 72.Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров // Ю. М. Лотман. Семиосфера. – СП.: Искусство, 2001. 703 с. 73. Лукина Г.У. Идеи и интонационный строй музыки С.И. Танеева. Дисс… докт. иск.. – Москва, 2014. – 408 с. 74.Луначарский А.В. Танеев и Скрябин // В мире музыки. – М., 1971. – 539 с. 75.Макогоненко Д.Г. Жизнь и судьба // Бальмонт К. Избранное: Стихотворения. Переводы. Статьи. – М., Правда, 1990. – 608 с. 76.Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. – Петербург: Издательское общество «Ф.А. Брокгауз – И.А. Ефрон, 1907-1909. 77.Метнер Н.К. Письма. / Сост. и ред. З.А. Апетян. – М.: Сов. композитор, 1973. – 615 с. 78.Микушевич В. Карнавал бытия // Средневековый бестиарий. М.: Искусство, 1984. – С. 232-238. 79.Минея служебная: Декабрь: Ч. 1. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1982. 184 80.Михайленко А.Г. Неизвестный из «известных» хоров С.И. Танеева // Сибирский музыкальный альманах, 2001 / Новосиб. гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки. – Новосибирск, 2002. – С. 124-133. 81.Михайленко А.Г. О принципах строения фуг Танеева // Вопросы музыкальной формы. Вып. 3. – М., 1977. – С. 27-52. 82.Михайленко А.Г. Черты тональной организации фуг С. И. Танеева // Теоретические проблемы полифонии. – М., 1980. 83.Михайлов М. Этюды о стиле в музыке. – Л.: Музыка, 1990. – 283 с. 84.Музыкальный современник: Хроника, вып. VIII, 1915. 85.Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. – М.: Музыка, 1982. 86.Ольхов К. Хоры a cappella С. Танеева // Хоровое искусство. Вып. 2. – Л., 1971. 87. Орлова Е. Лекции по истории русской музыки. – М.: Музыка, 1985. 88. Орлова Е. Танеев С.И. // Орлова Е.М. Очерки о русских композиторах XIX – начала XX века. – М.: Музыка, 1982. 89.Паисов Ю. Танеев и Гречанинов // Келдышевский сборник: Музыкальноисторические чтения памяти Ю.В.Келдыша. – М., 1999. 90.Погребальные стихиры преподобного Иоанна Дамаскина. – http://www.lw.bogoslovy.ru/stihiry.htm 91.Полонский Я. Стихотворения. – Л., 1954. 92.Попов С.В. Хоровое творчество С. И. Танеева. // Памяти С. И. Танеева: Сб. статей и материалов / под ред. Вл. Протопопова. – М-Л.: Музгиз, 1947. – С. 137-145. 93.Попов С. О хоровом творчестве С. И. Танеева // Русская хоровая литература. Вып. 2. – М., 1969. 94.Потяркина Е.Е. К.Д. Бальмонт и русская музыка рубежа XIX-XX веков. Диссертация на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. – Москва, 2009. 95. Прокофьев С.С. Дневник. Том 1 (1907-1918). – Париж: SPRKFV, 2002. 185 96. Прокофьев С.С. Материалы, документы, воспоминания. / Сост., ред., примеч. и вступ. статьи С.И. Шлифштейна. – М.: Музгиз, 1961. 97.Протопопов Вл. Творческий путь Танеева // Памяти Сергея Ивановича Танеева. М.: Музгиз, 1947. – 60-102. 98.Протопопов Вл. История полифонии в ее важнейших явлениях. Вып. 1: Русская классическая и советская музыка. – М.: Государственное Музыкальное Издательство, 1962. 99.Протопопов Вл. Некоторые вопросы музыкального стиля С.И. Танеева // Советская музыка, 1947, № 5. 100. Протопопов Вл. О тематизме и мелодике С.И. Танеева // Сов. Музыка, 1940, №7. 101. Протопопова И. Философская аллегория, поэтическая метафора, мантика: сходства и различия. – http://kogni.narod.ru/mant.htm 102. Рахманинов С. С.И. Танеев // Памяти С. И. Танеева: Сб. статей и материалов / под ред. Вл. Протопопова. – М.: Музгиз, 1947. – С. 259261. 103. Ровенко А.И. С.И. Танеев – исследователь контрапункта. – М.: Изд-во РАМ им. Гнесиных, 2001. – 64 с. 104. Русская музыкальная газета, 1915, №49. 105. Сабанеев Л. Л. Воспоминания о Скрябине. – М.: Классика-XXI, 2000. 106. Сабанеев Л.Л. Воспоминания о Танееве. – М.: Классика-XXI, 2003. – 196 с. 107. Савенко С. Сергей Иванович Танеев. Изд. 2-е. – М.: 1985. 108. Сапонов М.А. Менестрели: Книга о музыке средневековой Европы. – М.: Классика-XXI, 2004. – 400 с. 109. Серебрякова Л., Коваленко Н. Религиозно-философская концепция кантаты «По прочтении псалма» // Новое о Танееве. М.: ООО «Дека-ВС», 2007. – С. 236-256. 186 110. Симакова Н.А. Бах и Танеев // Русская книга о Бахе: Сб. статей / Сост. Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – М.: Музыка, 1985. С. 99-129. 111. Симакова Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения. – М.: Музыка, 1985. 112. Символы, знаки, эмблемы: Энциклопедия / Авт.-сост. В.Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, В.Л. Телицын; под общ. ред. В.Л. Телицына. – 2-е изд. – М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2005. 113. Скафтымова Л. С. И. Танеев и его кантаты. – С-Пб.: Сударыня, 2006. – 54 с. 114. Скребков С.С. Полифонический анализ. – М.-Л., 1940. 115. Скребков С.С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973. 116. Степанов А. Кантата «По прочтении псалма» // Памяти С.И. Танеева: Сб. статей и материалов / под ред. Вл. Протопопова. – М.: Музгиз, 1947. – С. 121-137. 117. Степанова И.В. Кантатно-ораториальное и хоровое творчество // История современной отечественной музыки. Вып. 3 (1960-1990). – М.: Музыка, 2001. 118. Степанова И.В. Слово и музыка: диалектика семантических связей. – М., 1999. – 288 с. 119. Танеев С.И. Дневники. Кн. 1: 1894-1898 гг. / Текстологич. ред. и коммент. Л.З. Корабельниковой. – М.: Музыка, 1981. – 333 с. 120. Танеев С.И. Дневники. Кн. 2: 1899-1902 гг. / Текстологич. ред. и коммент. Л.З. Корабельниковой. – М.: Музыка 1982. – 430 с. 121. Танеев С.И. Дневники. Кн. 3: 1903-1909 гг. / Коммент. Л.З. Корабельниковой, Л.И. Даренской. – М.: Музыка, 1985. – 560 с. 122. Танеев С.И. Из консерваторских лекций // Сов. музыка, 1947, №1. 123. Танеев С.И. Из научно-педагогического наследия. – М., 1967. – 164 с. 187 124. Танеев С.И. Лекция о формах ораторий // Советская музыка. – 1953. – № 1. 125. Танеев С.И. Материалы и документы. Т. 1 – М., 1952. – 353 с. 126. Танеев С.И. Мысли о собственной творческой работе // Памяти С.И. Танеева. – М: Музгиз, 1947. – 179-182. 127. Танеев С.И. Подвижной контрапункт строгого письма. – М.: Музгиз, 1959. 128. Танеев С.И. По прочтении псалма: кантата №2 / партитура. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1960. – 289 с. 129. Танеев С.И. Учение о каноне. – М., 1929. 130. Танеев Сергей Иванович: Личность, творчество и документы его жизни. К 10-летию со дня смерти. – М.-Л., 1925. – 205 с. 131. Терапиано Ю. К.Д. Бальмонт // Дальние берега: Портреты писателей эмиграции / Сост. и коммент. В. Крейд. – М.: Республика, 1994. 132. Терещенко В.П. О хоровом творчестве Танеева и не только // Сергей Слонимский – собеседник. – М.: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2014. – С. 135 – 154. 133. У Ген-Ир Черты стиля хоров С.И. Танеева. – Петрозаводск, 1982. 134. Философский Энциклопедический Словарь. – М.: Сов. Энцикл., 1989. 135. Ходасевич В.Ф. О последних книгах К. Бальмонта // Ходасевич В. Ф. Собрание сочинений: В 4 т. / Т. 1: Стихотворения. Литературная критика 1906-1922. – М.: Согласие, 1996. 136. Холл М.П. герметической, Энциклопедическое каббалистической изложение и масонской, розенкрейцеровской символической философии. Т. 2. – Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 1992. 137. Холопов Ю.Н. Канон. Генезис и ранние этапы развития // Теоретические наблюдения над историей музыки. – М.: Музыка, 1978. 188 138. Холопов Ю.Н. Творчество Прокофьева в советском теоретическом музыкознании // С.С. Прокофьев. Статьи и исследования. – М.: Музыка, 1972. 139. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учеб. пособие для студентов вузов искусств и культуры. – М.: Лань, 2000. – 319 с. 140. Хопрова Т.А. С.И. Танеев: Популярная монография. – 2-е изд.– Л.: Музыка, 1980. 141. Чайковский П.И., Танеев С.И. Письма. – М., Госкультпросветиздат, 1951. – 569 с. 142. Чайковский. П. И. Музыкально-критические статьи. – М.: Государственное музыкальное издательство, 1953. – 437 с. 143. Чемоданов Е. Из прошлого (о музыкальной работе на пречистенских рабочих курсах) // Советская музыка, 1948, №7. 144. Чуков С. Взаимосвязь текста и средств музыкальной выразительности в хоровых сочинениях Танеева // Вопросы русской и советской хоровой культуры (Труды ГМПИ им. Гнесиных, вып. 23). – М., 1975. 145. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. – М.: Классика-XXI, 2002. – 816 с. 146. Шестаков В.П. Аллегория // Философская энциклопедия. – М.: Сов. Энцикл., 1960. 147. Штейнер О.А. С.И. Танеев и Серебряный век. Диссертация … канд. иск. – Москва, 2007. 148. Эйгес К. Воспоминания о С.И. Танееве // Памяти С. И. Танеева: Сб. статей и материалов / под ред. Вл. Протопопова. – М.: Музгиз, 1947. С. 269-273. 149. Эйхенбаум Б.М. Я.П. Полонский // Полонский Я.П. Стихотворения. – Л., 1954. 150. Эко У. Эволюция средневековой эстетики: итальянского Ю.Н. Ильина. – СП.: Азбука-классика, 2004. 189 Перевод с 151. Энгель Ю. Памяти С.И. Танеева // Памяти С.И. Танеева: Сб. статей и материалов / под ред. Вл. Протопопова. – М.: Музгиз, 1947. – С. 264-269. 152. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона / под. ред. И.Е. Андреевского. Т. 1. – С.-Петербург, 1890. – 480 с. 153. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона / под. ред. К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского. Т. 19. – С.-Петербург, 1896. – 476 с. 154. Юденич Н. О лирике Танеева // Сов. музыка, 1981, №12. 155. Яворский Б.Л. Воспоминания о Сергее Ивановиче Танееве // Избранные труды. Т. 2. ч. 1. – М., 1985. 156. Яворский Б.Л. Воспоминания, статьи, переписка. Т.1. Изд. 2-е / Ред.-сост. И.С. Рабинович. – М.: 1972. 157. Яворский Б.Л. Из воспоминаний о С.И. Танееве. // С.И. Танеев. Из научно-педагогического наследия. – М., 1967. 158. Яковлева В. С.И. Танеев. – М.,1927. 159. Bukofzer M. Allegory in Baroque Music // Journal of the Warburg and Cortauld Institutes. Vol. III. – London, 1939-1940. – P. 1-21. 160. Chafe E. Tonal Allegory in the Vocal Music of J.S. Bach. – Berkeley, 1991. 161. Jasiński T. Muzyczne alegorie w twórczości kompozytorów epoki baroku // Annales. Vol. I, Sectio L. – Lublin – Polonia: Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2003. 162. Montalbano P. Allegory: a defining element of baroque music. – (http://www.montalbano.org/Peter/Allegory.htm). Архивные материалы 163. Танеев С.И. Шестнадцать хоров a cappella для мужских голосов на слова К.Д. Бальмонта [рукопись]. – ГДМЧ, ед. хр. В1 №222. 164. Танеев С.И. Кантата «Апофеоз художника» [рукопись, черновик]. – ГДМЧ, ед. хр. В1 №554. 190 165. Танеев С.И. Стихотворения К. Бальмонта с рукописными пометами С. Танеева [рукопись]. – ГДМЧ, ед. хр. В3 №19. 166. Танеев С.И. Кантата «Апофеоз художника» [рукопись]. – ВМОМК им. М.И. Глинки, ед. хр. Ф85/79. 191 ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 192 193 194 195 Приложение 2 Тексты К.Д. Бальмонта с пометами С.И. Танеева (расшифровка рукописи) ТИШИНА Чуть бледнеют янтари Нежно-палевой зари. Всюду ласковая тишь, Спят купавы, спит камыш. Задремавшая река Отражает облака, Тихий, бледный свет небес, Тихий, темный, сонный лес. В этом царстве тишины Веют сладостные сны, Дышит ночь, сменяя день, Медлит гаснущая тень. В эти воды с вышины Смотрит бледный серп Луны, Звезды тихий свет струят, Очи ангелов глядят. 196 СФИНКС. Среди песков пустыни вековой, Безмолвный Сфинкс царит на фоне ночи, В лучах Луны гигантской головой Встает, растет,- глядят, не видя, очи. С отчаяньем живого мертвеца, Воскресшего в безвременной могиле, Здесь бился раб, | томился без конца,Рабы кошмар в граните | воплотили. И замысел чудовищной мечты, Средь Вечности, всегда однообразной, Восстал как враг обычной красоты, Как сон, слепой, немой, и безобразный. 197 ЗАРЯ Брызнули первые искры рассвета, Дымкой туманной покрылся | ручей. В утренний час его рокот звончей. Ночь умирает |... И вот уж | одета В нерукотворные ткани из света, В поясе пышном из ярких лучей, Мчится Заря | благовонного лета Из-за лесов и морей, Медлит на высях обрывистых гор, Смотрится в зеркало синих озер, Мчится Богиня Рассвета. Следом за ней Легкой гирляндою эльфы несутся, Хором поют: «Пробудилась Заря!» Эхом стократным их песни везде отдаются, Листья друг к другу с безмолвною ласкою жмутся, В небе — и блеск изумруда, и блеск янтаря, Нежных малиновок песни кристальные льются: «Кончилась Ночь! Пробудилась Заря!» 198 МОЛИТВА. Господи Боже, склони свои взоры К нам, истомленным суровой борьбой, Словом Твоим подвигаются горы, (Камни как тающий воск пред Тобой!) Тьму отделил Ты от яркого света, Создал Ты небо, и Небо небес, Землю, что трепетом жизни согрета, Мир, преисполненный скрытых чудес! Создал Ты Рай – чтоб изгнать нас из Рая. Боже опять (нас) к себе возврати, Мы истомились, во мраке блуждая, ( Если мы грешны ), прости нас, прости! Не искушай нас (бесцельным страданьем), Не утомляй непосильной борьбой, Дай возвратиться к Тебе с упованьем, (Дай нам, о Господи, слиться с тобой!) Имя Твое непонятно и чудно, Боже Наш, Отче Наш, полный любви! Боже, (нам горько, нам страшно), нам трудно, Сжалься, о, сжалься, | мы — дети твои! 199 В ПРОСТРАНСТВАХ ЭФИРА. В прозрачных пространствах Эфира, Над сумраком дольнего мира, Над шумом забытой метели, Два (светлые) духа летели. Они от земли удалялись, И звездам чуть слышно смеялись, И с Неба они увидали За далями новые дали. И стихли они понемногу, (Стремясь к неизменному Богу,) И слышали новое эхо (Иного чуть слышного смеха.) С Земли их никто не приметил, Но сумрак вечерний был светел, В тот час как они над Землею Летели, покрытые мглою. С Земли их никто не увидел, Но доброго злой не обидел, В тот час как они увидали За далями новые дали. 200 СОН И СМЕРТЬ. И Сон и Смерть равно смежают очи, Кладут предел волнениям души, На смену дня приводят сумрак ночи, Дают страстям заснуть в немой тиши. И в чьей груди еще живет стремленье, К тому свой взор склоняет Ангел Сна, (Чтоб он узнал блаженство пробужденья, ) Чтоб за зимой к нему пришла весна. Но кто постиг, что вечный мрак - отрада, С тем вступит Смерть в союз | любви живой, И от ее | внимательного взгляда К страдальцу сон нисходит гробовой. 201 НЕБЕСНАЯ РОСА. День погас, | и ночь пришла. В черной тьме душа светла. В смерти жизнь, | и тает смерть. Неба гаснущая твердь Новой вспыхнула красой Там серебряной росой, (В самой смерти жизнь любя, ) Ночь усыпала себя. Ходят Ангелы | во мгле, Слезы счастья | шлют земле, Славят светлого Творца, Любят, любят | без конца. 202 МЕРТВЫЕ КОРАБЛИ. Скрипя, бежит среди валов, Гигантский гроб, скелет плавучий. В телах обманутых пловцов Иссяк светильник жизни жгучей. Огромный остов корабля В пустыне Моря быстро мчится, Как будто где-то есть земля, К которой жадно он стремится. За ним, скрипя, среди зыбей Несутся бешено другие, И привиденья кораблей Тревожат области морские. И шепчут волны меж собой, Что дальше их пускать не надо,И встала белою толпой Снегов и льдистых глыб громада. И песни им надгробной нет, Бездушен мир пустыни сонной, И только Солнца красный свет Горит, как факел похоронный. 203 ЗВУКИ ПРИБОЯ. Как глух сердитый шум Взволнованного Моря! Как свод Небес угрюм, Как бьются тучи, споря! О чем шумит волна, О чем протяжно стонет? И чья там тень видна, И кто там в Море тонет? Гремит морской прибой, И долог вой упорный: "Идем, идем на бой, На бой с Землею черной! Разрушим грань Земли, Покроем все водою! Внемли, Земля, внемли, Наш крик грозит бедою! Мы все зальем, возьмем, Поглотим жадной бездной, Громадой волн плеснем, Взберемся в мир надзвездный!" "Шуми, греми, прибой!" И стонут всплески смеха. "Идем, идем на бой!" "На бой" - грохочет эхо. 204 МОРСКОЕ ДНО. сонет. С морского дна | безмолвные упреки Доносятся до ласковой Луны О том, что эти области | далеки От воздуха, от вольной вышины. Там все живет, там звучен плеск волны, А здесь на жизнь | лишь бледные намеки, Здесь вечный сон, пустыня тишины, Пучины Моря мертвенно-глубоки. И вот Луна, (проснувшись в высоте,) Поит огнем кипучие приливы, И волны рвутся к дальней Красоте. Луна горит, играют переливы,Но там, под блеском волн, морское дно По-прежнему безжизненно темно. 205 МОРСКАЯ ПЕСНЯ Все, что любим, | все мы кинем, Каждый | миг | для нас другой:Мы | сжились | душой морской С вечным ветром, с Морем синим. Наш полет Все вперед, К целям | (сказочным) ведет. Рдяный вечер, догорая, Тонет в зеркале Небес. Вот он, новый мир чудес, Вот она, волна морская. Чудный вид! Все молчит, Только вал морской звучит. Если мы | вернемся вскоре Переменчивым | путем, Мы с добычею | придем:Нам дары приносит Море. В час ночной, Под Луной, Мы | спешим к стране иной. Если ж даль не переспорим И пробьет конец мечте,Мы потонем в Красоте, Мы сольемся с синим Морем, И на дне, В полусне, Будем грезить о волне. 206 ТИШИНА. Чуть бледнеют янтари Нежно-палевой зари. (Всюду ласковая тишь, ) Спят купавы, спит камыш. Задремавшая река Отражает облака, (Тихий), бледный свет небес, (Тихий), темный, сонный лес. (В этом царстве тишины) Веют сладостные сны, (Дышит ночь, сменяя день,) Медлит (гаснущая) тень. В эти воды | с вышины Смотрит бледный серп Луны, Звезды тихий свет струят, Очи ангелов глядят. 207 4-х голосный ГИБЕЛЬ. Предчувствием бури окутан был сад. Сильней заструился цветов аромат. Узлистые сучья как змеи сплелись. (Змеистые) молнии )в тучах) зажглись. Как хохот стократный, громовый раскат Смутил, оглушил зачарованный сад. Свернулись, закрылись цветов лепестки. На тонких осинах забились листки. Запрыгал мелькающий бешеный град Врасплох был захвачен испуганный сад С грозою обняться и слиться хотел Погиб | - и упиться (грозой) не успел. 208 БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ. Белый лебедь, лебедь чистый, Сны твои всегда безмолвны, Безмятежно-серебристый, Ты скользишь, рождая волны. Под тобою | - глубь немая, Без привета, | без ответа, Но скользишь ты, утопая В бездне воздуха и света. Над тобой - Эфир бездонный (С яркой Утренней Звездою.) Ты скользишь, преображенный Отраженной красотою. Символ нежности | бесстрастной, Недосказанной, несмелой, Призрак женственно-прекрасный Лебедь чистый, лебедь белый! 209 ЛЕБЕДЬ. Заводь спит. | Молчит вода зеркальная. Только там, | где дремлют камыши, Чья-то песня слышится, печальная, Как последний вздох души. Это плачет лебедь умирающий, Он с своим прошедшим говорит, А на небе вечер | догорающий И горит и не горит. ( Отчего так грустны эти жалобы? ) Отчего так бьется эта грудь? В этот миг душа его желала бы Невозвратное вернуть. Все, чем жил с тревогой, с наслаждением, (Все, на что надеялась любовь,) Проскользнуло быстрым сновидением, Никогда не вспыхнет вновь. Все, на чем печать непоправимого, Белый лебедь в этой песне слил, Точно он | у озера родимого О прощении молил. И когда блеснули звезды дальние, И когда туман вставал в глуши, Лебедь пел все тише, | все печальнее, И шептались | камыши. Не живой он пел, а умирающий, Оттого он пел в предсмертный час, Что пред смертью, вечной, примиряющей, Видел правду в первый раз. 210 Приложение 3 211 212 213 214 215 216 217