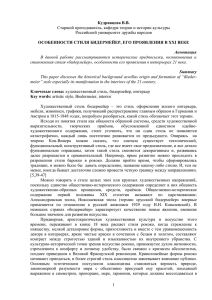ГАЛАНТНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЫКЕ XVIII ВЕКА
реклама
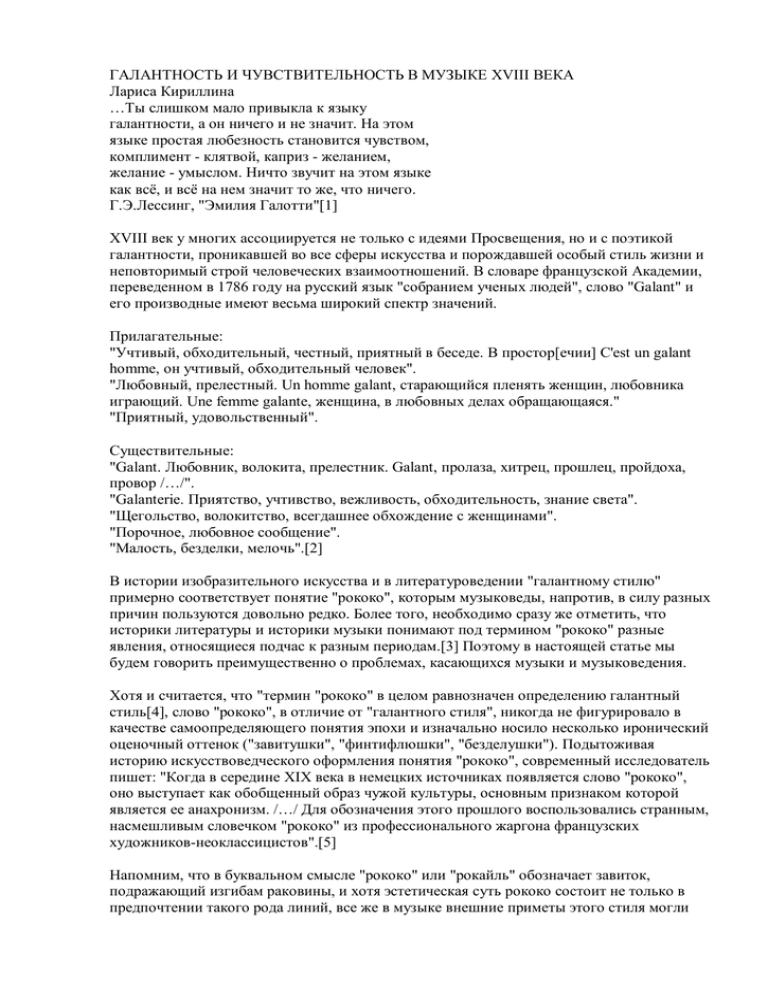
ГАЛАНТНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ В МУЗЫКЕ XVIII ВЕКА Лариса Кириллина …Ты слишком мало привыкла к языку галантности, а он ничего и не значит. На этом языке простая любезность становится чувством, комплимент - клятвой, каприз - желанием, желание - умыслом. Ничто звучит на этом языке как всё, и всё на нем значит то же, что ничего. Г.Э.Лессинг, "Эмилия Галотти"[1] XVIII век у многих ассоциируется не только с идеями Просвещения, но и с поэтикой галантности, проникавшей во все сферы искусства и порождавшей особый стиль жизни и неповторимый строй человеческих взаимоотношений. В словаре французской Академии, переведенном в 1786 году на русский язык "собранием ученых людей", слово "Galant" и его производные имеют весьма широкий спектр значений. Прилагательные: "Учтивый, обходительный, честный, приятный в беседе. В простор[ечии] C'est un galant homme, он учтивый, обходительный человек". "Любовный, прелестный. Un homme galant, старающийся пленять женщин, любовника играющий. Une femme galante, женщина, в любовных делах обращающаяся." "Приятный, удовольственный". Существительные: "Galant. Любовник, волокита, прелестник. Galant, пролаза, хитрец, прошлец, пройдоха, провор /…/". "Galanterie. Приятство, учтивство, вежливость, обходительность, знание света". "Щегольство, волокитство, всегдашнее обхождение с женщинами". "Порочное, любовное сообщение". "Малость, безделки, мелочь".[2] В истории изобразительного искусства и в литературоведении "галантному стилю" примерно соответствует понятие "рококо", которым музыковеды, напротив, в силу разных причин пользуются довольно редко. Более того, необходимо сразу же отметить, что историки литературы и историки музыки понимают под термином "рококо" разные явления, относящиеся подчас к разным периодам.[3] Поэтому в настоящей статье мы будем говорить преимущественно о проблемах, касающихся музыки и музыковедения. Хотя и считается, что "термин "рококо" в целом равнозначен определению галантный стиль[4], слово "рококо", в отличие от "галантного стиля", никогда не фигурировало в качестве самоопределяющего понятия эпохи и изначально носило несколько иронический оценочный оттенок ("завитушки", "финтифлюшки", "безделушки"). Подытоживая историю искусствоведческого оформления понятия "рококо", современный исследователь пишет: "Когда в середине XIX века в немецких источниках появляется слово "рококо", оно выступает как обобщенный образ чужой культуры, основным признаком которой является ее анахронизм. /…/ Для обозначения этого прошлого воспользовались странным, насмешливым словечком "рококо" из профессионального жаргона французских художников-неоклассицистов".[5] Напомним, что в буквальном смысле "рококо" или "рокайль" обозначает завиток, подражающий изгибам раковины, и хотя эстетическая суть рококо состоит не только в предпочтении такого рода линий, все же в музыке внешние приметы этого стиля могли найти лишь самое опосредованное отражение (например, изобилие орнаментики). Может быть, поэтому, как справедливо заметил Д.Херц, "понятие рококо в музыке никогда серьезно не разрабатывалось".[6] Конечно, в музыковедческих (особенно в зарубежных) трудах слово "рококо" тоже присутствует, причем в наше время уже безо всякого негативного оттенка - оно, в частности, выносится в заглавия некоторых ученых трудов, посвященных музыке XVIII века.[7] Однако многие музыканты обычно сопротивлялись и до сих пор сопротивляются попыткам обнаружить "рококо", допустим, у Ж.Ф.Рамо или В.А.Моцарта. Они справедливо полагают, что даже при наличии характерных "завитушек" и прочих внешних признаков рококо содержание музыки великих мастеров никоим образом не должно сводиться к игре изящных линий. Интересная попытка развести значения терминов "рококо" и "галантность" предпринята О.М.Шушковой.[8] Рококо трактуется ею как придворное и аристократическое по своему духу искусство, восходящее к французскому вкусу первой половины XVIII века. Для него характерны изысканная и неантропоморфная вычурность форм (очертания ракушек, гротов, завитков), а в сфере содержания - ирония, игра и пессимизм. Галантный стиль, наоборот, связан с чисто человеческими свойствами и потому выражает личностные устремления "среднего сословия" середины XVIII века (особенно в Германии). Он нацелен на выражение индивидуальных чувств и характеров, причем сочетает в сбе этикетность и серьезность, то есть направленность к идеальному. Эти наблюдения, несомненно, тонки и во многом справедливы, однако художественная реальность XVIII века не всегда позволяет так уж строго разграничивать рококо и галантность. Хронологически топос галантности принадлежал обеим эпохам, барочной и классической. Потому галантная манера естественно вписывалась в поэтику позднебарочного рококо (особенно во Франции после Ж.Б.Люлли - вспомним хотя бы "Галантную Европу" А.Кампра - 1697, "Галантные Индии" Ж.Ф.Рамо - 1735, мотивы "галантных празднеств" в творчестве А.Ватто и его современников), но в то же время считалась признаком очевидных перемен (сыновья И.С.Баха, мастера мангеймской школы, итальянцы начиная с Дж.Перголези). С другой стороны, в произведениях, несомненно принадлежавших к эпохе галантного стиля, присутствовали и элементы рококо, в том числе в виде пресловутых "завитушек". Эту двойственность отражает само бытование слова "галантный" и его производных в лексиконе музыкантов второй половины XVII - XVIII веков. Еще в XVII веке словом "galanterie" назывались легкие танцевальные пьесы в старинных сюитах, в частности, менуэты, паспье, гавоты, располагавшиеся между традиционными частями - сарабандой и жигой; в этом смысле термином пользовался и И.С.Бах. Авторское название его сборника "Clavieruebung" полностью звучит как "Собрание пьес для упражнения в игре на клавире, включающее прелюдии, аллеманды, куранты, сарабанды, жиги, менуэты и прочие приятные вещи [galanterien]" (на это обратил внимание Д.Херц.[9]) Слово "галантный" было известно в различных музыкальных и немузыкальных значениях также И.Г.Вальтеру, И.Маттезону, Г.Ф.Телеману, И.Й.Кванцу и другим мастерам позднего Барокко. Правда, в "Музыкальном словаре" Ж.Ж.Руссо оно, наоборот, отсутствует, что тоже достаточно показательно: как более или менее определенное эстетическое явление "галантный стиль" оформился примерно к середине XVIII века, причем не на французской, а скорее на смешанной франко-итало-немецкой основе. От французов в нем - легкая светская салонность, танцевальность и любовь к украшениям; от итальянцев - сладостная мелодичность и упоение ясными гармоническими красками; от немцев - изрядная доля чувствительности и неистребимые приметы вдумчивой основательности. Немецкие музыканты вполне отдавали себе отчет во французских истоках "галантности", однако считали ее необходимой частью современной манеры хорошего письма и светского общения. О "галантной" манере писали в своих трактатах К.Ф.Э.Бах, Ф.В.Марпург и другие авторы. Именно об этой модификации "галантного стиля" мы и будем здесь говорить. Слово "галантный", в отличие от "рококо", активно использовалось в XVIII веке и было чрезвычайно любимо. Этимологически оно сохраняло ощутимую связь со старинной рыцарской и дворянской культурой (итальянское "galantuomo" и французское "galant homme" означают, как известно, "благородный человек, дворянин, учтивый кавалер"). В то же время оно по смыслу отличалось от таких более традиционных понятий, как "куртуазность", "воспитанность", "вежество", ибо воспринималось как своеобразный манифест, гордо указывающий на смену этико-эстетических приоритетов. И если "рококо" впоследствии казалось символом чего-то безнадежно устаревшего и несколько смешного, то "галантное" в первой половине XVIII века, наоборот, выступало в качестве синонима самого передового и остромодного. "Галантное" стало антитезой очень разных понятий и стоявших за ними ценностей, обозначая то "современное" (в пику "старому"), то "изящное" и "легкое" (в пику "громоздкому", "вычурному", "барочному"), то "нежное" и "чувствительное" (в пику "сухому", "умозрительному"), то "естественное и непринужденное" (в пику "ученому" и "чопорному"), то просто "светское". Галантный стиль применительно к манере музыкального письма был также синонимом "свободного стиля", в отличие от "строгого". За этим терминологическим различием кроется идейная антитеза "свободы" и "связанности", имеющая отношение не только к технике музыкального письма, но и к самому духу новой музыки. Символ строгого стиля - церковная музыка с ее пристрастием к фугированным формам, подчиненным жестким правилам (без которых просто ничего не получится); символы галантного стиля - гораздо более спонтанные по форме и выражению, по крайней мере, с внешней точки зрения, оперная ария, инструментальный концерт, клавирная соната, оркестровая симфония. Правда, невзирая на свою подчеркнутую светскость, "галантный стиль" сумел подчинить себе и значительную часть церковной музыки, сочинявшейся в XVIII веке. Его грациозная мягкость, мелодичность, женственность и нежность казались многим музыкантам вполне уместными для выражения детской любви к Творцу и кроткой покорности его воле. В музыке можно выделить более или менее четкие формальные признаки "галантного стиля": решительное предпочтение "свободного", причем подчеркнуто гомофонного письма, в котором мелодия безусловно царит над фоновым аккомпанементом; отказ от барочной полифонии и от прежней жесткой иерархии жанрово-стилевых средств, а также характерные гармонические, мелодические и фактурные приемы, делающие его легко узнаваемым на слух. В области звукового колорита и исполнительской манеры перемены также были очевидными: любовь к постепенным нарастаниям и угасаниям звука, crescendo и diminuendo; игра внезапными контрастами в пределах одной фразы, подобная светотени в живописи; прихотливая акцентировка отдельных звуков; использование приема rubato. "Галантный стиль" востребовал и более экспрессивных обозначений характера музыки "espressivo", "amoroso", "affettuoso", и т.д. Для того, чтобы все эти изыски не превратились в дурную манерность, всячески культивировалось понятие "хорошего вкуса", позволявшее не впадать в крайности. Что же касается содержания, то здесь избегание крайностей также соблюдалось достаточно неукоснительно, ибо "галантный стиль" ориентируется на модель необременительного светского общения, при котором возможны любые формы диалога и монолога, кроме резко конфликтных. Для "галантного стиля" в классической инструментальной музыке был внутренне органичен тон беседы. Искусство занимательной, увлекательной и равно приятной и интересной для всех ее участников беседы, известное со времен диалогов Платона, заботливо культивировалось в светском общении XVIII века. На сей счет существовали вполне определенные правила, начиная с принципа приглашения гостей (избегание слишком контрастных и явно конфликтных собеседников) и кончая выбором допустимых для обсуждения тем. В "Новой Элоизе" Руссо в одном из писем Сен-Прё к Юлии описываются беседы в парижских салонах середины XVIII века: "…тон беседы плавен и естествен; в нем нет ни тяжеловесности, ни фривольности; она отличается ученостью, но не педантична; весела, но не шумна; учтива, но не жеманна; галантна, но не пошла; шутлива, но не двусмысленна. Это не диссертации и не эпиграммы; здесь рассуждают без особых доказательств, здесь шутят, не играя словами; здесь искусно сочетают остроумие с серьезностью, глубокомысленные изречения с искрометной шуткой, едкую насмешку, тонкую лесть с высоконравственными идеями. Говорят здесь обо всем, предоставляя всякому случай что-нибудь сказать. Из боязни наскучить важные вопросы никогда не углубляют - скажут о них как бы невзначай и обсудят мимоходом. Точность придает речи изящество; каждый выразит свое мнение и вкратце обоснует его; никто не оспаривает с жаром мнение другого, никто настойчиво не защищает свое. Обсуждают предмет для собственного своего просвещения, спора избегают - каждый поучается, каждый забавляется. И все расходятся предовольные, и даже мудрец, пожалуй, вынесет из таких бесед наблюдения, над которыми стоит поразмыслить в одиночестве" (однако без капли желчи здесь всё же не обошлось; далее Сен-Прё раскрывает небезвредность подобного развлечения, которое способно научить лицемерить, угодничать и "колебать с помощью философии все правила добродетели").[10] В качестве параллели и одновременно противовеса суждению Руссо приведем фрагмент подлинного письма И.Г.А.Форстера, в котором описывается венский салон графини Вильгельмины фон Тун 1780-х годов (то есть времен Моцарта): "Утонченнейшие собеседования, величайшая деликатность и при этом полнейшее прямодушие, широкая начитанность, хорошо усвоенная и вполне продуманная, чистая, сердечная, далекая от какого бы то ни было суеверия религия, религия нежного, невинного сердца, хорошо понимающего природу и творение".[11] В этот салон, где "ведут всякого рода остроумные разговоры, играют на фортепьянах, поют по-немецки или по-итальянски, а ежели людей охватит воодушевление, то и танцуют вволю", запросто приходил император Иосиф II; там вращались высшие сановники империи, дипломаты и меценаты, однако приветливое дружелюбие графини и трех ее красавиц-дочерей равно изливалось и на гостей незнатного происхождения - лишь бы они обладали умом и талантами. Роль "дирижера" беседы обычно принадлежала хозяйке дома, и этот тон обволакивающей мягкой любезности в сочетании с необидной шутливостью как раз и создавал атмосферу "галантности", внутри которой уже были возможны и отдельные полемические эскапады, и всплески экстравагантности (что тоже входило в правила игры), и рискованные каламбуры, и страстные комплименты, и тонкий флирт. Всё это находило самое прямое отражение в музыке, в которой светская беседа сознательно бралась за образец для подражания. Вспомним хотя бы шубартовское определение сонаты: "Соната, стало быть, это музыкальная беседа или воспроизведение разговора людей при помощи неживых инструментов".[12] В ансамблевой музыке мы иногда слышим целую компанию персонажей, каждому из которых непременно дают высказаться; в дуэтной или в клавирной - чаще диалог мужского и женского голосов, игривый, нежный или страстный. Эти ассоциации могли поддерживаться или обыгрываться в тогдашних формах салонного музицирования: центром кружка обычно становился клавесин или фортепиано, за которым сидела, как правило, дама, а партии других инструментов исполняли ее друзья и поклонники. Игра в четыре руки или пение под аккомпанемент фортепиано создавала особенно доверительную обстановку, провоцировавшую на пылкие излияния даже в условиях некоторой публичности. В квартетных собраниях, которые были обычно мужскими, в музыкальной "беседе" принимали участие близкие друзья или, по крайней мере, хорошие приятели. Отсюда - особая атмосфера квартетного письма, где все голоса равны, но если кто-то солирует, то остальные не мешают ему, а он не подавляет их, позволяя комментировать и дополнять свои "высказывания". Сознательно отсекая самый "верх" пирамиды топосов (абсолютно серьезное содержание никак не могло стать "легким") и несколько презирая ее комический "низ", приверженцы "галантного стиля" ограничивали себя сферой, включавшей различные проявления "приятных" образов, идей и эмоций и практически сводившей на нет "неприятные". Трагическое и драматическое трактовалось здесь сентиментально, а буффонное и простонародное - условно-пасторально. Это обрекало "галантный стиль" на историческое положение малого стиля (преемника французского рококо и предтечу австро-немецкого бидермайера), однако в середине века увлечение им носило почти всеобщий характер, и на какое-то время ему удалось стать если и не доминирующим в европейской музыке, то по крайней мере чрезвычайно влиятельным. Не только у мастеров второго и третьего плана, но и у венских классиков поэтика "галантного стиля" постоянно давала о себе знать как непосредственно, так и в сознательно переистолкованном виде. К.В.Глюк, наряду с суровым пафосом своих музыкальных трагедий (особенно "Альцесты" и "Ифигении в Тавриде") охотно отдавал дань галантности в "Парисе и Елене", "Армиде" и в своей последней опере "Эхо и Нарцисс". Вся линия, связанная с Амуром в его "Орфее и Эвридике", также принадлежит к сфере галантного стиля. У Моцарта галантная стилистика встречается как излюбленное средство выразительности постоянно, с самых ранних сочинений до самых поздних ("Cosi fan tutte", "Милосердие Тита"). И даже Бетховен, который в молодости сознательно вычеркивал из своего музыкального лексикона идиомы "галантного стиля", нередко поддавался его очарованию и, во всяком случае, прекрасно умел изъясняться на его языке. Обычно молодой Бетховен представляется нам неким мрачноватым революционером, решительно взрывающим в венских салонах "бомбы" вроде "Патетической сонаты" или Сонаты с траурным маршем на смерть героя (№ 12), но на самом деле в его раннем творчестве количественно преобладают произведения, полностью или частично выдержанные в галантной стилистике, причем в большинстве своем это настоящие шедевры. В своих зрелых и поздних произведениях он иногда пользовался языком галантности как особым стилистическим средством, привнося в него изысканную смесь ностальгии по "золотому веку" своей молодости и грустноватой иронии по поводу "пудреных париков" (Восьмая симфония, некоторые страницы последних квартетов). Все внешние приметы и символы "галантного стиля" имели под собою, однако, довольно глубокую мировоззренческую основу - идею Эроса как главного смысла и главной движущей силы бытия. Эта идея вбирала в себя все виды чувственного и духовного притяжения: страсть, влюбленность, симпатию, благоговейное поклонение, дружелюбное стремление к родственной натуре, любовь к Богу и Миру. В.В.Медушевский очень верно и тонко замечал, что русское слово "грациозный", которое у нас обычно связывается с галантной эпохой, "акцентирует момент внешней привлекательности, очарование видимого облика" - "но смысл латинского gratia много полнее. В нем внешняя привлекательность, приятность, прелесть, изящество, но также благосклонность, милость, благодарственное чувство. /…/ Христианская эпоха одухотворила слово, возвела его в значение важнейшего религиозного термина".[13] Об этом же, но в контексте излюбленной мыслителями Просвещения античной образности, писал И.Г.Гердер: "То, что называется грацией, а в ее высшей форме чувственной прелестью, греки называли charis, римляне - venustas; они говорили об этом с особой нежностью /.../, они рассматривали чувственную прелесть как один из самых чистых божественных даров, как ту истинной небесную грацию, которая даже не обнаруживает себя обычному глазу смертных. /…/ Эта грация - отличительное достояние небесной Афродиты".[14] Именно поэтому в XVIII веке можно было беседовать на языке галантности с Богом. Однако все-таки галантность чаще ассоциировалась с земной любовью, пусть и в рафинированно-этикеитной оболочке, и не случайно расцвет галантного стиля совпал с утверждением в умах основополагающей музыкальной максимы эпохи: "музыка - это язык чувств". То, что столь важные идеи облекались в подчеркнуто невинные, милые и вроде бы чисто декоративные формы, не должно нас вводить в заблуждение. Пресловутый рационализм эпохи Просвещения, столь очевидно явленный в некоторых философских, эстетических и естественно-научных текстах эпохи, имел своей оборотной стороной культ Чувства и Чувствительности, заботливо выстроенный прямо над бездной пугающего и манящего иррационализма. Диалектическим образом и то, и другое, и третье органически вписывались в просветительскую концепцию "естественного человека" - концепцию, которая не могла основываться только на ratio, игнорируя огромную область чувственного, эмоционального и бессознательного. "Естественный человек", разумеется, в глазах той эпохи уже наделялся определенной мерой внутренней культуры (иначе его бы не удостоили наименования человека), однако в качестве природного существа он был обречен испытывать страсти и влечения, подчас противоречившие и этикетным предписаниям, и нравственным установкам тогдашнего общества. В жуткую пропасть иррационального побаивались заглядывать даже самые бесстрашные умы эпохи Просвещения, однако великие художники то и дело проговаривались о самом ее существовании, и случалось это нередко в рамках произведений с "галантной" - а по сути эротической - проблематикой. Особенно это касается второй половины XVIII века, когда культ "галантности" соединился с культом "чувствительности". Последняя могла привносить в "галантный стиль" такой заряд драматизма, который был способен разрушить этикетные условности этой манеры либо явным образом (через топос "бури и натиска"), либо изнутри, превращая галантность в красивую оболочку для весьма неоднозначного содержания. Решимся на небольшое литературное отступление. Над судьбами несчастных, но добродетельных героев "Юлии, или Новой Элоизы" Руссо читатели проливали слезы и в XVIII, и даже в XIX веке (как пушкинская Татьяна). Но лишь читатель нашего времени, знакомый с теориями З.Фрейда, К.Г.Юнга и их последователей, а также искушенный в психологических коллизиях, отраженных в искусстве и литературе XX века, способен дать себе отчет в том, что именно объективно зафиксировал в своем сентименталистском романе Руссо (романе, впрочем, ныне мало кем, кроме филологов, пристально читаемом). Многостраничные рассуждения о нравственности, дружбе, долге и прочих незыблемых ценностях Просвещения не могут скрыть от нас жестокой правды описанных в романе взаимоотношений героев. Истинная история "новой Элоизы" оказывается гораздо страшнее и трагичнее той, которая реально осознавалась автором и его прекраснодушными героями. Герои романа Руссо на самом деле отчаянно борются с водоворотом страстей, сути которых сами не понимают - ими играет стихия иррационального, подсознательного, абсолютно запретного. И речь вовсе не идет о "беззаконной" страсти бедного разночинца Сен-Прё к девушке-дворянке (как раз подобными сословно-нравственными проблемами XVIII век активно занимался). Если вдумчиво вчитаться в роман, то можно обнаружить нечто неожиданное. Странные скрыто-эротические взаимоотношения связывают Юлию с ее отцом, который затем выдает дочь замуж фактически за своего двойника - ровесника, друга и единомышленника (недаром "отеческое" отношение барона Вольмара заставляет девушку примириться с браком и даже обрести в нем спокойное счастье). Бойкая и пылкая Клара, подруга Юлии, почему-то откровенно равнодушна к своему супругу, за которого выходила замуж отнюдь не по принуждению - зато она боготворит Юлию, боготворит столь страстно, что это явно перерастает рамки даже экзальтированной женской дружбы (пылкая девичья дружба-влюбленность обычно перестает быть таковой после того, как подруги взрослеют и обзаводятся собственными семьями). Сам Сен-Прё в какой-то момент подумывает о браке с овдовевшей Кларой, видя в ней "второе Я" недоступной Юлии. Оба они относятся к детям Юлии и Вольмара практически как к собственным. И так далее, и тому подобное. Нити эротических тяготений протянуты в "Новой Элоизе" отнюдь не только между Юлией и Сен-Прё; они образуют настолько плотную и причудливо свитую паутину, что освободить из нее всех участников этой коллизии способна лишь смерть главной героини. Однако всё это остается глубоко в подтексте, прорываясь исключительно на уровне бессознательных проговорок, ибо сама возможность рассуждений на подобные темы являлась для просветительского сознания не то что просто запретной (запрет возникает лишь после осознания, определения и называния запрещаемого), но совершенно непредставимой, в буквальном смысле немыслимой. Откровенно оперировать подобными ситуациями мог позволить себе разве что скандально знаменитый маркиз де Сад, который, однако, занимался скорее физиологией, нежели анализом чувств и нравственных проблем (некое извращенное рококо у де Сада, безусловно, присутствует, но к галантности он не имеет ни малейшего отношения). Лишь в конце XVIII - начале XIX веков, в самом конце классической эпохи, искусство, выросшее на идеях Просвещения и во многом переросшее их, осмелилось сознательно и бесстрашно подступиться к проблемам такого рода заглянуть в космические бездны Эроса и попытаться, не утрачивая обретенных философией Просвещения идеалов, вновь выстроить земную жизнь на основе такого знания, которое не игнорировало бы стихийные силы, но научилось бы в какой-то мере ими управлять или уживаться с ними в социально допустимых рамках. Эти проблемы ставятся, в частности, в таких шедеврах, как оперы Моцарта ("Свадьба Фигаро", "Дон Жуан", "Cosi fan tutte") и роман Гёте "Избирательное сродство" - однако они, каждый на свой лад, связаны с поэтикой "галантности", иногда на уровне конкретных мотивов. Например, в "Избирательном сродстве", подытожившем многие идеи Просвещения, обнаруживаются и скрытые смысловые цитаты из "Новой Элоизы" (романа, который Гёте знал и ценил). Это брак Шарлотты и Эдуарда, которые в юности были разлучены, подобно Юлии и Сен-Прё; мотив идеально устроенного дома и сада, эпизод с падением в воду ребенка; идея добровольного ухода из жизни героини, мучимой внутренним разладом или угрызениями совести (Юлии у Руссо и Оттилии у Гёте). Что касается "Cosi fan tutte", то огромный спектр нравственных и философских смыслов этой "легкомысленной" и "фривольной" оперы-буффа оказался понят лишь в ХХ веке, причем нередко в качестве параллели при этом выступал роман Гёте.[15] Поэтому мы вправе полагать, что "галантный стиль", возникший поначалу как изящный язык светской и даже салонной культуры, объективно заключал в себе этикофилософскую проблему Вечно Женственного и был изначально ориентирован на выражение чувственного, эротического и интимно-психологического. Эта проблематика была имманентна "галантному стилю" и могла либо проявляться в нем с той или иной степенью серьезности, а могла и пребывать на уровне "общего места", лишенного индивидуальной конкретики (так же, как изображения амуров, Венеры и Леды в будуаре светской дамы ровно ни к чему не обязывали хозяйку). Приведенное нами в качестве эпиграфа к данному разделу меткое замечание лессинговской Клаудии о том, что на языке галантности ничто звучит как всё, а всё означает ничто, вполне приложимо и к музыкальному выражению этого языка. Сами по себе узнаваемые клише "галантного стиля" обозначают лишь его топику, но их конкретный смысл в определенных обстоятельствах может варьироваться от изящноповерхностного до безмерно глубокого. Так, огромное число оперных персонажей XVIII века на словах намеревалось умереть от любви, однако чрезвычайно редко их намерения имели под собой реальную психологическую почву. В "Дон Жуане" Моцарта бездна разверзается под ногами не только главного героя, но и некоторых других участников драмы - прежде всего донны Анны (гипотезу Э.А.Гофмана по этому поводу мы отнюдь не склонны считать фантастической), но, возможно, и дона Оттавио. В его арии из I акта "Dalla sua pace" (добавленной в оперу для венской премьеры) нейтрально-галантная стилистика господствует лишь на протяжении первого периода. Ее перевешивает и фактически разрушает исключительно серьезно понятое Моцартом предчувствие дона Оттавио, что несчастье, случившееся с донной Анной, несет гибель и ему самому: в конце арии, перед этикетно-галантным оркестровым заключением, в мелодии прямо-таки рисуется образ грядущих предсмертных метаний и вздохов героя. В творчестве Моцарта насыщение "галантного" топоса невероятно богатым психологическим подтекстом наиболее очевидно (об "Эросе", "космизме", "пессимизме" у Моцарта много сказано в книге Г.В.Чичерина, и даже если сделать скидку на субъективизм оценок автора, за ними нельзя не признать немалой доли справедливости). Но примерно то же самое можно найти и в музыке других выдающихся мастеров классической эпохи - Глюка, Гайдна, Бетховена. Сложность содержания не обязательно влечет за собой усложнение языка или формы; внешне такая музыка нередко остается очень простой (по крайней мере для непосвященных), но ее внутренний смысл бывает чрезвычайно глубоким. Так, у Глюка в сфере галантной стилистики оказывается возможным сопряжение топосов Любви, Судьбы и Смерти ("Орфей и Эвридика", "Армида", "Эхо и Нарцисс"). "Галантный стиль", таким образом, оказался способным выражать чрезвычайно значительное содержание внутри присущего ему топоса, и еще более разнообразное - в сочетании с другими топосами классической музыки. В первую очередь здесь нужно назвать "чувствительность" (Empfindsamkeit), возникную почти одновременно с широким распространением галантности и иногда теснейшим образом связанную с последней. Примерно в 1760-х годах в музыке приверженцев "галантного стиля" вдруг произошел загадочный перелом, сравнимый с извержением вулкана, лава которого продолжала клокотать до 1770-х годов, а у отдельных авторов и позже. Композиторы, будто сговорившись, начали создавать произведения, проникнутые обостренной экспрессией, порою весьма причудливые по форме и мрачные по концепции, и даже если подобные образы занимали у них подчиненное место, то все равно они приковывали к себе внимание как нечто неслыханное и поразительное. Примеры тому есть и в оперной музыке ("Орфей" и "Альцеста" Глюка - соответственно 1762 и 1767; "Альцеста" А.Швейцера на текст К.М.Виланда - 1773), и в инструментальных сочинениях всех жанров, от симфонии до отдельных пьес, особенно в жанре фантазии. Особенно впечатлящим был этот внезапный переход к трагическим сюжетам и образам в жанре, который испокон веков обретался в рамках сугубо галантной тематики - в балете, превратившемся усилиями Ж.Ж.Новерра и Г.Анджолини в хореодраму со сквозным действием и нередко весьма мрачной развязкой. Так, в 1760-х - начале 1770-х годах Новерр в содружестве с различными композиторами поставил в Штутгарте и Вене балеты с красноречивыми названиями "Нисхождение Орфея в ад", "Смерть Аякса", "Смерть Геркулеса", "Медея и Язон", "Смерть Ликомеда", "Ифигения в Тавриде" и др.; в эти же годы Анджолини создал вместе с Глюком не менее новаторские балеты "Дон Жуан" и "Семирамида", завершавшиеся гибелью главных героев. Данное обстоятельство тем более впечатляет, что в опере XVIII века продолжал господствовать принцип lieto fine благополучной развязки, распространяющийся даже на самые известные трагические сюжеты. В названный период удивляет обилие инструментальных циклов в минорных тональностях, равно не типичных как для "галантного стиля", так и для зрелого классического - причем в бурный минор "впадали" даже те композиторы, которым в принципе это было не свойственно в силу мягкости или жизнерадостности их натуры. Сюда относятся ярко выделяющиеся на общем более ровном эмоциональном фоне произведения сладостного мелодиста и гедониста И.К.Баха (симфония g-moll ор.6 № 6 все три части в миноре; также сплошь минорная клавирная соната ор.5 № 2 c-moll), изящного стилиста Л.Боккерини (симфония d-moll, "La casa del diabolo" - 1771, в финале использована тема пляски фурий Глюка[16]); А.Фильса (симфония g-moll op.2 - около 1760). Довольно необычным было настойчивое обращение к драматическим и печальным образам Й.Гайдна в произведениях конца 1760 - 1770-х годов; некоторые исследователи называли этот период "кризисным" (соответствующая глава в монографии Ю.А.Кремлева так и называется: "Эмоциональный кризис творчества"[17]). Никогда ни до этого, ни в более поздние годы концентрация "минорности" у Гайдна не достигала такой степени интенсивности: это скорбная кантата "Stabat Mater" (1767), симфонии №№ 26 (d-moll, "Lamentatione"; не исключено, что связана с тематикой "Плачей Иеремии", исполнявшихся в церкви на Страстной неделе), 39 (g-moll), 44 (e-moll, так называемая "Траурная"), 45 (fis-moll, "Прощальная"), 49 (f-moll, "La Passione" - возможно, могла исполняться на Страстной неделе). Речь, вероятно, должна идти не о кризисе как полосе упадка, а скорее о периоде интенсивного развития и углубления образного строя музыки Гайдна, в чем, как нетрудно убедиться, он был совсем не одинок. Даже юного Моцарта затронула эта тенденция; в 1773 году он создал единственную минорную из своих ранних симфоний - № 25, g-moll (K.183), которая, на наш взгляд, имеет гораздо больше общего с произведениями тогдашних современников Моцарта, чем с его поздней симфонией g-moll № 40. А что уж говорить о тех композиторах, для которых подобная острота чувствований, доходящая до взвинченности, была вообще чертой натуры и органическим качеством их стиля! Таким художником был прежде всего К.Ф.Э.Бах; ощущается это и в произведениях его старшего брата В.Ф.Баха, и в музыке И.Шоберта. Историков музыки обычно искушает перекличка между очевидным всплеском драматических музыкальных эмоций и поэтикой "Бури и натиска". Однако не следует забывать, два этих явления несколько разошлись во времени: как известно, литературное течение "Бури и натиска" идеологически и художественно оформилось примерно десятилетием позже, в 1770 -1780-х годах, когда в музыке страсти несколько улеглись и классический стиль вступил в полосу цветущей зрелости (несколько запоздалый всплеск бунтарских настроений можно усмотреть в моцартовском "Идоменее", 1781, или в замечательной симфонии c-moll, созданной около 1783 года работавшим в Швеции немецким композитором И.М.Краусом[18]). Сходным образом штюрмерство Гёте и Шиллера сменилось "царственным" периодом веймарской классики. Следовательно, речь тут может идти именно о типологической параллели, а не о прямой зависимости одного явления от другого. Музыканты, о которых говорилось выше, никак ни хронологически, ни географически, ни личностно - не были связаны с литературной полемикой вокруг идей штюрмеров (из всех венских классиков только Бетховен хорошо знал и любил произведения Гёте, Шиллера, Виланда, Гердера). Скорее, на них могли повлиять и в некоторых случаях действительно влияли Лессинг, Клопшток и Руссо. С другой стороны, штюрмеры были слишком увлечены своими собственными проблемами, чтобы искать единомышленников среди музыкантов. Но само выражение "Буря и натиск" настолько точно выражает умонастроение того времени, что вполне можно распространить его и на музыку в качестве стилевой метафоры или обозначения определенного топоса. Этот топос мог быть тесно связанным с топосом патетического в его драматическом преломлении, но в то же время обладал достаточной самостоятельностью, поскольку его этико-эстетической основой был культ Чувства и Чувствительности (Empfindsamkeit), на почве которого во многом выросла и поэтика штюрмерства. В дальнейшем эта дорога вела к романтизму, однако применительно к музыке 1760 - 1770-х годов говорить о каком-либо романтизме по меньшей мере еще рано. Музыка едва успела освободиться от чрезвычайно богатого, но крайне обременительного наследия барочной поэтики, и в это время на повестке дня стояла проблема формирования классического стиля, в том числе в его галантном преломлении. Топос чувствительности, вполне способный существовать в рамках галантного стиля, связан исключительно с субъективными эмоциями "негативного" характера: резкие перепады настроений, горькая страстность, сметающие всё на своем пути порывы, излияния одинокой скорбящей души, все оттенки меланхолии - от почти беспросветных до нежно-прозрачных, сквозь которые иногда просвечивает утешительная надежда. Стилистически этот топос обязан своим существованием музыкальному театру (арии мести, арии гнева, арии lamento, фантазийной манере ombra, аккомпанированному речитативу) и некоторым жанрам барочной инструментальной музыки (фантазии, каприччио, "большой" органной прелюдии, сонате da chiesa). Берет он на вооружение и риторические приемы, воспроизводя в музыке прихотливое и свободное течение вдохновенной речи. Сутью же остается принцип самовыражения личности, позволяющий композитору сознательно пренебрегать писанными и неписанными правилами: стройностью формы, логикой гармонического и тематического развития, единообразием фактуры, обоснованностью и сбалансированностью контрастов. У некоторых авторов (в частности, у сыновей И.С.Баха) эти черты можно понять как "рудименты" фантазийного стиля Барокко; у других, не столь кровно связанных с предыдущей эпохой, первопричиной подобных явлений был, вероятно, именно культ Чувствительности.