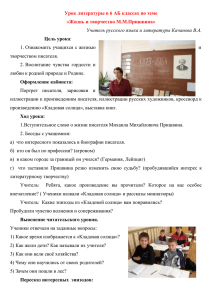Духовный космос в произведениях М.М.Пришвина начала 1930
реклама
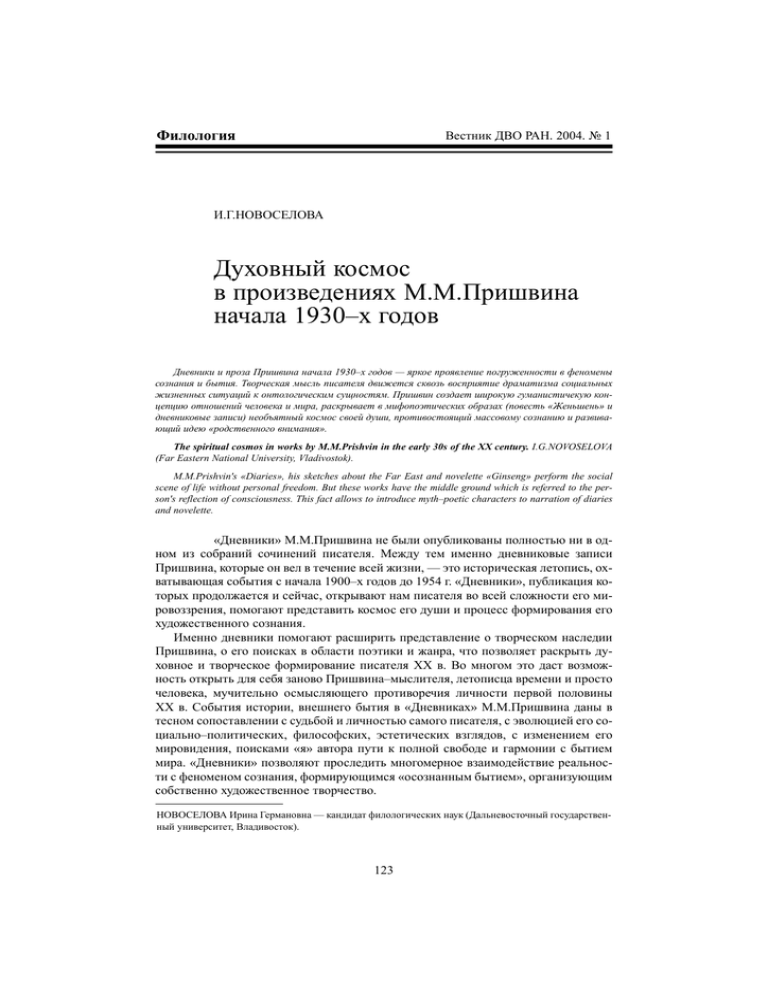
Филология Вестник ДВО РАН. 2004. № 1 И.Г.НОВОСЕЛОВА Духовный космос в произведениях М.М.Пришвина начала 1930–х годов Дневники и проза Пришвина начала 1930–х годов — яркое проявление погруженности в феномены сознания и бытия. Творческая мысль писателя движется сквозь восприятие драматизма социальных жизненных ситуаций к онтологическим сущностям. Пришвин создает широкую гуманистичекую концепцию отношений человека и мира, раскрывает в мифопоэтических образах (повесть «Женьшень» и дневниковые записи) необъятный космос своей души, противостоящий массовому сознанию и развивающий идею «родственного внимания». The spiritual cosmos in works by M.M.Prishvin in the early 30s of the XX century. I.G.NOVOSELOVA (Far Eastern National University, Vladivostok). M.M.Prishvin's «Diaries», his sketches about the Far East and novelette «Ginseng» perform the social scene of life without personal freedom. But these works have the middle ground which is referred to the person's reflection of consciousness. This fact allows to introduce myth–poetic characters to narration of diaries and novelette. «Дневники» М.М.Пришвина не были опубликованы полностью ни в одном из собраний сочинений писателя. Между тем именно дневниковые записи Пришвина, которые он вел в течение всей жизни, — это историческая летопись, охватывающая события с начала 1900–х годов до 1954 г. «Дневники», публикация которых продолжается и сейчас, открывают нам писателя во всей сложности его мировоззрения, помогают представить космос его души и процесс формирования его художественного сознания. Именно дневники помогают расширить представление о творческом наследии Пришвина, о его поисках в области поэтики и жанра, что позволяет раскрыть духовное и творческое формирование писателя ХХ в. Во многом это даст возможность открыть для себя заново Пришвина–мыслителя, летописца времени и просто человека, мучительно осмысляющего противоречия личности первой половины ХХ в. События истории, внешнего бытия в «Дневниках» М.М.Пришвина даны в тесном сопоставлении с судьбой и личностью самого писателя, с эволюцией его социально–политических, философских, эстетических взглядов, с изменением его мировидения, поисками «я» автора пути к полной свободе и гармонии с бытием мира. «Дневники» позволяют проследить многомерное взаимодействие реальности с феноменом сознания, формирующимся «осознанным бытием», организующим собственно художественное творчество. НОВОСЕЛОВА Ирина Германовна — кандидат филологических наук (Дальневосточный государственный университет, Владивосток). 123 Современное литературоведение, преодолевая замкнутость на социологии, в последнее время все активнее использует понятия, отражающие онтологическую глубину происходящего в мире, сложность восприятия и переживания реальности в душе человека. В результате вырисовывается духовный космос, космический объем души, простор духовного мира как актуальная проблема литературоведческого исследования. Именно эта проблема представляет основную направленность предлагаемого анализа произведений М.М.Пришвина. На этой основе определяются нравственные координаты личности. Что происходит в душе человека на исторических перекрестках ХХ в.? Как выражается противостояние влиянию массового сознания, растворению индивидуальности в нем, преодоление личной духовной деградации в условиях авторитарного деспотического века? При решении этой проблемы духовная космология дневниковых записей М.М.Пришвина видится нам особенно значимой. Это закономерно, потому что анализ, авторское проникновение в глубины собственного сознания, отношений человека и мира акцентируют сущностные связи, обостряют философские проблемы осознания взаимодействия мира и индивида, дают возможность выйти к тайнам духовного бытия. Начало 30–х годов ХХ в. для Пришвина было тяжелым временем испытаний: писатель не хочет подчиниться властному управлению литературой, и во многом его поездка на Дальний Восток дает качественно новые впечатления для творчества, акцентирует бытийную систему ценностей в его осмыслении мира. Стремление вырваться сознанием своим за пределы социального быта к масштабу космического бытия определяется в дневниках как основная духовная потребность личности. В системе духовно–космических координат особенно важным видится понятие «космос души» как знак необъятности жизни, сопрягающей человека с миром бытия. Этот мотив будет центральным в «Дневниках» М.М.Пришвина, написанных в начале 1930–х годов. В широком понимании «космос души» можно представить как сферу, где концептуально осмысляется положение человека в мире его связь с идеей бессмертия жизни, сопричастность ко всеобщему бытию, где реализуется неизменная потребность личности в своей гармонии с ним. В каких формах «космос души» находит свою начальную выраженность в дневниках Пришвина? Он оказался связанным с мифопоэтической образностью. Своеобразие мифопоэтического отражения происходящего в мире состоит в том, что оно акцентирует постоянные духовные опоры — своеобразные константы бытия и культуры. Это сфера «неба и земли», архетип «неба и земли», определяющий «космос души». С помощью этих констант бытия осмысливается весь процесс жизни. Историк и литературовед В.Н.Топоров подчеркивает, что мифопоэтическое «являет себя как творческое начало… как противовес угрозе энтропического погружения в бессловесность, немоту, хаос» [6, c. 5]. Творческое начало надо понимать не только как художественный процесс, но и как возможность осознания вечного, модели жизни в преходящем мире человеческого, как сферу духовного приобщения человека к ходу самого бытия. Мифопоэтическое начало, созидающее и собирающее, противостоит рассеянности, деградации, неупорядоченности сознания, неопределенности, оно поддерживает космологическую направленность сознания. Мифологический способ мировосприятия имеет древнейшую историю. Но в ХХ в. происходит открытие новых возможностей реализации мифологического в культуре, потому что именно в мифе генетически ставятся сложные проблемы в области как индивидуального, так и массового сознания. Известный исследователь Е.М.Мелетинский в статье «Миф и двадцатый век» утверждает особую роль мифа: «Миф — один из центральных феноменов в исто124 рии культуры и древнейший способ концептирования окружающей действительности и человеческой сущности» [1, с. 419]. Он в особых условиях осуществляет ту роль, которую в определенной мировоззренческой ситуации не берет на себя научное познание. Эта роль, скорее, интуитивна. Миф — это не столько научное познание мира, сколько созданное разумно и интуитивно конкретно–чувственное, образное представление об извечном порядке и гармонии мира. Миф сообщает миру особый пафос гармонизирующего начала, что определяет особое положение мифологического фактора в широкой сфере сознания. Итак, миф как особый тип сознания может рассматриваться как описание онтологической модели мира, утверждающей гармонию как основу мира, гармонию в сфере природы, космоса сознания индивидуума, т. е. мира как такового во всем объеме. Категория мифологического связана с целостным подходом к воссозданию картины мира, а мифы моделируют идеи гармонии (творения и эсхатологии), создавая онтологическое мировосприятие. В истории человеческой цивилизации миф пульсирует, то выявляясь, то исчезая. Происходит то ремифологизация, то демифологизация сознания. Иногда эти процессы происходят одновременно. В ХХ в. активизируется миф в типологической мировоззренческой ситуации. В эпоху войн и революций возникает необходимость в онтологическом взгляде на происходящее, в онтологической модели мира. Такой подход не сопряжен с рациональным обобщением, теперь он, скорее, связан с необъяснимым, интуитивным, со сферой рефлексии, которая заложена в человеке природой и поэтому не меняется с развитием цивилизации. Именно эта сторона интуитивных процессов находит свое отражение в мифологически целостной картине мира, в самом процессе мифотворчества в эту эпоху. В этой ситуации особую активность обретают мемуаристика и дневники как формы, направленные в глубины духовной человеческой жизни. В этом плане «Дневники» Пришвина при всей их оригинальности — типологическое явление времени, необычайно значимое для постижения мира человеческого сознания ХХ в. В «Дневниках», очерках и художественных произведениях, прежде всего в повести «Женьшень», написанных М.М.Пришвиным в начале 30–х годов, мифопоэтические образы приобретают особое значение. Важно отметить, что 30–е годы были острым периодом в духовном развитии М.М.Пришвина. Писатель видит процесс деформации личности, потерю свободы в эти годы. Он пишет о появлении культа личности вождя, о процессе ритуального общественного служения, который сопровождает это явление. Сам он ни в коей мере не может принять этого служения, открыто говорит об опасности подчинения мифам социальным, противопоставляя им миф онтологический. Поэтому важнейшим мотивом в дневниковых записях является пафос разоблачения, демифологизация «жизнеутверждающей» сути социальных явлений, развенчание мифов социального благополучия. В социальной жизни нет гармонии мира, а есть насильственное духовное подчинение индивида массовому. В «Дневнике» 1931 г. писатель отмечает: «28 марта. Ритм жизни (радость зачатия будущего и др.) сохранился теперь только в природе: ведь грач чувствует же себя как грач, и корова знает, что она корова, а человек — нет, он расчленен, и человек–кулак или человек–пролетарий — разные существа» [3, с. 150]. Это ощущение другого, социального, ритма жизни, где человек теряет свою целостность, ритма, отличающегося от природной гармонии, составляет важную часть повествования в «Дневнике» М.М.Пришвина. Человек теряет свою природную сущность, становится знаком класса. 125 Для писателя социальная действительность становится разрушающей. Она утверждает торжество массы над личностью, формирует «спецчеловека», ставит на место индивида существо, которое М.М.Пришвин называет «фабчел». Нарушение свободы человека автор дневниковых записей воспринимает прежде всего как нарушение его естественного права, связанного с естеством самой природы. В дневниковой записи 1931 г. писатель подчеркивает, что после поездки на Урал только природа возвращает ему чувство жизни: «11 марта. Я так оглушен окаянной жизнью Свердловска, что потерял способность отдавать себе в виденном отчет, правда, ведь и не с чем сравнить этот ужас, чтобы сознавать виденное. Только вот теперь, когда увидел в лесу, как растут на елках сосульки, вернулось ко мне понимание возможности обыкновенных и всем доступных радостей жизни и вместе с тем открылась перспектива на ужасный Урал» [3, с. 148]. Ужас социальной жизни, где подавляется личностное, даже сама поездка в Свердловск, куда писатель отправляется, чтобы написать произведение на заданную производственную тему, — все это угнетает Пришвина. И только природа с ее вечной и доступной радостью бытия возвращает писателю ощущение жизни, дает ту духовную опору, которая удерживает его от падения в ужас «окаянных дней» истории. Именно ритм природных изменений, жизнь природы, когда растут сосульки, рождает душевный покой. «Обретенный рай» противоположен социуму, где царит ад власти. Этот момент обретения духовного равновесия, радости, покоя в дневниковых записях 1930–х годов почти всегда связан с обращением к природным зарисовкам. Но необходимо отметить все–таки, что в дневниках этого периода образ природы несколько потеснен, в тексте нет той насыщенности пейзажными фрагментами, которые обычно отличают произведения М.М.Пришвина. Это придает особый драматизм записям начала 1930–х годов. Образ рая, связанный с бытием природы, не исчезает из повествования дневников, природа будто бы всегда рядом, но она насильственно отстранена, отгорожена невидимым барьером истории. Природа замерла и оживает в повествовании только тогда, когда обессиленная, умирающая под бременем вопиющих фактов духовного погрома душа прорывается к родному пространству, обретает «рай веры» в неостановимый ход жизни. Пришвин обращается к размышлению над мифологемой «власть» как праву и возможности подчинить кого–нибудь своей воле, распоряжаться действиями кого–либо. Писатель объясняет, почему так страшна власть для человека: он теряет свое «я». «Во власти человек прячется от самого себя, во власти он живет как бы вне себя, власть дает возможность быть вне себя, посредством власти можно убежать от себя самого (“погубить свою душу”)» [3, с. 153]. Особенно опасна для индивидуального человеческого «я» власть другого «я», тем более власть социума. Мысль Пришвина сосредоточивается на разрушительных мотивах жизни. В дневниковых записях писатель размышляет, как губительна власть для творческого человека, Пришвин говорит о судьбе Горького, чья слава опасно велика для него как художника слова: «Дорога к власти — это именно и есть тот самый путь в ад, устланный благими намерениями. …Потому так и противно теперь жить, что это властолюбие есть движущая пружина, и весьма откровенная, тогда как сам истратил жизнь на то, чтобы спрятать самолюбие и дать сверх него…» [3, с. 152, 153]. Это желание «дать сверх» социального, найти опору в самом бытии и является задачей писателя в произведениях 1930–х годов. Не желая покориться страху перед властью, М.М.Пришвин ищет выход в новых впечатлениях от поездок по стране в далекие города России и записывает впечатления от этих путешествий. Но они безотрадны. В записи от 1 января 1932 г. он отмечает: «В эту ночь, 126 как бывает, отчетливо пронеслись в моей голове оба моих путешествия, в Свердловск и во Владивосток, все до точности вспомнилось и ни на чем сердце (родственное внимание) не заострилось: везде спех, суета, страх, стон, злоба; через толщу вверженных в бедствие людей невозможно было, как раньше, пробиться к природе, загореться там любовью, как раньше, и с родственным вниманием вновь посмотреть на людей» [3, c. 155]. Огромное испытание для человека — жить в таких условиях деформации личности: «Вокруг меня хаос… В этом хаосе ритма нет никакого, но если жить самому среди хаоса, то сердце твое, отбивая удары, усваивает видимое глазом из хаоса, начинает чуть–чуть работать в этом хаосе» [3, c. 172]. Так возникает антиномия «хаос социума — ритм природы», внутренняя оппозиция как одна из вариаций размышлений писателя о мире и гармонии бытия. В «Дневнике» 1932 г. противоречие бытийного и социально–исторического формулируется так: «26 апреля. Первое чувство при соприкосновении с природой — это смириться, отдаться, даже припасть. Человек слабым приходит к природе, а уходит сильным. “Новый человек” к природе относится, как завоеватель, не покоряется, а покоряет…» [3, с. 167]. Завоеватель разрывает свою кровную связь с природой, не припадает к ней, а разрушает ее. Пришвин говорит об изменении быта, но он рассматривает эти бытовые детали как знак победы власти, отделяющей человека от земли, от его корней, превращающей личность в массу. «Тюль — это рай: тюлевый рай и деревня, городской тюлевый рай в новом доме в семье шофера и деревенская грязная жизнь. Жизнь раздевается (старые песни забыты, серафимы в музеях, без одежды сказок и всяких заманок личного счастья, труд у земли стал бессмысленным, потому что все на свете легче его). Все бегут от земли» [3, c. 169]. Тюль отделяет избу от московской квартиры, но так называемый тюлевый рай отделяет душу от природы, от естества самой жизни. «Все бегут от земли» — таково финальное обобщение. Поэтому в следующей зарисовке дневниковой записи того же дня писатель ассоциативно обращается к иносказательному образу «земли» как опоре индивидуального «я». Судьба писателей РАППа убеждает Пришвина в потере ими духовной опоры — «земли» писателя. «Освобождение писателей от РАППа похоже на освобождение крестьян от крепостной зависимости и тоже без земли: свобода признана, а пахать негде, и ничего не напишешь при этой свободе. …Земля писателя и всего художника в твердой уверенности… его собственной личности» [3, c. 169]. Мифопоэтический образ земли–опоры, расширяясь, преобразуется в поток жизни. Писатель в следующей дневниковой записи дает зарисовку уходящего дня, которая ассоциируется у него с уходящей жизнью. Но как в самой природе, уходящий день сообщает, что жизнь не кончилась, а наступит новый день, так и в жизни человека должна быть радость победы над испытаниями. Это чувство соединяет внешнее проявление гармонии жизни с внутренним ощущением своего духовного космоса: «Так вот, все эти весенние песни птиц, и заря, и звезды, и луна — все это этапы побед человека. Хорошо!» [3, c. 170]. Обращение к законам бытия, мифопоэтическому восприятию мира, где главное — априорная вера в гармонию жизни, — это спасает душу писателя от трагедии разочарования в разумности происходящего в дневниковых записях 1930—1933 гг. Особый характер пейзажных зарисовок в «Дневнике» начала 1930–х годов выражен в том, что за конкретикой происходящего в природе встает рефлекторный план бытийных размышлений. В дневниковых записях картины социального хаоса оказываются рядом с зарисовками природы, поэтому сама дневниковая запись в 127 целом приобретает символическое значение: перед нами не узкое пространство социального, а широкое поле бытийного, вечного, со своим независимым ни от чего ритмом. Пейзажная зарисовка 7 января 1933 г. пронизана особым чувством любования миром, прелестью зимнего дня: «Под Рождество на палец пороша. И порхает–летит весь день легкая–легкая–легкая: дунь ветер — все снесет» [2, c. 250]. Порошу и ветер, весь мир Пришвин приемлет с радостью таким, каков он есть. И его душа не противостоит этому миру природных явлений. Писатель наслаждается, любуется происходящим — именно эти чувства являются основными. Это передано в самом построении фразы, где воссоздаются полет падающего снега, ритм природного явления. Перед нами картина сродни импрессионистической живописи: все в движении, жизнь мгновения передает непрерывность бытия. В пейзажных зарисовках «Дневника» 1933 г. рядом с сиюминутным, мгновенным выражено ощущение большого времени мироздания: «20 сентября. Ночью вылился дождь весь, перед рассветом звезды явились, и с ними коснулся души человека ритм времен сотворения мира. И тут же где–то по крыше, не мешая тому большому ритму, мерно падали капли…» [2, c. 254]. Коротким вспышкам исторического времени, «кометному» движению истории, рождающему «усредненное», массовое сознание, противостоит «большой ритм» «времен сотворения мира», асоциальный мифологический план жизни, течения бытия. В авторском восприятии возникает ощущение картины рождения мира. Метафора «звезды явились» обретает характер космологического мифа, соотносится с мифом о рождении мира. Восприятие широты ритма, временного простора и движения мира делает все происходящее величественным и значительным. Это ритм даже не времени, а «ритм времен сотворения мира» — как вечного жизнеутверждения, повторяющегося в своей неизменности процесса. В вечный ритм бытия вписывается иной, малый ритм только что случившегося — сейчас прошедшего дождя. И все это гармонически соединено, сплавлено в мифопоэтическую картину, где за вечным «тут же где–то» стоит сиюминутное. Мифологема единства и гармонии сотворенного мира, где изначально гармонично устроено все, составляет основной мотив в описании природы: «12 октября. Мир, как органическое целое: все велико и гениально, что являет в своем выражении целое; ромашки с белыми лучами своими совершенно так же гениальны, как солнце. И творческий разум человека является таким же представителем целого мира, как и ромашки» [2, c. 255]. Универсализм единства и гармонии в мире от ромашки до солнца, до творческого разума человека — вот модель бытия. Совершенство мира не подлежит сомнению, сила творения столь велика, что возникает глубинное соединение всего со всем, складывается ощущение «события», восторг от всеобщей причастности к мировому объему жизни. Запись 10 марта 1933 г. открывается не просто картиной весны. Восторженная реакция перед побуждением весенней земли соединяется с деталями природы: «Великие дни весны света: разгар полдней, утренний аромат снега, мороза и света» [2, c. 252]. Модель изначального соединения всего живого и неживого, настоящего и вечного лежит в основе мировосприятия Пришвина в дневниковых записях 1933 г. Это относится не только к описаниям природы, но и к размышлениям над собственным мировосприятием. Писатель стремится гармонизировать собственное сознание, не потерять в себе ощущение цельности бытия, сотворить эту целостность в своем внутреннем космосе: «Ищу в себе единства… Быть самим собой — значит понять себя в единстве. 128 Новые впечатления разбивают это единство, и что трудно после путешествия, на что много уходит времени, это найти корни этих впечатлений в себе, то есть свести их к единству» [2, c. 254]. От зарисовки картин природы Пришвин мгновенно переключается к сфере воспоминаний, где созвучны внешний и внутренний мир человека. Таким объемным становится образ сада. Он не просто место свиданий с возлюбленной, это образ–воспоминание, где реальность и мечта переплетены в единстве гармонии. Это воспоминание–миф о первой несбывшейся любви. «Вечером, даже не во сне, а перед сном, был в Люксембургском саду и видел там все до мельчайших подробностей» [2, c. 252]. В центре повествования не бытовые подробности, а память о прошедшем, о юности как времени счастья. Возникает процесс принятия единства мира, его хода, процесс творения мифа о «золотой» юности как гениальном даре человеку, миф об изначальном земном рае. Сад–воспоминание ассоциативно сопряжен с мыслью о единстве любви–брака, соединяющей две линии: линию счастья и линию долга. И это представление реализуется в метафорическом образе сада любви, храма любви как символе единения. «В этот раз… храм любви, посвященный идее единства: любовь одна» [2, c. 252]. Если сад — это образ воспоминаний, то ассоциация с храмом, святостью любви, является ступенью обобщения вечного соединения любящих. План воспоминаний сменяется планом жизнеутверждения: «Во всяком случае, смысл Люксембургского сада именно в единстве. И еще: мне теперь не так уже больно, как радостно, как будто мне остается собрать самые вкусные плоды этого сада» [2, c. 252]. Происходит движение художественной мысли от пространственной привязки — сад — к мысли о любви как идее единства, где гармония любви как целостного начала соединяет прошлое и будущее, воспоминание и реальность бытия, сотворенный и потерянный рай. Таким же емким образом, соединяющим природу и человека, сотворенное природой и творение рук человеческих, становится образ водопада. Он возникает в записи от 7 сентября 1933 г. ассоциативно, сразу после размышлений Пришвина о произведении Пушкина «Капитанская дочка». В объеме постигаемого, в осмыслении гармонии творчества человека на земле — будь то литературное или инженерное сооружение — важно для личности ощущение единства творчества, хотя оно происходит на разных уровнях: быта истории и бытия творчества. «Плотина — водопад, большое инженерное сооружение, создавшее в краю новую географию» [2, c. 253] — это фиксация настоящего, где действуют законы короткого исторического времени. Но тут же возникает тема вечного творчества природы, «старого» времени: «…все, чем отличается новое человеческое творчество от старого, это сроки: те сроки больше человеческой жизни и оттого представляются как бы предвечными, новые сроки меньше срока человеческой жизни» [2, c. 254]. Водопад как инженерное сооружение трансформируется в символ сотворенного человеком. Время инженерного сооружения соотнесено со сроками «предвечного» творчества природы. В этом приобщении творчества человека к вечным ценностям жизни рождается метафора единения человеческого и природного — водопад творчества. «И оттого, когда смотришь на старый водопад, думаешь о вечности и ее творце, а водопады из–под человеческой руки прямо подводят мысль к творческой родине самого человека» [2, c. 254]. Итак, мы видим, что мифопоэтические образы сада, ромашек, водопада, встречающиеся в описаниях природы, которые являются непременной частью 129 дневниковых записей М.М.Пришвина, образуют особую сферу естественного бытия. В нем вечная гармония, радость сотворенного мира, ощущение жизненного созидания. Пришвинское «я» главным образом детерминировано не столько конкретикой окружающих явлений, фактов, конкретно–чувственным восприятием дня текущего, сколько этой глубинной связью с огромным простором мироздания. Рефлексия Пришвина постоянно имеет этот выход к космическому естественному движению мира как таковому. Объемность «я» в «Дневниках» М.М.Пришвина создается пафосом единения с миром, радостью открытия широты мира и глубины своей души. Духовный космос Пришвина — это мировидение личности не замкнутой, а разомкнутой в бытие, в поток жизни. «Я» писателя связано с самоанализом, но одновременно идет ассоциативный поиск соответствий внутреннего и внешнего планов бытия. Это маятник движения от конкретно–чувственного восприятия до глубин личностного устремления к высотам мироздания, к духовно–небесному и широте всего земного. Естественный ход жизни и безмерное пространство мира, куда сам человек подключен всем движением природного бытийного времени, своим трудом и широким полем культуры, которая дает свободу личности, соединяет всех на тропинках взаимопонимания, «родственного внимания», — все это составляет, по мысли Пришвина, космос бытия. Система ассоциативных переходов в дневниковых записях Пришвина расширяет повествование о конкретном факте до философского переживания. В этом ассоциативном ряду «время естественного бытия» становится той жизненной координатой, которая составляет основу всего на земле. Таким образом, обращаясь к дневниковым записям 1930—1933 гг., мы отмечаем, что М.Пришвин обозначает в них разные уровни восприятия настоящего как главного предмета изображения в дневнике. С одной стороны, это жизнь социума с «омассовлением» человека, где ход истории прочерчен в социальных мифах о новом обществе, о безграничной власти человека такого общества над природой, землей. С другой стороны, в этом же настоящем писатель чувствует «ритм времен сотворения мира», ощущает космическую гениальность единства природы от ромашек до солнца, которые являются частью целого от сотворенного человеком сада и водопада до духовных высот его творчества, его сознания, мира его памяти, его души. Каким содержанием наполняются мифологемы в художественной картине мира, представленной в произведении М.М.Пришвина «Женьшень»? В дневниковых записях 1933 г. содержатся короткие замечания о рождающейся повести «Женьшень»: «Другой раз думаешь в отчаянии, что не стоит и жить. Но вот написалась же в этих условиях эта вещь “Олень–цветок”, такая милая вещь в такое время! и она останется, и ради того, чтобы оставалось после себя, и следует жить, и в этом одном опора и начало спокойствия даже и во время эпидемии и войны» [2, c. 252]. Знаменательно, что М.Пришвин видит в книге очерков «Олень–цветок», которая легла потом в основу повести «Женьшень», «опору и начало спокойствия», того спокойствия, которое сообщается уверенностью в иной, не социально–бытовой, а творческой и бытийной сфере. Образы природы из очерков «Олень–цветок» наполняются широтой обобщения связей мира и человека в повести «Женьшень». Одним из таких образов становится образ камня–сердца. В очерке писатель видит его так: «Какое–то “Томящееся сердце” — такое название камня: будто бы камень этот от напора волн шевелится и потому назван сердцем» [4, c. 160]. Перед 130 нами природное явление, причудливое и загадочное. Оно дано как факт внешней жизни, которая удивляет и будит воображение. Но в повести «Женьшень» возникает за этим фактом иной план — план внутренней жизни, воображения писателя, ассоциаций. Этот план ведет к глубинам сознания, писатель осмысливает вечность природы и единство с ней человека: «…этот камень–сердце по–своему бился, и мало–помалу все вокруг через это сердце вступило со мной в связь, и все было мне как мое, как живое. Мало–помалу выученное в книгах о жизни природы, что все отдельно, люди — это люди, животные — только животные, и растения, мертвые камни, — все это взятое из книг, не свое, как бы расплавилось, и все мне стало как свое, и все на свете стало как люди: камни, водоросли…» [5, c. 234]. Происходит сдвиг сознания, рождается новое видение, разъединенность сфер бытия исчезает, все олицетворяется, становится живым, родным, близким, единым. Ритм бытия чувствует и в камне, и во всем окружающем, и в себе писатель. Это космос его сознания, где вечные ритмы жизни определяют все, создавая мотив вневременного единства всего живого как уровень над преходящим социальным. Писатель в повести «Женьшень» осмысливает жизненную ситуацию героя в онтологическом плане и находит новые горизонты в понимании жизни как со–бытия человека и природы. Развертывается творчество особого плана, приближенное к постижению основ жизни, — творчество души, создающей новый мировоззренческий объем, вопреки обыденности, социальной безысходности. Эту свободу творчества жизни приобретает человек в своем сознании, в осмыслении своих чувств, утверждаясь в гармонии жизни. Произведение загадочно для самого писателя, он отмечает в дневнике, что появляется произведение, которое он скорее чувствует, чем понимает: оно удивляет его своей необычностью, поскольку живет на уровне интуиции и мифопоэтики. «25 января. Занимаюсь перепиской и чтением “Корня”. …вещь в целом мне все еще не ясна» [2, c. 250]. А к концу 1933 г. все прояснилось, и М.М.Пришвин высоко оценит эту повесть: «1 декабря. Мне удалось в этом году написать вещь, “Корень жизни”, которая сама по себе лучше других моих вещей» [2, c. 256]. «Женьшень» становится для М.Пришвина жизненным этапом, произведением, которое поддержало писателя, дало ему силы, а главное — создало иной объем художественного мировосприятия, подняло над уровнем социальным, сообщая веру в постоянство гармонии бытия. Действительно, загадочность «Женьшеня» для самого писателя объяснима потому, что мы имеем дело с совершенно иной особенностью его творчества — с процессом поэтического мифотворчества, когда «все на свете стало как люди», приобрело олицетворенный характер и внутреннее единство. Все происходит в сфере сознания героя, именно оно становится предметом его творческого внимания. Необходимость возникновения такого произведения, вопреки историческому вихрю общественных преобразований, совершенно точно осознается писателем. Он записывает в «Дневнике»: «Поверх сознания мчится жизнь фантастическая, непонятная. Ее нельзя понять, потому что она выше понимания нашего. И человек именно тем и спасается, что может забыться и говорить о картошке…» [2, c. 252], о чем–то близком себе в самом потоке бытия, а не о социально–фантастическом начале жизни. В сумятице жизни не время искать удовлетворения своим амбициям: «…в такое–то время совсем даже неприлично обижаться или отстаивать свое достоинство…» [2, c. 252]. Нужно искать опору шире, не в духовных претензиях, а в самом творчестве жизни, в своем ощущении гармонии жизни в себе. «Надо искать в творчестве нового русла» [2, c. 252], — записывает в «Дневнике» Пришвин. 131 В начале 1930–х годов и в «Дневниках», и в сфере собственно художественной прозы Пришвина, куда прежде всего относится «Женьшень», идет процесс обращения к мифопоэтическим образам, что позволяет говорить о ремифологизации как явлении художественного сознания писателя. Сравним содержание очерка «Олень–цветок» с одним из центральных мифопоэтических образов «Женьшеня» — загадочной Хуа–лу. Увидев глаза оленя, пишет в очерке Пришвин, он не в силах их забыть. Это впечатление–воспоминание напоминает запах цветов, подчеркивает повествователь: «какое–то отдаленное воспоминание, и оно до того упорно не проясняется, что начинаешь думать, будто и нет его, а самый зуд к воспоминанию не реален и есть нечто вроде желания желаний» [4, c. 146]. Это неясное воспоминание настойчиво живет в душе, пока не произойдет что–то, материализующее его отдаленное ощущение. «И вот в такой–то день я стоял во Владивостоке в ожидании трамвая и смотрел сквозь пунцовый мелколиственный клен на голубое море, и так мне показалось, будто из самого моря вышла женщина в зеленом» [4, c. 147]. Бытовая ситуация — описание ожидания трамвая, попытки занять свое место в переполненном трамвае — все это занимает героя очерка, и только потом интуитивно он еще раз видит эти удивительные глаза женщины: «…не передать мне всего моего восторга от этих оленьих глаз в цветах от света осенью итальянского солнца на Дальнем Востоке. Все вопросы в одно мгновение решились, в одно мгновение все я понял и успел соскочить, помочь, устроить на свое место уже на ходу трамвая, поклониться с восторгом, как будто передо мною действительно чудо из чудес совершилось, олень–цветок, раскрывшийся в женщину» [4, c. 147]. Точность описания места, ситуации, очерковость повествования не исчезают, но появляется в нем чувство внутреннего движения души, мгновенного озарения, восторг перед жизнью, перед ее красотою, творчески соединившей все — природу и человека — в единстве их существования. Писатель чувствует себя художником, которому открывается мир во взаимных переходах этой красоты, он испытывает восторг, сочиняя в своем воображении сказку о царевне, о необыкновенном событии, осветившем жизнь: «После того долго стою в очереди в ожидании трамвая и сочиняю сказку–роман о превращении Хуа–лу, оленя–цветка, в прекрасную царевну» [4, c. 147]. Но финал очерка возвращает к бытовой реальности: к ожидающим трамвай людям и повествователю, погруженному в мечту, «пришел некто, взглянул на провода и сказал уверенно: “Расходитесь, граждане, трамвая не будет”. И все разошлись» [4, c. 147]. Закончилась сказка жизни о волшебных переходах красоты, соединяющей все живое, угасла сразу вспышка сознания писателя, реальность разрушила воображаемое. Только на мгновение жизнь явилась в очаровании своей красоты и гармонии. Сознание еще творит воображаемый мир, сказку, а реальность далека от нее. Она приземленная, бытовая. Мир реальности и мир воображения писателя только на миг освещают друг друга. Иной акцент приобретает этот мифопоэтический образ «олень–цветок» в повести «Женьшень». В этом произведении М.М.Пришвин изображает человека, который соединен с бытийными процессами, они заложены в нем самом, в его сознании, открытом миру. Момент осознания героем своей восприимчивости к красоте мира передан в эпизоде встречи с оленем. Граница между реальностью и зоной сознания не проведена, она размыта: «И дальше, как бы в ответ моему предчувствию, как в сказке о царевне–лебеди, началось превращение. Глаза у нее были до того те же самые, как у Хуа–лу, что все остальное оленье — шерсть, черные губы, сторожкие уши — переделывалось незаметно в человеческие черты, сохраняя в то же время, как у оленя, волшебное сочетание, как бы утвержденную свыше нераздельность правды 132 и красоты» [5, c. 231]. Не величина творческого воображения, как это было в очерке о Хуа–лу, а сложившееся мифопоэтическое чувство вечных истин — правды и красоты — создает в повести «Женьшень» бытийный слой повествования. Писатель ощущает себя охотником, который хочет схватить Хуа–лу, но в то же время обнаруживает в себе другого: «Но во мне еще был другой человек, которому, напротив, не надо хватать, если приходит прекрасное мгновение, напротив, ему хочется то мгновение сохранить нетронутым и так закрепить в себе навсегда» [5, c. 229]. Это желание сохранить, сберечь, «закрепить в себе» прочувствованный «просвет бытия», его красоту повторяется и закрепляется во встрече с женщиной. Чувство многомерности мира позволяет творить, ощущая себя причастным к правде и красоте мира. Это состояние души необходимо беречь, растить в себе, жить по его законам. «Если бы это не раз в жизни пришло, а всегда жило в себе, то можно было бы всем нам всегда и всюду каждый цветок, каждую лебедь, каждую ланку превращать в царевну и жить, как мы жили с этой моей превращенной царевной в долине цветов Зусу–хэ, в горах, на берегах рек и ручьев» [5, c. 231, 232], — пишет Пришвин. Этот гуманистический посыл становится главным в повести, именно олицетворение, одухотворение природы рождает ощущение единства, родства, становится отличительной чертой мифопоэтических образов «Женьшеня». В дневниковых записях и в художественных произведениях М.Пришвина просматривается главное общее качество — расширение масштаба повествования до философских обобщений о месте человека в потоке бытия, что составляет феноменологическое содержание этих произведений, «Дневников» (1930—1933 гг.) М.М.Пришвина и повести «Женьшень», опубликованной в 1933 г. В повести «Женьшень» мифологема «рай — ад», возникая в самом начале повествования, находит свою художественную реализацию в метафорическом осмыслении мира, что позволяет создать новый смысловой объем. В зарисовке оледенения Земли, произошедшего в третичную эпоху, обращается внимание на то, что катастрофа не уничтожила жизнь: «Звери третичной эпохи земли не изменили своей родине, когда она оледенела, и если бы сразу, то какой бы это ужас был тигру увидеть свой след на снегу!» [5, c. 219]. И звери, и растения оказались спасенными, потому что во время оледенения проявили стойкость, «не изменили своей родине». Возникающий ассоциативно мотив сохранения для себя родины снимает катастрофичность происшедшего оледенения, открывает жизненную перспективу для всего живого, создает ощущение защищенности всего живого, потому что природой дан и путь сохранения жизни. Верность родине, как чувство правды и красоты в эпизоде с Хуа–лу, становится альтернативой смерти, аду. В своем повествовании писатель переходит от времени планеты Земля к исторически конкретному событию — войне, но сам переход к этому фрагменту будет ассоциативно мотивирован поведением зверей. «Как не задуматься о силе человека на земле, если даже оледенение субтропической зоны не могло выгнать зверей; но от грохота человеческих пушек в 1904 г. они бежали, и, говорят, тигров встречали после далеко на севере, в якутской тайге» [5, c. 219]. Зарисовка страха и ужаса боя в Маньчжурии в 1904 г. обращает к мысли, что в аду войны гибнет все живое. Сама земля соединена в страдании с душой человека, она становится живым существом и страдает вместе с человеком [5, c. 219]. Возникает новое смысловое наполнение мифологемы «ад»: ад, порожденный природными катаклизмами, и ад, созданный человеческой волей. Ад войны не вызван природными явлениями, поэтому он особенно жесток и противоестествен. Зверей и растения во время оледенения спасает сама природа–родина, а человек, вырвавшийся из ада войны, ищет тоже родину: «После окончания русско–япон133 ской войны, заставшего меня в Маньчжурии, я выбрал трехлинейку получше, набрал в свой ранец патронов побольше и пошел туда, где лежала моя родина» [5, c. 219]. Родина и в этом случае не столько географическое понятие. Повествователь в «Женьшене» сложно подает понятие родины — это природа, к которой тянется душа, особый край, духовно близкий тебе. Для героя Пришвина — это Дальний Восток с его экзотической природой, которую он рисовал в мечтах, воображал с детства: «Меня с малолетства манила неведанная природа. И вот на пути я будто попал в какой–то по моему вкусу построенный рай», «красные большие цветы — как костры, бабочки — как птицы, реки в цветах» [5, c. 219, 220]. Возникающий образ рая многозначен: это и мир вне войны, и то, что представляется родным, родиной души. Родное пространство — это категория сознания, которая вбирает в себя и сферу воображения. Человеку этот рай дан извне самой жизнью, и это воображаемый рай на земле. Счастье рая осознается онтологически: оно пришло после ада войны, оно даровано с малолетства и сохранено в аду войны как некий жизненный код. Мечта детства становится мифологемой самой жизни, как и мифологема родины для зверей и растений в планетарном времени оледенения. Уже сама возможность жить и увидеть в награду за это чувство, сохраненное в аду войны, рай природный наполняет душу героя радостью бытия, совместного мирного счастья вместе с землей, которая, как и человек, страдала в аду войны. Так возникает система мифопоэтических образов: «рай изначальный (воображаемый) — рай потерянный (оледенение, война) — рай обретенный (данный в награду за пережитое самой жизнью)». Писатель осознает саму возможность гармонии в жизни: «Возможно ли найти еще такой случай пожить в девственной природе по своей вольной волюшке» [5, c. 220]. Свобода как непреложная черта бытия, «вольная волюшка», является как чертой рая, так и внутреннего мира человека, в котором особое место занимает совесть. Свобода как тема, звучащая особенно актуально в годы тоталитарного давления, у Пришвина получает бытийное, экзистенциальное толкование. Она сопрягается с чистотой души, с совестью: «стало понятно, что в поисках корня жизни надо идти с чистой совестью и никогда не оглядываться назад, в ту сторону, где все уже измято и растоптано. А если чистая совесть есть, то никакой завал не испортит пути» [5, c. 247]. Мифологемы корня жизни, пути, совести предстают в своей нерасторжимой связи. В повести «Женьшень» эта система мифологем обозначит направление духовных исканий повествователя: пережитое поможет ему создать свой мир духа, обрести себя и свой жизненный рай, установить свою систему ценностей, свободную от социума. Если в первых строках произведения мы видим разрушительную силу человека на войне, то далее перед нами предстает человек с его созидательной силой. Он проходит сквозь потери и переживания, его путь — открытие мира, особого мира души, находящегося в тесной связи с временем бытия и широким миром. Это будет путь обретения счастья — счастья, обретенного самим сознанием, духовным бытием «я», находящимся в центре мироздания. В повести «Женьшень» система мифологем носит ассоциативный характер и соотнесена с онтологическим уровнем духовных исканий личности: ощущением «нераздельности правды и красоты», чувством верности родине, родного пространства, ощущением вольной волюшки, воссозданного человеком рая. Все это категории сознания — образы, в которых воплощается сам ход размышлений человека, мифопоэтический образ–мысль. Поэтому образ женьшеня в повести М.Пришвина становится ключевым и имеет особый смысл. Корень жизни — субстанция бытия, энергия духовной чистоты и совести. Это радость «родственного внимания» двух людей, бессознательное, не134 уловимое возникновение их сопричастности гармонии жизни и друг другу: «Мало–помалу, углубляясь с другом в пережитое, вы постепенно и бессознательно начинаете как будто кому–то прощать, становится очень легко на душе, и, наконец, происходит желанная встреча: под напором возвращенной радости жизни оба друга для себя становятся такими же молодыми, как были. Я так понимаю действие корня жизни женьшень» [5, c. 296]. Совсем по–другому описан женьшень в очерке М.М.Пришвина «Реликт». Он пишет о нем сухо и холодно, не как художник–философ, а как ученый и скептик. С одной стороны, этот древний корень вызывает уважение своей древностью: «мне очень приятно смотреть на этот драгоценный реликт из семейства аралиевых, в течение многих тысяч лет имевший власть больше золота над умами многомиллионных восточных народов» [4, c. 118]. С другой стороны, писатель отмечает, что не ощущает в себе этих чувств людей Востока: «Не знаю, не верю, может быть и не хочу, может быть даже предпочту свое личное отчаяние власти над собой какого–то китайского корня» [4, c. 118]. В повести «Женьшень» нет противопоставления культуры Востока и Запада, нет даже восприятия женьшеня как реликта: как и человек (корень и внешне похож на человека), он древний и принадлежит земле вообще. Более того, женьшень не воспринимается как материальный объект, он становится мифопоэтическим образом, метафорой жизненной силы и жизни вообще, обозначающей гармонию мира и человека. Поэтому важен образ Лувена в повести. Лувен нашел смысл жизни, свой корень жизни, а лирический герой произведения только на пути этих поисков. Это не встреча людей разных цивилизаций, а совместный путь двух людей, один из которых ищет свой путь к людям, а другой уже нашел его и поддерживает тех, кто только ступил на этот путь поисков. В процессе повествования изменяются отношения героя и Лувена, они соединяются тем «родственным вниманием», которое соединено с пережитым, с тем горем, что встретилось в жизни: Лувен принял боль других и поэтому стал помогать людям: «Он–то все живое давным–давно принял к сердцу и жил в этом и, конечно, по–своему все понимал, но ему важно было через мое внимание к этому понять меня самого» [5, c. 236]. Лирический герой формирует жизнь своим сознанием, обращенным к бытийному, соединяющим «родственным вниманием» человека со всем мирозданием. Постижение мира — это воплощенная радость жизни: «горе, как плуг, только пласт поднимает и открывает возможности для новых жизненных сил. …как будто болью своей я вдруг стал все понимать. Нет, это не боль, а радость жизни открывалась во мне из более глубокого места» [5, c. 237]. Природа дает силу единства всего в мире, но в этом единстве важнейшим является нужда человека в человеке: «я и камню не могу не сочувствовать», камень становится как друг: «но, вот как же мне нужно было человека, что я эту скалу, как друга, понял, и она одна только знает на свете, сколько раз я, сливаясь с ней сердцем, воскликнул: “Охотник, охотник, зачем ты упустил ее и не схватил за копытца”» [5, c. 238]. Автор возвращается в своих размышлениях к мысли, что если бы он схватил свою ланку–избранницу, то был бы «вопрос о корне жизни решен» [5, c. 238]. Однако он понимает, что ситуация «я» и «другой» не исчерпывает смысл бытия. Важнее всего для писателя мысль о культуре как широком человеческом контексте, «родственной связи между всеми людьми» [5, c. 239]. Он размышляет о том, что суть культуры «в творчестве понимания и связи между людьми» [5, c. 239]. «Родственная связь» между людьми обрисовывается Пришвиным в сцене поклонения корню. Писателя занимает не экзотика обряда, а общность душевного состояния 135 людей вне их родовой и исторической принадлежности: «Приковало меня к созерцанию корня молчаливое воздействие на мое сознание этих семи человек, погруженных в созерцание корня жизни» [5, c. 241]. Писателя охватывает чувство безграничности мира: «…шелест жизни от крыльев бабочек и ночного костра сам по себе не меньше говорит о необъятности производящей силы земли…» [5, c. 244]. Масштабы жизни человека для Пришвина значимы, как и мировой масштаб вселенной. Именно такими измерениями мыслит Пришвин. Этот принцип лежит в основе всего повествования. Многие исследователи обращали внимание на то, что китаец Лувен изображен «не только старым, но даже очень древним человеком» [5, c. 221]. Но необходимо подчеркнуть, что он одновременно оказывается олицетворением всех возрастов человека. Когда он улыбнулся, «все лицо во внутреннем смысле своем стало юношески–свежим и детски–доверчивым» [5, c. 221]. Лувен как бы не имеет конкретного человеческого возраста, и это сделано писателем совершенно сознательно, потому что рассуждения о нем всегда даны в соотношении с природными явлениями, его человеческое время сопоставлено с ходом всего живого сознание сосредоточено на выражении «родственного внимания»: «Так бывает: иные растения в непогоду или на ночь закрываются серыми щитками, а когда станет хорошо, открываются. С каким–то особенным родственным вниманием посмотрел он на меня» [5, c. 222]. Так завершается портретная характеристика Лувена, но мы видим, как происходит мифологизация его портрета: он обретает черты обобщенного возраста, включается в картину всего живого — и растений, и человека. Чувство единства жизни переключено в размышление о единстве людей как жизненной данности, об их способности творить мир своих отношений по–особому — с «родственным вниманием». Писатель считает что смысл человеческого существования в этом творческом внимании к миру, во вдохновенном его понимании и возможности творческого отражения. Описывая долину Зусу–хэ, Пришвин воссоздает мифопоэтическую картину мира, раскрывающего перед ним свою красоту, общающегося с ним на своем языке: «тут я научился понимать трогательную простоту рассказа каждого цветка о себе: каждый цветок в Зусу–хэ представляет собою маленькое солнце, и этим он говорит всю историю встречи солнечного луча с землей. Если бы я мог о себе рассказать так, как эти простые цветы в Зусу–хэ!» [5, c. 226]. От встречи солнечного луча с землей творится сама жизнь, она рождает радость бытия, зовет человека к творческому постижению жизни и самого себя. Такое состояние и будет для главного героя произведения творчеством жизни, его сотворенным раем, но в начале произведения он еще не в силах это сделать, так как нет в душе этого важного жизненного чувства — пережитого. «Среди всех этих цветов и кипучей жизни долины только я один, как мне казалось, не мог прямо смотреть на солнце и рассказывать просто, как они. Я могу рассказать о солнце, избегая встречаться с ним глазами. Я человек, я слепну от солнца и могу рассказывать, лишь окидывая родственным вниманием все разнообразные освещенные им предметы и все лучи их собирая в единство» [5, c. 227]. «Родственное внимание» приведет писателя к осмыслению духовного единства людей в противовес массовому сознанию как официальному восприятию человека и мира. Это братски духовное содружество и будет «корнем жизни». Писатель в поисках названия для своего произведения шел от единичного образа «олень–цветок», выражающего идею родства, близости, единства собственно природных явлений, к мифологеме «корень жизни», универсально сближающей природную и собственно духовную человеческую сферу жизни в едином акте «родственного внимания», глубинного самораскрытия и постижения «неба и земли» как вечного бытия мира. 136 Осмысление вечного закона жизни постигается во временной динамике. Ощущение бытийного времени — это момент духовного прозрения, период духовной зрелости, знающей утраты, горе, неудачи и обретающей радость бытия: «Будь я простым и здоровым, как было еще так недавно, я бы не придал бы этому шелесту особенного значения, как это было сейчас: шелест жизни! Но теперь почему–то все это глубоко касалось меня» [5, c. 236]. «Шелест жизни» — мельчайшее, тишайшее проявление бытия — должно быть услышано духовной зрелостью человека. Эта чуткость восприятия, отзывчивость души — знак глубочайшего гуманизма. Ощущение радости бытия через горе других, принятое как свое собственное и пережитое самим писателем, открывает его единство с миром как особое чувство всепрощающей любви к человеку и бытию в его целостности. Духовный контакт с миром устанавливает «равновесие для свободной и спокойной мысли», «начинается какая–то настоящая, необыкновенная, живая, творческая тишина» [5, c. 248]. Космос души открывает для героя повести источник творческих сил в любом соприкосновении с природой, как это было при встрече лирического героя с камнем–сердцем. Взволнованный, он опустился перед ним, как перед источником творческих сил: «Мысль моя, согласованная с ударами сердца, была совершенно ясна, и сердце билось согласно этой музыке тишины» [5, c. 250]. В таком обращении к миру и человеку складывается особый подход к явлению — феноменологический. И в дневниках М.М.Пришвина, и в его повести «Женьшень» возникает обращение к универсальным жизненным ценностям, которые воспринимает сознание человека. В этом процессе осознания глубинных основ бытия и космической окрыленности своей души достигается та жизненная свобода личности, реализовать которую человек не имеет возможности в реальных социальных обстоятельствах. Поездка по Приморью, знакомство с его особо впечатляющей природой, мифом о «корне жизни» вызвала приток духовной энергии, привела к новому витку творчества, формированию мифопоэтической эстетики. ЛИТЕРАТУРА 1. Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М.: Рос. гос. гуманит. ун–т, 1998. 576 с. 2. Пришвин М.М. Дневники. 1905—1954 // Пришвин М. Собр. соч.: В 8–ми т. Т. 8. М.: Худ. лит., 1986. 3. Пришвин М.М. Дневники. 1931—1932 годы // Октябрь. 1990. № 1. С. 146–180. 4. Пришвин М.М. Женьшень. Повести и новеллы. Хабаровск: Кн. изд–во, 1980. 208 с. 5. Пришвин М.М. Собр. соч.: В 6 т. Т. 3. М.: Худ. лит., 1956. 767 с. 6. Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического. М.: Прогресс, 1995. 624 с. 137