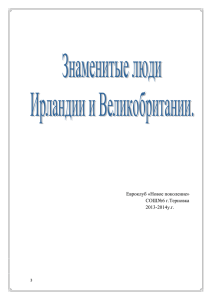СТИХОТВОРЕНИЯ Уильям Батлер Йейтс Перевод с английского Составление и предисловие
реклама
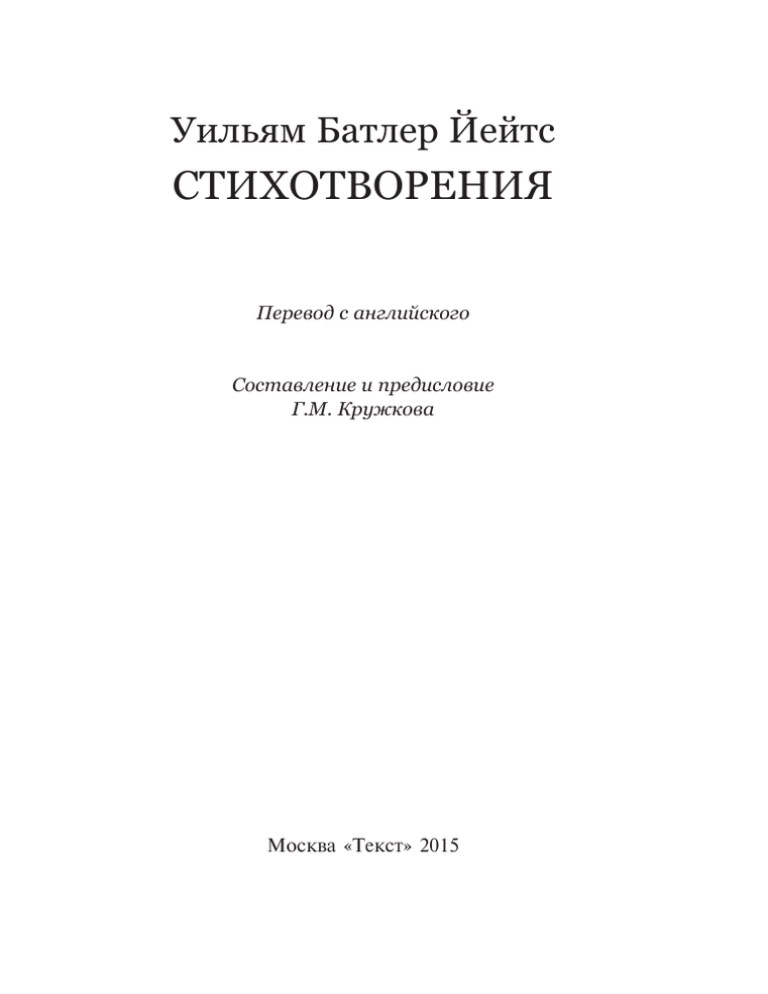
Уильям Батлер Йейтс СТИХОТВОРЕНИЯ Перевод с английского Составление и предисловие Г.М. Кружкова Москва «Текст» 2015 CONTENTS FROM ‘CROSSWAYS’ (1889) 24 30 32 34 38 42 The Song of the Yappy Shepherd The Cloak, the Boat, and the Shoes The Indian upon God Legend The Stolen Child He Meditation of the Old Fisherman FROM ‘ROSE’ (1893) 44 46 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 To the Rose upon the Rood of Time Fergus and the Druid The Rose of the World The Rose of the Peace A Faery Song The Lake Isle of Innisfree The Sorrow of Love When You Are Old The White Birds Who Goes with Fergus? The Lamentation of the Old Pensioner To Ireland in the Coming Times FROM ‘THE WIND AMONG THE REEDS’ (1899) 72 74 78 80 82 84 The Hosting of the Sidhe The Host of the Air The Unappeasable Host Into the Twilight The Song of Wandering Aengus The Lover Tells of the Rose in His Heart СОДЕРЖАНИЕ* Уильям Йейтс и его великое колесо возвращений 14 ИЗ КНИГИ «ПЕРЕКРЕСТКИ» (1889) Песня счастливого пастуха Плащ, корабль и башмачки Индус о Боге Легенда Пропавший мальчик Старый рыбак 25 31 33 35 39 43 ИЗ КНИГИ «РОЗА» (1893) Розе, распятой на Кресте Времен Фергус и Друид Роза земная Роза мира Песня сидов Озерный остров Иннишфри Печаль любви На мотив Ронсара Белые птицы Кто вслед за Фергусом? Жалобы старика Ирландии грядущих времен 45 47 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 ИЗ КНИГИ «ВЕТЕР В КАМЫШАХ» (1899) Воинство сидов Духи Неукротимое племя В сумерки Песня скитальца Энгуса Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его сердце * Переводы Андрея Сергеева отмечены в содержании (А. Сергеев). Остальные стихотворения, а также нобелевские речи даны в переводах Григория Кружкова. 73 75 79 81 83 85 86 88 90 92 94 98 100 He Mourns for the Change That Has Come upon Him and His Beloved, and Longs for the End of the World He Bids His Beloved Be at Peace He Remembers Forgotten Beauty He Wishes for the Cloths of Heaven The Cap and Bells The Valley of the Black Pig The Fiddler of Dooney FROM ‘THE SEVEN WOODS’ (1904) 102 104 106 110 112 In the Seven Woods Never Give All the Heart Adam’s Curse Red Hanrahan’s Song About Ireland The Happy Townland FROM ‘THE GREEN HELMET AND OTHER POEMS’ (1910) 118 120 122 124 No Second Troy The Fascination of What’s Difficult The Coming of Wisdom with Time All Things Can Tempt Me FROM ‘RESPONSIBILITIES’ (1914) 126 130 132 134 136 138 140 142 September 1913 To a Friend Whose Work Has Come to Nothing Beggar to Beggar Cried The Witch The Mountain Tomb That the Night Come The Dolls A Coat FROM ‘THE WILD SWANS AT COOLE’ (1919) 144 146 148 150 An Irish Airman Foresees His Death Men Improve with the Years The Collar-Bone of a Hare Solomon to Sheba Он скорбит о перемене, случившейся с ним и его любимой, и ждет конца света Он просит у своей любимой покоя Он вспоминает забытую красоту Он мечтает о парче небес Шутовской колпак Долина Черной Свиньи Скрипач из Дууни 87 89 91 93 95 99 101 ИЗ КНИГИ «В СЕМИ ЛЕСАХ» (1904) В семи лесах Не отдавай любви всего себя Проклятие Адама Песня рыжего Ханрахана об Ирландии (А. Сергеев) Блаженный вертоград 103 105 107 111 113 ИЗ КНИГИ «ЗЕЛЕНЫЙ ШЛЕМ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ» (1910) Нет новой Трои Азарт преодолений Мудрость приходит в срок Соблазны 119 121 123 125 ИЗ КНИГИ «ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» (1914) Сентябрь 1913 года Другу, чьи труды пошли прахом Как бродяга плакался бродяге Ведьма Могила в горах Скорей бы ночь Куклы (А. Сергеев) Плащ 127 131 133 135 137 139 141 143 ИЗ КНИГИ «ДИКИЕ ЛЕБЕДИ В КУЛЕ» (1919) Летчик-ирландец провидит свою гибель (А. Сергеев) Мраморный тритон Заячья косточка Соломон – царице Савской 145 147 149 151 152 154 162 174 Memory Ego Dominus Tuus The Phases of the Moon The Cat and the Moon TWO SONGS FROM THE PLAY ‘THE ONLY JEALOUSY OF EMER’ (1919) 176 ‘A woman's beauty is like a white frail bird’ 178 ‘Why does your heart beat thus? ’ FROM ‘MICHAEL ROBARTES AND THE DANCER’ (1921) 182 188 194 196 Michael Robartes and the Dancer Easter 1916 On a Political Prisoner The Second Coming 198 THE SONG FROM THE PLAY ‘THE PLAYER QUEEN’ (1922) FROM ‘THE TOWER’ (1928) 200 204 208 210 212 214 218 228 230 232 238 Sailing to Byzantium From ‘Meditations in Time of Civil War’ Ancestral Houses My Descendants The Road at My Door The Stare’s Nest by My Window I See Phantoms of Hatred and of the Heart’s Fullness and of the Coming Emptiness Nineteen Hundred and Nineteen Leda and the Swan On a Picture of a Black Centaur by Edmund Dulac Among School Children The Hero, the Girl, and the Fool След Ego Dominus Tuus Фазы луны Кот и луна 153 155 163 175 ДВЕ ПЕСНИ ИЗ ПЬЕСЫ «ПОСЛЕДНЯЯ РЕВНОСТЬ ЭМЕР» (1919) «Женская красота — словно белая птица…» «Отчего ты так испуган…» 177 179 ИЗ КНИГИ «МАЙКЛ РОБАРТИС И ПЛЯСУНЬЯ» (1921) Майкл Робартис и плясунья Пасха 1916 года. (А. Сергеев) Политической узнице Второе пришествие 183 189 195 197 ПЕСНЯ ИЗ ПЬЕСЫ «КОРОЛЕВА-АКТЕРКА» (1922) 199 ИЗ КНИГИ «БАШНЯ» (1928) Плавание в Византию Из цикла «Размышления во время гражданской войны» Усадьбы предков Наследство Дорога у моей двери Гнездо скворца под моим окном Передо мной проходят образы ненависти, сердечной полноты и грядущего опустошения Тысяча девятьсот девятнадцатый Леда и лебедь Черный кентавр Среди школьников Герой, дева и дурак 201 205 209 211 213 215 219 229 231 233 239 FROM ‘THE WINDING STAIRS AND OTHER POEMS’ (1933) 242 246 252 258 260 264 272 274 276 280 282 284 286 288 292 294 296 300 304 In Memory of Eva Gore-Booth and Con Markiewicz A Dialogue of Self and Soul Blood and the Moon Three Movements Byzantium Vacillation Remorse for Intemperate Speech Stream and San at Glendalough From ‘Words for Music Perhaps’ Crazy Jane and the Bishop Crazy Jane on God Crazy Jane Talks with the Bishop Lullaby Mad As the Mist and Snow ‘I Am of Ireland’ Her Triumph FROM ‘A FULL MOON IN MARCH’ (1935) A Prayer for Old Age From ‘Supernatural Songs’ Ribh at the Tomb of Baile and Aillinn Ribh Considers Christian Love Insufficient A Needle’s Eye FROM ‘LAST POEMS’ (1936—1939) 306 308 312 318 320 322 326 330 The Gyres Lapis Lazuri The Three Bushes An Acre of Grass What Then? The Curse of Cromwell Come Gathen Round Me, Parnellites The Wild Old Wicked Man ИЗ КНИГИ «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ» (1933) Памяти Евы Гор-Бут и графини Маркевич Разговор поэта с его душой Кровь и луна Три эпохи Византия Сомнение Сожалею о сказанном сгоряча Река и солнце в Глендалохе Из цикла «Слова, возможно, для музыки» Безумная Джейн и епископ Безумная Джейн о Боге Безумная Джейн говорит с епископом Колыбельная В непогоду «Я родом из Ирландии» Триумф женщины ИЗ КНИГИ «ПОЛНОЛУНИЕ В МАРТЕ» (1935) Молитва старика Из цикла «Магические песни» Отшельник Рибх у могилы Байле и Айлинн Отшельник Рибх о недостаточности христианской любви. (А. Сергеев) Ушко иглы 243 247 253 259 261 265 273 275 277 281 283 285 287 289 293 295 297 301 305 ИЗ «ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ» (1936—1939) Круги Ляпис-лазурь Три куста Клочок лужайки Что потом? Проклятие Кромвеля Песня парнеллитов Буйный старый греховодник 307 309 313 319 321 323 327 331 336 338 340 344 348 350 352 356 360 364 The Spur A Drunken Man’s Praise of Sobriety Long-Legged Fly John Kinsella’s Lament for Mrs. Mary Moore High Talk The Apparitions The Circus Animals’ Desertion Cuchulain Comforted The Black Tower Under Ben Bulben Шпоры Пьяный восхваляет трезвость (А. Сергеев) Водомерка Джон Кинселла — за упокой миссис Мэри Мор Высокий слог Привидения (А. Сергеев) Парад-алле Кухулин примиренный Черная башня В тени Бен-Балбена 337 339 341 345 349 351 353 357 361 365 ПРИЛОЖЕНИЕ I Вступительная речь Пера Хальстрёма, председателя Нобелевского комитета Шведской академии, 10 декабря 1923 г. 374 Уильям Батлер Йейтс. Нобелевская лекция. Ирландское драматическое движение 382 ПРИЛОЖЕНИЕ II Загадка Замиу (Гумилев и Йейтс). Г. Кружков. 399 УИЛЬЯМ ЙЕЙТС И ЕГО ВЕЛИКОЕ КОЛЕСО ВОЗВРАЩЕНИЙ Кто, терпеливый, Душу пытал на излом, Судеб извивы Смертным свивая узлом, Ранясь, рискуя, Маясь в крови и в поту, – Чтобы такую Миру явить красоту? У. Йейтс Уильям Йейтс – поэт модернистской эпохи, современник Томаса Элиота и Эзры Паунда. Но в отличие от двух названных поэтов он демонстративно придерживался антиавангардной позиции в искусстве. Йейтс никогда не старался бежать впереди прогресса – наоборот, он считал делом чести игнорировать его, идти не в ногу, стоять на своем, искать будущее в прошедшем. За это его называли чудаком, не раз пытались (особенно в тридцатые годы) «сбросить с парохода современности». Еще бы! В эпоху радио, аэропланов и профсоюзов он увлекался сказками, сагами о богах и героях, основывал загадочные эзотерические общества, искал истину в каббале, картах Таро, индийской философии, сочинял философско-мистический трактат о вечном круговороте души и истории. 14 Можно сказать, что в эпоху наступившего материализма Йейтс представлял собой далеко выдвинутый вперед аванпост самого упрямого и закоренелого идеализма. Где-то рядом партизанили Честертон и Киплинг, Толкиен и К˚. Но если Киплинг, занявший конформистскую позицию по отношению к современности, обнаруживал романтику, скажем, в паровозах и машинах, то Йейтс не отдал бы за них ни лепестка своей увядшей розы, ни камешка старой башни. И если Толкиен четко отделял свою реальную профессорскую жизнь от блужданий в Средиземье, для которых существовали особые часы творчества да задняя комната оксфордского кафе «Орел и дитя», то Йейтс, как истинный символист, не разделял жизни и стихов. Как заболевший кот обшаривает всю округу в поисках особой травки – единственной, которая может его исцелить, – так Йейтс искал противоядие от низкого практицизма века где только мог – в фольклоре и античной философии, в оккультизме и теософии. При всем при том он был ирландец – наследник древней кельтской традиции в литературе, духовный потомок друидов и бардов. Родина Йейтса – портовый город Слайго на западе Ирландии. Его предки по материнской линии были моряками и купцами, по отцовской – священниками. Отец поэта, Джон Батлер Йейтс, получил юридическое образование, но в 28 лет резко оборвал карьеру адвоката и уехал в Лондон учиться живописи. Он стал художником, замечательным портретистом; благодаря его рисункам мы можем увидеть Уильяма таким, каким он был в детстве – смуглым задумчивым мальчиком, углубленным в книгу. Чем-то эти портреты похожи 15 на детские портреты Бориса Пастернака, набросанные его отцом Леонидом Пастернаком. Да и сами эти художники, Йейтс-отец и Пастернак-отец, были чем-то похожи – может быть, серьезностью отношения к искусству, независимостью от модных течений эпохи; оба они оказали основополагающее влияние на сыновей; оба провели поздние годы в эмиграции: Джон Йейтс в Америке, Леонид Пастернак в Англии. Детские годы Уильяма Йейтса прошли в Лондоне, за исключением летних каникул, когда его отвозили к родственникам в Слайго. Он любил слушать рассказы крестьян о волшебстве и духах, любил одинокие прогулки по лесам и холмам. Сочинять романтические стихи Уильям начал, учась в художественной школе в Дублине; его ранние опыты заслужили одобрение известных поэтов, в том числе Хопкинса и Оскара Уайльда. Путь его определился раз и навсегда. «Моя жизнь в моих стихах, – писал он другу. – Ради них я бросил свою жизнь в ступу. Я растолок в ней юность и дружбу, покой и мирские надежды… Я похоронил свою юность и возвел над ней гробницу из облаков». Йейтсу было двадцать четыре года, когда он встретил Мод Гонн – женщину, которой суждено было стать его музой, его долгой безнадежной любовью. Она была ослепительной красавицей, богатой и независимой, но при этом – пылкой революционеркой, одержимой идей ирландской независимости. Они подружились, Мод втянула его в патриотическое движение, Уильям посвятил ее в свои оккультные и поэтические интересы. Патриотизм Йейтса был далек от экстремистских крайностей, в Ирландии он видел прежде всего страну поэзии 16 и оплот древней чести, попираемой прагматической и меркантильной Англией. И когда Джордж Рассел писал ему: «Из Ирландии воссияет свет, который преобразит эпохи и народы», – Йейтс вполне разделял энтузиазм своего друга. В 1899 году вышел сборник «Ветер в камышах» – высшее достижения раннего Йейтса, поэта «кельтских сумерек». Мир этой книги населен призраками и тенями; повсюду поэту мерещатся таинственные «сиды» – духи, населяющие холмы и равнины Ирландии. Они же – древние боги, племя богини Даны, они же – вечные голоса, звучащие в шуме ветра, в ропоте тростника, в сумасшедшем звоне ночных цикад. По настроению, по порыву – выйти за грань обыденного, дневного бытия – они близки к ранним стихам Блока. Период между сборниками «Ветер в камышах» и «Ответственность», с 1899-го по 1914 год, были у Йейтса наименее урожайными на стихи. В это время основные труды поэта были связаны с Театром Аббатства – первым ирландским национальным театром, одним из основателей и многолетним директором которого он был. Стиль поэта постепенно менялся, становился прямее, энергичней. Важной оказалась его дружба с молодым Эзрой Паундом, который на какое-то время практически стал секретарем Йейтса. Тут работала сложная диалектика: с одной стороны, Эзра искренне восхищался Йейтсом, выделяя его из всех прочих «поэтических староверов», с другой стороны, он постоянно внушал «дядюшке Вилли» свои имажистские идеи. «Поэт должен быть современным человеком, – утверждал Паунд. – Ясность, точность и никаких абстракций». Не правда ли – похоже на мани17 фест русского кларизма или акмеизма? Как бы то ни было, именно под влиянием Паунда завершилась давно желаемая и ожидаемая метаморфоза стиля Йейтса. Существует любопытный синхронизм политических событий в XX веке в Ирландии и в России: ирландское восстание против англичан в 1916 году, обретение независимости в 1918-м, гражданская война 1921—1923 годов происходили более или менее параллельно с русскими революциями и Гражданской войной. Когда в 1916 году разразилось «Пасхальное восстание», закончившееся казнью шестнадцати главарей (среди них – троих поэтов), реакция Йейтса была неоднозначной. В первый момент он возмутился «глупостью» этих людей, пожертвовавших жизнью своих собратьев и своей собственной жизнью из чистого нетерпения; но через несколько недель его взгляд изменился и он написал стихотворение «Пасха 1916 года» с его знаменитым рефреном: «All changed, changed utterly: / A terrible beauty is born» («Все изменилось, неузнаваемо изменилось: родилась страшная красота»). Эта «страшная красота» Йейтса очевидно сродни пушкинскому «упоению на краю», или жуткому восторгу Блока перед бурей революции в «Двенадцати», или трагическим прозрениям Мандельштама в «Петропольском цикле». Поэтическая карьера Йейтса распадается на два периода, которые можно назвать «дореволюционным» и «послереволюционным». Весной 1917 года он купил свою знаменитую башню Тур Баллили, которая стала символом его поздней поэзии, в октябре женился (что было в некотором роде революционным шагом для пятидесятидвухлетнего холостяка); наконец, в этом же году он 18 написал прозаическую книгу Per Amica Silentia Lunae, где в фрагментарной форме изложил свое поэтическое и философское кредо. Более подробно оно было развито в книге Йейтса «Видение» (A Vision, 1925; 1937), в основе которой лежат две древних идеи: идея цикличности и идея борьбы противоположностей. В системе Йейтса Великое Колесо, разделенное на двадцать восемь секторов, или фаз (лунное число), изображает и эволюцию человеческой жизни, и путь души в ее перевоплощениях, и ход мировой истории. Движение по кругу ведет от первой фазы, полной объективности, к пятнадцатой фазе, полной субъективности, и затем вновь возвращается к своему началу, к доминации объективного (природного) начала. Йейтс верит в пифагорейское учение о странствиях души и ее инкарнациях и строит классификацию людей по типам, в зависимости от фазы на Великом Колесе. Человек оказывается вовлеченным в два разных цикла: один связан с возрастом, другой – с перерождениями его бессмертной души, проходящей двадцать восемь кругов таких же фаз. На самом деле он участвует даже в трех циклах, ибо проходит вместе с человечеством по кругу земной истории: ее период, по Йейтсу, равен примерно двум тысячам лет и тоже связан с борьбой объективного и субъективного начал. Нынешний цикл начался с рождения Христа и достиг высшей объективности в эпоху Ренессанса; наше время близко к окончанию цикла, вот почему так распространились нивелирующие личность учения – социалистические, коммунистические и прочие. С этой точки зрения трагедия самого Йейтса – это трагедия человека 19 героической, индивидуальной воли (он относил себя к семнадцатой фазе) в период размывания личностного начала, несовпадение фаз. С течением лет к этому прибавилось и старение – несовпадение всех трех фаз. Ущерб века, ущерб тела – и полнолуние души. В 1923 году Йейтсу присуждается Нобелевская премия по литературе – жест, как часто бывает у Шведской академии, не лишенный политической подоплеки, своего рода приветствие Ирландской республике по случаю обретения ею независимости. Но Йейтс с лихвой отработал свою «нобелевку». Лучшие стихи он написал не до нее, но после. Сборники «Башня» (1928) и «Винтовая лестница» (1933) наряду с «Последними стихами» могут считаться вершинными достижениями поэта. Особо хочется сказать о цикле «Слова, возможно, для музыки». Говорят, что прототипом Безумной Джейн послужила Чокнутая Мэри – юродивая, жившая неподалеку от имения леди Грегори. Но эпический образ старухи, вспоминающей своих былых любовников, гордой и нераскаянной, приводит на память прежде всего «Старуху из Берри» – одно из лучших стихотворений древнеирландской поэзии: Вы, нынешние, сребролюбы, живете вы для наживы, зато вы сердцами скупы и языками болтливы. Но те, кого мы любили, любовью нас оделяли, они дарами дарили, деяньями удивляли. ......................................... 20 Бывало, я мед пивала в пиру королей прекрасных; пью ныне пустую пахту среди старух безобразных. К «яростному негодованию» (слова из эпитафии Свифта) его толкало не только отвращение к материализму эпохи в целом, но и глубочайшее неудовлетворение ирландской жизнью и политикой. Он убедился, что все жертвы, принесенные на алтарь ирландской свободы, были напрасны. Достигнутая в стране демократия оказалась «властью черни», безразличной к духовности и культуре. «Если эта власть не будет сломана, – писал он, – наше общество обречено двигаться от насилия к насилию или от насилия к апатии, наш парламент – портить и развращать каждого, кто в него попадет, а писатели останутся кастой отверженных в своей собственной стране». До последних дней Йейтс греб против течения, пел не в лад с хором. В глазах авангардных, политически ангажированных поэтов тридцатых годов он выглядел нелепым анахронизмом. Достоинства его стихов признавались со страшным скрипом; его проза и критика начисто отвергались, пьесы считались провальными, философские взгляды – вредным чудачеством. Так что когда Уистен Оден, признанный лидер нового направления, написал большую элегию на смерть Йейтса, это многим показалось удивительным. Но ведь и эти стихи полны знаменательных оговорок. Автор считает, что Время в конце концов «простит» Йейтса – за «умение хорошо писать». Характерно и название статьи Одена, опубликованной в 1940 году: 21 «Мастер красноречия», – в ней он утверждает, что Йейтс «был больше озабочен тем, как звучит его фраза, чем истинностью идеи или подлинностью чувства». И безапелляционно, как приговор: «отсутствие подлинной драмы никакой театральностью не прикроешь». Особенное раздражение вызывала «чокнутая псевдофилософия» Йейтса. Взвешенней других молодых высказывался, пожалуй, Луис Мак-Нис, который даже был готов допустить, что Йейтс не настоящий мистик, а лишь человек, обладающий мистической системой ценностей, «а это совсем другое дело и вещь sine qua non для всякого художника». И конечно, возмущала подозрительная аполитичность поэта. В годы перед Второй мировой войной каждый обязан был выбрать свою сторону баррикад. Но ему не внушало доверия ни одно из правительств. В одном из частных писем Йейтса 1936 года сказано: «Коммунисты, фашисты, националисты, клерикалы, антиклерикалы – все они должны быть судимы в соответствии с числом своих жертв». Йейтсу выпала длинная дорога. Если в молодости он и был эстетом, построившим себе башню из слоновой кости, то в дальнейшем, как пишет Ричард Эллман, «из-за недовольства соседей, а отчасти из-за собственных сомнений в ее прочности, он выбрался наружу, в мир, и добыл там менее изысканные материалы, которыми постепенно заменил всю слоновую кость, до последнего кусочка». Но это не значит, что Йейтс готов был поступиться своей юношеской мечтой. Те «спасительные слова», которые впоследствии произнесет Иосиф Бродский и которые в письмах к нему дважды повторит Ахматова: 22 «Главное – это величие замысла», – были спасительными и для Йейтса. Он оставался цельным художником, несмотря на все свои противоречия и сомнения. Он не скрывал их, он вообще ничего не хотел скрывать: жизнь поэта, считал Йейтс, есть жизненный эксперимент, и публика имеет право знать о ней все. Шекспировская эпитафия: «Проклятие тому, кто потревожит мои кости», – не про него писана. В эпоху, когда прагматизм старается сделать поэта затейником, работником досуга, загнать сверчка искусства на предназначенный ему шесток, – архимедово усилие Йейтса перевернуть мир и утвердить его на нематериальной точке опоры заслуживает восхищения. В Древней Ирландии было две категории поэтов: барды – исполнители боевых, заздравных и сатирических песен, и филиды – поэты-жрецы, носители высшей мудрости. Йейтс, разумеется, претендовал на роль филида. Сознавая свою земную слабость, он верил в божественную искру, в то, что поэт, быть может, лишь «сверхмарионетка» движущего им высшего начала: Старик в своем нелепом прозябанье Схож с пугалом вороньим у ворот, Пока душа прикрыта смертной рванью, Не вострепещет и не воспоет… Наивность? Безумие? Но, как это ни удивительно, с ним произошло именно то, что предсказывал Платон в диалоге «Федр»: «Все созданное человеком здравомыслящим за­тмится творениями исступленных». FROM ‘CROSSWAYS’ (1889) THE SONG OF THE HAPPY SHEPHERD The woods of Arcady are dead, And over is their antique joy; Of old the world on dreaming fed; Grey Truth is now her painted toy; Yet still she turns her restless head: But O, sick children of the world, Of all the many changing things In dreary dancing past us whirled, To the cracked tune that Chronos sings, Words alone are certain good. Where are now the warring kings, Word be-mockers? — By the Rood, Where are now the warring kings? An idle word is now their glory, By the stammering schoolboy said, Reading some entangled story: The kings of the old time are dead; The wandering earth herself may be Only a sudden flaming word, In clanging space a moment heard, Troubling the endless reverie. Then nowise worship dusty deeds, Nor seek, for this is also sooth, 24 ИЗ КНИГИ «ПЕРЕКРЕСТКИ» (1889) ПЕСНЯ СЧАСТЛИВОГО ПАСТУХА В лесах Аркадских – тишина, Не водят нимфы круг веселый; Мир выбросил игрушки сна, Чтоб забавляться Правдой голой, – Но и она теперь скучна. Увы, пресыщенные дети! Все быстротечно в этом свете: Ужасным вихрем сметены, Летят под дудку сатаны Державы, скиптры, листья, лики… Уносятся, мелькнув едва; Надежны лишь одни слова. Где ныне древние владыки, Бранелюбивые мужи, Где грозные цари – скажи? Их слава стала только словом, О ней твердят учителя Своим питомцам бестолковым… А может, и сама Земля В звенящей пустоте Вселенной – Лишь слово, лишь внезапный крик, Смутивший на короткий миг Ее покой самозабвенный? Итак, на древность не молись, В пыли лежат ее свершенья; 25 To hunger fiercely after truth, Lest all thy toiling only breeds New dreams, new dreams; there is no truth Saving in thine own heart. Seek, then, No learning from the starry men, Who follow with the optic glass The whirling ways of stars that pass — Seek, then, for this is also sooth, No word of theirs — the cold star-bane Has cloven and rent their hearts in twain, And dead is all their human truth. Go gather by the humming sea Some twisted, echo-harbouring shell, And to its lips thy story tell, And they thy comforters will be, Rewording in melodious guile Thy fretful words a little while, Till they shall singing fade in ruth And die a pearly brotherhood; For words alone are certain good: Sing, then, for this is also sooth. I must be gone: there is a grave Where daffodil and lily wave, And I would please the hapless faun, Buried under the sleepy ground, With mirthful songs before the dawn. His shouting days with mirth were crowned; And still I dream he treads the lawn, Walking ghostly in the dew, Pierced by my glad singing through, 26 За истиною не гонись – Непрочно это утешенье; Верь только в сердце и в судьбу И звездочетам не завидуй, Следящим в хитрую трубу За ускользающей планидой. Нетрудно звезды перечесть (И в этом утешенье есть), Но звездочетов ты не слушай, Не верь в ученые слова: Холодный, звездный яд их души Разъел, и правда их – мертва. Ступай к рокочущему морю И там ракушку подбери С изнанкой розовей зари – И всю свою печаль, все горе Ей шепотом проговори – И погоди одно мгновенье: Печальный отклик прозвучит В ответ, и скорбь твою смягчит Жемчужное, живое пенье, Утешит с нежностью сестры: Одни слова еще добры, И только в песне – утешенье. А мне пора; там, где нарцисс, Грустя, склоняет венчик вниз, Могила есть в глуши дубравной; Туда мне надо поспешить, Чтоб песенками рассмешить Хоть на часок беднягу фавна. Давно уже он в землю лег, 27 My songs of old earth's dreamy youth: But ah! she dreams not now; dream thou! For fair are poppies on the brow: Dream, dream, for this is also sooth. А все мне чудится: гуляет Он в этих рощах,– на лужок, Промокший от росы, ступает И распустившийся цветок С ужимкой важной обоняет И слышит звонкий мой рожок… О снов таинственный исток! И это всё – твое владенье. Возьми, я для тебя сберег Из мака сонного венок: Есть и в мечтаньях утешенье.