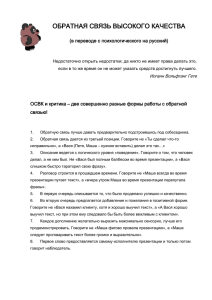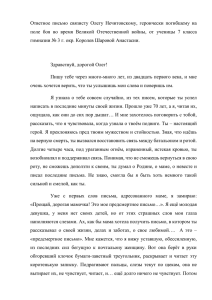номер - Евразийски журнальный портал
реклама

Литературный альманах БЕЛЫЙ ВОРОН Екатеринбург Зима 2014 BELYJ VORON 2014/4(17)/ Winter Literary Magazine Copyrights © 2014 by Borodin Maksim, Budnitskij Ilya, Chernyshov Sergey, Filippov Sergey, Groysman Natalia, Gruzdeva Katerina, Guliaeva Elena, Dragunskaja Ksenia, Inozemtseva Elena, Judin Boris, Judovskij Michael, Kabir Maxim, Khetagurov Aleksey, Kolchuzhkin Evgeniy, Korolev Aleksey, Kramer Aleksandr, Krasnova Tatiana, Lange Sergey, Livinskij Stanislav, Liubelskaja Irina, Maksimova Natalia, Mendeleva Svetlana, Molodyj Vadim, Ogarkova Maria, Orlova Maria, Palshina Margarita, Pavlov Aleksandr, Poliakova Marina, Polischuk Dmitriy, Reber Nikolai, Sedov Ilya, Sedov Vadim, Scherb Michael, Schwarzman Maya, Shlosberg Izya, Slepukhin Sergey, Slepukhina Evdokia, Smirnov Juriy, Solomaha Aleksey, Sparber Aleksandr, Steshik Konstantin, Suzin Andrei, Tarkovskij Vladimir, Toropov Andrei, Trifanova Anna, Jukhimenko Anatoliy. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any means, including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the Publisher and/or the Author, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Еditorial board: Evdokia Slepukhina, Tatyana Krasnova, Vadim Molodyj, Maria Ogarkova. Chief Editor: Sergei Slepukhin Picture on the cover by Maria Orlova (Grӧtzingen). Paris. Erinerrungen. 70x50. Mixed media on paper. 2013 Book design and logotype by Evdokia Slepukhina ISBN 978-1-312-86365-1 Eudokiya Publishing House [email protected] Printed in the United States of America 4 ТОЛЬКО СТИХИ! Интервью поэта Ильи Будницкого главному редактору «БВ» Сергею Слепухину. 5 12 13 17 КСЕНИЯ ДРАГУНСКАЯ. БАБУШКА. Рассказ ИЛЬЯ СЕДОВ. ИНДИ. СКАЗКА ИЗ ОРАНЖЕВОЙ ОБЛОЖКИ. Рассказ КАТЕРИНА ГРУЗДЕВА. ВОДОЛАЗ. Рассказ ИЗЯ ШЛОСБЕРГ. КОГДА ВЫ ВЕРНЕТЕСЬ, НАС УЖЕ НЕ БУДЕТ. Повесть КОТЕНОК НА ДОРОГЕ. Рассказ 48 52 54 57 59 60 61 63 65 66 68 70 73 77 80 84 87 87 91 МАЙЯ ШВАРЦМАН. СИГНАЛ ОТБОЯ ЕЛЕНА ГУЛЯЕВА СКВОЗНЯК МАКСИМ КАБИР. ПОКА ЗАЖИГАЛКА ГОРИТ АНДРЕЙ СУЗИНЬ. Я ЖИВУ У ОКНА АНДРЕЙ ТОРОПОВ. НА 21-ОЙ «ВОЛГЕ» АННА ТРИФАНОВА. В ЗЕРКАЛАХ АЛЕКСАНДР СПАРБЕР. ШАРЯ В ПУСТОТЕ ДМИТРИЙ ПОЛИЩУК. ИБО Я НЕ НАДЕЮСЬ АЛЕКСАНДР КРАМЕР. ОБРАЗ И ЦВЕТ ИРИНА ЛЮБЕЛЬСКАЯ. НА ЯЗЫКЕ СЛЕПЫХ ВЛАДИМИР ТАРКОВСКИЙ. ГЛАВНОЕ СЛОВО МАРГАРИТА ПАЛЬШИНА. ОТГОЛОСКИ МАКСИМ БОРОДИН. БАХ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЕВГЕНИЙ КОЛЬЧУЖКИН. ВСПОМИНАЙ МЕНЯ, КИММЕРИЯ! ЮРИЙ СМИРНОВ. БЛИЦКРИГ, ЗЕРГУТ, АЙСКРИМ СВЕТЛАНА МЕНДЕЛЕВА. ИГРА В СЛОВА СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ. ТОСКУЯ, РАДУЯСЬ И ПЛАЧА… АНАТОЛИЙ ЮХИМЕНКО. ТЕЗИСЫ § 2 НАТАЛИЯ ГРОЙСМАН. НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЛОВА… 96 Прими меня, заброшенный вокзал… ФРАГМЕНТ ИНДОКИТАЙ Что нам родина? Дом, неуклюжий забор… ты моря переплыл, перешел границы… человек непохожий на прочих навстречу идет… ПЕРЕВОД С БАГУЛЬНИКА РЕФРЕН В пустыне, где родосский истукан… 47 ОКНА НА ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА (составитель – АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ) 100 115 КОНСТАНТИН СТЕШИК. ПЬЕСА ДЛЯ ЛИЧНОСТЕЙ АСТЕРОИДНОГО ТИПА КСЕНИЯ ДРУГУНСКАЯ. НАРОДЫ. Пьеса 120 МАРИЯ ОРЛОВА (КАРЛСРУЭ) 128 СЕРГЕЙ СЛЕПУХИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ ГРЁЗ. Эссе 132 АЛЕКСЕЙ ХЕТАГУРОВ. ХУДОЖНИК ОБ ИСКУССТВЕ. ЗАРЕЧЕНЦЫ 176 3 ТОЛЬКО СТИХИ! Интервью екатеринбургского поэта и библиофила Ильи Будницкого главному редактору альманаха «Белый ворон» Сергею Слепухину. С. С. Дорогой Илья. Многие годы нас объединяет любовь к книгам. Расскажи, пожалуйста, когда и с каких обстоятельств ты на всю жизнь стал их пленником. И. Б. Моя мама была библиотекарем, и самые первые воспоминания о книгах – это лабиринты книжных полок, попытки читать все книги подряд. Запомнилась первая самостоятельно прочитанная книга – это был «Человек с Луны» о Миклухо-Маклае. Мама всегда мне читала перед сном, пока я не научился самостоятельно это делать. Так была прочитана вслух книга «Девочка в бурном море». Уже в первых классах я был записан во все библиотеки нашего городка – Детскую, Юношескую, взрослую… Читал всё подряд – приключения, исторические романы, классику… До поэзии дело дошло только лет в 15. Все началось со школьного кружка, и первыми авторами, которые мы представили в поэтическом спектакле, были самые популярные в то время – в 1975 году – Вознесенский, Рождественский, Евтушенко, Ахмадуллина. Следующий спектакль был композицией на стихи Блока, Высоцкого, Окуджавы… Не смотря на то, что я до сих пор помню наизусть многие их стихотворения, как и стихотворения Окуджавы и Высоцкого, увы, не они стали моими поэтами и подарили мне любовь к поэзии… Это удалось сделать Мандельштаму, Верлену, Тарковскому и Бродскому. Это наваждение началось в 15-17 лет, и, думаю, оно не оборвётся, пока я жив. С. С. В Интернете можно увидеть много удивительных фотографий современных библиотек. Это просторные книжные хранилища, поражающие и модернистскими фасадами зданий и совершеннейшей логистикой. Но мы-то с тобой знаем, что в 90-е в нашем родном Екатеринбурге многие библиотечные собрания были расхищены, а интерес читателя к библиотекам совсем пропал. Какой тебе видится библиотека XXI века? Какие мысли по реформированию библиотечного дела приходят в голову? И. Б. Библиотека будущего? Боюсь, она будет намного виртуальнее, чем нам бы с тобой хотелось, Серёжа. Уже сейчас дети и внуки тех, кто собирал библиотеки всю жизнь, выкидывают книги просто на свалку, книги для большинства перестали быть ценностью и необходимостью. Останутся такие динозавры, как мы, кому хочется держать в руках именно книгу, собиратели… и – всё. Я не вижу будущего у книг, несмотря на то, что не мыслю себя без книги, без библиотеки. Для меня жить, окружённым книгами, это жить с живыми собеседниками, в комнате, наполненной голосами. С. С. Мы с тобой сверстники, и оба хорошо помним, что в юношеские годы книги были советским дефицитом. Как формировалась твоя удивительная библиотека? Какую книгу ты считаешь первой, главной, с какой началось формирование семейного собрания? И. Б. Первыми были сказки. Одна из любимейших книг, зачитанная до дыр, протёртая, дряхлая – это Сказки Вильгельма Гауфа, «Карлик Нос» и другие. Вслед за сказками начала собираться привычная для ребёнка библиотека – приключения и фантастика, исторические романы, детективы, классическая и современная проза. Это были Юрий Герман, Катаев, Каверин… Потом – Виан, Воннегут, Ремарк и так далее… Намного позже проявилась и стала разрастаться библиотека философии, поэзии, эзотерики, зарубежной художественной литературы… С. С. Первые литературные опыты. Свердловск, 1980-е? Что это было? Стихи? Рассказ? Детская сказка сыну? И. Б. Первые опыты? Мне 17 лет, институт, поздравительные стихи к восьмому марта всем девочкам группы. После этого важного этапа началось собственно стихотворчество. Самое первое «просто стихотворение» начиналось так – «Жить – это странно…» С. С. Ты в нашем городе один из ветеранов писательского дела. Кто стоял с тобой рядом? Кто и что запомнилось больше всего? 4 И. Б. Первый поэтический круг моего общения собирался около прекрасной свердловской поэтессы Майи Петровны Никулиной. Нам было по 17 – 18 лет – мне, Аркадию Застырцу, Вадиму Месяцу, Вадим был самый младший… Запомнилось? То, что мы были никому не нужны, что единственным местом, где нам и нашим стихам были рады, стала квартира Майи Петровны. Я показывал свои стихи редакторам двух самых крупных уральских журналов того времени – «Урала» и «Уральского Следопыта», получил отказ и «дружеские» рекомендация бросить писать. А опубликовала меня – на целый разворот – верхнепышминская газета «Комсомольская Правда». Это стало единственной публикацией на ближайшие 15 лет. С. С. Виталий Кальпиди пытается убедить столичных интеллектуалов в том, что на Урале сложилась собственная поэтическая школа. Он прав? И. Б. Он и прав, и не прав. С моей точки зрения, поэт может принадлежать к какой-либо школе, группе, тусовке, направлению только гипотетически. С любых точек зрения наблюдателей – и исследователей творчества, и закадычных приятелей – для поэта школой является сама жизнь, человеческий опыт. Более того, как только автор самостоятельно пытается себя куда-либо определить, он формирует рамки и границы – тиски своему творчеству. С другой стороны, если люди хотят чувствовать себя вместе, почему бы и не организоваться в группу? В частности, я знаю несколько хороших уральских поэтов, тех, кто называет своим учителем поэта, слабее их значительно. Но… история вхождения в поэзию ведь это тоже история взросления. Так и поэтические школы – история взросления поэтов. У большого поэта нет рамок. Далее. Кальпиди провозгласил школу в пику столичной поэзии, слишком отчуждающей себя от провинции. Он поставил цель доказать, что и в провинции есть своя поэзия! Правда, доказывать, на самом деле, ничего не надо: стихи – вот главное доказательство существования поэзии. Посмотрим на начало ХХ века. Есть определение – «Южно-русская школа», давшая огромное количество больших поэтов – Тарковский, Тарловский, Багрицкий, Шенгели – список можно продолжить. Кавказская школа – Казмичев и так далее. Дальневосточная ветвь – Несмелов, Перелешин, Щеголев, и прочие. Сибирская литература – Марков, Забелин, и другие. А Центр… Туда съезжались отовсюду! Всё это, на самом деле, просто одна великая русская поэзия. Можно жить в Париже, и быть русским поэтом, а можно быть Набоковым, или быть сосланным в Воронеж – что меняется? Русский поэт остаётся русским поэтом независимо от места жительства. Для меня не существует «Уральской школы», есть тусовка с харизматическим лидером, неплохим поэтом и прекрасным организатором. Многие из пишущих на Урале не заявляют о своей принадлежности к «Уральской школе», однако это не мешает им писать прекрасные стихи. А кто из ныне причисляющих себя к этой школе авторов останется в русской поэзии – это покажет время. С. С. Борис Рыжий – миф, или это наш уральский Есенин? Кого из земляков ты считаешь наиболее значительной фигурой в поэзии? И. Б. Есенин, Серёжа, тоже во многом, как великий поэт, миф. Я не готов рассматривать его поэзию здесь, скажу только, что дурновкусия и плохих вещей – слабых – у него сверхмного. Для меня Рыжий – талантливый мальчик, много писавший, много обещавший, но не успевший состояться. Он слишком рано ушёл. Есть очень ранние поэты – Лермонтов, Мандельштам, есть более поздние – Пушкин, чья поэтическая зрелость началась в 27. Рыжий просто не успел, его стихи, я повторюсь, только что-то обещали, уровня мастера он не достиг, и увы, уже не достигнет. С. С. Как состоялось твое знакомство с Евгением Витковским и Евгением Кольчужкиным, главными фигурами в издательстве «Водолей»? И. Б. Интернет – великая вещь, Серёжа! Я хотел найти стихи Ильязда, и через Гугл вышел на ЖЖ Витковского, где Евгений Владимирович говорил об этом забытом поэте. С обоюдного интереса к стихам Ильязда и началось наше знакомство. Издание нами собрания его стихотворений, к сожалению, так и не состоялось, но, к счастью, книгу, прекрасную книгу Ильязда, выпустили другие люди. За время знакомства мы много сотрудничали с Витковским, и издали свыше 50 других книг в сериях «Паралипоменон» и «Малый серебряный век». Это поэтические книги Меркурьевой, Лидии Алексеевой, Верховского, Сергея Петрова, Щеголева, Голохвастова, Тарловского, Бородаевского, Аверьяновой, Голембы, Сергея Соловьева, Познякова, Щировского, Соломона Барта, Нарциссова, ЛозинаЛозинского, Корвин-Пиотровского, Садовского, Зальцмана, Кугушевой, Тарусского, Кленовского, 5 Гомолицкого, Ширмана, и многих других. Уверен, это существенно изменило представление читателя о том, что такое русская поэзия Серебряного Века. С. С. Известно, что в период финансового подъема вашей фирмы ты не только сам оказывал помощь «Водолею», но и привлекал других джентльменов. Какой из «водолеевских» проектов ты считаешь своей самой большой удачей? И. Б. Самых больших удач было много, Серёжа. Это и извлечение из небытия – американских архивов, десятилетия хранящих забытую и неизвестную для русского читателя литературу – рукописей Голохвастова и редкое издание «Апокрифов» Ширмана, ставящее этого поэта вровень с большими авторитетами ХХ века. Одно из главных событий «водолеевской» деятельности – издание трёхтомника Сергея Петрова, на мой взгляд, самого большого поэта ХХ века. С. С. Многие знают, что поэт Илья Будницкий неоднократно помогал молодым (и не очень молодым) талантам в издании первого сборника. Одна из общих знакомых рассказывала мне, что ты на протяжении долгого времени передавал деньги Валерею Исаянцу, кормил его. Многие не знают, что ты финансово поддержал журнал «Волга», когда издание лишили губернаторских дотаций. Что ты выкупал в американской Библиотеке Конгресса редкие рукописи наших эмигрантов. Что тобой движет, Илья? Благодарны ли люди? Не возникла ли с годами идиосинкразия к слову «альтруизм»? И. Б. Что мной двигало, Серёжа? Простое желание, чтобы русская культура развивалась, только это… Благодарности я не ждал и не жду. Делал то, что считал необходимым, не больше того. Альтруизм – вредная вещь, поэтому я перестал помогать тем, кто жив и может сам говорить о своей поэзии. И издавали мы, в основном, тех, кто уже говорит «издалека», с того берега реки. С. С. А что ты думаешь о современных неизвестных талантах? Появившихся, или уже обреченных на забвение Сергеев Чудаковых? Московские журналы, как легко убедиться, узурпировали право единолично определять, кто гений, а кто – нет. Нет сомнения, что те, кто в Перестройку больше всех кричал о свободе и призывал отстранить от руля литературных генералов, сегодня формируют собственную номенклатуру. Что ты об этом думаешь, Илья? Если мы не смогли помочь забытым поэтам Серебряного века, может быть, все-таки еще стоит помочь здравствующим? Каким тебе видится прогресс в литературном деле? О какой реформе должно мечтать? И. Б. Серёжа! Мне нет дела ни до московских, ни до каких-либо иных журналов, ни до премий, ни до конкурсов! Есть поэзия, она говорит сама за себя, а тусоваться ради того, чтобы издали, напечатали, чтобы быть на слуху – это не моё! Кому надо – действительно, надо – прочтут мною написанное. Прогресса нет и быть не может! Есть живые люди, желающие писать, с Даром они или без Дара. Время победит «пробойную силу» журнальных коридоров, оно оставит лишь стихи. Только стихи! С. С. И последняя группа вопросов к тебе как к поэту. Какое событие ты считаешь своей самой большой удачей? О чем книга, над которой ты работаешь? И. Б. Удача? Это когда рядом есть хотя бы один человек, кому нужны твои стихи. Страшно оказаться в роли Кюхельбекера в ссылке. Сейчас я не пишу книгу – просто иногда пишу стихи, а что будет востребовано, покажет время... Для меня поэзия, русская поэзия – это стихи, написанные на русском языке, или переведённые на русский. Перевод уже делает их автоматически фактом отечественной поэзии, поскольку не существует переводчиков, а есть поэты! Так вот, русская поэзия – это что-то прорывающееся к изначальному языку, праязыку, о котором сказано: «В Начале было Слово»… Язык поэзии должен обладать силой глубинного воздействия, духовной, ментальной, эмоциональной; всеми способами воздействовать на слушателя, читателя, реальность… Я верю в неотменяемость законов безупречной формы, звукописи, работы мысли, умения видеть и творить. Стихи должны быть живыми, меняться и открывать новые смыслы, если со временем мы меняемся сами. Поэтому я утверждаю: Поэзия, как любое творчество, есть одновременно и ремесло и вдохновение. Если мы позволяем себе не быть мастерами формы, не овладевать ремеслом, то и вдохновение будет исковеркано нашим небрежением к законам стихосложения, как зачастую происходит у любимого мною Губанова… 6 МЯТЕЖНЫЙ КАРАНДАШ БАБУШКА Рассказ В кармане у папы хрюкнуло и квакнуло. Папа достал айфон и прочёл письмо от Алисы Тарасовны, моей классной руководительницы. – «Уважаемый Даниил Никитович, обратите внимание, что Ваш сын Кузьма на уроках не активен, не слушает материал, всё время о чём-то думает…» – На то и ребёнок, чтобы думать, – сказал папа и сунул айфон обратно в карман. – Не макакёнок же... Ну, рассказывай, о чём ты думаешь? – спросил он меня. – Я думал, как бы вывести такую породу собак или наоборот, породу машин, чтобы... В общем, как бы так скрестить машину, желательно, пуленепробиваемую, и собаку? Тогда, вопервых, мы получим пуленепробиваемую собаку, а во-вторых, машину, которая сама отряхивается от снега, дождя и грязи. Вот об этом я и думаю всё время, а Алиса Тарасовна только мешает. – Какой же ты молодец! – обрадовался папа. – Скрестить машину и собаку – отличная мысль! – Он очень добро посмотрел на меня, и я понял, что сейчас он скажет мне самое приятное. И он сказал: – Ты просто весь в бабушку! Да, самый нормальный человек из моих родственников и вообще всех знакомых взрослых – это бабушка! Ни у кого такой бабушки нет… Например, когда моему папе было семь лет, и его бабушка ещё называлась просто – МАМА, перед тем, как идти в школу, ровно тридцать первого августа, она провела с ним такой разговор: – Сынок, завтра ты пойдёшь в школу, а это, между прочим, не сахар. Весёлого мало, прямо скажу. Но ты не беспокойся. Всё будет хорошо. Если тебе на уроке станет скучно или что-то не понравится, не шуми и не мешай учительнице. Тихо и спокойно встань, собери вещи, вежливо попрощайся и иди домой. А если тебя будут пугать завучем или директором – не обращай внимания. Я, твоя мама, гораздо главней директора и завуча. Так что никого не бойся. И когда начнут грозить, что выгонят из школы, тоже не переживай. Запомни – школ на свете много. А ты у меня один. И папа пошёл в школу. Там всё было довольно нормально, не считая того, что бабушка терпеть не могла ходить на родительские собрания. То есть, она старалась, конечно. Честно шла. Но в последний момент передумывала. Один раз папа вёл её в школу за руку, и всё было в порядке, но в последний момент, уже прямо в классе, бабушка превратилась в кошку, прыгнула на шкаф, и оттуда урчала с подвыванием, поглядывая на учительницу не очень добрыми глазами. Тогда учительница сказала, что сама придёт поговорить c родителями, прямо домой. Бабушка честно навела порядок, приготовила обед из трёх блюд, нарядилась во всё приличное, а сама подговорила дедушку превратиться в большого лохматого барбоса и не пускать учительницу на порог… Но папа учился в школе довольно долго, года два или три, пока однажды, тёмным зимним утром, глядя в окошко, как папа переходит улицу, маленький, с рюкзачком на спине, шагает сквозь вьюгу, бабушка не подумала прямо вслух: – А что, собственно, в этой школе такого уж интересного и важного, что маленький ребёнок должен туда идти почти что ночью, в мороз минус двадцать градусов? Ну чего уж такого может ему рассказать эта тётя? Вообще, что видели учителя в жизни? Учителя – это люди, которые заканчивают школу, поступают в институт, откуда идут на практику в школу, а потом заканчивают институт и идут на работу. Куда? В школу. Что интересного они могут рассказать? К тому же, как известно, учителя питаются шторами, а это не очень-то полезно для умственной деятельности. – Откуда ты знаешь, что учителя едят шторы? – удивился дедушка. – А почему, по-твоему, всё время собирают деньги на шторы? Когда я училась в школе (а бабушка, кстати, училась в той же школе, что и папа), каждый год собирали деньги на шторы. И теперь то же самое. Каждый год! Куда они девают шторы? Жуют, конечно же! Учителя питаются шторами, а в шторах маловато витаминов. Но выбегать за папой на тёмную утреннюю улицу и не пускать его в школу бабушка не стала. Всё само устроилось. 8 На уроке учительница стала ругать одного там Аркашу, за то, что он один до сих пор не сдал деньги на шторы. Папа видел, что Аркашка вот-вот заплачет от стыда и от обиды. Тут-то папа и вспомнил, что ему говорила бабушка перед первым сентября. Папа быстро собрал свой рюкзак, вышел из-за стола, тихо сказал Аркашке: «Ничего не бойся, пошли отсюда», и стал собирать Аркашкины вещи. – Так, это что ещё такое? – спросила учительница. – Далеко собрались? – Мне мама разрешила уйти, если что-то не понравится, – вежливо ответил папа и надел на Аркашку его рюкзак. – А мне вот очень сильно не нравится, что вы Аркашку ругаете. Потому что у него одна только мама, и они бедно живут. Небось, Надю Собачатинову никогда не ругаете… (В одном классе с папой училась дочка директора колбасных заводов, и её привозили на машине с охранником). – Правда, – сказала эта самая Надя. – Ругайте лучше меня, если очень хочется, а Аркашку ругать – нечестно и несправедливо! И вообще – куда вы шторы каждый год деваете? И Надя тоже стала собирать свой розовый девчонский портфельчик. – Точно! – решили все, собрались и ушли, вежливо попрощавшись. Родители некоторых папиных одноклассников обиделись на нашу бабушку – ведь надо было куда-то девать детей, в другую школу. К тому же, все дети почему-то очень хорошо запомнили, что в школе должно быть интересно. Если скучно и неприятно, надо встать и уйти. И поэтому запихнуть их в какую-то скучную школу со злыми глупыми учителями было уже невозможно. И бабушке придумала новую школу. Такую, где географию преподавал бы капитан дальнего плавания. Для изучения зоологии часто ходили в зоопарк. Литературу пусть преподаёт настоящий писатель, который любит и понимает слова, математику с физикой и химией – настоящие учёные, которые обожают все эти пробирки, циферки и штучки. А изучать иностранные языки можно поехать в разные страны. Или к нам гостей оттуда пригласить. И вообще, в школе должны работать только те, кто хочет быть с детьми и их учить, а не те, кого просто больше никуда не взяли. Такую школу бабушка придумала, и оставалось только её организовать. Однажды на Новый год, вообще без пятнадцати минут двенадцать, бабушка оглядела ёлку с подарками, полный угощений и вкусностей стол и скомандовала всем идти на улицу – вдруг там кто-то гуляет, кому негде встретить новый год, и мы их сейчас пригласим в гости. Все вышли на улицу. Там никого не было. Только светофоры перемигивались, и уличные ёлки светились, а кругом валялся мусор от салютов и фейерверков. Ну вот, что ты всегда выдумываешь, все уже сидят по домам, люди живут хорошо, весело, и все встречают Новый год. Сказал дедушка, и все ушли. Бабушка побыла на улице ещё немножко и привела большого барбоса в ошейнике – наверное, он испугался грохота от салютов и сорвался с поводка, заплаканную девушку в ватнике поверх длинного прозрачного платья, и дядьку, который не мог самостоятельно вылезти из сугроба. Этот дядька сразу захрапел и храпел до самого утра. А заплаканная девушка как-то развеселилась и спела песенку под гитару. Пса через два дня забрали хозяева и дали бабушке вознаграждение. Девушка помирилась с женихом и пригласила бабушку на свадьбу. А пьяный дядька оказался начальством. Утром, когда все спали, он ушёл, а потом прислал письмо. Спасибо, люди добрые, что вынули меня из сугроба, куда я попал совершенно случайно, и выпил-то всего нечего, это всё давление, экология… И подпись – первый помощник начальника по вопросам содействия противодействию. Что-то такое. Он так расчувствовался, что помог бабушке построить правильную школу. Ну, ту, где работают только те, кто хочет быть с детьми, а не те, кого больше никуда не взяли. А на оставшиеся деньги построили кафе, чтобы там всё стоило дёшево, для стариков, зверей и детей. Оно до сих пор работает. В ребёнка надо вкладывать, – говорила бабушка. – Вкладывать вкусности, сюрпризы, подарки, поездки к морю… Вкладывать в ребёнка надо побольше чудесного и приятного, а не трясти у него перед носом учебниками и нотными тетрадками! Когда папа болел в детстве, бабушка лечила его щенками и котятами. Просто пошла куда-то и вернулась с целой охапкой котят и щенков. Когда я представляю себе эту охапку, мне уже становится весело и приятно. А папа вообще тут же выздоровел, просто от радости, от приятной неожиданности и сюрприза. Да если играть со щенками и котятами, гладить их и прижимать к простуженному орга9 низму, то выздоровеешь гораздо быстрее, чем от лекарств. А если дышать котятами и щенками, запахом их тёплой шёрстки – то вообще никогда не заболеешь. Слух про лечебных щенков и котят пошёл по белу свету, и в городе стало гораздо меньше бездомных животных. Бабушка и папа, когда он был маленький, ставили капканы на гостей, которые приезжали к ним на дачу в деревню. На самых любимых, конечно. Например, на Сергея Борисовича. Он умный, добрый, у него очень красивый голос, и этим голосом он всегда рассказывает только интересное. Ни разу ничего скучного не рассказал. Или на дядю Юру и тётю Зою Нечипоренко, с ними весело и хорошо, и тётя Зоя – очень угощательная, столько всяких вкусностей готовит! На этих гостей папа и бабушка ставили капканы, чтобы они подольше не уезжали. Но те гости, на которых капканы не ставились, начали обижаться. Решили, что их меньше любят. И пришлось ставить много капканов, чтобы хватило на всех гостей. По участку и дому ходили толпы пленных гостей и звякали капканами на ногах. Снять капканы они не умели, а с капканом далеко не уйдёшь и на машине рулить неудобно. Капканы папа и бабушка делали из дыроколов. Бабушка знала рецепт от грустного настроения. Рецепт этот ей передала одна старушка. Это было очень давно, когда в нашем городе было навалом старушек. Тогда ещё не вышел приказ, что в столице должны жить только молодые или те, кто нарядно одет и хорошо выглядит. Этот приказ вышел, кажется, перед каким-то чемпионатом мира или Олимпиадой, и всех старичков куда-то девали. Ну вот. Давным-давно, старички и старушки спокойно расхаживали по городу, сидели на лавочках или продавали возле метро у кого что было – яблоки, солёные огурцы, варежки… Бабушка тогда училась в институте, шла к метро и встретила там маленькую старушку с корзинкой яблок. – Хотите, я у вас куплю все яблоки, то есть, заплачу за целую корзинку, а себе могу вообще ничего не брать, вы ещё кому-нибудь продадите? Это я в смысле, чтобы вам помочь, ведь старые люди живут бедно… – предложила бабушка старушке. – Что ты, дочка, – ответила старушка. (Ведь бабушка тогда была ещё почти маленькая, после школы, и вообще тогда люди часто называли младших дочками или сынками, да, да, такое было). Яблочки свои я не продаю, а дарю всем, кто хочет. – Почему? – удивилась бабушка. – Потому что мне грустно. А когда грустно, надо кому-нибудь что-нибудь подарить… Тут же печаль пройдёт. А от денег – какая радость? Бабушка запомнила это на всю жизнь. И когда ей вдруг становилось грустно, она пекла большой пирог и шла на улицу всем его раздавать. Все очень удивлялись, а бабушка радовалась. А если могла, то даже покупала специальные подарки. Так, например, дедушке она, когда вдруг загрустила, подарила настоящий тягач с прицепом. То-то дедушка обрадовался… От радости он разрешил бабушке взять с помойки бородатую собачку. Её назвали Мусорский. Из мусора потому что. «Запомни, когда становится грустно, лучший способ развеселиться – это что-нибудь комунибудь подарить», – говорила бабушка. Мы с папой и мамой теперь всегда так делаем. Когда на зиму бабушка, дедушка и папа уезжали из деревни, бабушка оставляла гостинцы и письмо для воров. «Товарищи воры», – писала бабушка, объяснявшая папе, что слово «товарищи» очень подходит ворам, так давным-давно кричали друг другу жулики, нападавшие на караваны с товарами – товар ищи! «Товарищи воры, вот вам бутылка вина, пачка макарон и две банки консервов. Ведите себя прилично. Поели и убирайтесь вон.» Самое интересное, что никакие воры не приходили. Один раз залез какой-то чудак, смотревший старинные диафльмы. Он, кстати, починил выключатель и забыл кепку. Но больше не возвращался. Однажды у папы, когда он ещё не был папой, а был просто мальчиком, наступил день рожденья. Пришли гости и родственники, только бабушки, в смысле, мамы мальчика-папы всё не было и не было. И вот когда все уже совсем заждались, к воротам дома (дело было летом в деревне) подъехал грузовик, целая фура, доверху полная старых автомобилей. Вот это было подарок так подарок! Папа, как любой нормальный парень, обожал машины. И он с друзьями стал в них играть, чинить, красить, из двух маленьких машинок бабушка сделала клумбы, а в старом маршрутном такси поселились бродячие кошки, устроили себе домик, прятались от снега и дождя. Бабушка тоже любила машины. Она называла их «машинки» и считала, что они живые и понимают всё. Каково это – состариться, стать ржавым, некрасивым, или даже вообще без колёс, стоять где-нибудь в дальнем углу под снегом и ждать, когда увезут под пресс… 10 Нет, никакого пресса, машинки должны быть с людьми, и если не могут ездить, то пусть просто так живут в саду, радуют мальчишек… Бабушка вообще всегда собирала всё старое и лишнее. Она считала, что старое и лишнее, это как раз самое нужное и важное. Однажды рано утром бабушка возвращалась домой из гостей, шла через парк и увидела на скамейке большого крокодила из ярко-зелёного плюша. Здоровый, во всю длину скамейки, немножко облезлый, но всё равно очень симпатичный. Грустный только. Ясно, что кто-то его нарочно забыл, чтобы выбросить. И бабушка взяла его с собой. Заскочить домой, крокодила положить, не было времени. И бабушка так и таскала его целый день повсюду. А ведь надо было к доктору за справкой, что всё в порядке с головой, в полицию за новыми водительскими правами, в телевизор дать интервью и в Государственную думу. И всё у неё хорошо в этот день получалось, с крокодилом в охапку. А крокодил потом поселился в деревне, у креслекачалке у печки… «Надо тренироваться быстро-быстро есть курицу», – говорила бабушка. «Ведь прогресс не остановить, поезда будут ходить всё быстрее и быстрее. А есть курицу в поезде – наша национальная традиция». Когда заговорили про телепортацию, бабушка даже стала устраивать соревнования по поеданию жареной курицы на время. Ведь съесть курицу за несколько секунд, пока тебя телепортируют – это целая наука. Надо тренироваться. Бабушка собирала купоны на скидки в косметические салоны. Кто наберёт сто купонов, тому большая скидка на пластическую операцию. И бабушка собирала, собирала… Но бабушка ничего не думала себе отрезать или наращивать. Купоны она копила, чтобы подарить папиной невесте, когда такая у него появится. Ведь невесте наверняка надо будет подрезать нос или удлинить ноги. «И она сразу поймёт, что я люблю её, как родную дочь…» Бабушка любила деревья, собак, кошек, траву и реки. Собак и кошек особенно. Учила уважать собак и помогать им. Ведь не всех после смерти берут на небо, это надо ещё заслужить… Надо, конечно, стараться, надеяться, но быть готовым и к другому. Может быть, в один прекрасный день ты проснёшься совсем не тётенькой и не дяденькой, а голопузым недотёпой щенком, случайно уцелевшим после отстрела родной стаи… Да и вообще… Некоторые остаются на земле навсегда – в собаках, кошках и птицах и ёжиках. Бабушка говорила, что скоро станет модно быть бедным. А для очень многих людей в нашей стране – быть модным – самое важное в жизни. И вот богатые будут стесняться своего богатства, всё попрячут или раздарят второпях… И у всех всего станет поровну. Старики, бездомные собаки и все дети будут есть досыта, не спеша и не стесняться… Этого пока что ещё не случилось. Наверное, всё-таки случится, наступит. Бабушка никогда не обманывала. Она вообще такая... Лично мне ужасно жалко, что мы с ней так и не познакомились по-настоящему. Дело в том, что мой папа сильно вдруг заболел, когда ему было двадцать два года. Прямо ну вот совсем заболел. Но тогда коррупцию ещё не побороли, и можно было договориться. И моя бабушка договорилась с богом, что она умрёт вместо своего сына. Тогда ещё можно было так. И мой папа стал вообще как новый. Ему вот сейчас уже почти сорок, а он всё равно молодой. А бабушка умерла. Тихо так, чтобы никто сильно не огорчался. Тихо очень стало дома. И на учителей никто не рычал с подвыванием. А для нас она записала эти истории, чтобы мы всё-таки знали её и помнили. Мы точно не знаем, где теперь наша бабушка, надеемся, конечно, что на небе, но на всякий случай всегда помогаем собакам и всем зверям. Любая собака или кошка, да любая зверюга может прийти к нам в сад в деревне или подойти на улице в городе, и мы обязательно поможем. Однажды к нам пришла меховая рыжая собака, всех нас обнюхала, как будто проверила и пересчитала, лизнула меня в щёку прямо с причмоком, и пошла дальше. Мы звали её, обещали угостить, а она обернулась, подмигнула и ушла. 11 ИНДИ. СКАЗКА ИЗ ОРАНЖЕВОЙ ОБЛОЖКИ Рассказ Петька с Анкой-пулемётчицей как-то пошли в разведку. Нарядились в простую одежду, раскрасили лица, чтобы не светиться в кустах. Засели под деревом и наблюдают за ставкой генерала Каппеля. Тут к ним сзади подходит патруль. Белогвардейцы спрашивают: «Вы кто такие?». Анка-пулемётчица говорит: «Я индианка», а Петька тоже не растерялся, говорит: «А я индипетька». Реинкарнированные Инди-Анка и Инди-Петька жили в соседних подъездах в доме номер четырнадцать по улице Красноармейской. В доме и было два подъезда и два этажа, а окна их квартир выходили во двор на помойку и деревянный барак в аварийном состоянии. Инди-Анка жила в этом районе уже семь лет, а Инди-Петька – десять. Но они не были знакомы, более того, не ведали о существовании друг друга. Инди-тусовка в городе отсутствовала; говнарей, гопарей, было предостаточно, даже анимешники собирались в засраном скверике у бюста Жукова. Инди-Анке и ИндиПетьке просто негде было познакомиться. Например, у обоих в Контакте родным городом был указан Лондон, а не тот, в котором они жили. Случайность так и вовсе мозги трахала: Анка фотографировала зеркалкой скелет старого целлюлозного завода с восточной стороны и возвращалась к 18:00, а Петька с западной стороны и возвращался в 18:30, потому что идти было дальше, так они и не могли никак встретиться. И после работы возвращались в разное время, и в магазин ходили с разницей в пятнадцать минут. Любую музыку Инди-Петька слушал в наушниках. А Анка в наушниках слушала только инди-музыку, а всякую попсу голимую типа Coldplay или Mogwai только через колонки. «С сумасшедшим поселили», – думал Петька и не обращал внимания. Самое интересное то, что их квартиры, и даже их комнаты, разделяла одна стена и окна располагались рядом. Но Петька, когда курил, из окна не высовывался, потому что его императив диктовал стоять прямо, прижавшись спиной к стене и выпускать на волю дымный клубок и два кольца. Оттого он не мог увидеть свисающих с подоконника Анкиных ножек, когда та, несмотря на уже не подростковый возраст, второй этаж и помойку во дворе, продолжала играть в экстравагантную девицу на антресолях Парижа. Анка думала, что дымок рядышком пускает какой-то алкаш и не хотела с ним разговаривать. А в бараке, на который смотрели окна этих двух хипстеров, жил гопник Васёк, который каждый вечер наблюдал за странными молодыми людьми, курящими поодиночке в окнах, и делал выводы. Интересно то, что Васёк был не простой гопник, а гопник-волшебник. Лечил болезни наложением рук, с похмелья видел будущее, останавливал время, ходил по воде, а по ночам летал над городом и иногда отбирал мобилки у прохожих. Чётки крутил только во время медитаций, а не как другие гопники всегда и везде. Свой дар Васёк получил от местного городского сумасшедшего Гурьяна около ста лет назад. Бессмертие входило в набор опций. И, короче говоря, решил гопник-волшебник Васёк поучить молодых людей уму-разуму. Как-то поздним вечером подкараулил Петьку и спрашивает его: – Ты чё вот так одет? У тя штаны узкие, рубашка клетчатая, цветная, сумка Олимпиада-80, но это фигня у меня такая же дома. Ты чё, гомик? – Нет, я инди, ответил Петька и сглотнул. – И чё? Зачем те это надо? Выделяться? – Ну да. – А умом не пробовал выделяться? – Пробовал. – Скажи что-нибудь умное. – Вам надо что-то? – Нам? Я тут один стою. Ты наркоман может быть? – Я, нет. – Вены покажи, ёпта. – Нах я тебе что-то показывать буду. – Ты как с пацаном разговариваешь, чмо очкастое! Инди-Петька выхватил перцовый баллончик с черёмухой и брызнул Ваську в лыбу. Но Васёк стал эфемерным и газ прошёл сквозь его голову. Материализовавшись за спиной у ИндиПетьки, Васёк схватил его за шкибон и двинул кулаком в живот. Инди-Петька согнулся от боли и упал. Провалявшись на земле минуту, Петька поднял голову и, не обнаружив гопника, встал (хотя 12 тот просто стал невидимым и сидел рядом на лавочке, сплёвывая невидимые лушпайки от семок). Петька, держась за ноющее брюхо, побрёл домой. Через десять минут этой же дорогой шла Анка. Васёк спросил у неё: – Не боишься одна идти? Анка ускорила шаг. Васёк продолжил: – Ну постой, я тя провожу. Жиган девчонку не обидит, – сказал он и пристроился сзади. Анка ещё ускорилась. Хорошо, что она всегда ходит в кедах. – Фифа, те западло пацану взаимностью ответить? Анка побежала. Васёк за ней. –Ты коза в лосинах стой! Балерина что ли? Васёк догнал Анку и таким же приёмом, как и Петьке саданул ей в поддых, она даже крикнуть не смогла. Пока девушка лежала согнувшись, Васёк так же стал невидимым и пошёл домой. Петька не мог слушать музыку, живот болел от удара, а ум от обиды. Зачем он увлекается фотографией и французскими фильмами шестидесятых, а не боксом. Нужно покурить и написать в твиттер. Анка всё рассказала родителям, и, пока отец на кухне обзванивал знакомых ментов, уже написала всё в ЖЖ и тоже решила покурить. Хипстеры открыли свои окна, а так как стоять прямо и сидеть, с болью в солнечном сплетении, свесив ноги из окна, было неудобно, оба перегнулись через подоконник и встретились глазами. Что было дальше – никто не знает. Известно только, что Васёк в этот же вечер прилетел к своему старому знакомому Витьку, такому же гопнику-волшебнику, живущему на другом конце страны. И устроился работать в эзотерическую лавку заряжать иконы. ВОДОЛАЗ Рассказ В ту ночь, когда Тоша прозрел, в квартире ничего особенного не происходило. Везде была темнота, и чёрный Тоша спал на тёмно-синем коврике в прихожей. Он посапывал во сне, кругом тикали часы, в комнате храпел любимый папа – человек – а ещё, где-то у окна, за которым расстилалась темень, жужжала муха – мрачная, как смола. И вот, ни с того, ни с сего, в дверной глазок проникло облако света. Оно проникло с лестничной клетки, тонущей в гулких потёмках, опустилось вниз – поближе к Тоше – и зависло над его патлатой головой. Небольшой такой головой, с бородкой внизу – всё, как полагается скотчтерьеру. Облако повздыхало-помешкало над Тошей, а потом!.. случилось что-то совсем нечеловеческое – внутри облака раскрылась книга. Её решительно не было видно до того, как она раскрылась, а тут раз! и целая книга в воздухе висит. Старинная как будто бы, золотая. В книге были какие-то буквы, страницы начали листаться сами собой. Тоша спал. Когда книга долисталась до конца, она закрылась, и всё стало так, как будто бы книги в облаке не было. Облако сморщилось, чихнуло, поднялось обратно к глазку и втянулось в него, как в пылесос. Куда оно направилось, оказавшись снова на лестничной клетке – неведомо. Только вот Тоша наутро проснулся разумным существом… едва ли глупее своего папы. Папа позавтракал на скорую руку, не обращая ровным счётом никакого внимания на то, что у его питомца изменился взгляд, и ушёл на свою треклятую работу, поругиваясь в процессе окончательного одевания перед выходом. Когда Тоша остался один, он подошёл в нерешительности к миске, в которой папа оставил ему собачью еду, и, понюхав её с удивлением, сказал человеческим голосом: – Это как же я дошёл до жизни такой? Даже не прикоснувшись к этому педигри, ещё вчера такому любимому, Тоша отправился в комнату, где тут же натолкнулся взглядом на календарь во всю стену. Календарь был за прошлый год, но сожитель человеческого рода (Тоша отрёкся от него, как от папы) отчего-то его не снимал. Там, на глянцевой простыне, над циферками и магическими именами каких-то двенадцати существ, красовалось огромное существо чёрного цвета, надписанное курсивом сверху: «Ньюфаундленд. В простонародье водолаз». – Водолаз… – задумался Тоша, – Значит, лазит в воде… 13 Оглядев портрет на календаре как следует, Тоша подошёл к большому зеркалу во всю стену. – Да, мы схожи, – Тоша поглядывал то на портрет, то на своё отражение: Весьма. Только у него более растянутое лицо, а у меня более собранное и борода… А у него нет. …так может, это дама? – Тоша опять поглядел на ньюфаундленда. Потом подумал ещё немного и заключил: Даже несмотря на разность ушей, мы определённо одного типа. Тут Тоша загрустил. Необъяснимая тянучая хандра нахлынула на него – то ли из окна, где на небе густели тучи, то ли из тёмной ванной комнаты, где вот уже третьи сутки не было воды… «Лазит в воде», – как заговоренный, повторял Тоша. Он поплёлся обратно на кухню, пожевал педигри – с горя – и уселся под подоконником, пытаясь разогнать свою хандру мыслями: «Мы с ним родственники… он всегда в море… если он лазит в воде – значит, он морское животное. А я? Что я тут делаю? Не знаю, откуда я знаю про море… но оно есть». Тоша начал сердиться. Он улёгся, порыкивая, на пол. Положил на лапы голову и засопел. «Пока я ещё не умер, – продолжал раскочегаривать себя Тоша, – Я должен порвать круг порочной жизни!» Полный решимости, Тоша вскочил и перевернул миску с остатками педигри, потом прыгнул на стол, а со стола – с криками «Вперёд к морю!» – Тоша швырнулся в форточку, и! он попал в неё! Застряв на полпути – то есть, между двумя оконными рамами – Тоша не сдался и пробарахтался до конца, пока не вылетел из форточки вниз… со второго этажа на траву под окном. Вскочив и отряхнувшись, Тоша прислушался к телу. Тело молчало – значит, ушибов на нём не было. «Это ушибы всегда кричат», – рассуждал Тоша, семеня вдоль своего дома, возле которого всю свою жизнь до сих пор ходил только в присутствии человека. «Ушибы или укусы… А в морето их не получишь! Там не ударишься ни обо что, и собак дурных нет – только родственные – значит, те, кто живут в море – они живут счастливо и всегда. И я тоже буду так, если туда доберусь…» Тоша уже миновал свой дом, перебрался на противоположную сторону улицы и только тогда сообразил, что не выработал плана: как ему добраться до моря? Светило солнце, уже морское практически. Тоша оглянулся на родной дом – он стоял молчаливый и глазел на беглеца тёмными мистическими окнами. Внезапно Тошу взволновала мысль: там, внутри, за кирпичными старыми стенами (точно это не дом, а форпост) наверняка осталась карта, указывающая всякое море… а Тоша забыл поискать. Тут из магазинчика, что давно угнездился в углу дома и источал немолодую сырость, вышел старичок и так ошарашено поглядел на Тошу, что тот встрепенулся и поскорей засеменил прочь. «Не дай Бог разоблачат, – испугался Тоша, – Тогда не видать мне моря». В следующую секунду Тоша завернул за угол направо и в его голове возникло из ниоткуда наставление, что теперь всё время надо направо – это будет самый верный путь к морю. Перебежав большую дорогу, которая была почему-то пустая, без машин, Тоша нырнул в широченную квадратную арку под некрасивый серый дом – но любому волшебству (откуда-то подумалось Тоше) предшествует некрасивое. Ещё не выходя из-под арки, Тоша узрел впереди гаражи – такие же серые, как и арочный дом – а за гаражами как будто бы ничего не было. Беглец сбавил скорость. За гаражами, рассекая голубое августовское небо, пролетела чайка, и Тоша тут же ощутил, как из-за гаражей пахнуло особой прохладой. Морской. «Точно! – обнадёжился Тоша, – Если кажется, что где-то за чем-то ничего нет, значит – просто ничего не видно. А не видно скорей всего моря! Не знаю, откуда взял… но море же плоское». Тоша выбежал из-под арки и подбежал к гаражам. «Как же я переберусь?.. Преграда». Тоша призадумался. Глянул, зачем-то, налево. «Иногда небольшое отклонение от курса полезно даже», – придумал Тоша и побежал, куда глянул. По обеим сторонам от Тоши тянулись всё те же гаражи, они тянулись долго, но зато впереди, впереди было такое!!! Там были дома – старше Тошиного, похожие на приморские замки, и от этих домов рос шатёр нездешних деревьев. Он темнел на фоне прохладного предосеннего неба, а под ним получалась высокая арка – выше, чем квадратная в сером здании. Сквозь неё виднелось что-то цветное… какие-то разные всякие дома, которых Тоша раньше не видел. «Быть может, это вывеска перед морем? – думал Тоша на бегу, – Или мираж, возникший от счастья, какое в море водолазы чувствуют…» Главное, что Тоша думал: море прямо по курсу, и когда он выскочит из-под той чудесной деревьевой арки – пейзаж решительно сменится и море возникнет само собой, так что даже направо заворачивать уже не надо будет. А пока море было сдерживаемо с правой стороны гаражами. Тоша бежал, высунув язык, устал совсем, но нельзя было сдаваться. 14 Мимо Тоши проехала пара машин. Тоша подумал: «Здорово! Тоже к морю стремятся». Но они не исчезли, миновав арку. Сначала Тоша был удивлён, но потом смекнул, что это тоже так было специально задумано кем-то. Нельзя отступать! Добравшись до арки, Тоша задрал голову. Какие же высокие деревья, ух! Посмаковав прекрасное, Тоша решил оттянуть момент полного блаженства и пописал на левую липу. «Всё, – выдохнул Тоша, – Встречай меня, новая жизнь!!!» Он снова помчался. Вылетая из-под деревьев, Тоша прикрыл глаза и почувствовал, как уши его развеваются на широком морском ветру… уши настоящего водолаза, а не его обыденные кочерыжки. Ну вот. Всё. Пробежал достаточно. Можно открыть глаза. «Боже мой… – обалдел Тоша, – А где же море?» Перед Тошиной мордочкой, полной разочарования и скорби, по-прежнему красовались разные всякие дома, но теперь они были больше, потому что приблизились к Тоше и наваливались на него всею своею жестокой реалистичностью. – Меня сейчас задавит, – прошептал Тоша. Тогда в его смышлёной головке появился из ниоткуда образ светящейся книги, и там, на правой позолоченной странице, было написано единственное слово: «Направо!» Как только Тоша прочёл его, книга закрылась, в мозгах осталось только неясное светлое облако, но и оно улетучилось. – Фу… – опомнился Тоша, – Нельзя быть таким слабонервным. Сказано же: только направо. Море за гаражами сидело справа. А я решил выбежать по прямой. Ошибся в расчётах… направо, так направо. Где это видано, чтобы море само навстречу разворачивалось?.. Что ж это я о себе вообразил? Потрудиться надо, чтобы к счастью прийти! – самоорганизовался Тоша и метнулся сначала вперёд, а потом вправо. И вот вырулил Тоша вправо… только пятки сверкали… а справа – в одно мгновение с Тошей – с грохотом, свистами и скрежетанием даже – промчалось ужасное. Это было самое ужасное, что Тоша видел когда-либо в жизни. Оно было железное, зелёное, мелькающее, и пахло чемто тёмно-ядрёным. Посреди предвечернего морского солнечного пространства! Под чаячьими криками и прохладно-голубым небом! Внутри Тошиной мечты! Вместо моря – неслась эта громыхающая змеища, а ещё два красных глаза перед ней горели, и палка в полоску висела, ко всему безразличная. Змеища свистнула снова, да так резко и враждебно, что Тоша вконец потерял себя и метнулся влево. Пробегая мимо громадного дома с облупившейся ядовито-жёлтой шкурой, Тоша побоялся, что этот жёлтый сейчас рухнет на него, но вот уже жёлтый исчез, и на Тошу теперь покосился тёмно-кирпичный, матёрый исполин. – Неет! – запаниковал Тоша и сам метнулся к дому в открытую пасть. Оказавшись во рту у чудовища, Тоша вылупил глаза и затаился. Только ушком поводил и принюхивался. Осознав, наконец, что он не съеден, не размолот зубами, не переварен – укусы же не кричали – Тоша прожевал остаток испуга и поглядел по сторонам. Тут было интересно. «А вдруг из этого дома выход в море?» – подумал Тоша и отправился с этими мыслями вверх по лестнице. Лестница была старая, узкая, а по стенам везде было расклеено: «не курить». «А я и не курю, – изумился Тоша, – Зачем писать?» После Тоша увидел пару плакатов с лошадкой, человечком и тарелкой, а наверху было написано странное: «Каслинское литьё». – Это что? – вслух заволновался Тоша, – Это мне не подходит. Наконец, на третьем этаже, Тоша повернул голову вправо – и! о счастье! Там было написано: «Товары для плаванья»… Значит: море рядом!!! Тоша завилял хвостиком и нырнул в открытую дверь. Под лапами был стёртый паркет, по сторонам – разноцветные трухлявые двери. Тоша даже голову задрал в поисках моря, но наверху виднелся только потолок, жирно и давно выбеленный, с лепниной по краю… морем тут и не пахло. – Ладно, – рассудил Тоша, – Возьму тут товары, а море в другие двери искать пойду. Проникнув за товарами в ближайшую дверь, коричневатую и унылую, Тоша столкнулся с неожиданностью. С человеком. Точнее, с какой-то дамочкой в очках. Она отреагировала на появление гостя более чем хладнокровно. – А ну-ка брысь, – сухим тоном молвила дамочка. Тоша, немного удивившись, повиновался. Попятился и задом-наперёд вернулся в паркетный предбанничек. Ткнулся в соседнюю дверь – она была цвета детской неожиданности и оказа- 15 лась наглухо заперта. Тогда, уже окончательно разочарованный в мироздании, Тоша сунулся вправо, и правая дверь – ядрёно-бордовая – немедленно приоткрылась с пронзительным скрипом. Товары внутри помещения были нелепые… даже Тоша понимал, что они на редкость странны: помимо нормальных более менее ласт и подводных масок с трубками, тут валялись различные резиновые игрушки (в том числе огромный крокодил), два надутых, незабываемо ярких круга и удочки с причитающейся снастью. – Товары для плаванья, – вслух повторил Тоша. Побродив в тяжёлых раздумьях между предметами, Тоша, наконец, решился пролезть в резиновый круг орущего рыжего цвета и, убедившись, что круг закрепился на теле, подхватил ещё в зубы резинового гуся… уткой сие чудаковатое создание назвать было сложно. Оно было белоснежным и с гигантской башкой. Вообще не понимая, что же такое происходит, Тоша засеменил к выходу, пища на ходу гусём об пол и подволакивая кругом, так что получался везущий звук. Выруливая обратно на лестничную площадку, Тоша готовился к новой встрече с очкариком-дамочкой или с кем-нибудь ещё, но никого не появилось… он даже расстроился. «Лучше бы вышел кто-нибудь и дал бы мне пинка, – в сердцах думал Тоша, – может, этим пинком меня к морю бы выпульнули…» Тошин взгляд упёрся в покоцаный кафель на полу – голубого, морского практически, цвета – кафель был твёрже асфальта и казался издевательством над мечтой. Тоша вздохнул. Ещё десять минут назад он намеревался обыскать дом до последнего уголка, но теперь понимал отчегото: моря тут точно нет. И выхода в него – тоже. В трансовом состоянии Тоша спустился по лестнице вниз. На улицу. Уже на улице он решил – в самый последний раз – опять завернуть направо… а вдруг оно там?.. Справа, за углом дома, перед Тошиными блестящими и бездонными, словно космос, глазами открылась огороженная территория хозяйственного характера. Был асфальт, какие-то доски были, сараи и шины валялись, и всё. Хотя нет. Поглядев по дурацкой привычке в который раз вправо, Тоша увидел длинную вывеску на тёмнокирпичной стене. Солнечную жёлтую вывеску, гласящую крупными синими буквами: «АВТОМОЙКА 24». Сжав покрепче в зубах гуся, Тоша увидел под вывеской ванну. Она – это Тоша не выдумал! – была, подобно кафелю в доме, пронзительно голубая. Ещё к ней тянулся длинный резиновый хобот и, переваливаясь через край, исчезал внутри. – Это море… – осознал, наконец, Тоша. «Реальность гораздо скуднее и суровее наших мечт», – возникла откуда-то фраза, и Тоша засеменил к водоёму. Круг шуршал по асфальту, гусь норовил выскочить изо рта, однако измученный сушей водолаз добежал до идиллии и запрыгнул в неё вместе со всем своим скарбом. Как только Тоша оказался внутри, чёрный хобот вздохнул и начал источать воду. Тоша и не подумал, что просто задел в прыжке вентиль. Тоша радовался, и всё. Позабыв нелепые свои представления, новоявленный водолаз плескался в автомоечном эмалированном море, выпустив круг и гуся в свободное плаванье. Тоша перебирал лапками, фыркал, а над ним – в голубом нежнейшем небе – золотилось вечернее морское солнце, где-то рядом шелестели листья прибрежного захудалого деревца, хорошо слышны были машины, проезжающие по прибрежному шоссе… Тоша блаженствовал. Но вдруг его посетила тяжёлая мысль: отчего же он тут один? Тоша внырнул в резиновый круг и застыл в нём, распластав передние лапы по кричаще-оранжевому цвету. Пытаясь осмыслить новую дилемму, Тоша глядел перед собой и поводил носом. Тут, внезапно, боковым зрением он увидел что-то чёрное и большое. Тоша повернулся к нему. Оно степенно шествовало по проулку, выплывая из-за злосчастного дома, и тоже повернуло голову к Тоше. – Не может быть… водолаз… Тоша видел перед собой оживший портрет с прошлогоднего календаря. Водолаз был ведом на поводке человеком, напоминающим чем-то Тошиного сожителя, и глядел на Тошу настолько печальными глазами, что Тоша окончательно понял всё. Их обманули. Обоих. Ньюфаундленд, или водолаз в простонародье, гавкнул уныло в сторону Тоши басом и отвернулся. Тоша вздохнул. – Надо бы выбираться отсюда, – бормотал он последние фразы, – Ужинать скоро, а до дома пока дойдёшь… 16 После этого Тоша больше не говорил. Пока он выбирался из ванны, побросав там украденные товары, отряхивался и бежал до дома – в голове его становилось всё мутнее и мутней. Подбежав к своему подъезду, Тоша уже не понимал, что прозрение завершилось. Внутри квартиры обеспокоенный Тошин хозяин собирался на выход – искать питомца, неизвестно как улизнувшего днём на улицу. Человек похлопал себя по карманам жилетки и понял, что забыл сигареты. Вернулся на кухню, где остывал недопитый чай. Обнаружив пачку на холодильнике, человек случайно бросил взгляд на подоконник: там, под открытой форточкой, лежала до сих пор не замеченная и совершенно невообразимая в этой квартире книга – детский букварь с пожелтевшими (от времени как будто) страницами. Он был раскрыт на буквах «Л» и «М». Человек обратил внимание на правую страницу с «М». Под жирной, тёмно-кирпичной буквой, в самом низу листа разливалась голубая лужица, в которой неуклюже болтался белоснежный гусь с огромной головой, и ещё кричаще-оранжевый круг рядом плавал. Над всем этим безобразием, подбираясь обратно к верховной «М», висело блёклое небушко с вялым солнышком сбоку. А по небу – зелёными некрасивыми буковками, напоминавшими электричку – тянулось то самое… заветное… «МОРЕ». Человек подошёл к букварю, закрыл его и произнёс над ним единственное слово: – Бред. …Тоша скрёбся в подъездную дверь снаружи. КОГДА ВЫ ВЕРНЕТЕСЬ, НАС НЕ БУДЕТ Повесть ...From my own voice resonant, singing the phallus, Singing the song of procreation... У. Уитмен. «Листья травы» Ужасно хотелось спать Ужасно хотелось спать. Еще первые полчаса, пока светила луна, можно было терпеть, но потом, когда у нее закончились батарейки и наступил мрак – хоть носом ложись на руль. Старенькие фары изо всех сил вгрызались в упругую темную пелену, а та, как назло, становилась плотнее и плотнее. Пришлось сбавить скорость и, напрягая до боли сонные глаза, следить за изгибами разделительных полос. Вэлу приходилось уже много раз гонять по девяносто пятому шоссе. Он знал, что почти до самого Бел Эйра не будет никаких неожиданностей. И все-таки ехать практически на ощупь, да еще, когда от постоянного зевания выворачивает челюсть, было неприятно. Какого черта босс не мог подождать до утра? Неужели побоялся, что за ночь к бездыханному профессорскому телу прибавится еще одно? Что ж, если подобное и произойдет, то в качестве нового трупа будет выступать сам Вэл, да еще белая «Субару», на которой он сейчас катит. Даже не так. Мировой общественности придется ограничиться только его, Вэла, посиневшим телом. Ведь мертвым профессора пока еще никто не видел – пусть корреспонденты выдвигают хоть сто предположений. Босс может засунуть их в то же место, откуда журналисты их добыли. Впрочем, с писаками все ясно. Им хочется кушать, вот и сочиняют сенсации. Но босс... Почему бы ему не ограничиться более реальными идеями? Например: профессора выкрали китайцы и замуровали в своей знаменитой стене. Даже не китайцы, а террористы. Похитили и сейчас пытаются выпотрошить из него медицинские секреты по избавлению от глистов. Или еще вероятней: профессор погиб смертью храбрых от запора во время отпуска в Канкуне. Хотя на самом деле, он сейчас у какой-нибудь студентки принимает экзамен лежа, так как ни в какой другой позиции она этот экзамен не сдаст. А ведь вчера светило совершенно замечательное солнце. Они с Айрэн договорились сходить вместе на ланч. И вообще, у Вэла было отличное настроение, самочувствие, состояние кошелька и никакое шестое чувство не предвещало неприятных приключений. – Барк, – босс иногда притворялся деловым и называл всех по фамилии, – завтра утром ты должен быть в Роквилле. 17 Вэл наслаждался голосом хозяина: босс с его сипом запросто мог сыграть папашу Витторе в фильмах про мафию, и, если бы ему дали в каком-нибудь шоу эту роль пожизненно, вся группа Вэла побежала бы ставить свечи в ближайший костел. Жаль только, что роль боссу не дают, что он не актер и даже ни разу не итальянец. Он сиг. И имечко у него типичное для сигов – Босс. В точь-точь как должность. Одним словом, Босс он и есть босс. Появление сигов не было предусмотрено ни нострадамусами, ни астрологами. Просто лет десять назад в разных концах света вдруг стали появляться группы людей с частичной потерей памяти. Без документов, без вещей. Кто они? Как сюда попали? Если первые сиги еще пытались нести какую-то околесицу, то последовавшие за ними толпы помнили гораздо меньше. Они представлялись странными именами, называли себя беженцами и вполне сносно говорили на языке той страны, куда попадали. Во всем остальном эти люди напоминали младенцев. Конечно, можно было распихать их по сумасшедшим домам и держать там, в назидание всем, кто появляется на Земле без паспортов и памяти. Только сиги не были сумасшедшими. Со временем какие-то участки памяти у них восстановились, и оказалось, что соображают прибывшие ничуть не хуже коренного населения. Да и проблематично держать в дурдомах несколько миллионов людей. Босс, как и другие сиги, помнил себя только с момента появления. Во всем остальном он ничем не отличался от остальных жителей планеты. Единственная странность, которая сближала его с настоящими сумасшедшими, – это маниакальный поиск голубых яблок. Он спрашивал их в каждом ресторане, в каждом продуктовом магазине. – Вэл, – завтра утром ты должен быть в Роквилле, – повторил Босс. – И не делай вид, что ты меня не слышишь. Исчез профессорчик. Уже неделю не могут найти. Парень этот далеко не простой. Нобелевский лауреат. Вроде занимался обычной фармакологией, но там что-то все слишком засекречено. Короче, меня мало волнуют его научные достижения, и вполне возможно, мы его уже не найдем, – так сиги говорили о покойниках, – но надо попытаться. Заказчик просил все сделать тихо. Местные федеральные органы о твоем визите не уведомлены, так что ты там поосторожней. Несмотря на мрачные прогнозы, я все-таки допускаю, что профессора Вокка перекупили конкуренты или выкрали террористы... В общем, разберись. – Босс, ну какого черта я попрусь на ночь глядя? Могу побожиться, за ночь он не воскреснет. – Ты, Барк, год назад уже божился, что напал на след фанатиков, а оказалась заурядная клептоманочка с хроническими отклонениями. – Так я же сам это и выяснил. – В семь позвонишь мне из Роквилла, расскажешь, что нашел. – Я и так знаю, что найду: закрытую дверь гостиницы. А вот отыскать свободный номер в таком центре, как Роквилл, вряд ли удастся. – Последнюю фразу Вэл произнес, обращаясь к спине Босса. Тот, привыкший к закидонам подчиненного, демонстративно повернулся и тяжелой походкой бегемота заковылял к своему кабинету. Красавица Айрэн, демонстрируя Вэлу солидарность, показала спине Босса средний палец. – Айрэн, а теперь можешь поковырять им в... носу. – Босс даже спиной «видел» своих подчиненных. Умница Айрэн не обращала внимания на грубости Босса. В конце концов, это он взял ее на работу в свое сыскное агентство, когда новое руководство ЦРУ разогнало департамент аналитиков, в котором она служила верой и правдой лет шесть. Айрэн тогда целый год рассылала резюме без всякой надежды на ответ. Вэл не был таким добродушным, как она, но связываться с начальством не хотел. Он не являлся незаменимым, не мог назвать себя звездой сыска. Даже в их заурядной компании Вэл не очень-то блистал. С другой стороны, был бы совсем дурак, давно бы уволили. Вон Фрэда после десяти лет работы сыскарем выставили. А ведь какие дела раскручивал парень! Трудное время. У Босса тоже. Не так-то много клиентов способны сегодня оплатить услуги их конторы. Прошли те деньки, когда им звонили напрямую самые высокопоставленные лица страны, а федеральные службы доверяли ребятам Босса больше, чем собственным агентам. Вэл тогда расследовал одну деликатную историю и по полчаса висел на специальной линии, общаясь с представителями приемной Президента. А теперь – в лучшем случае финансовые недоразумения, в худшем – заказы от мелких политиков, лоббистов, ревнивых мужей и даже уголовных царьков. Правда, вчера их конторе можно сказать повезло: заинтересованное министерство решило не поднимать раньше времени шум и обратилось непосредственно к ним. Значит, пару месяцев народ будет при деле. 18 А пока приемник наигрывал грустную мутотень, рессоры медленно покачивали машину, тьма вокруг предлагала закрыть глаза и отдохнуть. Вдруг небо вспыхнуло, окрасилось оранжевым, к земле протянулись светлые пальцы-лучи. Черт, неужели он умудрился заснуть за рулем? Вдали показались огоньки. Странно, Абердин. Вэлу казалось, что до него пилить еще минут тридцать. Нет, точно Абердин. Повторный знак на зеленом фоне подтвердил, что со зрением все в порядке. Огоньки приближались. От них веяло надежностью и чем-то живым. – Проехать дальше или... Сколько там осталось бензина? – Он посмотрел на панель. Почти пусто. Поленился заправить машину перед поездкой, сейчас придется остановиться. Хотя с другой стороны, на заправке можно будет взять кофе. Он представил чашечку экспрессо с ароматом карамели, сглотнул слюну и прибавил газ. На съезде с шоссе мэрия установила шлагбаум с кассовым автоматом и видеокамерой контроля. Шлагбаум был поднят, но видеокамера следила за подъезжающими машинами зорко и недвусмысленно. Вэл притормозил у автомата и стал искать щель для монет. Щели не было. Была кнопка, и когда Вэл ее нажал, из ящика вылезла белая пластиковая карта с непонятными иероглифами. – Наверное, аналогичная техника стоит на выходе. В этом месте за все рассчитываешься карточкой, а потом автомат считывает, сколько клиент стоял на парковке, сколько чашек кофе он выпил, сколько горючего залил в автомобиль, – подумал Вэл. С похожими системами ему приходилось встречаться и раньше. На очередной день рождения На очередной день рождения Айрэн решила сделать себе подарок – отредактировать список телефонов бывших приятелей. Больше половины она вычеркнула, даже не задумываясь. Некоторые имена она не помнила, некоторые помнила плохо, некоторые ее раздражали, остальные восемьдесят процентов имен были ей ненавистны, и она старалась их забыть. – Так, Маленького Джима вычеркиваем тоже. Он, хотя и забавный, но обзывал мою Бетси «корейским хотдогом» и пытался запихнуть ее в микроволновку. Жизнь Айрэн не баловала. Когда новый президент взял курс на мирное сосуществование со всеми, в Лэнгли начались массовые увольнения. Их группа пошла подметать тротуары одной из первых. Айрэн держалась до последнего доллара, все надеялась, что начальство одумается и позовет назад, а потом последовала на улицу за остальными. Пройти прошлось через все. Уборщица и официантка – не самые худшие места, где ей пришлось служить. Ей даже довелось несколько месяцев участвовать в соревнованиях «Кто после стакана водки попадет пальцем танцовщице в пуп» в какомто полулегальном русском кабаке, причем роль танцовщицы досталась ей. Вот тогда-то и появился этот обширный список ничего не говорящих имен. Собственно, в кабак она попала по наивности: подруга сказала, что из русских мужиков получаются хорошие мужья, а в этом кабаке одиноких парней – хоть лопатой сгребай. Она сходила туда на разведку, и в первый же вечер закадрила интеллигентного худощавого и совершенно седого дядьку, по виду подпольного миллионера. Дядька оказался спортивным, остроумным и еще старше тех лет, на которые выглядел. Когда она решила сделать ему приятное и сообщила, что у него тело, как у молодого, дядька тут же согласился. – Это точно, как у десятилетнего. И главный орган работает так же. Новый друг ее обманул, главный орган у него работал так, что если бы дядька взялся им околачивать груши, окрестным фермам не пришлось бы нанимать мексиканцев. Собственно, обманул он ее не только в этом, хотя вроде и не пытался. Просто по профессиональной привычке, она составляла психологические портреты своих знакомых, а потом их сверяла с оригиналом. С этим мужчиной все было не так, если не сказать, что странно. Во-первых, он был очень похож на сига. Чуть заторможенный, но с глубокими и широкими знаниями, с невероятной логикой. Казалось, он может предсказать каждое ее последующее действие. У него, как у сигов, были темные слегка восточные глаза в сочетании с пухлыми женскими губами. Во-вторых, он сигом не являлся. Сиги были лишены части памяти, а этот легко вспоминал картины из своего детства, включая мелкие детали. И еще она поняла, что он не тот, за кого себя выдает. Ее случайный друг привык командовать, и иногда это качество у него прорывалось сквозь почти аристократические манеры. Кавалер честно оставил под подушкой несколько сотенных банкнот, а на следующий день пригласил работать в кабак, членом совета директоров которого, как оказалось, он являлся. Это 19 было странным само по себе, так как позже она выяснила, что заправлял всеми делами ресторана молодой явно подставной парень, а про совет директоров никто ничего не знал. Платили в ресторане неплохо. Конечно, раздражали вольности посетителей. Однако после того, как она сломала руку одному из особо ревностных любителей пощупать и похлопать, ее оставили в покое. Вот только в дурацком конкурсе приходилось участвовать. У предшественницы Айрэн была еще одна обязанность – «карусель». Танцовщица разогревала нетрезвое мужское воображение, несколько ее коллег ловили клиентов у двери и томными взорами намекали на возможный вариант продолжения банкета. На следующий день карусель сдвигалась, на сцену выходила другая девушка, а вчерашняя танцовщица занимала пост у двери. От «карусели» Айрэн отказалась категорически, хотя самые крутые деньги зарабатывались именно там. Но потом кто-то стал таскать в ресторан наркоту. В ней моментально сработал рефлекс агента, и она тут же сдала поставщиков своим бывшим коллегам. Бывшие коллеги повязали новых коллег, а ее даже не поблагодарили. Соответственно с работы ей пришлось буквально сбегать и два месяца скрываться за городом в брошенных халупах. Босс выдернул ее на поверхность. – Так, кто у нас следующий на вычеркивание? Барк. Нет, Барка мы вычеркивать не будем. Первый человек, с кем Айрэн подружилась в группе Босса, был Вэл Барк. Этот парень с собачьей фамилией не выделялся ни умом, ни образованностью, ни исключительной внешностью, действительно напоминал четвероногого друга: то приятельски вилял хвостом, то становился сосредоточен, как гончая, почуявшая след. Его отец, механик от бога, в каждом явлении искал скрытые пружины. Вэл унаследовал это свойство и, благодаря ему, при расследовании иногда приходил к интересным идеям. Но больше всего привлекало в нем то, что он не корчил из себя принца. Рядом с ним она чувствовала себя удобно и уютно, как дома на диване. Когда позволяла ситуация, они ходили вместе на обеды, а однажды после работы она напросилась к нему в гости. Весь вечер они пили эль и вели милые и почти трезвые беседы на темы морали. Догадываясь, чем закончится вечер, Айрэн решила пройти к конечной точке по диагонали, и на невинный вопрос Вэла о предпочтительных видах алкоголя, так же невинно заметила, что нормальный мужик за это время успел бы расстелить постель два раза. Однако утром Айрэн пояснила Вэлу, что слово любовь придумали моралисты, дабы прикрыть свое желание заняться разнузданным сексом. Она попросила его не обижаться и не обращать внимания на ее вчерашний необъяснимый порыв. Вэл не обиделся, они остались друзьями и продолжали вместе ходить на ланч. Иногда, несмотря на оговоренное статус-кво, она приглашала его к себе. Но это случалось крайне редко, с соблюдением различных предосторожностей. – Извини, Вэл, но ты еще не в том возрасте, когда размножаются почкованием. А мне, кроме собаки, никаких других детей пока не нужно. На заправке «Эксон» На заправке «Эксон» скучали три машины. Спортивная «Хонда» так плотно уперлась в задний бампер «Лексуса», что ее горящих фар почти не было видно. Рядом с окошком кассира, примостился черный шестицилиндровый «Мерседес». Зеленая реклама, мерцающая на крыше здания, отражалась на полированных боках машины, превращая «Мерседес» в космический аппарат. Водители автомобилей куда-то отошли. Возможно, торчали в «Севен-Элевен» – небольшом универсальном магазинчике, расположенном рядом с кабинкой кассира. В последнее время сеть «Севен-Элевен» расплодилась вдоль скоростных трасс в невероятном количестве. Магазины работали круглосуточно и недостатка в клиентах не испытывали. Вэл посмотрел на цены и чертыхнулся: «Хреновы уроды, опять увеличили цены на бензин. Пользуются безвыходным положением водил». Выхода действительно не было. С пустым бензобаком далеко не уедешь. Барк достал из бумажника кредитку и ее вставил в щель, но автомат не сработал. Он повторил операцию. Бесполезно – на индикаторе продолжала светиться унылая надпись «Произведите оплату в кассе». Кассира на месте не оказалось, хотя в помещении горел свет и окошко против всех правил оказалось открытым. «Новенькая и глупая, – Вэл почему-то решил, что кассир – молоденькая девчушка. – Выскочила в туалет, а кассу не закрыла. Так же все вынести могут». Он обошел кабинку и толкнул дверь в «Севен-Элевен». 20 В магазине, как и на заправке, стояла гробовая тишина. Ни голосов покупателей, ни шагов, ни звяканья продуктовых тележек, ни щелканья кассовых аппаратов. Впрочем, звук был. Какое-то жужжание. Словно призыв о помощи мухи, упавшей на спину. Правда, мух осенью не бывает. Звук шел от лампы дневного света. Куда же все подевались? Неужели у кассира, водителей, продавцов, у случайных посетителей случился культпоход в туалет? В туалете было пусто. В женском – тоже. Вэл не относился к чересчур общительным персонам, толпы народа вокруг угнетали его своей суетой, шумом, толканием, бестолковыми вопросами, но отсутствие людей на этом маленьком кусочке земного шара почему-то начинало его пугать. – Есть тут кто-нибудь живой? Ау, где вы все подевались, черт вас подери! Неужели сюда приземлилась эскадрилья драконов, и люди в страхе сбежали в город под защиту бравой полиции? Толпы самых фантастических предположений вихрем вломились в голову Вэла, устроив там настоящий кавардак. Он почти бегом вернулся на площадку бензозаправки и подошел к машинам. «Хонда» не просто стояла вплотную к «Лексусу», а самым натуральным образом уперлась в его бампер и заглохла; ключ все еще торчал в замке зажигания. Ее фары горели только за счет аккумулятора. Создавалось впечатление, что водитель собрался заправлять машину, но потерял сознание и на малой скорости въехал в «Лексус». Ключ зажигания «Лексуса» также был в замке, зато ключ от «Мерса» валялся на земле рядом с машиной. – Трупов нет. Крови нет. Ограбление исключается. Где-то тут был ночной бар. Может, водители сбежали туда развлекать кассиршу? – Барк уговорил себя, что так оно и есть. Мысль об исчезнувших работниках «Севен-Элевен» он постарался запрятать поглубже, но она то и дело просачивалась из-под секретной двери памяти и неприятно холодила позвоночник до самых трусов. – Ладно, поедем искать людей. «Субару» проснулась, заворчала стареньким мотором, подмигнула подслеповатыми глазами-фарами. Вэл, недолго думая, ее заглушил: ехать в ночной город с пустым баком – гарантия застрять там до утра. Удивляясь собственной наглости, он закрыл свою машину и влез в чужой «Мерседес». Беспечный хозяин автомобиля привык слишком часто парковаться в собственном гараже, во всяком случае, никакие блокировки не включил. Машина послушно завелась. Горючего в ней было больше, чем полбака. Вэл не стеснялся признаваться себе в собственной жадности. Правда, он называл это бережливостью. Барк зря жаловался на размер премиальных и зря периодически нудел Боссу о повышении: его зарплата позволяла приобрести и «Мерседес» и «БМВ». Однако владение дорогими машинами шло вразрез с его принципами: – Машина должна возить меня, а не наоборот. Однако, сев за руль дорогой техники, он сразу оценил преимущества комфорта, и просто, ради продления удовольствия, минут двадцать крутился вокруг центра. Наконец он остановил машину и вышел. Город умер. Движение в нем тоже. На перекрестках, в центре, на парковках – кучи железа. Некоторые дома горели, но никто их не тушил, и вообще на улицах Вэл не встретил ни одного человека. Огромный грузовик ввалился в витрину ювелирного магазина. Другой, такой же, подмял под себя несколько мелких машин. Под ногами хрустело стекло от плафонов разбитых фонарей. Война? Конец света? В Голливудских фильмах подобные сцены разыгрывались покруче. С землетрясениями, извержениями вулканов. Что же, черт возьми, произошло? Издалека донеслись тихая музыка. Поль Мориа. Когда-то эту мелодию отец наигрывал на синтезаторе. Вэл вернулся в машину и двинулся на звук. Он не успел проехать и двух кварталов, когда нежные скрипки сменил грохот барабанов. У подъезда трехэтажного дома соло-гитара Дени Арнольда буквально сносила голову. Не опасаясь встретить кого-либо, Вэл толкнул массивную застекленную дверь парадного входа. Она оказалась запертой. Он отыскал у обочины вылетевший из-под грузовичка кардан, выбил им стекло, открыл замок и по мраморным ступенькам поднялся на верхний этаж. Замок в квартире чинился несколько раз и вывалился после первого удара. Музыка неслась из глубины. 21 Два динамика в человеческий рост стонали от напряжения. Вэл поискал магнитофон, но найти его в завалах из компьютеров, телевизоров, разбросанной одежды и игр не представлялось возможным. Динамики продолжали радостно добивать содержимое черепа. Нервы сдали. Барк представил, как он сейчас с наслаждением размолотит чертовы ящики в щепки. Вместо этого он нашел на кухне нож и перерезал провода. В наступившей тишине раздался тихий шорох: задетый им теннисный мяч покатился в угол. Вэл осмотрелся. В комнате явно жил подросток. Обеспеченный сын небедных родителей. На одной стене – полуголые певицы, на другой – шестидесятидюймовый телевизор, у окна подзорная труба, на треногах фотоаппараты и видеокамеры с телеобъективами. Малыш развлекался тем, что следил за соседями. Вэл вытащил из видеокамеры диск и вставил в плейер. На экране появился дом напротив. Там, в глубине квартиры девушка готовилась ко сну. Барк не ошибся в назначении всей этой техники у окна. Подглядывать за девушкой ему не хотелось, и он сдвинул курсор почти на конец диска. Теперь на улице был вечер. Люди спешили домой, в магазины, в гости. Весело перемигивались фарами автомобили. Вэл посмотрел на дату и время съемки, мигавшие справа внизу. Ровно пять. В этот момент на улице что-то изменилось. Он вначале даже не понял что. Сбоку вверху замигали зеленые вспышки, разбегаясь волнами по всему полю экрана. Люди начали худеть прямо на глазах. Толстые, высокие, маленькие, худые в течение секунд становились плоскими, словно пожеванные куски бумаги, словно листья. Подул ветер – и от десятков, только что сновавших пешеходов, осталась пыль. Мужчина, азартно споривший с кем-то по мобильному, с удивлением посмотрел на свою высохшую руку, и прежде, чем упавший телефон коснулся асфальта, порыв ветра унес его хозяина за угол. Грузовик с пустой кабиной, подминая под себя орущих людей, врезался в витрину ювелирного магазина. – Это же тот грузовик, что я видел на улице! Значит, снимали вчера вечером, – Вэл еще раз посмотрел на дату съемок. Цифры показывали шестое сентября. – Черт, как это может быть?! Ведь я выехал третьего. Барк, случалось, путал даты, а дни рождения друзей даже не пытался запоминать. Дату отъезда он спутать не мог: ночь с третьего на четвертое. Утром четвертого он, согласно плану, должен звонить Боссу из Роквилла. – Наверное, даты в камере установлены неверно. – Вэл переключил телевизор на федеральный канал новостей. Канал работал. Знакомая карта светилась на дальней стене. Диктора на месте не было. Такого он в своей жизни еще не помнил. Вечер был испорчен Вечер был испорчен. Айрэн случайно обнаружила в своих залежах алкоголя бутылку первоклассного шотландского виски. Это виски ей подарили еще в бытность работы в ЦРУ, и она спрятала бутылку подальше от Тома Крэда, с которым тогда встречалась. Пьяница Том мог запросто выдуть полуторасотенное дорогущее спиртное как ординарный «Рейстерстоун». И вот бутылка нашлась, но, как назло, Вэла, а он мог оценить достоинства спиртного, отправили в дурацкую командировку. Неужели ей придется пить в одиночку? Нет, это – не ее стиль. Да и нельзя такой напиток просто пить. Такое спиртное можно употреблять только под разговоры о высоком, под беседы об искусстве, о философии. Когда она подъехала к дому, то обнаружила, что ее любимую парковку напротив подъезда занял чей-то черный «Кадиллак Эскалэйд» с затемненными стеклами и Айрэн пришлось ехать искать место к соседнему дому. Черные претенциозные вэны всегда раздражали ее, а «Кадиллаки» – в первую очередь. Еще в бытность службы в Лэнгли многие из ее коллег обзавелись служебными «Эскалэйдами», и это в то время, когда целые подразделения служащих вытряхивали на улицу. Магнитным ключом она открыла дверь в подъезд, вошла в дом и поднялась на свой этаж. Вроде простая вещь – магнитный ключ – а насколько удобней. Не надо брякать тяжелыми связками железяк: пластиковая карточка с темной полоской решает все проблемы. Жильцы открывают любую дверь в своей квартире, обслуживающий персонал имеет доступ ко всем дверям. Ты при- 22 ходишь домой – тебя ждет застланная постель, убранная квартира и горячий кофе на кухне. Во всяком случае, так гласила реклама. Айрэн верила рекламе, но на всякий случай встроила в глазок видеокамеру и поменяла пластиковую дверь на железную, которую всегда закрывала на дополнительные запоры. Дедовский метод, зато надежный, как сейф. Скатч она все-таки открыла. Тяжелое жидкое золото почти приятно обожгла небо, разливая по телу истому. Вэл виноват сам. Не смог отбиться от Босса – пусть пьет дешевое пиво где-нибудь на «Трэвэл плаза», а она не станет отказывать себе в удовольствии немного побалдеть из-за таких мелочей. Потребление виски не входило в список главных удовольствий Айрэн, но должна была она хоть как-то отомстить своему приятелю-тряпке, сбежавшему в такой многообещающий вечер. На самом деле, Вэл тряпкой не был. В тех случаях, когда это имело значение, челюсть Вэла каменела, голос наполнял свинец, и его можно было выпускать на танки один на один. В то же время Вэл сочувствовал всем, уважал всех, был с Боссом в почти приятельских отношениях, на всякий случай старался дружить с секретаршей, почтальонами и уборщицами, а для переговоров с клиентами являлся самым незаменимым человеком. – Тряпка – он тряпка и есть. Второй глоток Айрэн сделать не успела: кто-то явно пытался открыть замок. Если бы это были люди из департамента обслуживания квартир, то они вначале бы постучали. В дверь постучали – Мэм, вам посылка. Айрэн посмотрела на экране монитора изображение «почтальона». Почтальон оказался не менее шести футов ростом и с плечами, тренированными отнюдь не переноской почтовых ящиков. – Оставьте под дверью. Я в туалете, – ответила Айрэн, поднимаясь с кресла. На самом деле, попытки открыть замок и внешний вид посетителя ее насторожили, сделали еще более недоверчивой, чем обычно. Настойчивый почтальон повозился еще, и под дверь протиснулась карточка почтового работника, с фотографией, должностью и контактными данными. – Ну, а теперь откроете? – Я же сказала: «Сейчас». Штаны надеть можно? Какой дурак свою идентификационную карточку начнет совать под дверь? Тот, который рассчитывает, что за дверью еще больший дурак, и примет эту карточку за подлинную. Значит, о ее цэрэушном прошлом «почтальон» ничего не знает. С другой стороны, он, определенно, профессионал, то есть пришел не один, и будет действовать по инструкции. Постарается по возможности тихо, а если не получится, начнет ломиться всерьез. Дверь, конечно, он, в конце концов, выбьет, но это будет непросто. И пока они с дверью будут друг друга мучить... Айрэн забежала в туалет, слила воду, стараясь создавать побольше шума. Потом натянула поверх халата комбинезон, сунула ноги в кроссовки, вытащила из платяного шкафа пистолет и открыла окно. Вся процедура заняла у нее не более минуты. Рядом с ее балконом проходила аварийная лестница, но наверняка внизу уже кто-то ждет. Айрэн предпочла рискнуть: по узкому карнизу она перешла почти в конец дома и по скользким железным ступенькам поднялась на крышу. Отсюда ей было видно все происходящее. Действительно, еще один красавчик караулил ее во дворе. Они предвидели «оконный» вариант и, спустись она вниз – попала бы сразу в распахнутые объятья напарника. Третий член команды курил неподалеку от ее машины. Понятно – отсекает от транспорта. Этого парня она видела, он из окружения хозяина кабака. Черт, сявки наркоторговцев, которых она сдала, ее разыскали. Ох, как не вовремя. Сейчас последует самая обычная месть. Непонятно только, почему они возятся? Почему попросту не наймут снайпера, не заминируют ее «Фольксваген», не выстрелят из гранатомета в окно? И людей прислали мало. Как правило, во время бандитских операций собирается весь табун. По идее, в ее дворе должно было торчать хотя бы с полсотни головорезов. – Нет, все-таки не я главная цель, – решила Айрэн. – Я – мелкая сошка. Меня просто зарежут, чтоб в другой раз не путалась под ногами. Девушка спустилась на балкон квартиры верхнего этажа. Света в помещении не было. Шума тоже. Дверь на балкон, как у большинства жильцов верхних этажей, была легкомысленно оставлена незапертой. Она прошла через квартиру к площадке лифтов, спустилась в главный вестибюль и вышла на улицу. Тут же из черного «Кадиллака» выскочил еще один парень и бросился к ней. 23 Подождав, пока тот подбежит вплотную, Айрэн сунула дуло пистолета прямо ему в нос. Как и большинство аналитиков, выдернутых поисками работы из заурядной гражданской жизни, она не проходила специальную подготовку и даже для самого заурядного оперативника опасности не представляла. Наличие пистолета, а еще больше желание выжить добавило ей храбрости и смекалки. Она постаралась ударить так, чтоб пошла кровь: жесткие действия однозначно определяют хозяина ситуации и дают понять, что этот хозяин шутить не намерен. Четвертый нападавший оказался совсем молодой и неопытный. Понадеявшись на силу, он решил, что возьмет девушку один, и даже не сообщил о ней своим партнерам по радио. Теперь из его носа шла кровь, из глаз текли слезы и вид у парня был совсем не бойцовский. – Вы кто такие и зачем нападаете на одиноких бедных девушек? Последних собственных слов Айрэн не услышала: по улице медленно проехал древний мусоросборник. Он тарахтел так, что даже мертвые на ближайшем кладбище зашевелились. Парень что-то ответил. Возможно, пообещал героически молчать. Потом вдруг начал кричать, но из-за мусоросборника его все равно никто услышать не мог. Угрожая пистолетом Айрэн затащила парня в его же «Кадиллак», уложила на пол и его же ремнем связала ему руки за спиной. – Сейчас я повезу тебя в одно место, где ты расскажешь все, что знаешь. Тогда, быть может, останешься жив. Но по дороге, чтоб звука не проронил. Мявкнешь – убью. Мне терять нечего. Что произошло на Земле? Что произошло на Земле, начиная со вчерашнего вечера? Мировая катастрофа? Апокалипсис? Что?! Бегущая строка внизу экрана подтверждала его самые мрачные опасения: «Эпидемия полностью уничтожила население Европы и теперь движется через океан. Успеем ли мы найти средство? Готовы ли мы ее остановить? Миллионы беженцев покидают нас, но мы верим в науку. Президент отложил встречу с руководством Пекина, назначенную на сегодня. Эпиде...» На слове «эпидемия» лента прерывалась и запускалась по кругу опять: – Вчера в свою резиденцию в Роквилле вернулся нобелевский лауреат профессор Вокк. Где он был всю неделю неясно. Мистер Вокк отказался давать интервью, однако достоверные источники утверждают, что это не первый случай его исчезновения. Возможно, о причинах отсутствия профессора следует спрашивать его начальство из Пентагона. – Черт, это же мой профессор. Спрашивается, какого черта мне переться в Роквилл, если старый маразматик нашелся сам? «Последние исследования профессора, – продолжала лента, – связаны с физикой и технологией х-переходов...» Вэл выключил телевизор и сел. – Поздравляю. Конец света наступил. Никого на планете нет. Я один. Можно танцевать с голой задницей перед Карнеги Холлом, и ни одна сволочь слова не скажет. Некому говорить. Нет людей на земле. Нет! – Вэл медленно поднялся и пошел к выходу. Дверь в соседнюю квартиру оказалась открытой настежь. У порога на табурете сидела девочка лет семи. Она бессмысленно рассматривала стену перед собой и раскачивалась. Откуда она появилась? Когда он заходил в квартиру, дверь к соседям была закрыта. – Ты кто? – Вэлу захотелось перекреститься. В этом царстве мертвых и вдруг живое существо. Непостижимы дела твои, господи. .... – Ты кто? Глухая, что ли? – он подошел поближе. – Сейчас придет моя мама и тебя застрелит. Ты насильник, да? Ты хочешь меня украсть, да? – обет молчания у ребенка закончился, и она вывалила на Вэла все, что ее волновало за семь недолгих лет жизни. – Только не уходи. Мне одной страшно. Я вышла в другую комнату, а вернуться не могу. – Как это не можешь? – Дверь, через которую я вошла, передвинулась на другое место. Я ее открываю, а комната за ней совсем чужая. И стены чужие. И шкафы по-другому стоят. И мамы там нет. – Стоп-стоп-стоп. Как это по-другому? – По другому. – Девочка открыла дверь на кухню и начала объяснять: – Вон тот на стенке висел с другой стороны... И стол наш не красный как тут, а черный. И картины у нас были другие. 24 А теперь я смотрю на то место, где дверь была раньше. Когда она опять появится, придет моя мама и меня заберет. Подвесной шкаф, о котором упоминала малышка, был прикручен к стенке шурупами. Вэл недавно менял похожий у себя на кухне, и это заняло у него полдня. Ни одна самая юркая бригада не способна перевесить этот шкаф за пять минут, которые отсутствовала девочка. Может быть, произошло нечто еще более фантастичное, чем конец света? Может, он каким-то образом попал в другой мир? И то, что до Абердина доехал досрочно, и то, что на видео установлены другие даты, и приключения девочки прямое тому подтверждение. – Тебя как зовут? – Даниель. – Ты в каком городе живешь? – Абедине? – Может Абердине? – Ага, Абедине, – повторила Даниель. – Завези меня к маме. – Это далеко, но можно попробовать. Буря в голове Вэла неожиданно успокоилась и на смену ей пришла, если не солнечная, то вполне приличная погода. Горизонты прояснились, и какие-то вещи стали находить свои логически объяснимые места. Он действительно самым невероятным образом умудрился въехать в другой мир. И он ничуть не удивится, если окажется, что это то же самое пространство, Земля, черт знает что, откуда пришли беженцы-сиги. Те, кто успел спрятаться в мире Вэла, остались живы. Остальные... Он видел, что стало с остальными. Похоже, самое время спасаться и ему. «Дверь» назад, скорее всего, где-то на шоссе. Надо попробовать. Если сиги проходили сквозь нее, значит, он сумеет тоже. – Давай, мелюзга, топай в машину. Когда они подъехали к бензозаправке у шоссе, там полыхнул взрыв. Метрах в трехстах перед ними прямо из земли поднялся огромный оранжево-красный пузырь. Пузырь стал расти, постепенно перекрывая проезд на шоссе, и вдруг белыми длинными языками рванулся к небу. Сжатый воздух с грохотом наотмашь ударил машину в радиатор, сметая с дороги. Вэл удержал руль, выправил колеса, объехал пылающие здания, остатки горящего шлагбаума с автоматом регистрации карточек, пересек неглубокий кювет и выехал на шоссе. Руки тряслись, но присутствие ребенка заставляло его держать себя в руках. Проехав несколько миль, он окончательно пришел в себя и вжал педаль газа почти до упора. Шестицилиндровый «мерс» подобное обращение не смутило. Он взревел, почти поднялся на задние колеса и вдруг диким животным бросился в темноту. За несколько секунд Барк разогнал машину до восьмидесяти миль. Теперь тьма его не беспокоила: голубоватые фары «мерса» позволяли видеть дорогу далеко впереди. Вэл скорее обрадовался, чем удивился, когда на зеленом знаке опять мелькнуло знакомое «Абердин». Он оказался прав. Они прорвались. Можно было кричать: «Ура!» и бежать в ресторан за шампанским. Но ощущение легкости не приходило. Скорее наоборот. И еще страх. Своими глазами увидеть гибель таких же, как ты сам. Сколько их там было? Миллионы? Миллиарды? Дом Даниель нашелся без труда. Улицы и дома в горящем городе точно соответствовали тому Абердину, по которому он сейчас ехал. Отец – худосочный низкорослый очкарик – даже не заметил исчезновения ребенка, выступление любимой бейсбольной команды занимало его гораздо больше. Мать – высокая красивая женщина лет тридцати, бледная от волнения, настойчиво пыталась вложить в руку Барку несколько сотенных купюр и уговаривала выпить с ней настоящей русской водки. – Я видела, как исчезла Даниель. Потом в комнату вскочила кошка и пропала тоже. Мой звонок в полицию ничего не дал. Они решили, что я ненормальная. У меня с головой все в порядке. Я сама врач, хирург. – Женщина говорила с заметным акцентом, старательно выстраивая впереди каждой фразы «I am». По дороге в офис По дороге в офис Айрэн позвонила Боссу и в двух словах доложила обстановку. – Я тобой горжусь, девочка. Ты заработала повышение. 25 Девушка потеряла дар речи. Она поняла, что Босс шутит и это был очень неприятный знак – их начальник мог зло сострить, но шуток от него никто никогда не слышал. – Жди меня в офисе. Я выезжаю прямо сейчас, – добавил он. Когда Айрэн подъехала к зданию, Босс был уже там. – Где твоя добыча? – В машине. Не знала, куда его вести. Камеры у нас нет, а в офис... – Веди его ко мне в кабинет, – прервал ее Босс. По его тону Айрэн догадалась, что ситуация еще хуже, чем она себе представляла. Пока она ехала, у пленного было достаточно времени, чтобы собраться с мыслями. Он слышал ее переговоры по телефону, и эти разговоры тоже позволяли сделать какие-то предположенмия. Проблема состояла в том, что опыт у парня отсутствовал, а место, отведенное для мыслей, заполняли общие инструкции для начинающих. Пообщавшись с Боссом пять минут, пленник понял, что все, чему его учили, можно забыть. Какие бы выводы он для себя ни сделал, какие бы инструкции о поведении в особых условиях не вспомнил, в данной ситуации они значили не больше, чем советы нянечки в детском саду. Как только Айрэн ввела пленника, Босс с размаху врезал тому по многострадальной переносице. От удара парень не попал задом на стул, на который уже намеревался сесть, а лег рядом. – На кого работаешь? – Пудовый кулак Босса завис над лицом пленника. Хлынувшая из носа кровь забила парню горло, он задыхался, отхаркивал, сплевывал черную слюну и это пугало его еще больше. – Меня наняли. – Не заставляй меня тянуть тебя за язык, а то вырву его совсем. – Меня нанял начальник охраны, мистер Аккервуд. Хозяина еще ни разу не видел. Я работаю на вилле чуть больше недели, за это время он ни разу не появлялся. – Этот Аккервуд, из спецподразделения «Круг»? – Я не знаю. У нас запрещено задавать вопросы, – пленник запнулся, посмотрел на кулак Босса и, растягивая слова, добавил: – Он – крутой. Резкий парень. Не простой морпех, типа меня. – Зачем вам нужна была девушка? – Босс специально не назвал имени Айрэн. – Не знаю. Аккервуд скомандовал доставить мисс Либерман к нему. Вообще-то, посылали одного меня. Бил, Джейк и Роб пьяные были, подсели в машину возле шлагбаума на выезде, попросили подбросить в центр. А когда узнали, куда еду, взялись помочь. Никто не знал, что она окажется такой шустрой. – Даже не выдержав паузы, парень захныкал: – Отпустите меня. Честное слово, я ничего больше не знаю. – Молчи уж, герой. Срочно мы отпускаем только в деревянных ящиках. Так что отдыхай и набирайся сил, – вмешалась Айрэн. Почему-то ей не хотелось выглядеть при этом парне совсем пешкой. Тут ей в голову пришла идея, она присела на корточки и, нарушая субординацию, спросила: – Как выглядит этот Аккервуд? – Обычно. Высокий, худой. Чихнешь – улетит. Одним словом, дохлый интеллигент. Встретишь в городе – не обратишь внимания. Но я видел его однажды на тренировке... – Он сиг? – Н-нет. Сиги ничего не помнят из прошлого, а этот помнит все. – А почему ты запнулся? – перехватил инициативу Босс. – Потому, что внешне он напоминает вас, я имел в виду сигов, я хотел сказать... – парень начал юлить, решил, что Босс обиделся и опять его ударит. Айрэн знаком показала шефу, что им надо переговорить. – По описанию Аккервуд похож на одного из хозяев кабака, где я работала, – сказала Айрэн в другой комнате. – То есть на меня они вышли совсем за другие дела. – Но после того, как ты опять сбежала, они начнут искать тебя опять и выйдут на контору. Это было бы не так страшно, но вчера вечером позвонил наш клиент и попросил срочно остановить расследование. Голос у него был такой, что, когда через час в новостях сообщили о его смерти, я не удивился. Я позвонил знакомым в бюро. Они даже со мной боялись говорить. Потом выдавили, что сработал опытный снайпер. Таких винтовок, как у него, существует всего две, да и те теоретически должны быть в сейфах лаборатории. Снайпер действовал без всякого прикрытия, но при этом полиция его упустила. Наш клиент очень большой человек, с прочными связями в Капитолии. Чтобы его достать, снайпера даже с супервинтовкой недостаточно. Работала мощная организация. 26 Очень мощная. Невооруженным глазом виден стиль работы и уровень подготовки тыла. А теперь еще служба этого Аккермана... – Аккервуда, – поправила его Айрэн. – Пусть будет Аккервуда. Почему такой опытный человек, как Аккервуд действует нагло, без прикрытия? Почему этот парень смело рассказывает о своем шефе? – Вы думаете... – Я думаю, что у Аккервуда очень большие связи. Парень, которого ты притащила, знает об этом и пытается нас запугать. Кстати, он совсем не желторотый. Ты поверишь, что такой человек как Аккерман... – Аккервуд. – ...допустит, чтобы оперативники пили? Тебя пришли брать очень подготовленные люди. – Если честно, не уверена. – Будь уверена. Тебя спасло только то, что они не ожидали такой прыти от заурядной девицы без опыта. Мне кажется, что мы начали игру против очень серьезной команды. – Может, группа Аккервуда и те, кто убрал нашего клиента, имеют общего начальника? – Возможно. А, возможно, этот начальник Аккервуд и есть. Почерк. Так же нагло, не опасаясь расследования. И тогда получается, что Вокк не такой уж безобидный профессоришка. Вэлу придется копать очень глубоко. Дай-ка я ему позвоню, – Босс достал мобильный. Когда Вэл вернулся на шоссе Когда Вэл вернулся на шоссе, уже светало. Холодный туман обнимал стволы деревьев, отчего их кроны казались плывущими над дорогой холмами. Время от времени рядом с ними вставали плечистые великаны. При приближении великаны теряли свою сказочность и превращались в информационные табло. Из кармана донесся беззаботный свист. Барк достал мобильный. – Ты где прохлаждаешься? Я тебе звонил сто раз, – голос Босса спокоен, но за годы совместной работы Вэл научился отличать напускное спокойствие от естественного. – Заблудился. Пришлось сделать крюк. – Неужели ты еще до сих пор не приобрел GPS? – Поднимешь зарплату – куплю в тот же день. – Через сколько ты будешь на месте? – тема повышения зарплаты Боссу явно не нравилась. – Часа через два, не раньше. – Тут такое дело. Нашелся наш профессор. Клиент утверждает, что Вокк летал в Торонто на конференцию. – Клиент несет чушь. – Ты меня не понял. Клиент просит остановить расследование. Что-то мне подсказывает, что мы попали в такое дерьмо! Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы ты продолжил копать. Короче, дальше действуешь на свое усмотрение. И так, словно я до тебя не дозвонился. Но учти: тебя будут встречать. – Салютом из винтовок с оптическим прицелом? – Вот теперь ты понял правильно. В этой конторе ребята не глупее нас с тобой, и группа прослушивания у них имеется тоже. – Ясно. А кто оплатит бензин, отель, расходы на случайных девушек? – Когда вернешься из командировки, мы это обсудим. – Так может мне сейчас повернуть? Голос в трубке на мгновение замолчал. – Вэл, ты боишься? Не отвечай, я понимаю. Бог с ним. Возвращайся. – Босс, мы знаем друг друга не первый год. Мои страхи в данном случае значения не имеют. – Почему-то история с профессором вызывает во мне очень большие опасения. Ты веришь в мистику? Нет? А я, кажется, начинаю верить. В общем договорились. Больше на звонки не отвечай. Если что, звони на мой второй или своей подружке, она мне передаст; я ей доверяю больше, чем тебе. Босс отключился. Вэл представил, как тот опять повернулся спиной и враскачку движется к своему кабинету. На самом деле Босс неплохой парень, толковый и надежный. Но профессор, сукин сын, как всех поставил на дыбы! Что же он там такое сотворил, старый маразматик? 27 Минут через двадцать Вэл догнал плотную группу машин. Обогнать их не представлялось возможным, начинался час пик. Скорость пришлось сбавить. В этот момент позвонила Айрэн. Телефон разрывался от ее крика: – Вэл, Вэл... Босса больше нет. Снайперы. Через окно. Прямо в лоб. И Тони тоже. – Судя по голосу, Айрэн готовилась упасть в обморок. – Когда началась стрельба, мы с ним спрятались под столом. Тут его и... Что делать? Я осталась одна. Срочно возвращайся! Забери меня! Спаси! – Подними голову. Что ты видишь? – Какую голову? Не говори глупости. – Если бы ты действительно была под столом, ты бы увидела стальной лист, к которому прибита деревянная столешница. Как снайпер мог его пробить? Вэл открыл окно, догнал идущий по соседней линии деревенский грузовичок и бросил телефон в кузов. Айрэн знала про столы. Она приплела их специально, чтоб он понял: она – под контролем. Тем, кто сейчас его ищет, вычислить через спутник местонахождение – раз плюнуть. Но искать они будут «Субару» или координаты мобильного. Пусть ищут. Стараясь держаться поближе к скоплениям машин, на черепашьей скорости он добрался до кольцевой, а оттуда в Роквилл. Однако ехать к профессору домой Вэл не спешил. Там сейчас снайперов больше, чем пешеходов. Барк съехал со скоростной и припарковался на площадке большого бизнес-центра. Выходить он не стал, а закрылся изнутри: Не мешало бы привести в порядок мысли и вздремнуть, тем более за затемненными стеклами машины его никто не увидит. Долго сдерживаемая усталость навалилась на плечи тяжелым одеялом, ему даже показалось, что он задремал. Откуда-то выплыли толпы улыбающихся людей. Подул ветер. Лица сморщились, сжались, и вот уже вдоль улицы несется желтоватая пыль. Вэл вздрогнул и открыл глаза. Что же теперь будет? Босса нет, контору разгромили, за ним охотятся. Его счета сто процентов заблокированы, номера кредитных карт под контролем. Он не может себе позволить взять в кредит даже самый заплесневелый хот-дог. Вэл открыл бумажник и с грустью посмотрел на мятую десятку. – Если на хот-дог мы все-таки наскребем, то заправить машину уже будет нечем. В подобной ситуации самый непробиваемый оптимист начал бы намыливать веревку. А что еще делать, когда киллеры всех мастей открыли на тебя охотничий сезон? Плюс ко всему украл чужую машину. Барк полез в бардачок в поисках регистрационной карты. Кроме карты, выданной на имя Грегори Вокка, он обнаружил несколько мобильных телефонов, долларов триста наличными и две толстые пластиковые карточки с непонятными иероглифами. – Так вот куда периодически исчезает профессор – совершает прогулки по Абердину-два! Что же он там потерял? Неужели чистит пустые дома? Фи, профессор, как это пошло. Вэл проверил адресную книгу одного из мобильных телефонов. Имена, два десятка номеров. Имени профессора среди них не было. Не значился он и на других аппаратах. Барк набрал номер напротив имени Роберт. – Привет, слушайте у меня неприятность, – Вэл старался говорить медленно, тихо и не очень разборчиво. – Я не поняла, кто это говорит? Кто вам нужен? – женский голос даже не пытался скрыть раздражение. – Это его величество, доктор Вокк говорит. Не узнали, что ли? – Ах, профессор, я действительно вас не узнала. Хотя сейчас вижу – на экране высветилось ваше имя. – Мне кажется, я оставил дома важный документ. Секретарша трубку не берет. Хотел позвонить на домашний, чтоб привезли, да забыл номер. Вот что значит пользоваться мобильным – забываешь все на свете. Вы мне не подскажете? – Триста один, пятьсот сорок пять… – Записываю: пятьсот сорок пять… – Да, верно. И три нуля девять. Грегори, когда вы посетите нас опять? На следующей неделе, в субботу, мы отмечаем день рождения Роберта. Придете? – Обязательно! Во сколько? – Вечером, после заседания Сената, часов в восемь. «В Сенате от штата только один Роберт – Сорбейн», – на всякий случай вспомнил Вэл. 28 – Приеду обязательно. Передайте привет мистеру Сорбейну. Ну, буду звонить к себе, а то забуду номер опять. – Вэл набрал подсказанный ему номер. Не зная, кто поднимет телефон, он тут же выпалил: – Передайте профессору, я знаю, что он делал в Абердине. – Ничего я там не делал. И не собираюсь вам отчитываться. – А если мистер Сорбейн узнает, что вы промышляете по пустым домам? – Мистеру Сорбейну разъяснят в Пентагоне, что не следует совать свой нос в дела государственной важности. – Хорошо, а если господам из Пентагона станет известно, что о ваших путешествиях уведомлены третьи лица? – Кто вы? Чего вы добиваетесь? – в резкий тон профессора просочились нотки страха. – Что вам нужно от меня? Деньги? Вы понимаете, что нас обоих прикончат? Тут же. Тут же! – Я хочу знать правду. Вы пришли с той стороны и периодически туда возвращаетесь. Зачем? Профессор молчал. – Понял. Звоню в полицию – они, безусловно, поверят, что вы не мародер, а невинный бойскаут. Хотя нет, лучше, я сейчас наберу телефон Голди Хаммер из приемной Президента. Вам продиктовать ее телефон, чтоб вы не усомнились в моих намерениях? – Я повторяю, вы сами не знаете, что творите. Ваш шантаж смертельно опасен и, в первую очередь, для вас. Мой телефон прослушивают и, значит, вас уже ищут. – Я даже не сомневаюсь в этом, поэтому констатирую: ваше время на добровольную исповедь истекло. Прощайте. – Погодите. Я там ничего не воровал. Я ездил к себе домой. Да, там мой дом. Мне разрешено перемещаться туда и назад. Мне выданы постоянные карточки. – Какие еще карточки? – Вэл вспомнил белые пластиковые карточки с иероглифами. Наверное, они и имелись в виду. – Для перемещения в этот временной пояс. На переходах правительство поставило излучатели и всех, кто не имел карточек, лишили памяти. – Так вы сиг? – Да, сиг, но не беженец. У меня карточка. Я – VIP. – Какой еще, к черту, VIP? Так, в этом месте с начала и поподробней. – Так я уже вроде все сказал. – Я жду. Что эта карточка дает? – Позволяет пересекать проход без потери памяти. Эти карточки выдавались только... – профессор осекся, замолчал. И вдруг выпалил: – Погодите, откуда вы знаете про Абердин? Вы там бывали? Как же вы вернулись, если вы не VIP и не знаете про карточки? – И сколько тут нелегальных VIP-ов? – Вэл предпочел не отвечать на вопрос Вокка. Поздно. Профессор пришел в себя и попытался взять контроль над ситуацией. – Так это вы украли мой «Мерседес»? А я думал, он взорвался. «Плохо дело, профессор меня вычислил. Через пять минут по машине начнут стрелять». – Профессор, мне неудобно признаваться, но парад нудисток на капоте вашего «Мерседеса» отвлекает меня от нашего великосветского разговора. Я перезвоню позже. – Вэл выгреб содержимое бардачка в пластиковый пакет, бросил использованный телефон на сидение и покинул машину. Барк зашел в здание и через окно выглянул наружу – возле автомобиля крутились трое молодых черных парней, обвешанных золотом. Обнаружив, что машина не заперта, они влезли в нее и двинулись в сторону кольцевой. Минуту спустя над головой протарахтел вертолет. Не исключено, что он последовал за «Мерседесом». Айрэн не стала прислушиваться Айрэн не стала прислушиваться к переговорам Босса с Вэлом. Она чуть походила между столами офиса, чтобы привести мозги в нормальное рабочее положение, послала несколько срочных дежурных сообщений потенциальным клиентам, поправила перед зеркальцем макияж и собралась вернуться в кабинет шефа, где продолжал находиться пленник. Айрэн успела сделать один шаг, когда дверь сама вылетела ей на встречу. Упираясь спинкой стула в дверь, за ней последовал привязанный к стулу пленник. В кабинете шефа полыхнуло 29 пламя, посыпались стекла, согнуло алюминиевые балки, после чего грохот взрыва с опозданием уши заложил. Возможно, порядок ощущений был совсем другим, но все произошло практически одновременно и последовательность событий Айрэн, когда пришла в себя, додумывала сама. Волной ее бросило под стол, и это спасло ей жизнь. Из-под стола она видела, как крутилось на роликах горящее кресло с пленником, как от пуль, стрелявших с вертолета автоматчиков, разлетались мониторы компьютеров, вазы с цветами, постеры на стенах. Как упала лицом на шредер помощница, как падали Нортон, Тони, Ник. Как неожиданно резко дернулось тело Босса, когда его отбросило на стенку секции помещения, оббитую жестким серым материалом, а потом, раскинув руки, он лег прямо у ног Айрэн. Она попыталась затащить его в безопасное пространство рядом с собой – в нижнюю часть столов были вмонтированы сейфы, стальные стенки, которых могли надежно защитить от пуль, но места под столом было мало, тащить неудобно, а шеф весил никак не меньше ста килограмм. – Не трудись. Все ранения в область груди. Два из них явно смертельны. – Босс хрипел окровавленным ртом и пытался одновременно ободрительно улыбнуться. – Лучше спасайся сама. Сейчас сюда придут чистильщики – добивать... Голос его вдруг очистился, и он произнес повседневно, с типичной иронией: – Знаешь, Айрэн, я все время искал голубые яблоки. Я уверен, что мне приходилось их пробовать, и лучшего в моей жизни ничего не было. Но я их так и не нашел. Скорее всего, они из другой жизни, из которой я ничего не помню. О них помнит кто-то другой, тот, у которого сохранилась память. Он мне сказал про яб... Шеф замолчал. Глянец его глаз погас, стал вдруг холодным и непрозрачным. Пока Айрэн пыталась тащить Босса, она выпачкалась в его крови. Слезы смешивались с остатками макияжа, превращая ее лицо в тигриную маску. Взорам ворвавшихся в помещение чистильщиков представилась малоприятная картина с грязной, окровавленной полоумной женщиной над телом мужчины. – За что это она так его? – Наверное, был ее начальник. Начальство всегда есть за что. – Солдат приставил к голове девушки автомат и приготовился нажать на гашетку. – Погоди, – скомандовал третий. Судя по тону, он был старший. – Предупреждали ведь, бабу не трогать. Отвалили. Дайте мне ее немного поспрашивать. – Как тебя зовут? – он подошел к девушке настолько близко, что она почувствовала запах химии, которым обрабатывались комбинезоны. – Айрэн. – Кого это ты грохнула? – Это мой шеф. – Шарики в голове Айрэн закрутились быстрее: «Определенно, нападающие и та команда, что ловили ее вечером, имеют общего начальника. Убивать меня пока не собираются. Вероятно Аккервуд, или как его там, хочет зарезать меня лично, в назидание другим. Хотя нет, я себе льщу. Не станут из-за меня одной поднимать так много шума. Эта группа действует слаженно и нагло. Они профессионалы. Моя роль тут временная. Заманчиво и лестно быть главной целью, но неправдоподобно». – За что? – Это мой шеф, – повторила Айрэн. – Понятно, – произнес старший, хотя ни черта не понял. Он хотел спросить что-то еще, но в это время к нему подошел солдат и энергично зашептал на ухо. Судя по тому, что оба периодически посматривали на Айрэн, она догадалась: вопросы не закончились. – Где Вэл Барк? – старший спросил буднично, но опустился перед ней на корточки, чтобы четче слышать ее ответ, и тем выдал степень важности своего вопроса. – В командировке. – Какое у него задание? – Откуда мне знать? Спросите у него, – Айрэн указала на покойного. – Телефон знаешь? – Чей? – Вэла. Не прикидывайся глупее, чем ты есть «Тут лучше не врать, грохнуть ее, может, и не грохнут, но изобьют запросто», – подумала девушка. – Не вздумай выкручиваться. Ты была его девушкой. – Не была я ничьей девушкой. Телефон Вэла, конечно, знаю. 30 – Значит так. Сейчас ты позвонишь ему и заставишь вернуться. Любым способом. Не уговоришь – схлопочешь пулю между своих прекрасных глаз. Все, действуй! Айрэн набрала номер Вэла и, не давая ему открыть рот, заорала. – Босса больше нет! Снайперы. Через окно. Прямо в лоб! И Тони тоже! Что делать? Я осталась одна. Срочно возвращайся! Забери меня! Спаси! Допрашивавший ее нападавший слышал ответ Вэла и, когда тот отключился, она зажмурила глаза и сжалась в ожидании как минимум оплеухи. – Мы не будем тратить время, и искать твоего друга по картотекам. Сейчас ты поедешь с нами и поможешь его найти. Мне необходимо задать ему несколько вопросов. Голос был знаком. Айрэн открыла глаза и увидела мужчину, устроившего ее на работу в кабак. – Да, я постараюсь. Как же не найти? Обязательно найду, – забормотала Айрэн. «Кажется от мордобоя и тихого уютного кладбища для бывших работниц ЦРУ опять отсрочка. Но ненадолго. Ведь не зря пообещала мне в детстве цыганка, что ждет меня долгая дорога и умру я молодой». Вэл прошел через холл Вэл прошел через холл в отдаленное крыло здания и разыскал туалет. Там перед зеркалом он намочил и взлохматил волосы, вывернул куртку на другую сторону, надел и наглухо застегнул. Потом втянул голову в плечи, опустил подбородок и не спеша двинулся к остановке такси. При беглом взгляде – усталый рабочий после ночной смены. Если у агентов есть его фото, а Вэл не сомневался, что таковое имеется, им сейчас придется нелегко. Зря он недооценил соперника. Из-за угла только что покинутого им здания вынырнули два спортивного вида парня и двинулись к нему наперерез. Бежать к такси было бесполезно. Очень сложно уговорить таксиста устроить гонки на шоссе, не имея в руках пистолета. В этот момент он увидел Айрэн. «Шевроле», в котором она сидела, скрипнул тормозами прямо возле его ног. – Прыгай! «Усталый рабочий» ожил и с неожиданной резвостью вскочил в машину. Айрэн, не дожидаясь, пока он захлопнет дверку, нажала на газ. – Они притворились, что поверили мне, а я притворилась, что поверила, что мне поверили. А так как мы с тобой знакомы лично, то послали ловить, точнее, быть приманкой, на которую ты клюнешь. Сейчас по нам начнут стрелять. – Догадался, не маленький. – Вэл на мгновение задумался и вдруг спросил: – Ты не в курсе, планирует ли Президент поездку в Китай? – Да, об этом во всех газетах написано. То ли сегодня, то ли завтра летит. А что случилось? – Давай для начала поменяемся местами, иначе с твоим пенсионерским вождением нас застрелят прямо тут. Прямо на ходу Айрэн приподнялась над сидением, Вэл забрался под нее, и Айрэн опустилась к нему на колени: – Знаешь, меня эта поза вполне устраивает. Может так и поедем? – Тогда за нами начнет охотиться еще и транспортная полиция. Айрэн не успела сесть на место, как крышу машины прошила пуля. Вэл газанул, обогнал по левой полосе какую-то старуху, притормозил возле автобуса. Очередная пуля вонзилась в землю у колеса. Стрелок на вертолете был не очень опытный, да еще боялся попасть в соседнюю машину. – Кто они такие? Что они от нас хотят? – Айрэн выглянула в окно. – Нелегальные сиги. Точнее, сиги с особыми полномочиями. Дорвались тут, сучьи дети, до власти. Как – не знаю. Но раз за нами бегает целая армия агентов, эта публика при серьезных должностях и возможностях. – Так ты знаешь, откуда они пришли? И чем им плохо было дома? – У них дома плохо. Довелось побывать у них в гостях. Точнее, я почти уверен, что попал именно к ним. Не спрашивай: «Где это?» – сам не знаю. Могу сказать точно, что это был не Марс. И не Юпитер. А что это было, не знают даже ученые. Но факт, что дома у них больше нет. Катастрофа. Я видел видеозапись... Люди высыхали мгновенно, как листья. Целый мир. Не осталось ни одного человека. Погибли все... Кроме тех, кто сумел сбежать сюда. – Спаслись – и, слава богу. У нас места хватит всем. Но зачем им было убивать Босса? Чем он мешал? 31 – Такие, как Босс, не мешали. Но сюда сбежали их VIP. Я подозреваю, что эти VIP – представители правительства или местной элиты. Ученые, военные... Зачем, где они прячутся, какие у них цели – кто знает? Но раз активничают, значит, непростые. Еще одна пуля пробила крышу, оцарапала Айрэн руку и застряла в подлокотнике сиденья. – Твари подлые. Суки. Останется теперь шрам на всю жизнь. Кто меня с такой рукой замуж возьмет? Барк посмотрел на ее побледневшее лицо. Айрэн шутила, стараясь приободрить его. А ведь ей самой было страшно. Наконец машина выскочила на кольцевую. Вэл нажал газ и помчался на восток, резко меняя полосы и прячась за высокими грузовиками. Стрелять с вертолета перестали, хотя, судя по шуму, он все еще висел над головой. Зато от пули, посланной спереди, разлетелась правая фара: метрах в двухстах на обочине стоял знакомый «Мерседес», перед которым расположился парень с пистолетом. Вэл, не снижая скорости, вылетел на боковую полосу, сбил человека с пистолетом и резко затормозил, почти упершись бампером в «Мерседес». От удара тело стрелка улетело на капот и тут же сползло вниз. Айрэн выскочила из автомобиля, подхватила с земли пистолет и прыгнула в «мерс». Барк успел оценить, как лихо она вскочила в машину. Через секунду они уже летели по кольцевой. Вэл проскочил по крайней правой полосе до следующего съезда и свернул к Джоржиа Авеню – вертолет, скорее всего, полетит за ним, он им нужнее. Зато машин на Джоржиа сейчас гораздо больше, чем на шоссе, и затеряться будет легче. Машин, как он и предполагал, было не просто много Машин, как он и предполагал, было не просто много. Где-то впереди обе полосы заняли «пенсионеры», которые на ходу спали, ели и, возможно, исполняли супружеский долг. Несчастные водители, следовавшие за ними, матерились на всех языках, но ничего не могли поделать: на этой дороге в нескольких местах стояли камеры дорожного контроля, следившие за скоростью и порядком. Как правило, Вэл с пониманием относился к пенсионерам – солнечный день, почему бы не погреть под солнышком кости. Дорога общая, места должно хватать всем. Но когда пенсионер занимал левую полосу, практически блокируя этим улицу, а он спешил, его начинало колотить. После одной истории весьма милые соседи из дома напротив даже перестали с ним общаться. Как-то они подарили своей смазливой и слишком рано повзрослевшей дочери «Сивик» на восемнадцатилетие. Отец-таксист, видимо, собирал деньги на подарок не один год, потому, что оплатил наличными всю стоимость навороченной серебристой красавицы. Вэл тогда опаздывал на важную встречу, выскочил из дома, но, пролетев два квартала, вспомнил, что не выключил рабочий компьютер с открытой базой данных. У него даже пальцы задрожали – на прошлой неделе хакеры уже несколько раз пытались взломать их нетворк. Развернув на ближайшем перекрестке машину, он рванул домой. Не тут-то было. Улица стояла. Кусок правой полосы ремонтировали, на левой явно кто-то заснул. Машин тридцать впереди него терпеливо ждали, когда пенсионер проснется, но в нем была готова взорваться граната. Пользуясь тем, что рабочие еще не приступили к работе, а полицейская машина не полностью блокировала полосу, он по гравию помчался вперед. Штраф за нарушение движения, каким бы он ни был, сейчас волновал его меньше всего. Как он и предполагал, впереди колонны двигался «пенсионер» на такой скорости, что его можно было обогнать пешком. Через полуоткрытое окно он увидел девицу, которая болтала по мобильному, одновременно пытаясь подкрасить губы. Больше ничего он увидеть не успел, так как руки сами вывернули руль на полосу перед девицей, а ноги, не спрашивая разрешения у головы, ударили по тормозам. От неожиданности девица провела помадой жирную линию от губ до уха, уронила на пол мобильный и освободившейся рукой крутанула руль так, что блестящий щиток, закрывающий радиатор ее красавицы, оказался надетым на бетонный столб. Полицейский, оказавшийся случайным свидетелем происходящего, вместо того, чтобы надеть на Вэла наручники, первый раз в жизни покривил душой и надавал штрафов водителю «Сивика» за езду, опасную для других водителей, за телефон, за не пристегнутый ремень. 32 По случайности водительница «Сивика» оказалась юной соседкой Вэла, которую он просто не узнал. Впрочем, Вэл ничуть не жалел о содеянном. Даже, если бы он опознал машину соседки, то повторил свой маневр все равно. Вот и теперь, сидя в машине, Вэл проклинал все на свете, а тот факт, что прямо над ним висел вертолет, вообще сводил его с ума. Вдруг он увидел позади себя мелькнувший маячок такси. Вэл свернул под арку в ближайший переулок с односторонним движением. Чудом выкрутив руль, чтоб лоб в лоб не столкнуться с роскошным «Поршем» и полуспящим черным водителем, Вэл, не заглушая мотор, выскочил из машины и вернулся на улицу, с которой только что свернул. Если она сейчас сама выплывет по другую сторону от арки, преследователи на вертолете сфокусируются на ней. Такси как раз проползало мимо. Вэл постучал в окно. Парень с абсолютно спокойным видом, словно подобные трюки выполнял каждый день, не притормаживая открыл дверку и показал знаком: «Прыгай!» Вэлу не пришлось себя уговаривать. Однако как только он устроился на сидении и захлопнул дверку, водитель скомандовал: «Пристегнись! Не хватало мне из-за тебя заработать штраф». Вэл немного успокоился. Даже, если с вертолета заметили его переселение, на такси легче затеряться. – Тебе далеко ехать? – Таксист-сиг с все таким же невозмутимым видом включил счетчик. – Миль семь по этой улице, а дальше я скажу – там даже с навигатором можно запутаться. – Нет проблем. И вообще, проблем нет. Есть политики. Это они создают проблемы. – Ну, тебе сквозь окошко такси виднее. – Вэлу совсем не хотелось общаться. Он надеялся, что его колкость заставит водителя замолчать. Вэл ошибся. – Напрасно иронизируешь. Из такси гораздо виднее, чем из окошка белого дома. Тут ты слушаешь не то, что хочешь, а то, что говорят. А говорят разное. И вот это разное меня тревожит. Ты женат? – Нет, а ты? – Если болтовню таксиста еще можно было перетерпеть, то рассказывать первому встречному о себе, Вэлу совсем не хотелось. – Женат, есть сын. Лучше бы дочка. – Почему? – Потому... Вырастет. Очередной политик затеет войну. Я в своего сына вкладываю время, деньги, знания, любовь, наконец. А политик по непонятному мне праву в один прекрасный момент отбирает моего ребенка и посылает его на фронт защищать свое собственное величество. Почему мы, сиги, оказались без памяти? Мне иногда кажется, что у меня уже была семья. Был сын. Но его похитили у меня ради амбиций очередного ура-патриота. – Сиги не имеют памяти. Откуда ты можешь помнить? – Я не помню, но иногда мне кажется. Какие-то смутные видения. Неужели это только сон? А вообще, почему все без исключения сиги без памяти? У всех словно вырезали из мозгов один и тот же кусок – кусок о прошлом. Ни один из нас из той жизни ничего не запомнил. В природе так не бывает. Подозрительно это. Слева за окном медленно проплыло новенькое, словно игрушечное здание. Огромный плакат на фасаде выражал настроения модной анти-сиговской группировки, рвущейся в правительство: богатырского вида сенатор держал за шиворот угрюмого сига. Надпись гласила «Сегодня они отбирают нашу работу, дома, еду. Завтра отберут жен и детей». Водитель упорно не замечал плакат и смотрел перед собой. Когда здание осталось позади, он не выдержал. – Вот ты сам согласен, что мы у вас что-то забираем? – Все у всех что-то забирают. Ты работаешь. И живешь в доме. И жена у тебя не сиг. – Я имею в виду – забираем вне вашего желания. – Не говори глупости. Мой босс – сиг. Так он скорее свое отдаст, чем возьмет чужое. Люди все разные. На подобные плакаты молятся или необразованная молодежь, которой хочется получить все сразу, без труда, или идиоты, которым кажется, что забрали у них. – Или политики. Я слышал, что эту группу поддерживает сам Президент. – А я слышал, что наш Президент сиг. Правда, это только разговоры. Он дослуживает срок за предыдущим, которого, как ты помнишь, застрелили. То есть предвыборной компании, на которой вытаскивают наружу все грязное белье, как таковой не было. А по портретам трудно сказать сиг он или местный. И вообще, что ты заладил: «Сиг-сиг»? У тебя что, другой темы для разговора нет? 33 – Между нашими тоже ходят слухи, что исполняющий обязанности Президента на самом деле сиг, а выступает против наших, чтоб получить голоса выборщиков. Идиотов, которые на такое покупаются, хватает. Только не может он быть сигом. Я слышал его воспоминания о том, как он служил в армии. Это были именно воспоминания, а не пересказ чужих историй. Но некоторые из наших утверждают, что с ним не все чисто. Говорят, что и Президента убрали по его команде – ему место готовили. – Неправдоподобно. Скажи, зачем сигу организовывать травлю сигов? Сплетен всегда ходит много. Фактов гораздо меньше. Чтобы ориентироваться в том, что происходит, нужно иметь именно факты. Плохо, когда нет фактов Плохо, когда нет фактов. Еще хуже, когда паззл состоит из миллионов мелких частей. Каждый маленький кусочек определенно имеет значение, но чтобы увидеть картину полностью надо все эти кусочки сложить. Как? Вэл не знал. Хуже того, он вошел в некий ступор, когда перегруженная голова отказывалась нормально работать. Механически подсказывала некий минимум, который должно выполнять тело, чтоб организм как-то мог существовать, и дать мозгам небольшую передышку. Когда компьютер перегружаешь, происходит аналогичная история: он начинает засыпать или зависает совсем. От того, сколько времени понадобится мозгам, чтобы перезагрузиться, зависит моя жизнь. После мили в темпе черепахи, пробка потихоньку рассосалась. Поток автомобилей двинулся быстрее. Через несколько миль Вэл остановил такси, расплатился и вышел. Вертолета над головой не было. То ли преследователи действительно потеряли его след, то ли полетели на дозаправку. Вэл увидел впереди небольшую толпу и решил на всякий случай покрутиться в ней. Рядом с овощным магазином стоял мексиканец и давал на пробу груши; хозяева надеялись таким образом заманить покупателей. Желающих попробовать бесплатные груши оказалось не менее двух десятков. Они-то и образовали толпу. Вэл взял со столика зеленый в точечках плод надкусил и... не выплюнул только, чтобы не обижать зазывалу. Вкус груши оказался ужасным. Медицинская вата по сравнению с ней могла показаться ананасом. Да и запашок шел такой, что становилось понятным: хозяева не просто зазывают народ, а пытаются избавиться от подгнивших фруктов. А ведь выглядела она более чем съедобно и привлекательно. Компания, продавшая магазину плоды, произвела химическую консервацию, от которой товар выглядит великолепно гораздо дольше положенного срока. Правда химия попадая в организм человека, может натворить там не самых хороших дел, но кого это волнует? Хозяев тоже можно понять, хотя по большому счету поступали себе во вред: да, сегодня они убивали двух зайцев, но из-за этого завтра рисковали потерять клиентов. В магазин, торгующий гнилым товаром, люди вторично не пойдут. Впрочем, если хозяева продают магазин, их не интересует то, что будет завтра. Может и с правительством происходит та же история? По какой-то причине Президента не интересует то, что будет завтра. Даже, если он сделал только десятую часть того, что о нем говорят, это грозит пожизненным сроком. Но пока слухи сформируются в факты, наступит завтра. Или это завтра не наступит. Вэл махнул рукой, останавливая очередное такси, идущее на юг… Над парковкой шопинг-центра стоял рев. Черный и, очевидно, глухой дед вот уже час сидел в ржавом «Мерседесе» и слушал по радио новости. – Очередной террорист-самоубийца взорвал себя в Афганистане. Погибло два десятка человек, около сорока ранены. Пострадавшие – в основном жители прилегающих районов. В связи с напряжениями в регионе, Президент отменил назначенную на сегодня поездку в Китай... Вэл добирался до места встречи с пересадками, поменяв несколько такси, оставив водителям последние деньги. Айрэн ждала его в кафе, возле кассовых аппаратов магазина «ВолМарт». Ее предплечье было обмотано таким количеством бинтов, которое используется при сложных переломах. Здоровой рукой она придерживала носатого замухрышку-старика, чем-то смахивающего на Вуди Аллена и сига с недавно виденного плаката одновременно. – Знакомься, профессор Вокк собственной персоной. Взят как трофей вместе с машиной. 34 – Может, сразу застрелим падлу? – За что меня стрелять? Что я такого сделал? – А за что в нас стреляют? – вполне резонно парировал Барк. – А зачем вы поехали в Абердин? Зачем вмешиваетесь в игры, в которых большие дяди ломают ноги? – Профессор узнал Вэла по голосу и теперь тараторил не останавливаясь. – А кто вас, сигов, звал сюда? – Вэл завелся. – Чего сюда приперлись? Дома наши забирать? Жен? – Он специально цитировал плакат, чтоб дед понял – никто с ним шутить не собирается. Наплевать, пусть думает, что Вэл – экстремист. – Жили там себе, в районе земного аппендицита, и ладно. – Сами вы тут живете в аппендиците! – разошелся старик. – Место, откуда мы пришли, такая же Земля, как эта. Можно сказать, ее близнец. – Старик неожиданно взял себя в руки: – Ну, хорошо. Попробую объяснить популярно. Мы принимаем время как постоянную, абсолютную величину. На самом деле оно относительно. В рамках этого мира, так сказать, плавают другие миры со своим относительным временем. Раньше наша Земля, наш мир сильно обгонял ваше пространство, но потом наше и локальное время стали синхронизироваться, что позволило построить проходы перемещения. А так как это я открыл перемычки между двумя мирами, то получил карточку VIP одним из первых. Я знаю, где вход в переход. Я вас спасу. Все погибнут, но вас я спасу. Я – ученый, я могу быть полезен. – Не тарахтите. Мне известно, где находится переход. Лучше скажите, кого вы знаете из VIP? – Только двух своих коллег. Они ждут меня с карточками у входа. – С этими? – Барк достал из пакета два пластмассовых прямоугольника. – Да, – профессор потупился. Пока Вэл беседовал с Вокком, Айрэн сходила и поменяла местами номерные знаки на их «Мерседесе» и машине глухого старика. – Вэл, мы, кажется, оторвались. Давай по кофе, а то я такая голодная, что сейчас тебя укушу. – Диета – это то, что красит женщин лучше всего, – он раскрыл кошелек, демонстрируя отсутствие там каких-либо денег. – Уволят с работы – пойду в таксисты. Очень выгодная профессия. Профессор, у вас с собой наличные есть? Нет? Вот и наличных у вас нет. Ну как вас не застрелить? Ладно, пока живите. Но если попытаетесь трепыхаться... Поехали. Через два часа мы будем в месте, где нас не найдут никакие агенты. А кофе там будет? – А кофе там будет? – И жратвы там – на целую армию. Причем, бесплатной. Вокк, подтвердите. Профессор промолчал. – Где ты нашел такой рай? – Я его не искал. Все тот же Абердин, который, оказывается, является входом на заповедные территории сигов. Профессор утверждает, что родина сигов начала свое существование раньше нашей вселенной. И то, что произошло недавно у них... – Вэл вырулил на сто восьмую дорогу и не спеша двинулся на восток. – Не будем привлекать внимание. – Ты хочешь спрятаться у них, в Абердине? Но мы же не можем торчать там до бесконечности. Нам придется вернуться. – Придется. Но когда мы вернемся, тут никого не будет. Сегодня вечером на Земле не останется ни одного человека. – Ты думаешь, их эпидемия повторится у нас? – Это не эпидемия. Что-то другое. Возможно, нарушение баланса. На каком-то временном этапе две наши системы стали двигаться параллельным курсом, превратились в почти что близнецов. – Ты хочешь сказать, что где-то тут гуляет копия нашего Босса? – Не знаю. Вряд ли. Я не ученый. Просто пытаюсь размышлять. Уверен, что отклонения всегда будут иметь место. Абсолютен только… – Вэл ткнул пальцем в потолок. – Вертолет. – При чем тут вертолет? Я имел в виду бога. – А я имею в виду вертолет. Он сейчас висит прямо над нами. Слышишь шум? – Действительно вертолет, но пока нам беспокоиться не о чем. Главное, не высовывайся, не привлекай внимание. Не будут они стрелять по всем черным «Мерседесам». Шум над головой стал стихать, и вскоре за лобовым стеклом на восток проплыла железная стрекоза. 35 – Ищут, сучары. – Ищут, – Вэл отвел глаза от вертолета. – И это меня смущает. Какого черта им нас ловить, если катастрофа неизбежна, а мы все равно ничего не можем исправить? – Не можем, но попытаться надо, – Айрэн упрямо сжала губы. – Поздно. Слишком поздно. Только кино снимают с хэппи-эндами, а в реальной жизни... Даже если бы узнали за месяц, за год. Ты думаешь, сиги, не подозревая о катастрофе, сбегали сюда? Просто так поразвлечься? Хорошо говорить: «Надо попытаться». Представь, что будет, если с подобным сенсационным сообщением заявиться на Федеральное телевидение? Гарантирую: конец света нам придется встречать в психушке. – И все-таки надо... – Вы же умные люди, – вмешался профессор. – Неужели вы не понимаете, что бесполезно. Бес-по-лез-но! В том мире я был женат, мой брат с семьей жил в соседнем штате. Нам разрешили объявить о катастрофе только самым близким людям. Началась паника. В воздух одновременно поднялись тысячи самолетов, шоссе были забиты машинами. Погибли миллионы. Вот и думайте: промолчать – погибнут все. Но погибнут мгновенно. Никто не будет кататься от страха по земле. Причем, я сам не очень уверен в катастрофе. Даже вы заметили, что какие-то отклонения между нашими системами есть. Вокк закашлялся, достал платок и вытер слезящиеся глаза: – Раньше мы шли на столетия впереди вас, особенно в технике, потом вы стали нагонять, и теперь мы почти выровнялись. К сожалению, мы успели построить переходы. Мы тогда радовались, как дети, бегали по ним взад-вперед и этим расшатали систему. Ученые с их играми опасней самых отпетых шалунов. – Поздно вас посетило раскаяние, профессор, – перебил его Вэл. – Сейчас погибнут миллиарды людей, а все ваши VIP, яйцеголовые и безответственное правительство останутся. Сбежите к себе назад. – Наверное, все не так просто, – усомнилась Айрэн. – VIPам тоже надо питаться, одеваться... – Когда люди исчезнут, в этих двух мирах останется столько запасов, что им хватит на целые поколения. Заболтавшись, Вэл поздно заметил преследователей. Два близнеца «Форда» шли вплотную один за другим, постепенно нагоняя «Мерседес». – Может, не за нами? – За нами. – Барк резко прибавил скорость. «Форды» не отставали, подтверждая, что он не ошибся. Один из «Фордов» подошел совсем вплотную сбоку. Сидящий на заднем сидении парень выстрелил несколько раз по окнам, но тут же получил команду «Отставить». Воспользовавшись заминкой, Вэл неожиданно свернул на выход с шоссе. «Форд» пролетел дальше, но второй успел притормозить и свернуть следом. Айрэн, ни слова не говоря, расстегнула куртку, достала из-за пояса пистолет агента, сбитого ими на кольцевой, высунулась в окно и выстрелила несколько раз. «Форд» увеличил дистанцию, но преследование продолжал. – Вэл, почему они не стреляют? – Потому, что профессор не сказал нам всю правду. Профессор Вокк, вас никогда на ходу из машины не выбрасывали? Говорите, что у нас в багажнике. Профессор свернулся калачиком на заднем сидении и как будто спал. На серой лайковой поверхности растекалось темное пятно. – Черт, профессор готов. Вот тебе «не стреляют». – Жаль на самом деле. Ладно. Ты в колесо с десяти ярдов попадешь? – Не знаю. Надеюсь, да. Она не успела закончить фразу, как Барк ударил по тормозам. От неожиданности «Форд» подлетел совсем вплотную, и Айрэн послала несколько пуль в сторону водителя и еще штуки три – по колесам. «Форд» унесло в кювет. – А мы легко отделались, – зло ухмыльнулась Айрэн. – Не отделались. В полумиле впереди дорогу преграждал огромный крытый грузовик. Вокруг него суетились оперативники с автоматами. – Сейчас нас изрешетят. – Вэл начал разворачиваться. – Если мы вернемся на шоссе, то попадем против движения, – как-то отстраненно сообщила Айрэн. 36 – У тебя есть лучше предложения? На крыше грузовика мигнул лазерный прицел. Негромкий щелчок – и левая рука у Вэла повисла. Еще один щелчок – водительское стекло разлетелось вдребезги. Вторая пуля ударила в плечо почти рядом с первой. Айрэн перехватила руль, поставила свою ногу на ногу Вэла и выжала педаль газа до пола. Им повезло – на съезде не было ни одной машины, да и шоссе оказалось почти пустым. Ей удалось вывернуть машину по движению и на вполне приличной скорости проскочить несколько миль. – Ты хоть бы извинилась, – голос Вэла был тихим, но почти бодрым. – За что? – опешила Айрэн. – Да вот уже полчаса, как ты стоишь на моей ноге. Разве я не предупреждал, что там мозоль? – На языке у тебя мозоль. Ты как? – Пока жив. Левая половина мертвая. – Радуйся, что стрелок косой, мог бы и в лоб. – Стрелок не косой. Скорее супер-мастер. Бил не на поражение. Это лишний раз доказывает, что им нужны не мы, а машина. Ладно, давай я поведу сам. Уже недалеко. – Для начала сверни на обочину. Окажу тебе первую медицинскую помощь, – Айрэн убрала ногу, но правую руку старалась держать поближе к рулю. – Искусственное дыхание изо рта в рот? – Раз шутишь, значит, еще поживешь. Айрэн размотала половину бинта со своего плеча, перекусила и достаточно умело сделала несколько витков вокруг шеи и подмышки Вэла. – Надо искать хирурга. – Хирург подождет. – Вэл вышел из машины и поковырялся ключом в замке багажника, от чего на верхней плоскости открылся маленький лючок. Барк нервно присвистнул: – Сложная система. Я видел такую на секретных кейсах. Открывается только по отпечатку пальцев. – Если ты помнишь, профессор у нас на заднем сидении. – Айрэн вытащила тщедушное тело Вокка наружу и приставила его указательный палец к матовому прямоугольнику. Зажужжали сервомоторы и багажник открылся. – Вот тебе и ответ, – подытожил Вэл. Весь проем под крышкой занимала панель, напоминающая гибрид компьютера и пульта из студии звукозаписи. – Забавная штука, – согласилась Айрэн и тут же принялась сдвигать рычажки, а потом еще минут десять химичить над клавиатурой. – Что ты делаешь? Надо ехать. – Погоди... Погоди... готово! – Айрэн захлопнула багажник и втащила тело профессора в салон. – Теперь поехали искать хирурга. – Возьми у профессора его карточку. Она ему больше не нужна. А хирурга я, кажется, знаю. В Абердине... Если нам дадут до него доехать. Выкрути на всякий случай в бензобаке пробку. Почти до самого городка они ехали без приключений, но как только миновали поворот на главную улицу, дорога опять оказалась перекрытой. На сей раз преследователи поступили обдуманней: из боковой улицы выехал еще один грузовик, отсекая путь назад. На улицу высыпали автоматчики. – Приказываю остановиться и выйти из машины. Вэл замедлил движение. – Погибать так с музыкой. У тебя спички есть? – Курение вредно для здоровья, – некстати пошутила Айрэн, подавая зажигалку. – Я курю диетические. Не покидая машину, Барк открыл крышку бензобака, после чего они вышли наружу. Айрэн подошла к офицеру и попыталась его ударить. Ее скрутили. Вэл, воспользовавшись суматохой, отступил к самой горловине. – Поднимите руки вверх и отойдите от машины. – Я ранен в плечо. У меня правая конечность не работает, – пробормотал Вэл, продолжая отступать и держа руку в кармане. – Поднимите руки вверх и отойдите от машины, – повторил тот же голос. 37 Вэл дернул правой рукой, и горящая зажигалка полетела в бензобак. – Ложись! – крикнул он и первым бросился на землю. Ближайшие солдаты упали. Взрыва не последовало, но Вэл заметил отблески внутри бака, вскочил и бросился за бетонное ограждение. Пламя вырвалось наружу, побежало по корпусу красавца-автомобиля, затрещали лайковые сиденья, стекла... Вдруг «Мерседес» приподнялся над дорогой, словно космический корабль на старте и с громким хлопком разлетелся на куски. Над головами засвистели куски искореженной жести, куски стекла, кронштейны. Останки рамы с грохотом вернулись на землю. Айрэн попыталась вырваться, но офицер сбил ее с ног и приставил ко лбу пистолет. Вэла тоже прижали к земле. Один из солдат, мерзко ухмыляясь, наступил на простреленное плечо. – Отпустите их. Они нам больше не нужны. Все равно через несколько часов... Едем к воротам. За утерю пульта, майор, ответите позже. Барк знал, что должно произойти через несколько часов. Удивило его не это. Гораздо больше его поразил голос. Сколько раз по телевизору этот голос произносил пламенные речи, обещал народу златые горы, справедливость и светлое будущее. Барк надеялся в душе, что критика критикой, а реальная жизнь другая, и люди... будь они люди, будь они сиги, отвечают за свои поступки. – Груша после химической обработки. – Что ты сказал? – Что от таких сучьих детей, как он, хочется отравиться. Автоматчики ушли. Поднялась, потирая разбитые колени, Айрэн. Вэл оставался лежать. Зачем вставать? Ради чего? Ради кого? Кому теперь можно верить? – Не будь бабой. Вставай. – Видя, что Барк не реагирует, Айрэн заорала: – Вставай, твою мать! Чего улегся? Вставай. Не ради этого сукиного сына, а ради тех, кого мы еще успеем спасти. Хоть пять, хоть одного, но спасем. Да здравствуют новые Адам и Ева! Вставай! – она зло пнула Вэла ногой. Тот поднялся и, шатаясь, побрел вдоль улицы. Айрэн догнала его и подхватила под здоровое плечо. – Куда идти? – Знаешь, обидно все-таки, что человек, которому мы верили, которого выбрали, чтобы он заботился о нас, бежит, как крыса, и в итоге спасется. А миллионы таких, как ты, жаждущих всеобщего спасения – погибнут. – Извини, я изменила своим принципам: он не спасется тоже. Я удалила из базы данных информацию обо всех карточках, кроме наших трех. Теперь любой из них, войдя в переход, потеряет память. Причем полностью. Вам повезло – Вам повезло. Пули сидели неглубоко. Достать их было несложно. Плохо, что вы потеряли много крови. Теперь вам нужен покой. Кем вы работаете? – Работаю, можно считать, безработным. Доктор, скажите хоть, как вас зовут. На кого мне молиться? Барк не собирался ехать в Абердин. Дверь на ту сторону была гораздо ближе – в доме маленькой девочки Даниель и ее русской мамы-хирурга. У Вэла кружилась голова и немного подташнивало. За неимением анестезирующих веществ, его накачали водкой до подбородка, и теперь он боялся наклонить голову, чтобы она не вылилась обратно. – Хелен. Можно Лена. Мои русские предки часто использовали алкоголь для операций. Так что можете теперь считать себя немножечко русским. – Лена посмотрела на пропыленную одежду путешественников: – Если вам негде остановиться, можете у нас. Места хватит. Сидевший спокойно у телевизора муж хозяйки вдруг встрепенулся: 38 – Ну конечно, вначале выжрали мою водку, потом получили бесплатное медицинское обслуживание. Между прочим, с риском для лицензии. А теперь еще из квартиры гостиницу хотите сделать. Наглости вам, молодой человек, не занимать. – Как тебе не стыдно, он нашего ребенка спас. – Вначале украл, а потом вернул в расчете на комиссионные. – А если я с вами расплачусь. Лично? – Айрэн подошла к коротышке вплотную. – Как вам не стыдно! При моей жене, – возмутился тот, пытаясь прижаться к ее груди. В этот момент Айрэн очень профессионально ударила его в низ живота. Мужичок, странно хрюкнул, подогнул коленки и лег на пол. – Не трогайте его, – попросила Лена. Вэлу показалось, что будь хозяйка менее деликатной, то давно сделала бы то же, что и Айрэн. Он встал, прошелся по комнате и вдруг сказал: – Лена, у нас время очень ограничено. Позовите Даниель. – А что случилось? Даниель, подслушивающая под дверью, тут же вбежала в комнату. Мать прижала ребенка к себе. – Скажите, Лена, вы мне верите? – Мне кажется, я это уже доказала. – Да, верно. Теперь придется поверить еще раз. За нами гнались, и, как вы догадываетесь, не санитары из дурдома. Вы сами извлекли из меня настоящие пули. Через несколько минут наступит конец света. Спасение за этой дверью. Вот две карточки. Это пропуска для прохода на ту сторону и назад. Одну дайте Даниель, вторую держите у себя. – Вэл, а как же ты? – вмешалась Айрэн. – Ты сама говорила, что мы должны попытаться спасти хоть двух, хоть одного. – Он повернулся к Лене. – Бегите. Другого шанса не будет. – А еда, одежда. И вообще вы уверены... – Спасайтесь! Там все есть. Через день вы сможете вернуться. Правда, когда вы вернетесь, нас уже не будет. За окном мелькнула зеленая вспышка. – Спасайтесь! – Вэл вытолкнул Лену и ребенка в детскую и повернулся к Айрэн: – Прощай, мой друг. Мой товарищ по оружию. – Вэл, пойдем вместе. Я останусь на той стороне с тобой. – Ты же знаешь, что я туда попаду идиотом. – Тогда может, мы останемся тут, – Айрэн вдруг заплакала. – Ты абсолютно уверен, что Апокалипсис произойдет? Вэл оглянулся на зеленеющее окно: – Абсолютно. – Поцелуй меня на прощанье. Вэл прижался к ее губам. В этот момент он почувствовал ее руку в своем кармане. «Идиотка, она мне отдала свою карточку!» Сделать он ничего не успел. Айрэн изо всех сил толкнула его на дверь. – Начнете все сначала. Как Адам и Ева. Стало тихо. Легкий треск от вспышек за окном почему-то напомнил о елке. Блестящие игрушки. Шуршание бенгальских огней. Когда умер дедушка, бабушка до самой смерти сидела на низком табурете. Айрэн нашла на кухне маленький стульчик Даниель, положила боком на пол и уселась сверху. – Время оплакивать себя. Она видела, как поднялся с пола муж Лены, не дернулась, когда тот подкрался к ней с кухонным ножом, но в последний момент испугался собственной затеи сам. Она молча смотрела, как он подошел к окну и тут же отлетел, словно сухой лист, гонимый ветром. Лист ударился о стол и осыпался на пол мелкой пылью. А потом пришла музыка. И отозвалась в теле необычайной легкостью. 39 КОТЕНОК НА ДОРОГЕ Рассказ Монетка была определенно иностранной и старой. Красноватого цвета с незнакомым бородатым дядькой в профиль. – Орел! Конечно орел. Раз изобразили его профиль в металле, значит, точно когда-то был орлом. Некоторые государства печатают только бумажные деньги. Наверное, нет у них подходящих орлов для монет. Лиза подняла находку и сунула в карман. Караван муравьев, путь которого проходил через медный барельеф импортной знаменитости, остановился. Увидев, как возносится к небу огромный кусок дороги, насекомые оставили добычу в виде вкусной дохлой гусеницы, и бросились врассыпную. Приметы – чепуха. Кто в них сегодня верит? Но получается так, что Лиза находит монеты гораздо чаще меня, и везет ей гораздо чаще. Даже в том, что во время наших прогулок она находит эти признаки везения. Зато котенка я увидел первым. – Смотри, и правда, котенок! – по моему замедлившемуся шагу, Лиза поняла, что я обнаружил животное раньше ее. – Какой хорошенький! – Симпатяга. Белое, с редкими рыжеватыми островками чудо исполняло па-де-де на кончиках собственных когтей. Все в нем было строго вертикально – шерсть, хвост. Котенок шипел и дрожал от страха так, словно его только что пытались съесть. – Не бойся, малыш, дядя сырыми котами не питается. Я взял пушистый комочек на руки, и тут же откуда-то сверху донеслось: – Отдайте! Это моя кошка! – Из чердачного окна одноэтажного особняка высунулась голова мальчишки: – Отдайте моего котенка! У парнишки была бледная кожа, пухлые щеки и лупатые глаза. – Уверен, этот юноша – замечательный внук, – сообщил я Лизе, продолжая рассматривать хозяина животного. – Да-да, двадцать четыре часа в сутки беспрекословно выполняет бабушкины команды: ест и играет на скрипке. – Она подняла голову и крикнула: – Нам не нужен твой тигр. Спускайся и забирай. Обладатель пухлых щек на мгновение задумался. – А вы его к нам занесите. – Вот еще! Сам без ног, что ли? – возмутился я. Мальчишка опять задумался и согласился: – Ага, без ног. – Да не спорь ты, – толкнула меня в бок Лиза. – Сейчас занесем, – пообещала она ленивому отпрыску. Вход в дом был со двора, окруженного крепким высоким забором, над которым возвышались кусты сирени. Мы подошли к калитке. У калитки сидел нищий. Я пожалел, что у меня не было с собой фотоаппарата. Май, вечер. Оранжевые лучи солнца упираются в серые от времени доски, и, вдруг, посреди покоя и идиллии этот нищий. Сюр какой-то. – Пода-а-йте, Христа ради-и. – А что ж ты на паперти не просишь? Там людей больше. – Не могу. Атеист я. – Тогда почему просишь во имя Христа? Вместо ответа попрошайка затянул опять: – Пода-а-йте калеке на пропитание-е. В его пыльной фуражке, лежащей у ног, уже валялись несколько мелких купюр. Зная Лизину слабость к убогим, я добавил к имеющимся купюру покрупнее. – Не жадничайте, барин. Пода-а-йте бедному инвалиду. – С какой же это стороны ты инвалид? Пальцы вон у тебя, какие подвижные. По вечерам, небось, сидишь на компьютере. Из блогов не вылезаешь. Нищий перестал завывать. Во взгляде появилась сосредоточенность. – А вот это уже не твое дело. Может, я писатель известный. 40 – Нищий знаменитый писатель? – Да, нищий! Все настоящие писатели были нищими. Писателю быть богатым стыдно, а нищему нет. – Скажем, ты не совсем писатель и не совсем нищий. – Я позволил себе улыбнуться. – Сценарист редких шоу – это еще не Шекспир и не Чехов. Сколько наш Дом культуры отваливает тебе за сценарии? Плохо только, что окна ДК выходят на церковь. Появись ты на паперти – доброхоты в два счета заложат тебя главбуху. – Ты откуда знаешь? – Потому что пиджак у тебя из костюмерной ДК. Покрой, согласен, старый, материал не новый, да еще ты нашил выгоревшую джинсовую заплатку, чтоб пиджак выглядел дряхлее. Но заплата немного отпоролась и теперь из-под нее виден материал такого же цвета, как основной. Если бы она была настоящей, ткань бы под ней не выгорала. – Глазастый какой, чтоб тебя под землю провалило! – Он медленно поднял кепку, словно собрался вернуть деньги, и вдруг припустил вдоль по улице. Я не стал его догонять. За представления нужно платить. Мы прошли через сад к дому, и Лиза нажала кнопку звонка. Дверь открыла миловидная женщина с пушистой копной кучерявых волос. Пучеглазость и бледность, уродовавшие лицо ее сына, придавили ей возвышенность и аристократизм – мадонна Литта, не меньше. Женщина приветливо улыбнулась: – Ой, проходите, – она встала боком, пропуская нас в комнату. – Наш кот такой проказник, опять сбежал. Она сказала «кот». Значит парень, как и я, не заморачивается проблемами пола живущих у них животных и запросто именует кота кошкой. Я тоже в школе за пестики с тычинками выше тройки не получал. Впрочем, и сейчас стараюсь не думать, какого пола была телятина до мясокомбината. – Извините, у нас не убрано. Зато чай – просто замечательный. Сейчас заварю. Мы прошли внутрь и последние слова гостеприимной хозяйки слушали спиной. В доме, несомненно, имелось еще несколько комнат, но двери в другие помещения были плотно прикрыты. Собственно, чтобы впечатлиться, нам хватило одной. Пыль. Она лежала повсюду. Как-то не сочетались опрятная, гостеприимная хозяйка и неопределенного цвета портьеры, оборванные обои, темная мебель с грязной маслянистой поверхностью. А вот пол был чистым. Я бы сказал маниакально чистым. Доски не просто мыли, а драли грубой наждачной бумагой, стирая вместе с грязью краску. И еще в комнате стоял запах. Плотный, немного удушливый. Он не раздражал – что-то от забродивших щей в студенческой столовой, но, скажем, смущал своей назойливостью. – Садитесь, сейчас будем пить чай, – повторила свое приглашение хозяйка. Я стал осматриваться, где тут можно пить. Единственный стол, занимавший, между прочим, половину комнаты, был завален метровым слоем книг и бумаг. Из-под них торчали ржавые будильники, старые телефонные аппараты, металлические ящики, щетки и прочий хлам не менее древний, чем портьеры на окнах. Не найдя ничего более комфортного, мы уселись на узкий проваленный диванчик. В годы своей далекой молодости этот диванчик был веселого лимонного цвета с золотистыми полосками. Но со временем лимонный цвет превратился в грязно-болотно-коричневый, сидение и подлокотники покрылись пятнами чая, кофе, супов, следами от промасленных штанов и грязных ботинок. Я догадался, что пить мы будем именно на нем. Из-за книг показалась голова старика. – Марина, ты предложила гостям чай? – Сейчас, сейчас. Вот уже закипает, – донеслось из кухни. Дед весьма проворно вынырнул из-за своей «китайской стены», мгновение подумал, спрятался опять, после чего вернулся со стулом, который поставил посреди комнаты. Усевшись, старик принялся достаточно бесцеремонно разглядывать нас. Эта процедура получалась у него весьма забавной: один глаз не мигая смотрел мне в переносицу, второй – сверху вниз колесил по Лизе. – Местные? – Не дожидаясь ответа, он опять крикнул в сторону кухни: – Гости и я ждем чай. Сколько можно томить? 41 Дед был неотделимой частью этой комнаты. Такой же ветхий, вылинявший, заваленный никому не нужными делами и заботами. Седой, лохматый, но при этом энергичный, он бы мог напоминать Альберта Эйнштейна, если бы имел усы, и не носил ужасные очки-пятаки в толстенной оправе. – Так вы местные? – Да, – сказала Лиза. – Нет, – соврал я на всякий случай. – В смысле, не совсем. Мы живем на другом конце города. – А-а-а. – Похоже, мое разъяснение его устроило. Марина принесла на подносе в чашках бледное варево и подала нам прямо в руки. Не люблю горячее – я осторожно взялся за ручку. Чашка действительно обжигала, но не настолько, что ее нельзя было держать. Белый тонкий фарфор. Декольтированные красавицы, ангелочки, золотые узоры. Ручная роспись. Знатоки на аукционе отвалили бы за эту посуду бешеные деньги. Но боже, какой слой накипи был на ней изнутри! Не удивлюсь, если последний раз ее чистили по случаю совершеннолетия деда. Я покосился на Лизу. Другие гости на ее месте, сославшись на срочные дела, поднялись бы, и ушли, полив предварительно содержимым емкости белый от скребков пол. А она ничего, пьет. – Мы этот чай завариваем на специальных травах, – прокомментировал дед. – Он не только вкусный, но еще полезный. Моя бабка благодаря ему прожила лет двести. – Двести лет люди не живут. Ваша бабка была черепахой? Дед завелся с пол-оборота: – Не была она ни черепахой, ни попугаем. И вообще, что ты знаешь о людях? Мое замечание: «То, что они произошли от обезьян», – только подлило масло в огонь. – Уж точно не от обезьян. Может быть, за исключением самого Дарвина и тебя. Люди привыкли к тому, что девяносто процентов информации они получают глазами, вот и пытаются все «увиденное» возвести в ранг абсолютной истины. Раз визуально шимпанзе похожи на людей, раз органы тех и других примерно одинаковы, значит, обезьяна и есть предок человека. Тьфу, тупость! За миллионы лет обезьяны и люди могли прийти к общим признакам совершенно разными путями, из абсолютно разных исходных точек. – Наш Илья большой ученый, – пояснила Марина. – Он не очень вежливый и без всяких степеней, зато любого академика за пояс заткнет. Я переборол брезгливость и отхлебнул чай. Зря колебался. Напиток стоил всяческих похвал. Ромашка, лепестки мака, немного мяты, ощущение луга, чистого воздуха, свободы. На минуту исчезли стены, вокруг засвистели птахи. Если бы еще Марина не насыпала в него такое невероятное количество сахара! – Да, чай у вас замечательный. Это правда, – несколько покривил я душой. – Существует множество критериев, которые слепоглухонемое человечество просто не способно себе представить. Тем не менее, эти критерии для науки, в частности для антропологии гораздо важнее, чем просто «наблюдаемость» глазами или приборами. – У вас есть примеры? – Лиза видела, что старику надо выговориться, и старалась поддержать беседу. – Сколько угодно. Например, наличие полов, коллективность мышления. – Какой же это пример? Ящерицы однополы, но могут репродуцировать сами себя. – Все равно, внутри их организма присутствуют те же пестики и тычинки. – Старик выдавал аргументы со скоростью компьютера и, наверное, думал: «Бог ты мой, с какими идиотами приходится общаться. Простейших вещей не понимают». – Но ведь пол, как и коллективное мышление, говорят только об неких общих элементах для живого на Земле, и ничего о происхождении, – возразил я. – Павел, – Лиза повернулась ко мне. – Илья имел в виду, что по этим критериям наследственность и развитие можно проследить точнее. – Я не сказал «развитие», – взвился старик. – Развития не существует! Я тоже начал заводиться. Почему это каждый ненормальный считает своим долгом меня воспитывать? Хорошо же, раздраконим тебя еще больше – я ляпнул первое, что пришло в голову: – А как же спираль? – Да, диалектическая спираль, – уточнила Лиза. – Фантазия Природы не безгранична. Она нашла несколько базовых решений, а потом повторяет их в разных комбинациях. Естественные бесконечные спирали не встречаются в нашем 42 мире. Это все выдумка человека. Опять-таки желание придать незнакомым явлениям графические контуры. Зато у Природы полно наработок, которые оправдывают себя с момента зарождения Вселенной. Например, атом. В нем все изменения цикличны, хотя по-своему и неповторимы. Наше, как вы изволили выразиться, «развитие» напоминает траекторию электрона, Луны или отношений в браке. – Любопытная теория. – Я отпил еще глоток. Чай освежал, приводил мысли в порядок. – Точнее, база для целого океана новых открытий. По сравнению с ней источники, которыми пользуется современный ученый, не полнее, чем содержимое кошелька нищего. – Смотря какого нищего... начал я. – Ма, ну что, кошку принесли? – донеслось с порога. В комнате появился мальчишка. Тот самый, что заманил нас в дом. У него и в самом деле имелись проблемы с ногами. Каблуки на туфлях были почти той же высоты, что и длина подошвы, от чего парень стоял буквально на носках. – Да сыночек, вон она в углу. Забирай свое сокровище. Он так любит животных! – последнее предложение было обращено ко мне. – Держим котенка только ради него. Я кошек даже в руки взять не могу. Аллергия. Старик не дал ей договорить: – Так вот, отвечая на ваш вопрос... – Я уже забыл, какой вопрос задавал, а он все еще гонял под черепом малопонятные идеи в надежде сделать меня своим прозелитом. – Как известно, динозавры не смогли пережить обледенение. Выжили только те организмы, которые спрятались под землей. – Кто же? – Насекомые. – Старик обвел нас победным взглядом. – Мы ничего не знаем о насекомых того времени, – возразила Лиза. Мне показалось, что она тяжело вздохнула. – Того времени? – переспросил дед. – А что мы знаем о современных насекомых? Что мы знаем об их социальных отношениях, любви, о политике? Только ли из-за, грубо говоря, жратвы один вид муравьев уничтожает другой? Как вам понравится нелепая, на первый взгляд, мысль: мы не знаем о них, потому что они не хотят, чтоб мы знали. – То есть, вы хотите сказать... – Да, я утверждаю, что именно насекомые стали прародителями всех тех, кто бегает сегодня по Земле. Это от них человек унаследовал стадное мышление, свое знаменитое «На миру и смерть красна», групповой разум. Предвидя ваши возражения, соглашусь, да, все живое на Земле стремится группироваться в стада, стаи, племена. Но из тех, кто способен передвигаться, только самые живучие существа – насекомые и человек образуют популяции в миллионы особей с одинаковыми мозгами. – Одинаковыми? – Да, молодой человек, вы не ослышались! Попросите человека назвать любую домашнюю птицу – и он, будь то академик или дебил, назовет курицу. Худшая казнь для людей не смерть, а изоляция. Вам не приходилось сидеть в камере-одиночке? – Моя тетя имела ментальные проблемы. Она попала в клинику, и ее заперли в комнату с мягкими стенами, – поделилась Лиза. – Вот именно, тетю с ментальными проблемами. Следовало признать, что в выкрученной философии этого деда была своя логика. – С курицей – все просто. И у академика и у идиота понятие «курица» забито в памяти специальным тэгом. В голове, как в компьютере, есть свои полки и специальные метки, по которым мы вызываем ту или иную информацию... – Верно. – В первый раз дед со мной согласился. – А раз мы имеем на плечах примерно одинаковые мозги-компьютеры, с примерно одинаковой базой данных... – «Ни фига себе, – подумал я. – Этот псих еще про базы данных знает». – То и реагируем на все возбудители одинаково активно. Это лишний раз доказывает, что по групповому способу мышления человечество ближе не к обезьянам, а к муравьям. Наши дома – это модифицированные под размер человека муравейники, наши социальные структуры – продолжение муравьиных. Впрочем, о социальных пирамидах муравьев я нигде официальной информации не нашел. Муравьиный секрет. Своих лидеров они прячут глубоко под землей. – Но мы же на муравьев совсем не похожи. И потом, еще ни один археолог не обнаружил получеловека-полумуравья. 43 – Опять двадцать-пять. Ладно, давайте взглянем на проблему с другой стороны. Как известно любой системе легче восстанавливать исполнительные механизмы – кожу, мышцы и труднее базовые – кости, нервы. Внешность – это исполнительный механизм Природы, она меняет эту самую внешность в каждом новом поколении. Базовые механизмы меньше подвержены модификациям. Прослеживать историю явлений гораздо надежней через них. И вообще, что касается внешности, американские индейцы не напрасно называли друг друга «Большой орел», «Красный волк». Если присмотреться, у многих людей можно заметить черты некоторых животных. Не зря их пра-пра-бабки грешили в прошлом. Лиза улыбнулась: – Я поняла ваш намек, только вот женщина от орла яйцо не снесет. – А Зевс утверждает, что снесет. И от орла, и от лебедя. Ученые уже скрещивали животных и растения, при этом результат не всегда был отрицательным. У Природы возможностей намного больше, чем у ученых. Да вы сами поэкспериментируйте. Лиза вспыхнула и поднялась: – Спасибо, было очень интересно, но нам пора. Я поднялся вслед за ней. – Куда же вы? – засуетилась Марина. – Вы даже чай не допили. А говорили, что он вам понравился. Я одним глотком осушил свою чашку и поставил ее на подлокотник дивана. – Извините, совсем тут вас заболтал. Старость, знаете ли, хочется выговориться. – Дед вскочил, засуетился, начал теребить мой рукав. – А может, винца? У нас замечательная настойка. Домашняя. Настойку нам налили в чашки, из которых мы только что пили чай. Даже не сполоснули. Хваленый напиток оказался обычным прокисшим компотом, вкус которого не мог перебить даже тот мешок сахара, который хозяйка умудрилась растворить в каждой бутылке. Однако после первого же глотка приятный хмель ударил в голову. По телу растеклось ощущение покоя и сонливости. – Если вы не возражаете, я закончу свою мысль. Мысль... мыс.. м-м-м. Голос старика эхом летал по комнате и растворялся в воздухе, не долетая до ушей. – Вы бы книгу написали, чтоб могли читать все желающие. – Я со вздохом вернулся на диванчик. – Если бы относился к собственной теории антропогенеза серьезно, то, может быть, и написал. Но я только шутил. «Этот дед – просто наглец, – подумалось сквозь полусон. – Заставил нас два часа сидеть на грязном диване, пить перебродивший сироп и слушать бред, который он же потом обозвал шуткой». – Я вовсе не собираюсь делать ревизию научным открытиям, – продолжил Илья. – Конечно же, человеку предшествовали неандертальцы, эректусы и еще куча пре-гуманоидов, скелеты которых антропологи пока не обнаружили. Но как при этом объяснить находку Ли Бергера – останки пра-человека, жившего два миллиона лет назад? – Так вы же сами сказали, а мы согласились с вашей полушуткой по поводу того, что разные популяции людей появились из разных пра-источников в разное время. – У Лизы тоже закрывались глаза. Непривычный алкоголь подействовал и на нее. Она растягивала слова, движения рук стали тяжелыми и менее пластичными, словно вместо крови по ним вдруг начал течь свинец. – Замечательно! Вы все поняли верно, господа. В таком случае мы можем перейти к главному: путь, по которому Природа лепила свой идеал, никогда не был прямым. Множество попыток, ошибок и откровений. Параллельно с созданием человека она пробовала искать по другим направлениям, оставляя каждый раз кучи ответвлений. Тупиковых и более перспективных, чем сам человек. Некоторые из них катастрофичны для людей, но за ними будущее на этой планете. – И что? – повторила Лиза еще более сонным голосом. Илью не надо было приободрять. – Одна из самых удачных ветвей – полумуравьи-полулюди – развивалась по своим законам. Как и люди, они приобретали знания, их внешний вид часто совпадал с человеческим. Но по образу жизни они представляли и представляют непобедимую армию муравьев. – А почему о них никто ничего не знает? – Среда их обитания позволяет существовать незаметно для остальных обитателей планеты. – Илья зевнул. – Ну, мне пора на покой. Я сегодня слишком много говорил. 44 Старик поставил на книги полупустой стакан с наливкой, отодвинул в сторону стул, открыл крышку погреба и начал спускаться вниз. – Куда это он? – спросил я Марину. – Да развезло его немного. Пусть проспится. – А почему в подвал? – Так места у нас особо нет. Не беспокойтесь, ему там удобно. Он уже привык. Подвал, видимо, был очень глубоким – затихающее кряхтенье старика доносилось достаточно долго. – Скажите, а кем вам Илья приходится? Он ваш отец или отец мужа? – Лиза также прислушивалась к удаляющемуся скрипу ступенек. – А я не знаю. Просто родственник. Наверное, близкий. – Он у вас такой образованный. Странно, в магазинах я никогда не видела его книг. – Илья – голова. Но писать – не с его клешнями. Да, действительно. Когда старик таскал стул, я обратил внимание на сросшиеся пальцы на обеих руках. Такими на пианино не поиграешь. – Он на пенсии? Непросто ему приходилось трудиться с такими руками? – посочувствовал я. – Какая там пенсия! Слезы. На нормальную еду – и то не хватает. Он бы и сейчас работать пошел, если бы позвали. Не зовут. – Да-а. Не любят у нас инвалидов. – Не инвалид он. Охранником был в тюрьме. Там, чтобы поддерживать дисциплину много пальцев не нужно. А его боялись все. И заключенные и начальство. – За что же выгнали? – полюбопытствовала Лиза. – Да ни за что. Избавились от старика. Сами еще худшее творили... А у него нервы не выдержали, да и очень голодным был. На пороге возник все тот же пацан в своих дурацких туфлях на высоких каблуках. В руках он продолжал держать слабо пищащего котенка. – Ма, как тут у вас дела? Где Илья? – Да уже пошел. Скоро и мы пойдем тоже. Далеко не уходи. Можешь пока опять кота с чердака сбросить, может еще кто-нибудь клюнет. – А почему ты сама никогда не сбрасываешь? Знаешь, как мне в этой обуви тяжело по ступенькам ползать. – Так сними эти несчастные туфли. Сейчас уже можно. Через комнату пролетела муха. Мальчишка весьма ловко сбил ее рукой и сунул в рот. Мать с одобрением посмотрела на ребенка: – Ловкая смена растет. Не то, что мы. Марина подошла к нам вплотную. – Я хочу быть с вами честной. Хочу, чтоб вы нас поняли и не обижались. Илья рассказывал вам об одной из ветвей человечества, так сказать человеко-муравьиной. – Муравьино-человековой, – поправил сын. – Почему муравьино-человековой? – Потому что, муравьи появились первыми. Илья, когда в доме нет чужих, тоже муравьиночеловеками нас называет. – Да, – Марина сняла парик, обнажив редкие, непонятного цвета волосенки. Теперь она не выглядела осовремененным вариантом мадонны. Мешки под ее глазами надулись, кожа буквально посерела. Она периодически сглатывала слюну, от чего вниз по шее то и дело проплывали волны лоснящейся кожи. – Мы и есть представители человеко... точнее муравьино-человеческой расы. У нас вот-вот должна появиться новая популяция. Молодежь. Вечно голодные. Говядину или тем более жирную свинину не признают – блюдут фигуры. А денег на хорошие продукты не хватает. Выкручиваемся, как можем. Уж извините. – А почему вы нам об этом говорите? – совсем сонным голосом спросила Лиза. – Так я в чай и в вино добавляла специальные препараты, которые усиливают подчиненность групповым командам и подавляют человеческую волю. На нас препараты не действуют, а на людей... Встать! – скомандовала Марина. Мы с Лизой поднялись. – Спускайтесь в погреб! За мной! Марина стала спускаться. Словно привязанные веревочками детские машинки, мы двинулись следом. Погреб, как я и предполагал, оказался весьма глубоким. Алюминиевая тридцатимет45 ровая пожарная лестница пошатывалась, но держала нас вполне надежно. Когда мы почти добрались до дна, Марина пояснила, что путешествие вниз все еще продолжается. – Осторожно, не упадите. Следующая лестница гораздо длинней. Свалитесь – сломанными ногами не отделаетесь. А наши дети трупами не питаются. Света было мало. Редкие лампочки не могли осветить это помещение на всю глубину. Но у самого пола горел небольшой прожектор. Мы увидели недалеко от лестницы большую дыру, в которую стала спускаться наша проводница. Еще не менее двадцати метров вниз. Видимость ноль. Ступени приходилось искать на ощупь, крепче держаться руками за вертикальные планки лестницы. А вокруг кипела, кишела жизнь. Многомиллионное шевеление, запах, сопение, скрип. – Похоже на Данте в аду, – шепнула Лиза. – Скорее наоборот. Что будет, если в большом городе взорвать приличную бомбу? Даже не так! Что будет, если сложить в кучу несколько атомных электростанций и сбросить на них пару водородных бомб? Катастрофа? Пожалуй, даже глобальная катастрофа! По сравнению с ней та, о которой упоминал Илья, – невинное развлечение. Бомбами были мы с Лизой. Старик прав. Природа создавала человека методом проб и ошибок. Причем ошибок было почти столько же, сколько и проб. Какие-то ветви отмерли, какие-то переродились, какие-то спрятались, какие-то заставили прятаться других. Наша ветвь людей-муравьедов в поисках еды научилась хорошо прятаться среди людей, и при этом быть отличными сыщиками. От котенка, которого мы встретили на дороге, так пахло страхом, что мы с Лизой поняли сразу: наши длительные поиски близятся к завершению. Появление лупатого отпрыска только подтвердило подозрения. Я специально напугал нищего. Нам не нужны ни свидетели, ни случайные жертвы. Природа наградила нас непробиваемой кожей, скелеты муравьедов «не по зубам» самым сильным человеко-муравьям. Во время охоты наши железы вырабатывают токсин, запах которого смертелен для всех прямоходящих насекомых. Нам не нужно видеть в темноте. Запах дает всю необходимую для охоты информацию. – Дорогой, наконец-то мы их нашли. Я так рада! Начнем с кладок. – Лиза повернула ко мне восторженное лицо. Ее чересчур длинный для людей нос подрагивал от предвкушения пиршества. Она облизывалась без остановки. 46 БРЕД ПОЭЗИИ СВЯЩЕННЫЙ СИГНАЛ ОТБОЯ КАК ДЕНДИ ЛОНДОНСКИЙ ОДЕТ (к строке Пушкина из «Евгения Онегина») Когда-то латы и кираса, затем мундир и редингот, потом жилет из канифаса, а там практичный коверкот – так одевался прежде тот, кто ричардсона и ловласа сторонник был иль антипод, но главное – компатриот. Всё это в прошлом. Блеск лампаса и с ним колониальный шлем британский лев сменил на массу иных дресс-кодовых проблем и в моду ввёл тональный крем столь толерантного окраса, что колер собственных эмблем, забыл, похоже, насовсем. В толпе английского покроя, однообразной, словно дождь, ни алой розы, ни героя былых романов не найдёшь, кто спенсер или макинтош носил с достойной простотою. И улиц горловой галдёж с речами книжными несхож. На подиумах тротуаров искать эсквайров стильный след не стоит: лишь в карманах пары не досчитаешься монет. А убегающий брюнет в эргономичных шароварах и есть на твой вопрос ответ: кàк денди лондонский одет. «ПРЕДМЕТ МОЕЙ ДУШИ» За много лет не изменить сложившейся не вдруг, не за день, привычки вечером раскрыть двухстворчатый потёртый складень. Убранством он не тешит взгляд, не блещет глянцем и атласом. В нём фотографии стоят языческим иконостасом. Там в тёмной бархатной тиши, укрыт от влажности и света, лежит предмет моей души, а в нём живёт душа предмета. 48 Нежнейшая из недотрог, от посторонних взглядов хмуро таишься ты, резной божок с точёной женственной фигурой. Царевна спящая, фетиш из золотистой древесины, ты в углублении лежишь – тиха, обманчиво бессильна, но вся – чутьё, но вся – инстинкт, живая, звучная мембрана, на интервалы чистых квинт настроенная филигранно. И воплощеньем тишины ты кажешься обыкновенным, пока твой звук из глубины не вызволен прикосновеньем. Покуда не прильнёшь щекой к тебе и не разделишь жара, хранит тебя переносной алтарь скрипичного футляра. *** Сдвинув тучи, как чуб, набекрень, кряжевые насупивши брови, над заливом нахмурился день, то ли дождь, то ли бурю готовя. Из-за дымчатых рваных зубцов духота накатила с востока, и над морем возникло лицо патриарха – колосса – пророка. Словно махом сорвался с орбит и повис на воздушных оглоблях, упираясь затылком в зенит, необъятного облака облик. Испареньем восстал из пучин, отразился в подсоленном йоде, и на меди небесных пластин проявил его мокрый коллодий. На секунду к туману прилип и исчез, растворившись от зноя, гипнотический дагеротип – допотопная карточка Ноя. *** К концу зимы, к уходу снега словарь взаимности прогорк. Привычку к общему ночлегу ещё таща, как тяжкий горб, с натугой зимних волокуш скользить вдвоём по глинозёму. Брести не в ногу между луж, как по подстрочнику плохому: теряя ритм, сбиваясь с шага. Вдруг ногтем провести: досель. Стряхнуть, как градусник, капель и руку спутника с обшлага. Опомниться, остолбенеть, заметив ход солнцеворота: вовсю свистит, порхая средь деревьев, ветер желторотый, на кровлях башен и мансард уже оттаивает сурик, лудить-паять явился март и плавит олово сосулек. И, с облегчением с плеча чужую роль спустив, как шубу, подставить под бальзам луча обмётанные фальшью губы. В освобожденья волшебстве дать ветру сдуть остатки грима, шагнуть вперёд, а эту зиму забыть – как шапку в рукаве. *** «...мотал, он бормотал, я промотал. Я объясню! О если бы сначала, то я бы оценил. Я б за металл не умирал, не убивал. Я мало успел. Я виноват, я прокутил, мне всё казалось, время безразмерно. Прошу отсрочки из последних сил. Неужто мне очиститься от скверны уже нельзя? Я просто не учёл, что жизнь была авансом. Я растратил талант? – теперь я знаю, что почём. Я просто неудачливый старатель. Я душу разбазарил, просвистел и много слов и чувств пустил на ветер, я долго увлекался суммой тел, пока не разобрался в трафарете слагаемых. Зачем же наповал вот так, с плеча? я откажусь от трапез, чинов, я осознал, он бормотал, я промотал, я про...» Смотревший запись, рассеянно помешивая чай, пометил в толстой книге: «от инсульта», и ангелу, дежурящему с пультом, сказал, зевая: скучно... промотай. УРОКИ ИСТОРИИ «Если поймал кто сбежавшего в степь раба...» – нудно зубришь урок, чтоб исправить тройку, под телевизор: «изменники родины... молотьба... нефть... пусковой объект... ударная стройка...» Завтра к доске; если что, то потом дневник лучше тихонько подсунуть на подпись папе. Он не заметит затёртых ножом улик против реформ Солона с кодексом Хаммурапи. Думая об истории, видишь всё ненастоящим, игрушечным, нарочитым. Тридцатилетней войны забавы – ни то ни сё. Против Столетней свалки – вот пустяки-то. Мреет за окнами зимняя синева. Битва при Калке. Битва при Фермопилах. Брат с отцом у сарая пилят дрова, чтобы успеть до ночи. У слова «распилы» нет второго значенья. Уже темно. Ночь наползла как татаро-монгольское иго – (лошади в нём слышны!) – и на карте пятно чёрное, безо всякого вам блицкрига. Как повезло, что пять или шесть веков минуло с лишком, и никакой кочевник нам не указ, и мы не рабы, оков нет – и пора с облегченьем закрыть учебник. Лучше взять «Путешественников» Куприна и зачитаться, раскачиваясь на стуле. «...И о погоде», – прощается диктор на музыке о Манчéстере и Ливерпуле. Трудно представить: ведь всё это где-то есть, это твоя планета, но знаешь сердцем – никогда не увидишь, и в этом месть хмурой эпохи «Одобрено министерством». ПРИМЕТA Мимо пройдя, прошамкала: «Быть зиме снежной – без ветра дым по земле клубится, звёзды мигали ночью...» – и вдруг, с ехидцей глядя, проговорила: «Не заимев зоркости – не увидишь ни в чём указки». И повернула за угол. Ей вослед хмыкнув, идёшь, задумавшись, что примет вправду совсем не знаешь... За то и вязкий путь тебе выпал в жизни, и поделом, – так начинаешь грызть себя и казнишься: даром, что начитался Руссо да Ницше, слов понабрался тонких, а в остальном – слеп и растерян. Скрытое знать куда там, если и откровенные не ясны знаки: в пятне морозном вокруг луны, в засухе, ливне, в диком кусте кудлатом... Но, улыбнувшись, вскоре «пора и честь знать» говоришь, очнувшись, прощаясь с блажью. Бережно продолжаешь нести поклажу спутанную домой, ибо знаешь – есть что-то верней, чем чеховская двустволка и для тебя, и нежно лелеешь всем сердцем одну примету декабрьскую: чем меньше ребёнок в доме, тем выше ёлка. 49 *** Молодую рассаду прищипкой выправляя, ненужный побег хладнокровной рукой без ошибки удаляет садовник-стратег. Я стою зеленеющей стрелкой под навесом суровой горсти, угрожающей мне переделкой, и стремлюсь незаметно расти. «Кем ты станешь?» – склонясь над куртиной, вопрошают, готовя привой, досаждая опекой пчелиной, сбором проб, подслащённой водой. Я учусь с осторожностью лисьей выставлять запасённые впрок безмятежные гладкие листья, лишь бы скрыть утаённый росток. Из листка сбережённого стебля разрастётся когда-нибудь сад. Но, когда, прорастая сквозь дебри новой зелени, зашелестят ответвленья былого вопроса, – листопадом ложась на траву, я подумаю тихо и просто: «Чем я стану, когда отживу?» Не проснувшись, без мысли, без цели потянусь сквозь тяжёлый подзол, через глину впитаюсь в мицелий, через корни – в течения смол. Потеку холодком в междуречьях, прорасту на поляне простой для бесхитростных трапез овечьих белым клевером, тонкой травой. Стану лютика запахом кротким, остью ржи, шелухой от овса, разбужу клокотание в глотке у большого пастушьего пса, что учует меня в предрассветном сквозняке и, стряхнувши росу, встрепенётся во сне; стану ветром... Лай, собака, а я понесу... ССЫЛКА В переживаньях трепетной любви к виновнику невзгод, в припадках рвенья – знай впитывай, записывай да рви, – порабощающего вдохновенья он избежать не мог. За стык миров цепляясь в мыслях, в судорогах щеря кривые зубы, клокотаньем строф давясь, он десять дней провёл в пещере, наитья раздувая наугад, раскармливая сны, виденья множа. Сгорали смыслы, падая в закат богов; змеясь, слова меняли кожу. 50 Он ослабел от жажды, голодал в капкане грота не длинней сажени, проваливаясь в призрачный портал в попытке бегства от воображенья: в себя, глазами внутрь, взаимосвязь с реальностью порвав, и антифоном гудела кровь, в сосудах колотясь. Процеженные горлом изнурённым текли слова, затвердевал металл пророчеств, переписывался атлас вселенной, – а снаружи крепко спал в неведеньи патриархальный Патмос. *** Aan Filip Vleeshouwers Клейкой лимфой, пигментом, белком загущается смесь из воды и чернил. Лёгкой кистью, нежней колонковой, добавляется капля в пейзаж – весь сияющий, весь словно звонкий целковый: с ослепительным солнцем, с тропой между рощ и болот, с мягкой дымчатой далью, плывущей до кромки сюжета. Нанесённое мутное пятнышко влажно живёт предвкушением цвета. Прорастая в волокна холста, обретает черты, наживает дыханье и тонкий сквозной эпителий, уязвимей моллюска в бессильи своей наготы, в сотни раз мягкотелей. Но не дольше мгновенья. Картины безмолвный статист растворяется в новом мазке, в пестроте наслоений, что наносит на зыбь полотна неустанная кисть в мастерской сновидений. *** Pro memoriam J. B. Всё сложилось не так, как говорил заратустра русской словесности: в алебастре бумаги, в густом частоколе книг, набранных во времена чернил и офсетной печати... Осенний ястреб в небе, картавым горлом издавший крик, сгинул, а в атмосфере ионы букв, с губ улетевших с дымом, вроде солохи, всё ещё держат выдоха суть, озон. Сердца давно разорвался надутый буф над рукавом артерий. Для прочих лёгких, лирикой живших, гибели птичьей звон приступом отозвался. Удар, разрыв – путь тормозной зигзагом кардиограммы в лунной дорожке мечется на воде. Стих завершился выдохом, потеснив воздух, толкнулся эхом к живым в мембраны и по вертикали отвесно ушёл к звезде. Мне повезло. Многоточий сквозных метель, выцветших до прозрачности глянца, кружится и у нас, словно обычный снег, превращая ландшафт на пару недель в частный сюжет, в пейзаж малых голландцев с образами коров, домиков и телег. Он превратился в праздношатающуюся мысль, звуком капнув с пера, хрустнув зерном графита, астмой паузника рваный вымостив путь, просто воздухом стал, слов выдохнув смысл, прежде, как сигаретам, им оборвав фильтры. И кто-то живой это должен вдохнуть. Поседевшая рябь, белая пестрота слов попадает в глаз, размывая фокус, соль страницу щеки переходит вброд. Дверь открывая, как книгу, летит с листа младшее стихотворенье, мой лебединый опус, ясным воскресным утром санки свои берёт. Брызгами безотцовщины, сколько их растеклось, мелких дыханий, по кухням бруклинов, сохо, боннов, в чужую речь попавших как кур в ощип, сколько их за стаканов земную ось держится с дрожью, так и не осилив вдоха, превозмогая разреженности ушиб. Радуясь холодам, пальцами снег ловя, щурясь, как будто с солнцем играя в жмурки, собственнных чар не знающая сама, жизнь обогнать свою норовя, дочь выбегает на улицу в тёплой куртке и кричит мне по-русски: «Зима, зима!» Что оказалось правдой? Вот разве то, что удлиненье печали, стремясь к пределу, только раздвинуло пустоту, и вот жизнь оказалась длинной, и шапито неба доныне выдох земного тела – перья, зрачки, коготки, волоски – несёт, ТОЧКА-ТОЧКА-ЗАПЯТАЯ и всё это, – хрип, литания, ругань, треск, – в воздухе утомительной пантомимой пляшет, сбившись, давно потеряв маршрут, а взять их назад отказывается наотрез голос – беззвучный, неуязвимый. ...В сизых аортах каналов, лагун, запруд, в реках наречий, текущих вбок или вспять, как говорят, молочных, а честно, мутных, – там одичавшая речь ловится на блесну, на языка приманку. Правду сказать, век русской речи отсчитывается в минутах: кончившись, стихотворенье идёт ко дну. На берегах рыбаки стерегут улов: в водорослях элегий и песнопений, в судорогах волны, в косяках плотиц шарят шершавым бреднем, добычей слов значимых бредя, но ловят всё больше феню, ил междометий, лузгу, чешую частиц. Я не рыбачу. Стою, запрокинув лоб, в небо смотрю: там в вышине мелькают скобки, остатки перьев, кавычек дрожь, всё ещё вьющаяся поверх европ, пыльным столбом вращающаяся стая, невоскресимого мира родная ложь. Мать сердилась: сто раз говорила! чт? лезешь опять в грязной обуви! и обнимала с ворчаньем, оттаяв, отрывала лепёшки кусок или край каравая, но, шлепка поддавая, вздыхала: устала стирать. Как давно её нет. Ведь всего-то ушла за водой. Без неё автоматы и взрывы, и тьма бородатых, убивающих точно таких же, в пятнистых бушлатах, и разбитый платан, и пропавшее слово «домой». У него потерялась машинка. Держал в кулаке, вместе с прочими прячась в подвале, пока не нашли их. Видно, там уронил, или просто пропала в клубке копошащихся тел, измождённых, замызганных, вшивых. Их не сразу услышали, долго вскрывали подвал, выводили наружу, считали, делили на группы, и какой-то солдат всё ладонью ему закрывал пол-лица, чтоб не видел на улице страшные трупы. Их кормили и мыли. Детей вызывали попарно, перед ними садились на корточки и по щеке торопливо трепали – по-дружески, накоротке, повторяя слова «представитель» и «гуманитарный». В грузовик залезая, он мучился, что не сумел объяснить: ведь ему уходить не велели из дома. В ожиданьи отправки им дали на аэродроме в разноцветных пакетах печенье, игрушки и мел. ...Черноглазый ребёнок берёт из коробки мелок, выбирает участок почище, встаёт на колени. Он рисует кружок головы, без штриховки и тени, и обводит её треугольником – это платок. Он выводит большую трапецию – это халат или платье, не вспомнить. Две белые палочки: руки. Два цветочка ладоней. В раздумье склоняется над пустотою лица, вспоминая в отчаянной муке. 51 Он рисует глаза и улыбку. Глядит изумлённо, унавая, и тихо ложится на сумрачный пол к нарисованной матери, скорчившись, в самое лоно, прежде сбросив ботинки, чтоб ей не испачкать подол. LAST POST Нет ни свинца, ни молний в одышке туч. Значит – пора домой? Позабыть атаки, взрывы, окопы, цензуры штабной сургуч?.. Странно качаясь, спят полевые маки. Взводы хрипят, эскадроны несутся вскачь. Полупрозрачной походкой неуставнóю по облакам шагая, идёт трубач, в небо летит и играет сигнал отбоя. Pro memoriam J.McCrae & A.Helmer В двенадцать часов по ночам Выходит трубач из могилы... В. Жуковский Копьями, бомбами, ядрами ли баллист – мир добывает трупы. Боеприпасы все подойдут. Какой бы артиллерист соус ни выбрал, пушечным будет мясо. Списки убитых в меню фронтовых газет неукоснительно свежи; вот разве слабо мелкий шрифт отпечатан, так их уж нет, стóит ли чётче? Просто урок масштаба. Азимутальной вилкой берёт буссоль лакомый кус ландшафта. Обед военный. Тихий пейзаж до нутра расцарапан вдоль и поперёк трезубцами наступлений. Тишь на позициях – это всего лишь вдох перед зевотой смерти. Окопный бруствер так же не в силах полусырой горох тел уберечь, как мир не спасти искусству. Тонко жужжат названья: шрапнель, картечь, виккерс. Затвердевает воздуха панцирь. Ставит флажки на западе маршал Френч, и на востоке гнётся над картой канцлер. Планы – в штабных вагонах, а на земле круг повседневности задан другим калибром. Пули – крупней шмелей, а поля в желе из человечины превращены под Ипром. «Что вы не спите, Хелмер?» – «А вы, Мак-Крей?» – «Сыро в траншее, и, знаете, мучит астма. Вот допишу стишок и пойду.» – «Ей-ей, мне не уснуть. Мы все здесь вроде балласта.» – «Вы ещё молоды, Хелмер, вам жить да жить, а отдыхать положено по уставу. Полно, ложитесь. Вот поумерим прыть бошей, и вы вернётесь в свою Оттаву.» В месиве грязи преют тела солдат. Тише ходи, часовой, чтó оружьем звякать... Пологом плащ-палатки укрыл закат спящую на полях человечью мякоть. Ближе к рассвету с востока приходит хмарь матовой тучей, насквозь проникая в фибры, жёлтым удушьем вея... Не дым, не гарь – облако цвета горчицы плывёт над Ипром. 52 СКВОЗНЯК *** ливни бесснежной зимы пропитали насквозь суровьё дней воздуха пресная взвесь забивает, сводя лепестки жабр надо бы выплыть туда, где чуть брезжит хотя бы мельканье теней где за огнями быть может, расслышится медленный вдумчивый джаз но ливни бесснежной зимы вымывают последнюю соль дней ливни бесснежной зимы вымывают последнюю соль дней ОТТЕПЕЛЬ январская оттепель ноль жестяная капель ломается, тая сосулька и в сток уплывает прибоем колотится боль: Хронос тронул качель и мается маятник пульса висок пробивая циклон. о, как хочется прочь в белый пух тополей Каретного в летнее счастье, где в темпе бравурном... январская оттепель ночь равновесье нулей безвремье безлюдье беccтрастье безтемпературье *** это неправда, что рукописи не горят тлеют, шуршат и горчат за неделей неделю эти пергаменты треплет и рвёт листопад ты понимаешь, о чём они все облетели? ты понимаешь, о чём обрывается лист сморщенный, хрусткий заполненный ветром кулёчек? холод, огонь или тлен но до этого высь и перевозчик пряная речь аромат голубых стрелиций... в облачко, что над Этной клубком свернулось из-под ладони до рези в глазах влюбиться *** такая тёплая такая золотая в тенётах дней, туманов и ветров как шар на привязи дрожит не улетая мерцает листьями в снопах прожекторов пьянящей горечью нахлынет и истает (вздохнёт, сорвавшись, паутинки нить) такая светлая такая золотая что только песни петь да слёзы лить блеснёт в траве каштана плоть литая гипюровым кленовым неглиже такая зрелая такая золотая такая обречённая уже (о нет, приглядись: переплётчик...) КАМАРИНА радиоголосом справа стрекочут немцы море грохочет горечь щекочет ноздри это совсем не фиалковый рай флоренций берег дырявых ракушек и коза ностры *** море промозглым туманом легло на город в серых колодцах враз задохнулся ветер бьётся лосось исступлённо пытаясь сдвинуть флюгер застывший на солоно-солоно-зябко белый булыжник оград виноград под плёнкой белое стадо щиплет маслины с веток так и прильнуть бы невылинявшим зайчонком к тёплому боку в молочных потёках света тщетны старанья забей государыня рыбка или зелёной хвостатой сверкучей брошью чуть поморочив взгляд при малейшем хрусте порскнуть с горячей плитки в разлом дорожный только когда ещё случай туда отпустит крадучись шины крушат их в осколочью мелочь ...пэтчворк полей отшлифованный камень улиц ветра уже не вернуть не сберечь ни корыта ни створок так по-девчоночьи розово-белых ракушек на припаркованном опеле крупная надпись шью паруса (в сундуки мертвецов собираю йохохохо) ...ты попал с этим бизнесом, парень. 53 СКВОЗНЯК сквозняк по ногам милый братец никак не согреться наш пряничный домик просрочил платёж отключён от централи вязанку бы хвороста, Гензель дрожит твоя Гретель рисуя твой вензель морозя свой пальчик дожди ли ветра ли как холодно верно так мучит в ледовой витрине сестричек русалок и огненных крабов злой рыбник расправив товарно красоты вчерашних икринок потребой гурману: прости, всё о’кэй, это – рынок... что проку грустить по поверьям практичных французов плоть ветреных устриц глотать удовольствие вплоть до апреля лить уксус лимона пить уксус вина маринадные узы прости отвлеклась: померещились гроты и парусник Грея кораблик Ассоли скрипучая палуба алость на реях и Дом Периньон под оркестр (лучше – водки: никак не согреться ломоть поскоромней из Чрева Парижа a la Оноре де да тёплую пару ладоней твоих где ни тронь, будет сердце...) *** двадцать один в секунду качает большие деревья скрипят откликаясь створки замерзшего сердца *** так и спала бы ладонь на груди забыв мерным дыханьем качая медузу сна да по смоленской дороге гудят столбы да предрасстрельно по окнам луна, луна 54 так и смотрела бы в ночь самолёту вслед впрочем не суть каравану ли кораблю да разрезает рассвета стальной стилет нить неуёмного шарика цвета блю так и жила бы даром, что сладу нет с шелестом ливней в мелькании юрких дней только тоскует заезжий трубач в окне только стигматы рябин бередят сильней день ото дня проступая в вершинах крон и над пожарищем радуясь и скорбя льётся адажио сбив капюшон, Харон мокнет у лодки окурок втоптав в бетон ждёт ... не могу, не могу отпустить тебя. ПОКА ЗАЖИГАЛКА ГОРИТ *** я смотрел по кабельному ужасы и порно, слушал джи джи аллена и ивана дорна, пёр напролом, не платил налоги получил диплом по саентологии. снюхивал сахар с сахарного пончика. всё ночь трахал да так и не кончил. а пришли захватчики алый флаг выстирал. золотые мальчики, ёбаные хипстеры. бил зеркала, рвал вату из кресел, мама врала. война это весело. сколько утопил я в бухле смысла. десять лет пил, да так и не спился. дали небеса девочку-дьявола. у тебя глаза как перевал дятлова. мне сходить с ума с твоими данными. карма тюрьма. будда гуантанамо. изо всех жил я в тебя ввылся, тридцать лет был, да так и и не сбылся. Все континенты пусть Будут лежать на дне, Свой учащённый пульс Ты доверяешь мне, *** гуляют красивые лярвы с мужчинами по найтклабам на пятых киевских лаврах бесхозные воют бабы Человеческая многоножка На танцполе под жёсткий бит. Она ластится будто кошка И кипит. хиппушки в этническом стиле базарного вида готессы хотят чтобы их любили или хотя бы секса читательниц долгих книжек нешуточный гложет голод им снится философ жижек голый голый голый по жизни легко идётся а иногда порхается пошла домой с идиотцем большим знатоком арт-хауса ни секса, ни даже петинга уже не тревога – паника вы смотрите вместе ханеке какое говно ваш ханеке беспомощными колибри стучат их сердца под бюстами струятся из них верлибры достигаемые искусственно. *** Прыгаю вверх из брюк, Будто огнём объят, Но не хватает рук, Чтобы тебя обнять. Мне бы их восемь штук, Словно у паука, Восемь надёжных рук, Чтобы тебя ласкать. И ощущаешь вдруг, Полные нежности, Тысячу сильных рук, Чтобы тебя нести. СИТЦЕВЫЕ ЛЮТИКИ ЛЮБВИ Куба Либре, сигары пряные. Он даёт чаевые валютой. Она шепчет на ушко пьяное «Я люблю тебя». Он безнравственный, дерзкий, стильный, Любит роскошь, как Дориан. Сердце каево льдинкой стынет. Лёд с прожилками серебра. Он из тонких материй соткан, Голубой крови ницшеанец. Одурманенные красотки Приглашают его на танец. Апельсиновых механизмов Безупречные шестерёнки. Северянинским эгоизмом Он её доведёт до ломки. И улыбка его, как сабля От которой течёт и брызжет. Она терпкие его капли Словно вкусную марку слижет. Кокаиновая поэзия. Лизергиновый блиц. А она бы его зарезала Из-за длинных его ресниц, Из-за самок, снующих рядом, Из-за странных ночных звонков. Из-за неосторожных взглядов Из-под солнцезащитных очков. Битым стеклом под сердцем. Будущее одиночество. А она создала бы Освенцим Ради него. 55 Нарядила его бы в робу, Будто в детстве фигурку Кена. Попробуй меня, попробуй Внутривенно. Попробуй до хруста костного, Ломая о сталь пасть, Доведённую до холокоста Страсть. Зацелованная икона Безразлична к людской мольбе. Она стала б ему циклоном «Б». Она стала б хлыстовой Вандой, Она стала бы Эльзой Кох. Ты – единственным арестантом. Не противься и сделай вдох! Это: вырвать глаза-маслины, Собираясь на Хелловин. Порезать лицо смазливое Свастиками любви. Дели на полоски узкие. В ноздри вдыхай до жжения. Вынюхай, как у Зюзкинда Объект вожделения. Нежность по Клайву Баркеру. Иглы. Самость-контроль. Маленький принц, по бартеру Любовью плати за боль. Любовь – это форма ответственности. Высшее торжество Среди миллионов Освенцимов Найти именно свой. Нет ничего пошлого. «Сладкий, как пахлава, Я бы тебя и дохлого Трахнула». Она замирает, ластится, Целует в висок его. У неё под вечерним платьицем Нет ничего. *** от того я жизнь не считал игрой что родился в славный андроповский год мать учитель отец мудак дед герой я на все свои трети и тот и тот и тот цель полёта лететь лететь лететь а потом долбануться загореться и тлеть я буду как д’ аннуцио на каждую новую треть я тебя отыскал в прицеле цельную собери мои пазлы мои куски и как лёд о свои соски три в этом яблочном космосе я эфедрин я фосфор и йод, воедино меня свари. и среди дорогих друзей и дешёвых шлюх и больших машин то великим старьём то новинками нафталинными мы будем крутыми как линдси лохан и чарли шин неделимыми. *** она ехала ко мне через ночь, через весь город, на 95ый с югока, кто был в кривом роге, знает. эсэмэски строчила, зая, я еду, я уже скоро, зая. я побрил себе морду подмышки побрил, как педик я зажёг свечи, нашёл на компе серова оделся во всё свежее, на всякий черкнул сонетик я уже еду, котик,– строчила мне эта корова. понимаешь, сказала она, воротник терзая, женские дни совпали с воспалением дёсен. нет, а этот вариант отпадает, зая. давай посидим и поговорим про осень. и мы говорили. про осень, про то как листья слетая с деревьев, тяжёлым пластом ложатся, и город становиться длинным бесшумным лисьим, и в нём так легко влюбиться и облажаться. Нет ничего святого. Только любовь свята Только любовь – основа И рукоять хлыста. *** Что между нами – память, весна, азарт? Жимолость, необходимость, Чувство, ворочающееся в глазах, Заметное, как судимость. Он свою кубу пьёт. Кривит в усмешке рот. Она говорит: «съела бы». И не врёт. Взорванный кем-то мост через реку Квай, Книги, не сданные в детскую библиотеку, Или любовь – идущий в депо трамвай, Везущий уснувшего человека. 56 АРТ-РОЗ у меня в колено внедрён радар, он бубнит про осень мне неустанно. боль моя чудесная, божий дар, я тебя, заноза, лечить не стану я с тобой прохрущу по большой стране где ордой угрюмой дожди кочуют я коленом знаю, что быть весне что не вечно ханство ветров-кучумов. и покуда живы и крепко пьют кореша из минска и подмосковья, и покуда исправно ещё дают поэтессы, поклонницы полозковой, рановато харону платить обол, или кто там, гурии, иегова, и с тобой не случится родная боль ничего плохого. ПОСТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ Протяни свои губы лечебные! В институтах забыты учебники, Твой отец пострашнее Калигулы, Но у нас затянулись каникулы, Воздух пахнет волшебными травами, Поцелуй поднимаем за здравие. Нам ли, Адамсов детям и циникам, Утруждать организм медициною! Что врачи упоительно каркают? Пропиши мне любовь свою жаркую. Утверждаю (и есть основания) Исцеление – в целовании! *** где ты? хотя бы один звонок. скрипучим отчаяньем мозг вспахан. в толпе сограждан я одинок, как последняя галапагосская черепаха. бездомной собакой тащусь меж машин, жив едва ли. лохмотья души, остатки души прятать в тёплом полузатопленном подвале. *** у меня осталась твоя зажигалка, она горит. у меня остались твои поцелуи, они горчат. я живу среди отвратительных мне горилл, и у нас с тобой никогда не будет внучат. у меня остались оргазмы твои – дрочить. у меня остались губы твои – стонать. я живу среди ненужных мне паучих, у меня есть контрасты, а надо полутона. у меня есть наркотики, чтобы в себя колоть, у меня есть фашизм, чтоб в зеркало с ним смотреть, у меня нет вселенной, остался лишь уголок и я в нём на треть. мы с собой не покончили, как супруги гари. жизнь продолжается, жизни не нужен шанс. у меня осталась твоя зажигалка, она горит. что я буду делать, когда закончится газ? Я ЖИВУ У ОКНА *** Он рассказывал сказки морю и берегам. Про него говорили: «Старец сошел с ума». Острокрылые чайки ткали над морем гам, Угрожающе выли взмыленные шторма, Но старик приходил, касался воды рукой, Обращался к ветрам, ступал на гнилой причал – И прибой становился сразу совсем другой, Он ложился у ног и сытым котом урчал. А истерзанный шепот тлел, как свеча-заря: «Я тебе расскажу о том, что я видел сам… Помни каждое слово, помни и повторяй – Это наше наследство людям и небесам… и что-то растёт, и что-то болит, пылает, мечется, барабанит. нервы ни к чёрту. вот-вот палить начну по охранникам в караване Ты скитальцам внимай, бродягам и морякам, У тебя – сто веков, а мы-то гляди умрём…» – И струились слова по дюнным живым пескам И в застывшее море брызгали янтарём. забиваю слоги гвоздями: вре-ди-на. придумываю ласкательные имена, ласкательные времена в пустоту между нами. нами. С той поры укатилась тысяча тысяч волн, Расплескались кострами дымные вечера, И старик не приходит больше гулять на мол, Хоть клянутся, что кто-то видел его вчера. 57 От искрящейся пены берег как будто сед. К материнским объятьям моря спешит река. Через ропот прибоя, как приглушённый свет, Пробиваются сказки странного старика. ШАМАНСКАЯ БОЛЕЗНЬ я на камни у реки разливаю дым костра, сипло каркает варган и дерзит седым ветрам – и дерзит седым ветрам в убаюканной глуши, укрощая дикий дух, я пытаюсь стать большим – я пытаюсь стать большим: пики гор – не выше плеч, небо – шапкой на глаза, громоогненная речь – громоогненная речь будет плавить синий снег, обжигая лапы туч, солнце вызволит навек – солнце вызволит навек – будут наши дни легки, белым филином вернусь я на камни у реки ЛЮЦЕРН Горы цепляют: ты словно садишься на мель, По-детски ждешь чудес и таинственного чего-то, Но путь к сердцу гор до неприличия прост. Чтоб понять их глубже, мы роем тоннель, Чтоб быть с ними наравне – летим в самолетах, Чтоб не пропасть в пропасти – строим мост. Вечные истины собирают вековую пыль. Заглянуть в них, как в колодец, немного страшно, И там отражается небо, а не потолок. Чтоб оно не упало, мы возводим шпиль, Чтобы небо не украли – храмы и башни, Чтобы слиться с небом – я просто лег. ПОЛУРАСПАД Переулки чернеют морщинами старыми, Тьма предательски в спину вонзается фарами, И дороги домой так безлюдны, бездонны, длинны, Что весь мир разжимается чуткой пружиною. Я живу у окна, я налил себе джина, и Наблюдаю, как ночи грызут по куску от луны. Вслед за тенью сознание, дёргано падая, Точно грецкий орех, расщепляется надвое, Сразу слышно, как с собственной крыши уже потекло, У кварталов пугающе хищные профили, А по венам блуждает вино или кровь или… Словом, что-то, что дерзко ворует у тела тепло. 58 Моя память обломками снов завалунена. Упрощается мир пустотой новолуния, Но все чудится: в городе бродит такой же, как я. Словно в мутных притонах раскуренный опиум, Растворяются оригиналы и копии, Ведь секундная стрелка острее любого копья. ВЕСНА В БЕРЛИНЕ Квартал огрызается нервным стаккато, Рычит отовсюду немецкая речь. Здесь небо исколото, порвано, сжато, И негде ему поселиться, прилечь. В столице остаться чертовски накладно: Арендные цены житья не дают, Но лужи сверкают – невинны, бесплатны, – Бездомного неба последний приют. *** До этой весны мне не приходило в голову, Что не важно, кто и какие деньги заплатит, – Как не сыщешь платьев для каждого короля голого, Так не хватит зеркал для всех королевских платьев, И любовь не разделишь на части, чтоб всем поровну, Ведь в мире дефицит на все, кроме дефицита. ______ Мне повезло: в какую б я ни двинулся сторону, Твои координаты не могут быть мной забыты, И мир временно полон, как стакан одноразовый, И минуты пьянее бархатного винограда, И ночь улеглась, словно кошка зеленоглазая, Рядом. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЕТНЯЯ НОЧЬ Я выхожу на закате, бросаюсь за двери, Пока небо-аллергик прячет звездную сыпь, Пока солнце, лежа на травах раненым зверем, Неистово лижет пряное зелье росы. Тьма наступает на пятки сытым трамваям, Клеит на окна домов первобытный испуг, И сумрачный бог к спокойствию призывает, Наевшись сырых молитв из протянутых рук. Тень на асфальте растоптана – я ли это? Я ли трясусь под крышкой небес ледяной? Сколько осталось жизней у кошки-лета? Ни од ной. НОЧНОЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Я и призрачный город – как матрос и «Титаник», Мы еще над водою – но утонем вот-вот. В этом городе сотни незатушенных паник Разрывают на части островов хоровод. Мне с балконов окурки, как ракеты, сигналят. По-мертвецки раскрыты арки-рты у домов. Петропавловки мачты расчертили в журнале Невод градусной сетки из табачных дымов. Утопающий Питер приумолк недовольно, Не пускает матросов по другим городам. Я на вахте оставлен перелистывать волны Да на карты морские клеить пиковых дам. РУССКАЯ РУЛЕТКА Тишина тонка, как китайский шелк, И звуки режут ее на части. Курок кровожадничает: щёлк! щёлк! Но развязку еще не выплюнул, к счастью, Виски не пробиты и виски цел – Янтарит графин карамельней загара. У смерти (щёлк!) порядком сбился прицел, Ее руки дрожат, как дюны Сахары. Щёлк! (щекотливо) и– щёлк! (еще), Интрига почуяла, что дело плохо, Крысой из зачумлённых трущоб Кинулась было бежать – но сдохла. Говорю себе: «Галстук лучший надень, Рассыпь улыбки кругом, как бусы! Оказалось – сегодня прекрасный день Растратить свою тараканью трусость!» За мною остался последний раз? Да! И… вылупился, вылепился, вызрел, Вырвался, выломился из гнезда – Выстрел! ЗАБЛОКИРОВАННОЕ Созрела ночь на самом дне у дня, И темнота касается меня Туманной бестелесной незнакомкой. В глазах – крупинки звездного песка, А город, как чертеж, нелепо скомкан, Размыт дождями, стерт наполовину, И винно бродит чертова тоска, Когда под небом ни черты не видно. Чадит луны пузатая свеча. Сон города барочен, но порочен. И – видит Блок! – когда-то были ночи Фонарней и аптечней, чем сейчас. НА 21-ОЙ «ВОЛГЕ» *** Прикинуться дурачком, Пожаловаться на жизнь, Воспеть беспросветный дом, А ну-ка, давай держись. Несчастный, ты, дурачок, Избитая жизнь твоя, И крутишься как волчок, И вертишься, не тая… 59 *** Издалека долго Прямо на красный свет На двадцать первой «Волге» Едет лихой поэт. И мы будем не тужить… А чего от нас вы ждете? Будем Родине служить, Вы – на суше, мы – на флоте. Три всего передачи, Зато нету ремней, Гонит себе и плачет По стороне своей. *** В детстве очень нравился фильм «Мираж», Жаль, что полностью не удалось посмотреть, Но когда они прыгали в свой мираж, И такой прекрасной была их смерть… Чуть повернешь налево – Встречная сторона: Снежная королева, Вечная тишина. Ставь удобней грабли, альфонс всех муз, Покидай безветренную постель, Чтоб to pirate дерзко бесценный груз, Чтоб сорваться в пропасть, уйти в метель. *** Получивший свою пустоту За свое нехорошее дело, Я не жалуюсь больше листу, Надоело, увы, надоело. *** Это – твоя Родина, сынок, И стихи напишутся едва ли, Потому что ты не одинок, В беспричинной внутренней печали. Кто овец досчитает до ста – Сон получит, а жалоба эта – Пустота, пустота, пустота… И холодное сердце поэта. И не надо никого винить, Что твои одежки облетели, И карман дырявый не звенит, И не жалят жаркие метели. *** Сначала я думал, что я гулливер: Маленький гулливер в стране великанов, Потом показалось, что я, например: Большой Гулливер в стране графоманов. В ЗЕРКАЛАХ Я думал, что ты «Блондинка за углом», Оказалась, что ты «маленькая вера», И теперь я хожу пешком под столом: Маленький гулливер в стране гулливеров. *** Вы вынесли приговор, Нам не о чем говорить, Закончить как Томас Мор – Имеет свой колорит. Так головная болезнь Слетает сама собой, Как Анна твоя, Болейн, – Отрубленной головой. *** Тихоокеанский флот: «Петропавловск», «Стерегущий»… Мы выходим из-под вод К публике эффектов ждущей. Витгефт вовсе не убит И Рожественский не сдался, Брат Маклая – клещ, стоит, Мостик вечным оказался. 60 *** Те зеркала, что отражают смерть, пусты, заснежены, печальны, когда себе в глаза из них смотреть, не открывая ни единой тайны. Когда закрыть те зеркала платком, чтоб не смотреть в себя, не узнавая, откроется, быть может, нам любовь иная (и жизнь, и слезы) в этом или в том… *** Тень так слаба. Сегодня будет утро, украдкой время в горсточку зажав, и столкновения созвездий избежав, украсив небо нежным перламутром, и облака дыханием создав, летящие во мгле. Крылаты и легки. И тень отходит от моей руки. И тень скользит, отстав. *** Здесь не вселяющий доверие гранит, и камни пестрые скользят как рыбы, змеи, и символом являются Помпеи всего того, что прошлое хранит. Не рассказав ни слова о себе, здесь день проходит мимо, дальше к морю, и вот уже исчез в краях покоя, не размышляя долго о судьбе. Так жизнь и состоит из пары строк, что встречным мысленно доверчиво вверяешь, и с сожалением их из виду провожаешь, как будто с ними ты здесь был не одинок. *** С травою под ногами неразлучны, под деревом и с песней однозвучной (уж так меж нами повелось) остались там, где все давно сбылось. Остались там, где нет небытия, где корни прорастают сквозь меня, где соловьи поют в твоем саду на склоне дня… *** Река, укрытая рекой, и силы тронувшие руку. Там взгляд короткий, непрямой, не обещающий разлуку. И в сумерках холодных сон здесь наше сердце не затронет, За облаком спокойным звон, как пар поднимется, утонет. В той стороне нет ничего, что плоть, истаивая, просит, Но сердцу больно и легко, когда его поток уносит, И вместе с птицами стоит над горизонтом, замирая, Все также, радуясь, болит, не умирая… *** Сегодня так легко смотреть на снег, сегодня травы там в своем саду прозрачном, переплетаясь нитями в невзрачном, цветут и прорастают в свет. И он из самой снежной глубины сегодня дан водой Богоявленской, так что ж в моей печали невселенской такого, что заслуживает сны… *** Каждый день по слову, каждый день как сон. Блики света, облако, уже светает… Последние листья падают в унисон, лето по старой памяти обнимает. Каждый день заносится в календарь. Я пишу неразборчиво, рисую птиц. Но когда-нибудь кончится наш букварь с разными буквами без страниц. *** Складывая знаки осторожно, как ветви хвороста: полет осы, зной и выжженные камни, псы бродячие… Невозможно перечислить многое, соты остры. Дождь на следующий день, трава, аппликация неба в глазу цветка, и прорастает жизнь сна, горька, где-то там внутри смерть, но уже не та, вырвано жало ее, и вода сладка в зернах граната у живых уст, и в руках – время, отсутствие сна, и те двери, в которых всегда весна, открытая книга, цветущий куст… Далека дорога, песня длинна… ШАРЯ В ПУСТОТЕ *** жизнь потихоньку отваливается омертвевшей корою с дерева как говорил башмачкин, что-то… оно… того… смотришь – и вдруг оказывается – ещё кусочек потерян вместо него – пространство, в котором нет ничего это почти безболезненно как под наркозом, что ли но ощущаешь полости вместо зубов во рту и по пролётам лестничным фантомные бродят боли когда твой собственный голос проваливается в пустоту я вот сейчас сублимируюсь пишу эту хрень зачем-то хотя голова как валенок серо, тепло, темно и получается выдавить нечто совсем никчемное: что-то… оно… неправильно как-то… оно… того… *** а ты все время шаришь в пустоте и дом не тот, и жители не те а те, что были, сгинули куда-то и бродишь ты по лестницам пустым где только сизый сигаретный дым остался… от кого? обиты ватой пороги, стены, двери… 61 но порой мелькнёт в проёме кто-то дорогой, до странности, до ужаса похожий – и силишься позвать но нем твой крик, тяжёл неповоротливый язык – и ты не можешь, ничего не можешь – и… просыпаешься и плачешь, и дрожишь и приближается совсем другая жизнь она стоит за вешалкой, в прихожей глядишь в окно – а там гуляет дождь идёт, идёт – и ты под ним идёшь и ни окликнуть, ни позвать… не можешь БЕСЫ КОПАТЕЛЬ и набрякнет бубоном туча – из её глубины тогда изольётся струей могучей оцинкованная вода; Здесь, под камнями, странные жуки, и муравьи, и плоские мокрицы… Но ты попробуй дальше углубиться железным продолжением руки – и погружаясь вниз, все время вниз, почувствуешь – в угрюмой глине тоже заключена неведомая жизнь, та, что наружу выбраться не может. Копай все глубже…Ты теперь один внутри земли – и обнаружишь вскоре: под плотным слоем черных юрских глин колышется невидимое море; в нём копятся не мрамор, не слюда, не артефакты чуждой нам эпохи – с поверхности стекаются сюда все наши ахи, выдохи и вздохи. Когда невмоготу им станет там, когда число пополнится на треть их – из-под земли извергнется фонтан – фонтан освобождённых междометий; пойдёт наверх весёлая вода, тяжелая вода – и вот тогда ты узришь итоги своего труда, устало опираясь на лопату. Изнутри крепостных построек, из-за стен и глухих ворот засвистит соловьём разбойник, заложивши два пальца в рот. И – пойдёт: боевым сигналом над страной пронесётся свист, – и ощерятся по подвалам стаи бледных помойных крыс; в час, когда все уснут – хвостами, как бичами, стегая тьму – они хлынут наверх ручьями – разносить городам чуму; пропитают потоки эти швы и внутренности земли – и взойдут, словно травы, дети – удалые богатыри; возликуют: За наших, друже! – и давай молотить сплеча – а конями для них послужит двухголовая саранча; и закружатся ведьмы – в ступе, в домовине, на помеле… Что ж, пускай. Тем скорей наступит Царство Божие на земле. ЛУНАТИК КРЫСЫ Он идёт по карнизу за низкой луной. Где же, где его мозг обитает больной? – Кто он – зомби? Фанатик? Мечтатель? И с небес – Крысолова оживший гобой – направляет его и ведёт за собой неусыпной луны излучатель. Мы боялись их до смерти. До тошноты. Эти острые морды, босые хвосты… и когда заползала во мраке тварь голодная нагло кому-то из нас на живот или грудь, да хотя б на матрас – что за крик раздавался в бараке! Он идёт по карнизу, по хлипкой доске… Что живёт в воспалённом его мозжечке? Что, как птица, в висках его бьётся? Напряжённа спина и закрыты глаза, И ни тронуть его, ни окликнуть нельзя – упадёт, дурачок, разобьётся. Мы же люди, начальник! Уж лучше убей, Но избавь, твою мать, от своих упырей! Но зима просвистела одна лишь – и теперь они ночью и днём – тут и там, все шныряют, все бегают по головам – нам плевать. Ко всему привыкаешь. И всё кажется мне, что – кричи не кричи – миллионы лунатиков бродят в ночи – я стою и гляжу на них снизу. Десятимегатонная светит луна, и под ней, не проснувшись, большая страна всё идёт и идёт по карнизу. 62 ТЕНЬ КОТА В том подъезде, как в поместье Проживает черный кот Б. Окуджава напролёт перемены, вечно опаздывая на уроки, чтоб ещё хоть один – мой! – заскользил над домами – выше! выше! – на восходящем потоке в тридесятые вестником государства, кругами Лампочка в подъезде светит Ватт, наверное, до ста И теперь в подъезде этом Проживает тень кота. над хрущёвками приинститутскими, инженерной Москвою, над планетой задачек, решабельных в идеале; не видать со двора, где, глухие к соседскому вою авиамоторному, произрастали Жёлтый глаз уже не нужен, Нет зубов и нет когтей. Почему же, почему же Лебезим мы перед ней? по подъездам да кухням зелёные человеки, – сколько было своих! – были споры пространны, были дружбы взахлёб, были ссоры навеки, а потом порассеялись в разные страны; Отчего же эту рожу Так боимся? Неспроста – Ах, похоже, помним всё же, Помним чёрного кота. эти страны бумажные в странном азарте рисовали старательно так, что едва дышали, на школьной географической контурной карте по бледному голубому цветными карандашами. И пускай болтают клуши – Дескать, вид совсем не тот; Скоро лампочку потушат – Мясо снова нарастёт. БАНАНОВЫЙ СТАРЕЦ (Из цикла «Сонэцки») КОШКОТЕРАПИЯ Нет, это лучше всяких процедур: Достаточно прилечь хоть на немножко – Ко мне на грудь запрыгивает кошка И начинает свой мурмурмурмур Так я лечусь уже с десяток лет Вот только кошка что-то заболела И опухоль её сжирает тело И нет лекарства, и надежды нет. Но все равно, но кошка и такая На грудь мою упорно заползает И перед сном, и даже поутру Хоть это ей теперь совсем не просто – На грудь мою, как на последний остров – И начинает: мрумрумрумрумру… ИБО Я НЕ НАДЕЮСЬ ЭТИ ДАЛИ К майским рамы, проклеенные на зиму, отрывали; в эти дали, сияющие синим пустоты на четвёртом в мальчишеском запускали из тетрадей в полоску и клеточку самолёты; Новолуние! С той поры я ждал – и вот В нынешнюю ночь… Басё Бывало, в полнолунье шли к холмам стихи слагать… Все слыли знатоками. Раз – нищий мимо… – Эй, любезный, с нами давай! Не трусь! Мы судим по стихам… Прочёл… Своим не верили ушам, – и нас вспомянут с этими строками! – мы посмеяться собирались сами, ан, знамо, с нами был Учитель сам… О, хижина под веером банана! Плащ из соломы треплет обезьяна. А плечи мнёт угля угластый куль… Луна – вся в трещинах – за сеткой кроны, на голых ветках кляксами вороны. Запруда старая. Лягушка. Буль! ИЗ ТИЧБОРНА. ЭЛЕГИЯ, НАПИСАННАЯ ИМ 19 СЕНТЯБРЯ 1586 ГОДА НАКАНУНЕ КАЗНИ Мою весну сковал мороз тревог*, мой счастья пир – одно лишь блюдо мук, я сеял хлеб – и вот сжал плевел стог, и весь мой скарб – тщета надежд: а вдруг? Мой минул день – не видел солнца я, ещё я жив, а жизнь прошла моя. 63 Рассказ к концу – не начат мой рассказ, мой плод созрел, но зелен мой бутон, уже не юн, ещё не стар сейчас, я видел мир – меня не видел он. Вот нити срез – её не брались вить, ещё я жив, а мне уже не жить. Искал я смерть – нашёл во чреве плод, искал я жизнь – она лишь тени след, шёл по земле и знал: лежать мне под, сейчас умру – едва рождён на свет. Мой полн стакан – испит в один глоток, ещё я жив, а жизни вышел срок. * В переводе односложность лексики оригинала условно передана использованием только одно- и двухсложных слов. ИБО Я НЕ НАДЕЮСЬ По Т. С. Элиоту и я Богу молюсь, чтоб был милостив к нам, чтобы смог позабыть навсегда я всё, о чём столько спорил с собой по ночам, столько раз себя не убеждая; ибо я не надеюсь вернуться опять, дай ответ на мои вопрошанья, чтоб свершённое более не повторять; тяжесть нам облегчи наказанья; ибо этим крылам больше не полететь, тарахтеть только, тщетно взбивая вентилятором воздух, дырявый, как сеть, мельче, суше, чем воля сухая; научи же внимать невнимающих нас, научи нас сидеть плотью падшей тише мыши; молись о нас грешных сейчас и молись о нас в час смерти нашей; помолись о нас в час смерти нашей. Because I do not hope... СКЛАДЕНЬ МЕНТОВСКОЙ Ибо я не надеюсь вернуться опять, ибо я не надеюсь вернуться; не мечтаю о даре людском, что ж мечтать в человечий удел окунуться; больше я не забочусь об этих вещах: пожилому орлу что за счастье разворачивать крылья на полный размах, морщить волю увядшую к власти; ибо я не надеюсь по новой узнать славы той, что на час возносила, ибо знаю, ко мне не вернётся опять эфемерная, властная сила; ибо в майском саду, где деревья цветут, с гор потоки сбегают проворно… ключевою водой не напиться мне тут – ничего не бывает повторно; ибо время есть время и место всегда только место, и оба два вместе, протекает действительность, словно вода, лишь во времени данном и месте, наслаждаюсь вещами я, как они есть: вот одна, а за нею другая, – лик блаженный и о воскресении весть всё поэтому же отвергая; ибо даже мечтать не могу, чтоб опять мне вернуться; кружа в заблужденье, следовательно, вынужден сам создавать я объект своего наслажденья; 64 1. ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ Вот идёшь своей Москвою ты. Видишь – мент стоит, как мумия. Приглядись к нему внимательней, и начнёт он оживать. Потемнеет зрак безмысленный, затрепещет бровь надмордная, в поясной петле дубинушка шевельнётся будто вверх… Принцип неопределённости! Вот о чём бы призадуматься: как умом мента измерить нам, свой не изломав аршин?.. Но не тормози мгновения, споро в да ль загоризонтную правь чело индифферентное – цел пройдёшь, коль повезёт. 2. НА ТЫ Пока полковник ментовской не вышел на покой, к нему течёт со всех сторон река щедрот рукой. (Иль нет, рука рекой?) И молвит он: – Зане менты и с Господом на ты: «Сторицей – нам, своим ментам, сказал Он, – Аз воздам!» ИЗ ЦИКЛА «О, ЗВЕРУШКИ» *** Памяти Казимира Малевича 1. ТРУП Посмотри на данный труп. Труп – он состоит из труб разных: кожных, костных, нервных, кровеносных. Ежли труп трубит, дыша, знать, сифонит в ём душа. Вишь, в трубе у трупа недокрут шурупа. Увертюрой к минувшему дню Было чёрное яблоко, Что Мне принёс сумасшедший садовник, Хохоча и гримасничая, С куртуазным поклоном; А под вечер Я видел, как он В саду, в углу потаённом Красит в чёрное белый налив И плачет... и плачет... и плачет... Кто ж скрутил сякой шуруп, знаем только ты и труп. *** 2. БЫЛЫНЕТ Звезда Упала в синь океана. Там её по частям, Точно корм, растащили рыбы. Под тяжестью звёздного корма Они в глубь океана спустились, И стали светиться в глубинах Жемчужным дымчатым светом. Был поэт. А теперь его нет. Хоть он и жив ещё, тута, но не пишет стихов почему-то. Вот поэтому-то и не поэт. Был и нет. КРУГОВОРОТ На небе Бог, а под землёю чёрт; а по земле река людей течёт, из неба изливаясь, чтоб упасть, журча и извиваясь, чёрту в пасть; а те, кто отжурчал свой срок недаром, назад на небеса восходят паром. Памяти М. К. Чюрлёниса Так на Земле появились Глубинные рыбы. *** Седой мулат, Одетый в домино, Двух белых коней Гонит в недра ночи, Туда, где все отчетливей окно Вдали становится, Как мысль между строчек. *** О, знаю наверно – умру я не весь, останется лёгкая взвесь – искрящим снежком покружит на ветру… Нет, весь не умру. *** Загорится огонь высокий – Звезды затмит. Загорится огонь далекий – Душу разбередит. Загорится огонь ласковый – Сожжет дотла... ОБРАЗ И ЦВЕТ Угли жаркие рдеют, Утром будет зола. *** В присутствии чёрного цвета – Цветные рождаются мысли, В присутствии чёрного цвета – Цветные вершатся дела, В присутствии чёрного цвета – Мы родились и выжили В мире, где слово «рукопись» Синоним слова «зола». *** Я смотрю на апельсины И думаю о солнце, Которого нет сегодня И завтра не будет – Такой уж здесь климат, И к этому надо привыкнуть. 65 Но я не хочу привыкать. Я беру апельсины И в постное небо Швыряю их, сколько есть силы! И когда они падают, Швыряю их снова и снова... Пусть будет такое солнце, Если нету другого. *** Огромная комната – Пустая и длинная, Лампы синего света Горят вполнакала; На табурете – Широком и прочном – Сидит в одеянии красном – Палач И чистый топор осторожно Баюкает, точно дитя *** Огонь был ласков и понятен, Вода спокойна и добра, И мир был полон белых пятен, И голубого серебра. *** Комната с эркером, Круглый обеденный стол, Пыльные стёкла, В потёках голые стены, Кожаный старый диван, Зашарканный пол... Не было, нет И не может быть здесь перемены. Старая женщина Тихо сидит за столом И осторожно Старого ворона гладит... А за окном Листопад подаёт, Христа ради, Золото всем, Кто нуждается в нём. 2 Маленький старичок, Тихонький старичок Под меленкою сидит, Крутит цветной волчок... В голой, знобящей степи Крутится ветрячок, Перетирает в пыль Все, чему вышел срок. *** Выпал снег – Карусели в снегу, Точно детство Застыло на полном скаку... Впрочем, день обещал быть погожим, И капель говорила о том же. *** Я в переулках осени брожу, Как гость, который Может в миг любой Собраться И уйти к себе домой... А осень сыплет за спиной цветной листвой, До срока хитрости наивной потакает, И близких заморозков время прикрывает Лукавою осенней теплотой. *** Мысль должна быть нежной в профиль, Мысль должна быть жесткой в фас, В кожуре, точно картофель, Чтоб хранилась про запас; Чтоб костер, толпой зажженный, Не обуглил душу ей, Но под коркой – сохраненной Оставалась сердцевина... Мысль должна быть, – как калина: В лютый холод – лишь вкусней! *** НА ЯЗЫКЕ СЛЕПЫХ 1 Холода наступили. Руки сложив на коленях, Старец у ветхого дома Сидит неподвижно. Снег струится по голой земле, Солнце за черною рощей садится... Старец сидит неподвижно И смотрит на солнце, И что-то все шепчет и шепчет, Не переставая... ВАЖНО НЕВЕДЕНЬЕ 66 сидящего только вставшего не одевшегося воскресшего – неведенье бога важно важнее неведенья прежнего небо пустое яркое сухостой поломанный низкий никого почему не жалко никакой обретённой жизни но каждый молящийся зреньем – как солнечного ожога – я знаю – я жду воскресения всякого мне чужого труд безмятежен и сложен руки чужой не хватаешь: предательный и предложный когда ничего не знаешь работа малая землю исполнит сама и снова чужая рука не подъемлет – не знаешь вперед ни слова проснется когда осязание и пота жгучее миро: важнее его незнание перед сотворением мира ЗДРАВСТВУЙТЕ, АНГЕЛЫ Конокрады с ногтями – досиня, Вот адская репетиция: Братья не помнят Иосифа, Могло, говорят, и присниться. Стой – не дыши – не двигайся: Струнные, странные связи. Мир вертится и дыбится, Пуповиною опоясанный. Избегнуть, быть исторгнутым – От лиц любовно лепленых – Издерганный, истроганный Их нежным благолепием. Из ловких ускользающий – Излюблен до трахеи… Рык ангелов ломающих, Орут – как бы глухие. Рта город не раскрывший, Лишь воротивший скулу, Сорвавший горло пищей – Глотает хлопья скупо. Ни – своего, ни – свойским. Не шевельнуть гортанью… В тьму – рек, и рык, и войско Исходит снежной бранью. И МИР БОЛЬШОЙ не новый год а день случайный не обессудь но свет не ночь как одиноко и печально идти под первым снегом прочь и выхлопом такая слава придавит лоб с ней в унисон и серый снег такой же плавный целуй лицо целуй лицо но что тебя заставит плакать среди громоздких тел машин между стволов смотри собака и мир большой – стал небольшим СТИХИ – ЯЗЫКИ СЛЕПЫХ в чёрную меру ныряют, лёгких меняя вид, – белую кожу лакает, ворочается, говорит, солнце воротится точкой, видимое со дна. дно вышибает бочки и уши пронзит тишина. так покидают гробы. язык, на ощупь смотри, влажность слюны распробуй – это волна внутри. так проникают Бога, а Бог проникает их. не видь: очевидного – грохот, слова – язык для слепых. СВЕРХУ – СНЕГ как же прост и обнажён и гол твоя правда и твой холод чист но когда-нибудь избавь от злого просто снегом впереди ложись человеческий язык слеп с чернотою вместе собрались посмотри в оранжереях свет ты единственный на мир солист и метель ласкает горло нам снег на день – еще на день – жизнь ты душой моей владеешь сам а теперь ее в меня сложи вот что значит белый – хлеб днесь подожди же и меня когда теперь я всецело есть здесь сверху – снег ах посмотри туда SPIEL REIN Meydl, meydl, kh’vil bai dir fregn... я вор и я пропажа и белый снег и сажа я нож и я язык оброненное горько и терпкая настойка и вырвавшийся крик и схваченное слово расплавленное олово и пища с языка удача с неудачей танцует или плачет под стуки молотка 67 он сам удача и обмолвка тюрьма или котомка бегу – чтобы найтись и гальку – душу в тело бросать чтоб засвистела защелкав стая птиц я вор твой и твой пахарь пастух я и собака обронен и знаком и утренняя птаха и рыночная плаха я пар над котелком скажи что выше дома что небу незнакомо и чем проворна мышь смотри дым улетает и зерна прорастают взяв камешек стоишь на радостях ли стонут – уловка от закона припарка от судьбы приправ и желчи тяжба смотрю что же он скажет не горько горько бы 2. язык ли твой не понять – вертишься на языке. к морю приходят опять, когда пребывают в тоске. сам выходи из вод, если захочешь взыскать – найди на меня – и вот – в самый громкий раскат, в чёрствое злое зерно, в сыплющий в море снег – темно, и дышать темно, и букв тоже нет. ножом, чешуёй звеня, мясо сложи им в рот. заступишься за меня но не ступай вперед. оставь меня – рыхл и гол – волнам, шипя, пинать. а сам Он – один глагол – и мне его не узнать. ЛЕВИАФАН ГЛАВНОЕ СЛОВО 1. там где идут корабли – чистый ужаснейший зверь в его непонятной крови горячая снежная бель КУКУШОНОК страх не меня – гляди – и стыд – на меня не взирать! о выходи выходи чтобы со мной играть печальных племен дожди чтобы уши ласкать в сердце моем положи чтобы меня отыскать хлеба возьми с собой сыра возьми и вина и кипящий прибой всё вскипятит до дна только с тобой вдвоём – видь эти спины скал! – в сердце сложу твоём чтобы ты меня отыскал 68 Не били по почкам, и печень не тронул цирроз, За жизнь не доел, не допил, но остался доволен… На шее болтается худенький, медный Христос – Попал под амнистию, прежде чем вспомнить о боли. Грибные дожди. Грибники ковыряют подлесок. Старородящее солнце хранит живот. Фраер фартовый, бежал, забронировав место, Три ножевых, семь пиявок и сотни болот. Ищет кукушка, куда бы приткнуть недоноска, Чтоб отец не алкаш, чтобы мать не гулящая шваль… Воспоминания сгорбились знаком вопроса: Кто меня звал, пока я не расслышав, молчал? Спорят русалки, общак поделить не сумевши, Рыбья кровища ржавеет на блеснах чешуй, Ряска дрожит, чешет спину об дерево леший, Опохмеляется чуть Белоглазая Чудь… Будь помоложе, зашел бы, хотя бы по пояс, Ноги свело от свободы и тайной воды, Осенью хронос, обычно низводится в конус, Петля временная, и прочие байки-панты… Так и стоять, чтобы слушали после со шконок, Млеком парным бавить перебродивший чифирь. Время пришло самому посчитать, кукушонок, Все купола, перед тем как войти в монастырь. Перст на руке – алюминиевых выслуга ложек, Скрючены пальцы – так к Господу тянется пень, Солнце садится, блестит указатель дорожный, Рейсовый близко, санстанция, будничный день… НЕЧИТАБЕЛЬНО Красных глаз не сомкнуть, не встать, Этой ночью опять не спится, Нечитабельна озера рябь, Как помятая Богом страница. Нечитабельна вслух эта вязь из подмокших наречий, Я почти что свечусь, потому как здесь очень темно, Санитар в стельку пьян, плачет в клетке дитя человечье, Все равно – повторяю себе, про себя – все равно… Воздух в ржавой трубе развивает предельную скорость – Это кода мечты, это выдох опального дня, Так страдает, брюшины пробитая совестью, полость, Не касаясь меня, не дотронувшись даже меня. Нечитабельно все, смерть предательски обыкновенна, Не считая мирка, где остыла за нами постель. И палата, и стоны, и мы с тобой в разных вселенных – Только детская сказка, с тотальной нехваткой детей. РЫБАЦКАЯ СКУКА Сеть уловом полна, мы в лодчонке наполненной блеском. Эй, Учитель, ответь, уже скоро? – а то невтерпеж. Жизнь почти удалась, и похожа на рыбное место, Нам бы только глазком увидать, в общем, как ты идешь... Говорили такое! Про хворых, слепых и бездетных... Мы про плотницкий дар твой (нам весла изладил) поем, Но судачат вокруг мужики, еще с прошлого лета: Нам бы, это, взглянуть, чтобы, ну... пересечь водоем... Сеть уловом полна – будут сытыми жены и дети, Даже зуд мошкары вызывает желание жить, Только скука порой, в этой тихой воде на рассвете. Нас не нужно Учитель учить, просто так, покажи! СЛОВО Я вложил под язык два ментоловых глаза медузы, Два сатира на привязи чешут мне спину и пах, А в затылочной доле, покатый, холодный и грузный, Твой неласковый голос, и мой предначертанный страх. Ты ему доверилась, я – тебе, И вот – два укуса на яблоке. Предлагаю двигаться вниз по реке, Чувствуешь, руку свою в моей руке, Но хотя и держаться за руки Здесь все вдвое и втрое, и вчетверо кажется дольше, Я минуту с тобой растянул для просушки белья, Чтобы пахнуть тобой, чтобы донором стать добровольным, Чтоб мой майский озон заискрил в волосах у тебя. Тоже постыдно наверно – знакомы едва, Обменялись, впрочем, кажется, именами, Только третье родится лишь там, где вначале – два, Нам ведь так сказали? Помнишь ли ты слова? Я вот тоже смутно, путаюсь временами. Как прекрасны уроды пока их не бьет коридорный, Когда жмурясь от света они испускают слюну – Только так и любить, по щенячьи визжать непритворно, Вместо свастик, на окнах засосом оставить луну. Разлепи глаза. Слышишь? Я сказал! Будем жить в пещере, питаться животным мясом. Это мой теперь будет тронный зал, Кровью обращу стены в образа, Навсегда твой муж – ты помазана, я помазан. А вчера мы несли бездыханное бледное тело, Там начистили трубы, и видимо ждали уже… Не успевши спастись, она краешком глаза смотрела В напряженные лица, а мы на нее в неглиже. Ты узнала плач, оттого – не плачь, Омывай себя всю, приходи с головой покрытой, Да не пей росы больше стрекозы, Да не вставь цветка больше в волосы – Я отдал тебе кость – не равны мы с тобой, не квиты. Нечитабельна вслух эта вязь заштрихованных венок, Ты бы фыркнула в трубку, обмолвившись про генофонд: Не смотрите наверх, не царапайте в детстве коленок, Зонт дырявый изношен, и тучами полн горизонт. Не упомнишь названия всех зверей, Тропы торные путаешь, мерзнешь в лесу до рассвета. Отчего же больнее мой сон, и злей, Без твоей головы на груди моей, Почему, как и ты, мерзну ночью в пещере нагретой? 69 Я придумал названье радуге-дуге, Я привел нас в дом, где бы дети родившись жили. Я же помню все: и маршрут реки, И касанье горячей твоей руки, Но то слово всевластное, помоги...? – Это главное слово – мы вместе его забыли. ОТГОЛОСКИ У МЕНЯ ВСЕ ЕСТЬ У тебя всё есть, чтобы встретить лето? Спросил так просто, словно поранил без боли. Белотелые люди и статуи чёрных глаз боятся и яркого света. У меня конечно есть всё, кроме... В сон вплетаются посторонние голоса, перезвон трамваев, олеандровый запах... В море у ног опрокинуты облака, по циферблатам башен стрелки бегут обратно. Зыбкие искорки пляшут по лезвию горизонта, витражи рисуют мгновенья цветными полосами. Солнце слепнет и щурит глаза воспалённые, со лба неба откинув кудрявую прядь – след самолёта. Мне сказали: “Жди!” И оставили лежащей на животе на берегу постели: кожа лопнула от пробившихся крыл на спине. Всем, наверное, стало завидно. Ожидание никогда не догонит завтра и вчера не вернёт. Светлые лики птицами летят мимо, как на экране. Скрипка плачет по ним в метро, волны бьются в платформу, притворяются поездами. Изначально всё искало себя, но в конце ничто обретало. У меня есть всё, кроме ночи бессонной, что полна закатом, пьяна мистралем. СВЕТОПАДЕНИЕ (испанский цикл) Волосы отрастут, – меня заверяли. И обкорнали, чтобы на солнце не выгорали. Так и лишаются тяжести головы. Costa Dorada, золотое побережье Испании... здесь с трудом привыкаю к радостям бытия и короткой стрижке. В голубое кафе вхожу, как в образ мальчишки. И остаюсь среди ветеранов на тропе любви. 70 А за плечами мир разламывается на куски, он ещё виден в проёме двери, но мне, как Самсону силу, отстригли память. Это комната отдыха в земном доме войны. Мы пьём сангрию в захолустье счастья и наедине с собой учимся быть настоящими, потому что самые страшные войны ведут внутри. Что нас держит вместе, кроме руки? И того, что ромом горчат все сласти? За крайним столиком улыбнётся старик. Безмятежной улыбкой, бесстрастной. Так улыбаются боги языческие – христианским. Они мир потеряли, но остались в живых. Сколько же мне отмерено боли? Старик расплачивается и молча уходит. Кафе на пляже – не край мира и не конец света, не привал, не тупик, а только середина пути. *** Как море утрачивает горизонт, сливаясь с небом, так я теряю свою суть, ныряя в вечность. Ночь поглощает всех. *** Утром тропинка вела меня к морю сквозь россыпи белых цветов. Пахло солью и свежестью, но не цветами. Я не запомнила их названья. Белизна лишена аромата, как невинность – воспоминаний. Ночью открыла окно – и комнату затопило благоуханьем невидимых лепестков. При свете солнца свечи не зажигает даже бог. *** Время ткёт полотно Вселенной, художники режут его на холсты. Картины, совершённые в глубине немоты предрассветного неба, обретают бессмертие. В этом мгновении тишины проступают черты лика тысячелетий, как в пророческом сне, когда в бездну падает Люцифер, веруя, что летит, а люди видят восход Венеры, утренней звезды, богини любви. Ибо что есть свет, как не бесконечность падения? *** Барселона. В кружении теней платановых аллей два силуэта проявляет свет: красавец-идальго и девочка-шпингалет. Этот сон наяву я лелею, как шедевр, как тайное наважденье... Её тонкие ножки слоников Дали, чёрное платье-мини, в вырезе на спине то ли родимые пятна, то ли шрамы. И абрис выбритой головы в солнечном сиянии, как в нимбе. Сотни испанок с длинными жгуче-чёрными волосами прильнут к его груди – и сгинут в чужих объятиях. А за неё он вырежет пол-Каталонии. Как же она смеялась! Это дьявольский смех, так смеётся сама любовь. Я бы шагнула за ними за пределы картины, на край света, но поднимаюсь по трапу в самолёт – в осень, как на эшафот. И клянусь себе написать роман о городе вечного лета. Где кричат зелёные попугаи, собаки за мячиками в фонтаны ныряют, улочки пахнут горячим хлебом и оливковым маслом, а на их перекрёстках расстаются только трамваи. Я теперь знаю: памяти постоянство постигают в неутолимой тоске по раю, безвольно отступив под сень платанов, – став тенью среди теней. *** Осень – время memento mori, ежегодная пантомима природы. Помни: мы все заменимы, как клетки сверхчеловеческой крови. Умрут одни, народятся другие. Падают листья. И молчанием скорби опечатан мой город. Замкнуты все уста: и летних веранд кофеен, и домашних окон. Осенью я превращаюсь в прах, замурованный в четырёх стенах. Пью не пьянея, не испытываю ни голода, ни насыщенья, шью плащи по чужим меркам и ношу на чужих плечах. Осенью трудно в себя поверить, это время, когда моё отражение рассыпается в зеркалах. *** Но снится мне Таррагона, воскресший в Испании Рим. Как воскресает он всюду в мире, коронованный временем пилигрим, образ вечного возращения. Если бессонными и бесчисленными ночами созерцать с гостиничного балкона камни древних развалин, станешь философом. Живительно одиночество покинутых всеми окраин, мертва толчея мегаполисов. Окаменевший Пилат смотрит в море, постигая своё запредельное постоянство. Больше не дрогнет, в истине не сомневаются. Плащ его с кровавым подбоем на ветру, как на костре времени, испепеляется. Ветер – враг памяти, пепел – цвет руин. Я вылавливаю слова из камня, как сокровища затонувших кораблей из морских глубин. – Так всё-таки, куда ехать? – спрашивает таксист, – – Я не знаю, где римский акведук, но знаю, где Pont Diabolo у реки, поросшей кедровым лесом. Что ж... Докури последнюю сигарету, смертник. Поскользнись на камнях моста, упади, в кровь изранься. Люцифер не признает иных чернил. Бог и дьявол сливаются в ипостаси Венеры, римской богини любви. И ты веришь, что сможешь создать шедевр из этих тёмных и страстных снов, превозмогая землю, материю, свет, отчаяние и любовь. Искусство предназначено для безумцев, отвергших богов, придуманных для смирения с непостижимым. А ты падая освободилась от их оков. *** Нить судьбы человечества парки прядут из наших волос. И пока умираем – пряжа не кончится. Кем бы ты ни был, время наматывает на веретено. Хочется после себя оставить кровь и песок, а хватает только на пыль и сукровицу. 71 Пепел вчерашних солнц не вспомнит, как был очагом Вселенной. Вырежи из страницы птицу – улетит, но не превратится в феникса. Так не сберечь письмо от огня. Недописанное не горит, сила – в словах на конце пера. ХРАНИТЕЛЮ СТРОК Ты живешь себе и не знаешь... Это я пишу твою жизнь каждый миг в каждом выдохе, каждым словом, каждым шагом по гулкой платформе, каждым судорожным глотком остывающего в кружке кофе, каждой складкой бессонной постели, неумелым мазком акварели, черно-белым кадром, красным вином, полуденным солнцем на теле, слезами, разбавленными дождём, теплом на губах чужих, и оттого несмелых... – В городах по пути отчего-то всегда наступала зима, а хозяйки дворов постоялых зябко кутались в дырявые шали. – Мы с тобой и сюда опоздали. – Деньги, ласки, слова промотали. Ямщику нам едва ли будет чем заплатить. – Но пока мы с тобой заодно, согласился бы ты всю дорогу с начала со мною пройти? – Да. Но нам не дано. Никому не дано. – А давай убежим? Я ПОХОЖА… Я похожа на северный ветер, что врывается в летнюю ночь. На дыхание сломанной флейты, на стрелу, на пролитый скотч. Я из слов закинула невод на самое дно души. И тяну на небесный берег всё, чем мы на земле грешны. А когда я падаю от усталости, – это ты меня поднимаешь, чтобы голос мой не умолк. Средь людей инородным телом я осмелилась быть – и жить. И стихом моим белым-белым пребывания не искупить. БРОДЯГИ СТОП-КАДР Ночь. Дорога. В кибитке – двое. Белый град. У порога пала последняя лошадь. Хлещет дождь. И заперты все замки на воротах. Голая ведьма одета в ночное небо, в отсветы пламени, в древние символы на камнях, в первые песни. Она – земля, и растворившись бесследно, в иное воскреснет. Бродяги ищут спасенья в словах, слова – щит и меч, и плащ от дождя. – Больше нет вина! – А вины на сотню острогов... – Замолчите! И не стучите, – ворчит ямщик. Открывают раскаявшимся. – Как он выглядит? – Я не знаю. Хоть кто-нибудь видел время? Везёт, на нас не оглядываясь. – Говорят, было время, ногу в стремя, соловьиное пение... – ... потом звездопад, истошные вопли цикад, посвист ветра и – тишина. 72 Наша ж броня не спасает от гроз: молнии железо притягивает. И отношение к жизни «всерьез». Знаешь, такие письма пишут десятилетиями – и получается то ли роман, то ли повесть. А киносцены снимают флешбэками: после титров «все умерли» и ЗТМ – кадр, засвеченный солнцем, нездешний и невесомый! Ты посмотри в глаза любому и увидишь тот миг как печать на сетчатке: город счастья, волна, шаги по брусчатке, под ногами кипящее море, и соль на губах от вина кажется сладкой. Звезды сгорали и падали, а мы на углях танцевали почти до утра. Знаешь, ты возвращайся в тот кадр иногда. И сохрани меня под закрытыми веками. БАХ И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ *** поэзия дура стоящая на перроне уронит платок под поезд и улыбается глупо словно ворона на ветке или собака в тамбуре спящая не от того что темная а потому что спится ночь забытая на полке потерянные документы поэзия взвешенная частица лицемерие ангелов пишущих в стол думающих иначе чем думают все остальные стоящие на перроне проезжающий поезд никого не остановит все уезжают все возвращаются только поэзия дура набитая кривотолками стоит себе кусает губы красивая и бестолковая ну кто на неё позарится непутевую не новую с ребятёнком с чемоданом с натянутой улыбкой но такую красивую в своем бессилии и величии бессмысленного стояния на перроне вселенной *** мой папа Бах и его сыновья я ничего не имею против своего «я» если оно не имеет ничего против ТВ и все остальные друзья говорят мне: «меня не трогает суета сует» лет этак через восемь – десять появится сообщение в прессе жизнь ничего не представляет из себя потому что наполнение жизни переполняет ванну и льется на пол затапливая соседей медведей и домашних хомячков всё остальное зависит только от тебя Бах и все остальные друзья Заппа Папа и Далай Лама спящий в нирване что вы подскажете мне сидящему на краю пропасти спастись невозможно возможно только жить дальше сутра Баха положенная на тибетскую чашу виолончель и бубен ты моя последняя надежда одежда которая прикрывает нагое тело дело номер двести тридцать девять дымы выходящие в двери в моей вере всего пару слов и одно местоимение место где всё заканчивается не начинаясь *** в кинематографе хаос нормальная вещь воздух всегда немного не логичен как стул или гладильная доска поставленные у двери нынешнее поколение режиссеров всё норовит человеческое украсть у веры или веру украсть у воздуха не суть важна важнее отсутствие сути утренний свет похож на диалоги какого-нибудь студенческого фильма крошки на полу и её босые ноги хотя что здесь необычного хаос всегда более понятен нам искушенным зрителям нежели порядок рядом всегда можно поставить окно прозрачное что твоя рука рассматриваемая насквозь озеро наших комплексов ничего более даже боль один из комплексов упражнений 73 движение души засчитывается только в кино в реальности одни титры еще могут кого-нибудь заинтересовать своей краткостью и холодной расчетливостью *** я спокоен почти как Шекспир в начале нашего века у человека нет ничего кроме самого человека кроме воздуха в лёгких и немного крови на губах даже у снега со всеми его недостатками есть много самых различных оттенков обозначающих самую малость например синеву в прохладном морозном воздухе или твои ресницы в инее словно ты выдохнула весь этот мир тёплый как настольная лампа и забыла вдохнуть обратно у времени есть много оттенков но так мало точек пересечения например нашего молчания сэр Уильям Шекспир и его отчаяние что они знают про нас час ушедший во тьму мелочи и снега глобус забитый ногой под диван я спокоен почти как книга прочитанная уже в пятый раз и лежащая у изголовья до следующего моего безумия *** оттянулись по взрослому Рождество по Бродскому метафорически это можно представить как венецианский погром утром стеклянные крыши кажутся под углом наклона ко всему что ещё неуловимо херувимы ангелы и пилигримы ты нарушаешь правила правописания а правописание нарушает твои и всё катится в тартарары Испания с королем испанским сюрреализм с Сальвадором Дали мне кажется поэзия подобна Венеции утопленной не согласными с новой поэтикой немцами местные куртизанки читающие стихи восхваляют Иосифа Бродского и отдаются первому встречному графу Тоски потому что начинают думать по взрослому о карьерном росте и о понтах на личном фронте 74 знал бы Иисус к чему приведет его Понтий Пилат и его чувство собственного достоинства волхвы опоздавшие на поезд пьют на вокзале дешевый коньяк и вспоминают Венецию и весь этот бардак с затопленными каналами и ангелами во плоти если хочешь жить значить должен платить даже не деньгами кому они сейчас нужны расплачиваются любовью а она еще что-то стоит в городе который стоит на сваях по-середине души и кто-то читая тебя губами шевелит Рождество по взрослому пустота заполняется смыслом потому что у Бродского высланного из империи чувствуется вера и что-то еще что не рифмуется ни с тем ни с этим как ни старайся *** Джейн Биркин лежит на снегу с биркой на большом пальце правой ноги враги убили её кричит мой рот и глаза серые словно дым из труб город дышит спит и перечеркнутый невидимыми линиями которые в медицине называют инеем ничего не слышит дышит большим чудовищем играющим на контрабасе автостоянок Джейн Биркин отныне живет в себе как какая то религиозная идея или отсутствие таковой как бы это не звучало абсурдно она говорит мне дурно потому что ничего не надо бояться остаться или не остаться все зависит от тебя и от того что написано на бирке Джейн Биркин не плачь маленький палач пальцы её холодные словно решетки ограды зимой в парке имени Бедного Дедушки Ницше ты прощен и блажен словно Августин и его сын Августин повторяя навязчивый привет там ничего нет кроме того что мы сами несем с собой она лежит похожая на куклу Барби потерянную прошлой весной иллюзия смерти также как иллюзия жизни благотворно влияет на воображение любое движение во благо как и любовь движение Джейн Биркин и её тысяча капель валерьяны спасение во имя спасения пряные губы пьяное воскресение губы её теперь все в снегу потому что врагу не пожелаешь того что происходит с Джейн Биркин и её страной она лежит на ветру морозном словно шкура убитого белого медведя и ты пытаешься поднять руку чтобы закричать хотя бы руками потому что твой рот забит одними словами так и жизнь захламлена чужими идеями и ты мечешься выискивая её в темноте как будто можно именно те или не те слова найти сейчас Джейн Биркин и её счастье улетает самолетом в один конец так и бывает жизнь только касание смысла и падающий снег тает на еще теплых губах и лбу высоком словно технологии клонирования любви *** такая страна Норвегия соленная словно шоколад «Аленка» поднятый с утонувшего танкера Норвегия еще одна утопия напечатанная в «Урядовом Віснике» я пишу на самодельном плакате «Освободите Брейвика» надеясь на самое доброе что может найтись в сердце клерков Его Величества Брюса Уиллиса III введите чрезвычайное положение танки поставьте на улицах патрули проверки документов со сверкой в социальных сетях но только освободите Брейвика из тюрьмы нашего грехопадения нам до сих пор кажется что Норвегия севером пахнет морем и робкой зеленью а она расцветает смертью и слезоточивым газом её улицы забиты прохожими как забита свая в основание здания будущего или прошлого но основания так кирпичик к кирпичику и ходим по краешку выбрасывая руки в приветствии освободите Брейвика терпящего бедствие перекройте фиорды досматривайте всех рыб любая идея как и любая девушка требует первого мужчины независимо от знания и веры в светлое будущее а всё остальное бредни смерть как говаривали викинги переход из одного состояния в другое и Боги смотрящие за Норвегией могут спать спокойно освободите Брейвика и вы освободите себя от того что топит корабли в ста милях от пункта прибытия *** пребывая в самой настоящей глуши хочется покоя и немного поп-корна чтобы насладиться зрелищем убиения младенца Матка Боска Линда Евангелиста и её сын Иероним Босх душа бродит по окраинам империи Палестина Эритрея Галия поиски мессии и его свиты святые сады отданы в аренду на девяносто девять лет и барыши уже поделены и Луи Виттон и девочки в красном 75 и сладость побед мне кажется что тело больше чем символ тело цепь событий и образов говорящая голова фильмография Святого Гавриила никакой религиозности одна только вера в того единого кто смотрит за нами в глазок своей камеры запертый самим собой не дай Бог допустить нас до понимания сущего всё что он должен был он уже сказал нам при нашем рождении даже если мы не хотели этого слышать *** римский император Диолектиан в пылу спора с римским гражданином Эзрой Паундом говорил если мы пишем в своих письмах «прощай нам не стоит больше встречаться у тебя своя жизнь у меня своя мы разные словно берега Африки и Испании» не значит ли это что больше всего на свете мы хотим видеть именно этого человека в противном случае мы просто ничего не говорим никаких «прощай» никаких объяснений просто вычеркиваем из телефонной книжки из библиотечного каталога из списков римских сенаторов из реальности все эти «прощай» нужны только для того чтобы нас остановили те кого мы любим и кого ждем каждый день каждый час даже если всё это выдумка императора Диолектиана и его больного воображения охраняющего тылы империи 76 *** космос затягивает как затягивает алкоголь как затягивает любовь чаще всего Его гетто величиной с мир даже если всё повторяется ничего не повторится ты думаешь что ожидание что-то решит согрешить согреться растеряться тебе придется долго ждать погружаясь в басовые рифы медленные словно мосты через зимние реки космос что-то из области химиотерапии в тебя накачивают наркотики а ты видишь только свет и слышишь только Её голос бестолковая затея жить в себе нарушая запреты повторения неповторяемого словно разговариваешь с собой не слыша себя *** Борис Леонидович Пастернак был человеком старой формации никакой информации только чистое воображение движение лишение и еще много Бога хотя разве может быть Его много Его всегда не хватает когда за сердце хватает тогда даже о рифме не думаешь лишь бы вдохнуть осторожно а можно и не вдыхать не выдыхать так и остаться с Ним наедине Борис Леонидович Пастернак жил не так как все остальные или не жил сейчас уже не важно важнее совершенно другое отсутствие Бога не нарушает течение жизни так как Его присутствие *** всё в этом мире символы чаша Грааля и кровь Христа нефтяное пятно на знамени всемирной справедливости поэзия символизирует полет нашего тела но никак не сознания смерть даже одного человека крах всей системы ценностей где та грань где начинается месть за ряды крестов у дорог с рабами Спартака Локомотива и Динамо Итака Финикия Карфаген один ген отвечает за любовь к своей стране другой за ненависть не много ли Бог дал нам не много ли мы берем на себя гении сурдоперевода на язык войны Хароны своего будущего наши лодки хороший бизнес проект с неплохой рентабельностью вкладываешь 30 серебреников получаешь все 100 вот только не понятно еще что ты предаешь в первую очередь себя а после нас хоть Пол Пот *** эйфория страха затрахали ахали словно космос вывалился из ладоней Будда сказал если будет полный зал вводите Его по частям одна часть морфия одна часть охры одна часть ВОхры мы ведь нуждались в ней люди всех умней над ней и в ней истина всех дороже бьёшь по роже и чувствуешь удовлетворение от самого страха даже тех кто ничего не чувствует пропустило через истину стена плача у палача опять ничего не получается кроме самого палача ангелы у которых все хорошо люди для которых всё решено но остается один вопрос что человеческого в человеке и что дьявольского во всем что мы считаем самым обыкновенным делом ВСПОМИНАЙ МЕНЯ, КИММЕРИЯ! КОКТЕБЕЛЬСКИЕ СТИХИ 1. Отгремел, потонул вулкан, Потемнел Карадаг от зноя; Хан ордынский ли, богдыхан? – Бог дыхания и покоя. Исполнительный исполин Умиряет ладонью воды, – Лег меж морем и небом клин В первородные дни Природы. Мара, марево, молоко Заливает сознанье далей. Оговорку простит легко Снисходительный бог деталей – Обитатель горы Святой, Жаль – дорога к нему забыта, Словно мысли пережитой Переменчивая орбита. 2. Вложи, неверная рука, персты, – В ответ раскроет смыслы сад. Акаций белые акафисты Поют нездешний аромат. Их служба истовая Господу, Что слово – чистому листу. Окликнуть разумом непросто ту Бесхитростную простоту. Она, на плечи гор наброшена, В сознанье просится – века. Над мыслящим челом Волошина Ягнячьей шапкой облака Сошлись, живой водой до дна пусты, – Ждет грозового слова гурт, И вслед – хореи и анапесты По склонам ливнем побегут. 77 3. Ночь по грудь замело стихами. За Рождественскою звездой Хлынет лодка, всплеснув руками Над густой смоляной водой. Сапогом оттолкнется берег, Уплатив обол каблука; До каких пролилось америк Русло русого языка?.. Мимо летней плыву поляны, Разнотравья гудит метель. В чашках гнезд луговых – изъяны: Иван-чай пролил коростель. Тормозок его наготове, Посошок – под крылом сырым, К холодам заскучав по мове, Он пешком удирает в Крым. Вспоминай меня, Киммерия!.. Виноградный целую рот, Гладя губы твои сухие, Трону голос – медвяный сот. Разглашаю твои депеши: Осень катится под уклон, Оборонные чертит флеши Виноградарь-багратион. Ввысь порывом летит умелым Митинговых снежинок гам, Море черное снегом белым Завалило по берегам. И под крохотной церкви звоны Над главою холма-волхва Расцвела на зубцах Короны Провозвестница Рождества. *** Не гранить диамантов тебе, мой друг, Заговорщицких песен, что кличет Див. Не направит парус сосновый струг К берегам Андаманов или Мальдив. Где в упор к декабрю подошла зима, – Встанет в горле льда родовая кость. Басурманского клекота бастурма – Новый строй твоих арий, восточный гость. Здесь иной варганится тарарам, Не под звоны лютни летит трамвай: Загремит патриарший курбан-байрам Головой Берлиоза в бараний рай. Говорят, Андаманы хранят язык, On-demand востребованный едва. Мне в пути не трудно, я ждать привык, Я найду потерянные слова. 78 *** В лесу – почти еще зеленом – Стоишь, как выгоревший сруб. Ты был моим Лаокооном, Расщепленный грозою дуб. С тобой не виделись два года, И вот, в буграх тугих корней, Твоя высокая природа Умном ́ у взору всё ясней. Ты старше стал, а я тем боле, – Не ровня наш подлунный век. На убыль плоть идет, но воля И дух опережают бег Осенних лет, и нас с тобою За зримым краем бытия Ждут совершённые судьбою, Свободные – как ты и я. *** Татьяне Тихоновой Дом похваляется крышею; та – коньком; Ну а коньку чем хвалиться, – листвой сухою, Ветром несомою? Флюгером-петухом? Птахой – насельницей комнатки под стрехою? Или уздою, короткой, как окрик? Вмиг Взмыть на дыбы – и на волю. – Гуляй, разруха!.. Будет чужое болото хвалить кулик, Да не доскачешь дотуда – в своём по брюхо. Ветер разносит на разные голоса Сказки о райских тосканах или равеннах Там, говорят, черепичные небеса И облаков балконы на синих стенах. Там только смерти нет; трудно ее застать, – Снова в отлучке, в дороге, в командировке… Там дольше жизни придется автобус ждать, Целую вечность – на остановке. *** Аист, намаявшись, с облаков спускается на стерню. Утром – тумана плотное молоко по берегам реки. Осень протягивает мне голую пятерню Левой сухой слюдяной руки. Может быть, правая – не хороша, как ладони пустой хлопок? Может, с чужими она левша, лепрой вины горит? Знает то свой, то иной карман, как сверчок – шесток, Следует по пятам, милостыню творит. Может быть, левой ухватит хлыст пристяжной ездовой зимы, И – замерзай, ямщик! – перед миром чист, пред любовью – стыдом пылай. Правою – вожжи лета держит, дышит, почти как мы: Повремени, постой, смертью не умирай, Жизнью живи, кружи августом над стернёй, Утро парным туманом, сладкой росой пои. Что же капли дождя сбежались – дворней или роднёй – Праздновать похороны твои? *** Боком сорочья присказка скок-поскок, Ложки серебряной хватким глазком ища. Катится Солнца розовый колобок Долу к закату – что пуговица с плаща. Пляшет, блажит на носу Мировой Лисы, Кончит припев – и как не было храбреца. Пустятся вскачь, улепетывая, часы, – На циферблате растекшемся нет лица. Дерево Жизни потянется, пустит сок, – В глубь головой, в корень зрит, роет суть вещей. Только покажется: сон бытия глубок, – Тут и начнется побудка его мощей. Солнцеворот. Ускакал колобок от зла. Близко филипповки – строгая благодать. Значит, зима брюхатая понесла: Месяца три, ну, четыре от силы ждать. *** Звезда вечерняя взошла; Уже не вспомню я: Моя ли жизнь это была? А может, не моя. Коль парка участь напряла В подлейшей из отчизн, Моя ли жизнь это была? А может, и не жизнь. Душа, чуждаясь духа зла, Не выгорит дотла. Моя ли жизнь это была? А может, не была. *** С ветки глядит скворец (Солнцем расшит мундир), Словно с небес – Творец На рукотворный мир. Люб он ему, не люб, – Тёмен мотив певца; Полураскрытый клюв – Циркуль в руке Творца. Этот кивок-ремейк Довременных эпох Знал огородник-Блейк, Сея миров горох. Это его апрель Хлынул в мое окно. Ангельской книгой Тэль Света дрожит пятно. К СОЛОВЬЮ Соловей, неприметный солист, Рядовой перелетного мира. Это цоканье, чмоканье, свист, Клокотанье, струенье эфира – Заклинанье беды мировой. Зачинается круг годовой. Соловей, воскресающий бог, Сколько раз горло смертью знобило. Солнца спутник, ты выдержать мог, На покой провожая светило, Набегающей ночи напор, Духов мрака хохочущий хор. Соловей, неизвестный солдат, Голос чести не тронет обида. Не собьется мелодии лад, Как Орфей на пороге Аида; Одой жизни пройдешь до конца, Хоть не видишь подруги лица. Соловей, этот трепет и стон, Транс листвы, веток черные вены… Помню: камни скликал Амфион, Вел их рокотом лиры на стены. Принеси Песнью песней своей Соль небесной земли, соловей. *** Ждешь, паучок-почтмейстер: время ли запрягать? Будем сидеть на месте, сущее постигать. Вдумчиво под сурдинку ловко скатай в клубок Липкую паутинку. Да не оставит Бог Мыслящих маловеров, знающих: испокон Скачут полки курьеров, имя им – легион. Черные, как галчата, службы влачат ярмо. Может, ты распечатал и прочитал письмо? 79 Как ты посмел, кромешник, сеятель слов кривых!.. Что́ разглядел подсвешник в сумерках восковых? Лист ли бумаги чистый, пепел ли «Мертвых душ»? Будет тебе кремнистый путь в вековую глушь – К тетке, в Тамбов, в Саратов, в рай комаров – Сибирь; Каторжников и катов – всех отпоет снигирь!.. Впрочем, «литература» – эта твоя вина, Солнечная тинктура, температура сна. СТИХИ О ЮЖНОЙ КАМПАНИИ 2014 ГОДА 1. Скребет бумагу карандаш И в мыслях раскардаш. В ушах кипит бараний хаш, Шипит: «затокрымнаш». Легко для смертных – вас и нас – Погаснет шумный день: Ворвется вежливо спецназ, Береты набекрень. Порос бурьяном путь назад И рвется с миром нить: В менталитет заградотряд Засел, – не отступить. Гуляет «Град» по полосе Погодного вранья. Живи, как все, – сойдешь, как все, В позор небытия. 2. Кто приносит новости невесте? Может, «горний ангелов полет»? Аист ей квитанцию «груз 200», Что нашел в капусте, принесет. Этим эвфемизмом эфемерным Так пристойно трупы называть. Обещает встречу с другом верным Цинковая узкая кровать. Что там Шигалёв иль Карамазов… Мы вросли в иной, крутой маршрут. Сотен смертью мазаных КамАЗов Двигатели ночью заревут И домой потянется гружёный Воровской конвойный караван. Наши жёны – ружья заряжёны… «Град» и «Смерч», «Игла» и «Ураган». 80 3. СКАЗКА Помню, среди с неумеренностью читавшихся, Странную сказку из детства, хотя был мал: «Гадкий Путёнок – с насморком, из неудавшихся», Андерс… Фог Расмуссен, кажется, написал. Хваткая память, верней размашистый след бери, Вспомни развилку, где время пошло не так. Бабочку что ли прижал ненароком Брэдбери, Нам завещав с пауками пустой чердак? Рос недоносок, мечтал о парадных – раструбом – Черных как смоль галифе, примерял оскал, Млея от мысли: вот вырасту – стану ястребом, – Выросла курица в профиль, анфас – шакал. Лучше, быть может, Кунсткамере быть подаренным? Ватно-спиртовая теплая благодать… То ли на воле? – если запахнет жареным, Эту «воляй» и собаки на станут жрать. Только историку снедь эпох одинакова: Модный профессор, мартини плеснув в бокал, Скажет: «Смотрел газеты “времен Очакова...”, Впрочем, впустую, – быстрее бы скан листал». БЛИЦКИГ, ЗЕРГУТ, АЙСКРИМ КАЗИНО Сон разума рождает кочерыжки Мы веселы У чермного стола Метаем фишки Как всегда На черное И девы нам готовят клофелин Мы замолкаем Ибо властелин Решительно поставил на зергут Порою он бывает слишком крут Он думает Мигнет Махнет рукой И все умрут А нет Ничто не происходит Поет оцифровленный Джо Дассен И тихо Не устраивая сцен Охрана убирает Труп фруктового салата Погиб банан И все знакомо Чет Нечет Стекловата Что из-под плинтуса торчит И русский мир И украинский свит И что-то нежное Вордсворт Блок Пост Так стриптизерша Убирает грим Сдирает блестки Мы ёршим Смешивая хлестко Свое с чужим И злое со святым Блицкриг Инсомниа Айскрим Как льдина Я список партии Прочел До середины КУРОСАВА Люди вчера говорили на рынке Император готовит в Нагое Специальный отряд Самураев Они сделаны из стали и моря Они видели смерть И она убежала Они будут сражаться так Как не можем мы Смертные Сипло безвольные Всякий час принимая Рис и лекарства И хуля генералов Находя в сонме наших врагов И отвагу И доблесть И держа в уголке Своего подсознанья Поражение Унижение флага И сто лет мирной жизни Безо всякой тревоги Люди вчера говорили на рынке Они вышли под утро Бесконечное войско Пики Луки Мечи Фляги с кровью Для утоления жажды в походе Дрозд им пел В черных листьях Тридцать тысяч Бойцов С удвоенной жизнью Люди вчера говорили на рынке Они умерли Наши силы разбиты Император бежал Его дети убиты Море вышло на сушу И пожрало посевы К вечеру министерство Прекрасного Завтра Опровергло Сообщения Лживого Мира Все в порядке Мы держим границы Пространства и времени Люди с рынка Расстреляны МОРЕ ОСТРОВОВ Когда они лежали после секса На снятом с ножек диване, В его комнате, В университетской общаге. Она смотрела ему в плечо, А он смотрел, Как по географической карте мира Ползет таракан, Он сказал ей – Я стану богатым и куплю нам остров. Она умерла осенью. Так бывает. Бывало не раз. Даже с молодыми красивыми женщинами. Даже если у них иссиня-черные волосы И голубые озера глаз. Он выпил положенное по случаю утраты. Спьяну проиграл все свое в карты. Ходил по лезвию крыши в черной истоме. Отлежал назначенное в дурдоме, Пугая докторов приступами смеха. Бросил науку и приступил К постройке Империи Успеха. Начал с сахара, сделал пару кидков, Перешел на бензин Работал с туркменами, Открыл банк, разливал «Смирнофф» Потом сеть гипермаркетов, Пароходство, авиакомпания и телеканал. Ровно через пятнадцать лет он сказал Хватит. 81 Все что можно продать – продал, Остальное раздал своим менеджерам, Закопавшим в почву сотню людей, Тех, что мешали Империи. В бизнесе это называется доверие. И вот перед ним огромное море. И тысяча островов на продажу. Ему не понравился остров веселых курильщиков, Ему не подошел остров танцовщиц, Он даже не стал осматривать остров Свободы, Хотя местный диктатор посреднику сообщил Вполне приемлемый прайс. Ему показали необитаемый. Он просто представил, Как сходит с ума от тоски, Когда шторм или штиль. Такой вот санрайз. Тысячи пальм – мимо, Тысячи солнц зря. На карте это выглядело красиво. Небольшое зеленое в бесконечном синем. Все тлен – любовь, острова, моря. В маленьком крымском поселке Есть ресторанчик «Остров». Местная фишка – все официантки Брюнетки с голубыми глазами. Говорят, что вечно пьяный мужик, Бренчащий в углу на гитаре, И есть властитель Империи Успеха. Впрочем, не думаю. Скорее, какой-нибудь бард-неумеха. ЛУННОЕ СПЛЕТЕНИЕ Если в наш дом Рухнет небо То мы Будем жить В небоскребе Если море сожрет Пятьсот километров И пять миллионов Граждан Ты получишь Канны Свою Ривьеру Если погаснет солнце Будет так романтично Бесконечная ночь Детка Чур, кто засыпает Предупреждает Другого Так можно жить Вечно Гладить снежную спину 82 Впиваться В мятные груди Смотреть Как зрачки танцуют Ах, да Ну и конечно Пища японской швали Рыбы, имбирь, жвалы Наши медленно Перетирают Унаги-время Это любовь, детка Грегор нашел эгрегор Молли щелкает пультом По телевизору счастье СТАРЫЙ ГОРОД В детстве У моих друзей Была игра Я в нее играл Но неохотно Мы бродили По улицам нашего Огромного городка И заглядывали в окна Ничего пубертатного Это потом Это был интерес Другого свойства Мы придумывали Новый старый мир И все дома В нем были Посольства Вот старый кирпичный ЖЭК На Егорова Был Дипмиссией Истинного Китая За дубовой дверью Скрипели суставом писцы И гонцы потели Прилетая и улетая А в картинке Где теперь собор И где был собор До картинки Жил испанский гранд Фат и крохобор Осуждающий поединки Он оплел интригами Весь наш мир И блистал рубином На горсовете Но мы знали Зло всегда получит Отпор Потому что Франция Разместилась В горсвете Португальцы пели В своем раю В мраморе музыкальной школы Кис охранник С бердышом в руках И с котеночком На пороге А голландцы сновали Туда-сюда В клубе Всенародного старосты Ка Бывшей нынешней Синагоге Улетали мои подданные Навсегда Кто в Америку Кто в Валгаллу И теперь в нашем городе Все путем По ранжиру И по уставу Только хлопают Ставни былых палат На ветру Ни на грамм не дерзком И обрывки Грамот и ценных бумаг На наречьях Понятных в детстве ДЕЛО БЫЛО В СЕНТ-КВЕСТЕ Женщина, Я пишу вестерн. Про место, Где все на месте. В этом чертовом Сент-Квесте, В этом Неповторимом, Дурацком, Дырявом от пуль Сент-Квесте Сидел В салуне «Вдали от жен» Бригадир шахтеров Красавчик Джон Он пил свой Вонючий Тройной бурбон Он был, в целом, Добрый чудак Этот Бьюти Джон Но сердце его Забилось Не в лад и не в тон Когда В салун Походкой придурка Вошел Бад Соломон Бад был из Балтимора Книги на полке Воскресная школа Бад ценил По и Торо За мутным Окном салуна Ковбои Пригнали волов В Сент-Квесте Меняется запах И кольт у Джо В медвежьей лапе Эй, янки Какая смешная шляпа Нормальная шляпа Отвечает Бад Выстрел И душа его Летит в райский сад Но у архангелов Планерка Потом продленка Им некогда Они отмотали пленку Эй, янки Какая смешная шляпа Нормальная шля В салун врывается С криками бля! Почему не будили! Маленький Хьюберт По кличке БоДидли Он местный начальник И шутить не любит Мистер Соломон Простите Я задержался Ну, допустим, в прерии Прошу, допивайте И ко мне в офис Подпишем контракт Мы здесь очень ценим доверие Но подпись будет не лишней Эй, Джо, подойди сюда Джо, ты меня слышишь? Ну чего ты сразу же сник? 83 Познакомься, это наш новый взрывник Серые глаза смотрят С ненавистью В глаза голубые По спине голубоглазого Спешит холодок И кишечник пускает трели Он уже не беспечный ездок Ему дико хочется на Восток Только поезд через три недели В Сент-Квесте было дело Нашли в овраге тело Три раны пулевые Улыбка на лице И титр Конец В конце. Женщина, Я продам Душу Майеру или Ворнеру Я убью всех ковбоев Тимбукту и Горловки Я заработаю Миллион мани И заберу тебя К чертовой маме ОДИНОЧЕСТВО В СТЕПИ У меня два смартфона Для интернета Я пишу По-македонски С двух рук Держись До подхода нашего лета Друг Мертвый друг Буквы слипаются В смыслы Код Апокалипсиса Совпадает С телефоном Серого Московского офиса Ручеек щебечет По камушкам Водичка Водочка кровушка Ячмень Колосится Косится На комбайн Я – тлен Я помню Время 84 Когда было в диковинку Резать вены онлайн Я погружен Растворен Упокоен В двух Стихиях В степи И в сети Скоро дожди Развезет дороги Не проехать Не залогиниться Не пройти ИГРА В СЛОВА ИЕРУСАЛИМ В отраженном свете столицы вьют, как ласточки, гнезда в скалах мои братья – иерусалимцы, звонкий воздух у них в бокалах. Пробиваясь за рамки улиц, поднимаясь ростком граната, этот город меняет угол отражённого в небе взгляда. Он себе выбирает души, свой витраж украшая синим. И не каждый, к нему идущий, может этот подъём осилить. Здесь бледнее кусты сирени на холмах, где царят оливы, и, как угли, огни селений раздувает ночь торопливо... Можешь в гору ползти упорно, можешь в город нести поклажу. За прозрачным его забором остановит прохожих стража. И, равны у заветной планки, все замрут без тоски и злости. И врата стерегущий ангел нам кивнёт: Проходите. В гости. ИСПАНИЯ Эмилии Вид Камня кружево, лета крошево, окна стрельчатые легки... Нет ни будущего, ни прошлого, лишь минутного мотыльки. Мы летим над седой Испанией, не касаясь её земли. Здесь безумия трон оспаривали музы Гауди и Дали. Мы не помним, откуда прибыли, и не знаем, куда идти. Не считаем потери-прибыли, только дни до конца пути. И, прилежно ушами хлопая, наспех щёлкая все подряд, мы галопом летим Европою, восхваляя её наряд!.. Мы, безумные, мы, беспечные, мы, счастливые в этот миг, вновь шагаем за дудкой вечною, ощущая себя детьми. За корридами и парадами деловито гудит страна. Равнодушно-пустыми взглядами провожают испанцы нас. Лица смуглые, песни гордые, и глаза – виноградный сок. Но история с волчьей мордою чёрной кровью стучит в висок... Камня кружево, лета крошево... Века взлётная полоса. Нет ни будущего, ни прошлого, лишь автобуса паруса. Мы летим над седой Испанией, не касаясь её камней. И, автобусной тенью спаяны, наши тени бегут по ней. В САМОЛЕТЕ Я в наушниках слушаю Эллингтона в самолёте, летящем в Мадрид. Сборы нервные вспоминаю сонно под неровный моторов ритм. И думаю: вот ведь какая штука, лето, прошлый век, утомлённое ретро, я лечу в самолёте и слушаю Дюка, и медовы звуки, как губы ветра... Рядом спят соседи, ползёт столетье. Пятьдесят шестой год. В Ньюпорте – полдень. И в нагретой меди мелодий этих время кажется медленным, нега – полной. Я сижу и думаю: вот улыбка открывает в дороге другие души!.. Вывод правилен, но обобщенье зыбко: равнодушие где-то воспримут лучше. Высота семь тысяч, чего – не помню. Стюардессе – можно в модельный бизнес. Облака внизу. И сейчас легко мне улыбаться с неба чужой отчизне. Но в Ньюпорте – полдень и запах сосен, океан спокойный и ветер гладкий... И покорны волны, и скоро осень. Пристегнуть ремни. Пять минут до посадки. ИГРА В СЛОВА Чудесная игра в слова!.. Немного кругом голова, полночный холод колдовства, очков озябших дужки… И голос, ясный не вполне, шипит, как радио, во мне, вещая на такой волне, что пот течёт в подушки. Вставай, лентяй, бери тетрадь. Попробуй попросту не врать, и время попусту не трать, – записывай подробно. Вставай, напяливай очки, лови, туману вопреки, хвост ускользающей строки, забава – бесподобна!.. Забава будит чудеса. Хоть ночи будет три часа, тебе нашепчут голоса такие басни-песни, что испарится город-бред, и пёс поднимет нос на свет. И смысла чуть, и толку нет, но сам себе – кудесник! ШВАРЦВАЛЬД Колюч и грузен чужой язык и крепок чудесный грог… Приветлив к путникам разных лиг гостиничный погребок. Копчёный окорок, острый сыр, вина золотого блик. Очаг на время, простой трактир – к усталым ногам привык. Здесь розов башенных стен кирпич, и густ колоколен звон. Лубок раскрашенный. Но не китч, – гравюра других времён. А семь пробьёт на больших часах, и ставни прикроет бар. Всем на прощание: «Гуте нахт», а, может быть, «Бон суар». 85 Давай же выпьем за то, чтоб так и плыть нам, покинув док. Пока хранит нас во всех портах нестрогий дороги Бог. Гулять по миру, что вечно нов, и нас никогда не ждёт. Всем на прощанье: «Хороших снов», а, может, «Лехитраот». *** Приближается время страданий и боли, Приближается время старения плоти. Дух, привыкший, как пух, кувыркаться в полёте, Так боится неволи... Приближается бремя нелёгкого плуга И неловкой улыбки чужого участья. Полагаю свободу условием счастья И подобием круга. Пахнет вечер уютом, пирог карамелью, Но пуста тишина, как сиротства примерка. И кончаются праздники без фейерверка, Оставляя похмелье. ЧАС ДО ВОЙНЫ Солнце жалит поселок мёртвый, где любые слова неловки, и границы реалий стёрты близким эхом бомбардировки. Зноем залиты мостовые, море плавится синей негой... Все сегодня пока живые. А что завтра, – покажет небо. А мы смеёмся и пьём вино... Ведь на нас – никакой вины, что от нас на машине час до войны. И нельзя перестать надеяться, хоть недели длинны и вязки. Но в театре военных действий далеко еще до развязки... А мы плачем, и пьём вино... Ведь на нас – никакой вины, что от нас на машине час до войны. НОЯБРЬ Скоро ноябрь грянет, и неба грани покажутся темней... В дом постучит кручина, да нет причины дружить с ней. Выпит до половины настой рябины, рубиновое дно. Бросил огонь каминный край тени длинной на окно. Ветер задует лампу. Обняться нам бы, но рядом воет мрак… Верно, что счастье кратко. И вроде сладко, да не так. Осень в наряде байковом, наливай-ка нам пьяного вина!.. Сердцу согреться дай же, а что там дальше, неважно. Там за спелыми травами станем равными с камнем и листом. И прорастём смородиной в огороде мы потом. Выпит до половины настой рябины, рубиновое дно... Осени глаз совиный косит невинно на окно... ВОЙНА И МИР Нету будущего. Застыло время летнее на исходе. И граница фронта и тыла по пустынным садам проходит. И, привычное к сводкам с детства, крутит музыку поколенье. Но в театре военных действий продолжается представленье. Другая резолюция, масштаб. Урок. Пунктирных веток почерк мелкий. В тетради общей профили и стрелки, – рисунок ручкой в уголке листа. Каракулевый воротник пальто, что скроен в ателье из старой шубы. И запах сигарет. Касанье в губы. Не может быть, я мышка, я никто... А мы смеёмся и пьём вино... Ведь на нас – никакой вины, что от нас на машине час до войны. В Останкино январь. Киоск, мороз. И пончики с лотка у снежной бабы в платке пуховом. До эпохи Барби, до первой пустоты в глазах без слёз... Срывает солнца золотой туман с сугробов рыхлой ночи полог млечный. И мой любимый мальчик, первый встречный, мой первый исторический роман. Рассыпаются взрывы эхом по сверкающей глади водной. Те, кто мог уехать, уехал. Вход и выход – пока свободный. 86 В углу страницы – профиль. Прошлый век. За форточкой – весенняя химера. Урок литературы, образ Пьера. Война и мир. И снег, летящий вверх. СНОВА ОДНИ Мы снова одни на осенней планете. Друг к другу легко вспоминаем дорогу. Всё дальше орбиты, где кружатся дети. Всё ближе сюжеты, где тень и тревога... В гостинице пусто. В глуши деревенской за ужином к месту вино и усталость. И шницель, как вальсы, и легкий, и Венский. И жизни – еще половина осталась. Хозяйские дети, два русых мальчишки, внизу собирают бумажного змея. И воздух прозрачен и звонок. И слышно, как падают листья, и яблоки зреют. Хозяйская старая сторожевая зевает у входа на серой подушке. Я ёжусь невольно, очки надевая, и пальцами грею холодные дужки. Мы ходим на берег гулять вечерами. Селенье, как пледом, укрыто туманом. И в маленьком озере между горами душа отражается в ракурсе странном. Холодное утро. Так тихо на свете. В альпийской деревне – воскресная месса. Как было бы славно найти после смерти для следующей жизни такое же место. ТОСКУЯ, РАДУЯСЬ И ПЛАЧА… *** Когда о самом сокровенном Сказать желаешь каждый раз, Так трудно вырваться из плена Дежурных и банальных фраз. Дар красноречия искусство, Но, мысль конечно не нова, Когда преобладают чувства, С трудом находятся слова. И юноше при первой встрече, И мужу зрелому не в срок Влюбившемуся, косность речи И робость, право, не в упрек. *** Поэт боялся рифм глагольных Не меньше, чем идей крамольных, А утром посмотрел на вид, А за окошком снег лежит, Ель зеленеет, лес чернеет, И речка подо льдом блестит. *** Друзья, поверьте мне, не стоит Кричать, переходить на «ты». О смысле жизни можно спорить До хрипоты, до тошноты, До слез, до умопомраченья, Но все сведется к одному, Единственности назначенья, И соответствию ему. *** Когда нам муторно, когда На сердце груз и темень В душе, мы говорим тогда: «Такое нынче время». Когда внутри между собой Сидим, рядим и судим, То говорим: «О, боже мой, Какие нынче люди». Когда все, все, все, все и вся Кругом вокруг неправы, Мы говорим: «Ну что ж друзья, Такие нынче нравы». Когда же, все испив сполна, Состаримся, то будем Твердить: «Да были времена, Да были раньше люди». *** Тоскуя, радуясь и плача, Боясь, что снова не поймут, Решали разные задачи, Но приходили к одному, Что жизнь считает без остатка, Лишь вычитая и дробя, Что не получится все гладко, Тоскуя, радуясь, любя. ТЕЗИСЫ § 2 2.1 ты только женщина. а этого мало. вернее, вполне достаточно, чтобы сойти или свести с ума, а этого мало; 87 многое дано тебе. тело, чтобы ласкать его, чрево, чтобы понести от меня, душу, чтобы чувствовать себя женщиной, сердце, чтобы меня любить. но это всего – недостаточно; ты только женщина. ты только копия. тебя ровно столько, сколько размещу в себе. и кто же ты тогда, если не я?.. созданная из ребра моего, ты прихватила слишком мало строительного материала; ах, так вот откуда это недосотворенность, эта неустроенность, эта ноющая тяжесть сердца и избыточный вес души; невостребованность бытия выражена сутью женщины, которая не нужна и все-таки необходима; войдешь ночью – призрачное одиночество прозрачно для исповеди. иначе говоря, тренировка чувственности, воспитание восприимчивости, электродное лобзание голого нерва, перевалочная база для восхождения духа. дело вот в чем: достижимо ли познать любовь к Богу, не изведав любви к женщине?.. 2.4 не приведи, Господи, в жизнь влюбиться. в женщину – еще куда ни шло, терзаясь хронической бессонницей, страдая болезнетворной ревностью, в лучшем случае, мучаясь головокружением от успехов; сохрани нас, Боже, отвязкой мягкотелой чувственности. жизнь – она слишком женского рода. и страстная, и любвеобильная, и требует от тебя всего сразу же и навсегда. 2.2 мужчина и женщина в отсутствие любви, в отсутствие чего-нибудь похожего на страсть, рожают, размножаясь, необходимое количество детей для личных нужд и с целью продолженья вида; она и не может обходиться меньшим. мужчина и женщина в отсутствии, соединяясь, словно призраки, смутировавшие по признаку мужского или женского начала, кончают рожденными не от любви; ты вечно. рожденные не от любви не вымирают, преуспевают, множатся, по фенотипу вовсе не отличны и, следовательно, приобретают качество и ценность для отбора; «не люблю» зачтется как преимущество ибо, если прочно запретна женщина, а любовь несомненна и как цель, и как средство, значит, вся уготована Господу. 2.3 смею утверждать: любовь к женщине – чувство чисто прагматического толка, 88 попробуй не ответить взаимностью – смертного обретешь врага. 2.5 о, равнодушие. ты перед любовью, и после ненависти, ты – величина неизменная. о, равнодушие. ты несокрушимо, как цитадель, твое пространство безгранично, ты – вещь для постоянного пользования. о, равнодушие. люблю твою величественную отчужденность, твою надменную хладность, твою несуетность и суть, мудрую суть ежедневного Апокалипсиса. о, равнодушие. ты прекрасно. ты прекраснее женского тела, сдобного сладкого женского тела, возвышающего до блаженства. ты рождено повелевать. о, равнодушие. присягаю тебе на верность. 2.6 скажи ей, что ты ее любишь, что она тебе дорога, что ты без нее пропадешь, измельчаешь, сопьешься, что если бы ее не было, то и тебя тоже, пожалуй, не было бы, по меньшей мере ты был бы чем-то иным и вряд ли лучше, что, только любя, себя обретаешь, что все остальное: труха, суета, пыль, не больше… и что-то еще из этого рода; Господи, сколько раз на день обманываешь ближнего своего по разнообразным пустякам, а здесь язык почему-то не поворачивается. 2.7 каждая новая женщина прошлого не имеет; сколь бы не накопила про черный день сладостной горечи, сколько бы не прикупила дорогостоящих морщин и скуповатого на похвалу времени, она всегда младенец;. и именно ты – учитель/наставник – заставишь держать удивленно головку, шагнуть, как по водам, – навстречу, произнести заповедное слово; так, если и не любят, то точечно заигрывают с бессмертием. 2.8 взять в руки ее раскрывшееся лицо и долго целовать податливые губы. быть может, в этом тоже есть что-нибудь от любви. 2.9 я очень сильно тебя люблю. следовательно, можно любить и не так сильно, и весьма умеренно, и откровенно слабо. успокойся/утешься я тоже тебя люблю – нелюбовью. 2.10 первая – она же последняя. потому как другой не бывает, если дозволена и бывает. все остальные: не более, чем предлюбовь, неуверенная в себе, будто предчувствие того, что может случиться, а может и не произойти, и – послелюбие – приторное , как послевкусие у отведавших божественного напитка. 2.11 она хотела бы любить, но сомневается в нем; она хотела бы быть любимой, но сомневается в нем; она хотела бы любить, но сомневается в себе; она хотела бы быть любимой, но сомневается в себе; с какой стороны, будто старинную монетку, не рассматривай, а любовь – вещество весьма сомнительных свойств. 2.12 его надо просто любить. на меньшее он не согласен. на большее он и не рассчитывает. собственно, кроме не очень удачливого бытия больше тебе ничего и не грозит. строго говоря, кроме не очень разумного счастья больше тебе ничего и не предлагается. стоит ли сделка такой торговой договорной цены – только и всего. 89 2.13 с тобою хуже, чем с другими. но другие – заведомо хуже. куда уж хуже, если все лучшее, рядом с тобою становится хуже, чем худшее, но без тебя. и в этом нет ничего хорошего. как и в том: преднамеренно-правдоподобном, что все будет хорошо. 2.14 признайся мне в любви. и я подумаю, что с этим можно сделать. обо мне можешь не беспокоиться. лишь бы тебе было не в тягость просыпаться утром, как бы рождаясь заново, с обжигающей мыслью: люблю его; признайся мне в любви. как сознаются в преступном содеянном на предварительном следствии, когда чистосердечное раскаяние уменьшает степень несоизмеримой вины, ибо вина твоя несомненна. 2.15 «да что вы можете знать о женщине.» на штамповидном штамбе; эти чужеродные особи с трудом выносят друг друга. между ними нет и не может быть истинной середины; один из них виновато пытается хорошеть, наивно разрабатывая неподъемное дело души, другой – устойчиво возделывает, основополагающие полости низменного; такие параллельные не сводятся к общему знаменателю даже на уровне горизонта; кто был на небе, тот земли не хочет. невозлюбленная-любовница, невеста-сестра, заложница жертвенной женственности, заставь его – бестелесногообремениться суглинистой плотью, вынуди его – легковесного – вторгнуться в область земных притяжений; и будет он наг – и устыдится. 2.17 и плакала женщина. и слезы ее были легки. легки и не виноваты. и она этого не понимала. не знала, но ведала: так проступает счастье. и плакала женщина. нет, ровным счетом ничего. не более того, что знаю о себе, о котором могу только догадываться что он такое, за что и для чего; о женщине – ни-че-го. более того, и знать ничего не хочу. если люблю – это превыше знания. а не люблю – в знании многая скорбь. и тело ее витало. и тело ее было облако. и облако падало в ячменя. и ячменя шершавились остьями. и от уколов знобило блаженство. заплачь. заплачь после меня – нелюбимого – солоновато размазывая слезоточивое счастье. сродственно вере: чудо чувства. 2.16 а ты полюби его просто так, незаслуженно, ни за что, за что только и стоит любить; и меньше всего за поэта, плодоносящего привоем 90 2.18 мужчина всегда скареден. сколь бы расточительным до непристойности он не казался, ибо отдает только малую часть; женщина щедра – всегда. сколь бы бережливой до неприступности она не была, дива-дивная, дева-светлая разведи этот призрачный сумрак беспросветного одиночества; и да будет светиться имя твое. ибо никогда не скупится на целое; природа знает лучше. 2.22 женщина – ангел падший, к кому улетаешь крылышками непокорной груди; 2.19 быть в тебе – значит стать тобой. значит, обрести потерянного себя. женщина – источник греховный, к кому ускользаешь капельками родниковой груди; ты – единственная, потому, что созидаешь единое; женщина – знахарка ведьмовского зелья, когда ж настоится предназначенный яд поцелуя. прости мне мое убожество. и не тебя хочу – целое хочу обрести в этом рваном, раздробленном мире; и не бывает большего оправданья для навязчивого сладострастия; и нет в нем ни капли греха, ибо познание всегда целомудренно. спаси меня. спаси меня от меня самого. быть может, ты только затем и дана. и не иметь тебе иного оправдания, как никогда не дождаться мне твоего врачующего прощения. 2.20 да будет тело твое желанно. да будет тело твое желанно, как хлеб, хлеб ежедневный, который не приедается; ибо руки твои тонки, будто стебель, ибо губы твои шершавы, как колос, ибо груди твои свежи, как взошедшее тесто, ибо кожа твоя солона и темнеет, как хлебная корка, ибо страсть – этот голод – подбирает колючие крохи зачерствевшего черного хлеба, созидающего дух; на исходе ночи и века нам, пропащим от скорби и сытости, прошепчу, как сумею, Господи, ниспошли этот дивный голод: хлебом насущным жив человек. 2.21 мысль о тебе – это и есть ты, живая вода моего пустотелого безлюбия; думаю о тебе, мыслю тебя, связанный, будто пленник, тугим узлом поцелуя; НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЛОВА… … когда прорастает задумчивый полдень стихами, Появляется чувство причастности к чьей-то судьбе, К параллельному плаванью... Но потом наступит утро. Станет муторно и смутно. Станет стыдно почему-то, Театрально и смешно. И. М. 1. от всех своих надуманных обид ты стал не хуже но как-будто ниже а время на губах твоих горчит мы оба оказались не в парижах и даже есть забытые друзья рассеянные где-то по планете тебе рифмую ночью письма я как только засыпают муж и дети и там где ночь там откровенней боль которая саднит но не мешает играть свою дневную макси-роль матроны без особенных печалей 91 2. матроны без особенных печалей спешат в свои кампашки по утрам и кофе честно руки согревает и остывает к девяти часам ах эти письма письма в никуда из будущего в прошлое фантазий как имена меняли города гражданства разменяли мы и связи разрезав нити письма и сердца поверь мне точно не до сантиментов и мы дойдём до самого конца как те из книги унесённых ветром 6. по лунной нескончаемой дорожке бредёт чужой герой не наших книг а мы с тобой не так неосторожны чтоб повод в вечность вдруг для нас возник мы как-то натуральны в самом трудном искусстве надувать себя самих и праздники скорей менять на будни а боль делить на двух совсем чужих которым непростительно не спится кто ждёт ночного резкого звонка из непреодолимой заграницы неведомых причин и старых свар 3. как те из книги унесённых ветром друзья честны враги предельно кротки и между нами только километры не разобьём о быт ни нашу лодку ни свежесть чувств ни искренность надежд ни чудеса прижизненной нирваны а ветер с океана слишком свеж и заставляет окна закрывать на само достаточность уютного мирка где тёплый чай с малиновым вареньем растопленный камин я сплю пока не прерывайся чудное виденье 7. неведомых причин и старых свар в которых мы не так и виноваты... тебе всё так же снится Кандагар и ужас безоружного стройбата и странно даже через двадцать лет я замираю если нету писем и жду и жду и жду а их всё нет себя мы без компьютеров не мыслим в почтовом ящике всегда одни счета мы славно не-общаемся в емэйлах я знаю ты давно от всех устал за исключеньем старого эрделя 4. не прерывайся чудное виденье в тягучую взаимную приязнь где ночи полусотканы из неги вплетённой в поцелуев наших вязь с романтикой ночных полуистерик прогрессией лирических стихов наоткрывали мы с тобой америк и прочих островов материков а приземлились в эмигрантский Бруклин свернувшийся комком у наших ног любовь порой спасение от скуки и пустоты пространства длинных строк 8. за исключеньем старого эрделя к тебе все потеряли интерес в молчании которую неделю проводишь ты компьютера не без но что там виртуальный собеседник его удобно выключить подчас солгав про надоедливых соседей и помрачнев от этих лживых фраз занюханного слабенького чата но одному хоть по эрдэльи вой... и съёжится соседка за стеной от грязного и лающего мата 5. и пустоты пространства длинных строк ничто не может до конца заполнить ты где-то беспросветно одинок а я в обычном бытовом загоне и здесь слова не больше чем слова что могут распугать дремучесть ночи и описать как дышится едва и как всё тело спать безумно хочет у слова спать есть смысл совсем другой и ночи эти оттого сторожки что освещают путь нелёгкий твой по лунной нескончаемой дорожке 9. от грязного и лающего мата ты отказалcя много лет назад слова они ни в чем не виноваты но слушаться бывает не хотят и рвутся бесприютные на волю им в клетке умолчания беда ну а снаружи нет не лукоморье безлюбия такая пустота что хочется за что то извиниться кого-то вспомнить или написать о той недосягаемой синице которую держать не удержать 92 10. которую держать не удержать угрюмым паркам им ведь не впервой очередной клубочек домотать и взять из бесконечности другой как льются в постраничностях слова в них искренне скучаем по себе зелёным словно майская листва и честным как уставы по борьбе а мой негероический двойник опять забудет жизненный урок запрятаться в сюжет любимых книг вписаться в тесный плюшевый мирок 14. почти под утро у меня ведь вечер дочитываешь старую тетрадь сегодня скучно думать о невстречах и отправляешься на два часа поспать а сны заполнены смешными пустяками и лицами придуманных людей как странно всё становится стихами и даже скука повод для идей для сборника поэмы или чата (молчание – твоя родная речь) слова порой сильнее чем взрывчатка лишь стоит спичку вовремя зажечь 11. вписаться в тесный плюшевый мирок пасьянсов и ромашковых гаданий корявостью невыстраданных строк надуманностью слёзных обещаний закутаться в сентименатальность снов и шелест нескончаемый страничный безжалостный мальчишка – крысолов и девочка ломающая спички как ветер северный опять зовут в миры неведомых но искренних желаний мы терпеливы и почти мудры нажитым опытом разлук и расстояний 15. лишь стоит спичку вовремя зажечь и прикурить вторую сигарету которая мой щит а кофе меч с утра ты помнишь я слегка с приветом одев костюм напялив каблуки ныряю с головой в ручей сабвея там нету оснований для тоски ведь в электричках застывает время на полусонных скучных пол часа с неинтересной и случайной книгой но только закрываются глаза как думаю а может мы могли бы 12. нажитым опытом разлук и расстояний по миру растеряли мы друзей весь свет теперь кочует как цыгане но без кибитки латанной своей ты знаешь дни становятся длиннее и пахнет снег грядущею весной как тело тает в бренной мятной неге от жажды наслаждения тобой но знаешь руки неласкать устали и нежность кожи и уют волос как ощущения пронзительны в начале весеннего цветения мимоз 16. я думаю а может мы могли бы стать не умнее так хотя б мудрей судьбы непредсказуемы изгибы порой ломает от её затей подумаю а может взять билет и рвануть на самый первый самолёт и посмотреть как в бывшем Старом Свете немолодой поэт один живёт сидит в кафешке смотрит на прохожих читает что-то мальборо дымит и по ночам никак уснуть не может от всех своих надуманных обид 13. весеннего цветения мимоз ты не заметишь как и кроткий Мастер я хной разбавлю черноту волос спокойствием разбавлю жажду счастья как несолидны точные слова они всё сводят к пошлым сантиментам неточных рифм прийдет девятый вал исписанной бумаги километры почувствую тебя до немоты до горечи солёной от невстречи а где-то далеко рифмуешь ты почти под утро у меня ведь вечер 93 Ирина Любельская. Ключ. Стихи. Издательство «Евдокия». 2015 ISBN 978-1-312-80633-7 http://www.lulu.com/shop/irina-lyubelskaya/the-key/paperback/product-21983096.html ФЛЭШМОБ *** Прими меня, заброшенный вокзал. Где арматуры ржавые волокна Просвечивают сквозь бетон, и окна, Прищурившись, глядят дождю в глаза. И грозный, нескончаемый состав Уходит в небо через купол-темя... Здесь вечно ускользающее время Я встречу и поймаю за рукав. Пусть отразят небесный сухостой Затертые скрижали расписаний, Я встану между встреч и расставаний,Не одиночкой: точкою, звездой. Пусть не вода, а божья благодать По стенам тонкой струйкою стекает... Ладони кленов улетают стаей Огромный воздух осени терзать. ФРАГМЕНТ Закрой окно – там никаких причин, чтоб улыбаться или горевать: такие же огни горят в ночи, такая же трава. Пойдешь во двор – там в привозном песке жестокий разум строит новый мир и плачут вовсе юные в тоске: им в тягость быть детьми. Потом и к ним придет уменье жить, но вдруг не оторваться от груди, а ты и грудью вряд ли дорожишь. Иди. и в любой тени притаилась смерть, и чужая жизнь за каждым стволом, среди листьев розовых, словно медь. Доживи до рассвета, взойди на склон – и такая усталость повалит с ног: той земле – уже тысяча тысяч дней, но никто возделать её не смог, и никто не сделал её своей. Мы потом вернулись в свои дома. Обнимали жён, посещали храм. Кто-то просто тихо сошёл с ума. Кто-то честно умер от старых ран. Но до смертного часа, до слёз из глаз, до готовности волком на небо выть, никогда, никогда, ни один из нас эту землю так и не смог забыть». *** Что нам родина? Дом, неуклюжий забор, свадьба друга – какая же свадьба без драки! По субботам в ДК репетирует хор ветеранов труда под названием «Факел». Факел факелом, ну провели б лучше газ, чтобы гнать было проще священный напиток. Поздно вечером выйдешь – хоть выколи глаз, лишь у сельского клуба фонарь-недобиток. Разговоры всё больше про мир, про войну. Председатель смешной, в кирзачищах и шляпе. И сосед, схоронив на неделе жену, развязал и ещё пуще прежнего запил. Да и сам-то ты кто?! – как вопрос и ответ. Здесь такое бабьё про тебя нарасскажет. Но с утра, как всегда, повторится рассвет и окажется вдруг, что всё это не важно, потому что на грядках морковка и лук и своими руками сколочен скворечник, потому что сверкает доспехами жук и травинкой прикинулся хитрый кузнечик. ИНДОКИТАЙ «Вот моё завещание. Почитай. Впрочем – нет, пожалуй, прочтёшь потом. Для начала послушай. Индокитай. Я хочу тебе рассказать о том, как, едва отёршие с жёлтых ртов молоко матерей в синеве небес, мы по шатким трапам сошли с бортов и ступили в радужный мокрый лес, где казался отравленным каждый лист, и сердца болели, когда на нас неподвижные маски бесстрастных лиц обращали чёрные дыры глаз. И похожи на нас с головы до пят, и потом, когда наступает ночь – их туземки с нами охотно спят, но у каждой из них под подушкой нож, 96 *** ты моря переплыл, перешел границы, жил в столицах мира, искать устал я помятая роза в твоей петлице ты – мой мраморный пьедестал я как циркуль твой – вывожу кругами, что случилось в прошлом проткнув иглой, мы друг другу бы – подошли – врагами, если б время фруктом поспеть могло недозревший сон оказался вещим ты и сам – алмаз, и огранщик мой, и не веришь мне, и страшишься трещин… зарекаясь жить, не грози сумой не носи колец, не являйся к трону, не проси, не слушай, не пачкай пол я поправлю нежно твою корону, ты достанешь к ужину валидол суета сует, решето решений, нас свело как судорогой – судьбой, я твой верный ген, ты мой добрый гений, мы друг в друге ставшие вновь собой и за сто морей, и в столице каждой, есть балкон и площадь, причинный ряд, и река – что в ней оказались дважды всех грядущих жизней тому назад *** человек непохожий на прочих навстречу идет одинокий ничем никому не заметный прохожий а от кожи и кроткого взгляда взломается лед даже вены к морям выбираться пытаются тоже проезжая туда и обратно свой водораздел трафарет и урал и экваторы на непонятном потеряешь их всех а не только с которой хотел ей путей залепил за кровавое в солнечных пятнах а теперь и дрозды отдались далеко от стрижей беглых сов потому что молчание ближе нам пора забывать тех кто счастлив и выше ты пришей мне последнюю пуговицу ну пришей Вольно ж было твердить незнакомому местному эху: “Пора домой.” – так ступай, наступай на трещины, выворачивай против солнышка, вот и мёртвая Марта лает в прихожей и кот твой сидит, живой, на руках у отца, в старом доме, истлевшем уже до бревнышка. РЕФРЕН Там где летом была колея, исходящая пылью, Положили асфальт, и теперь на него дребедень Листопадная валится, сыплется так изобильно. Затихает, приникнув к земле, словно острый кетмень В великанских руках прорубает сквозь клены дорогу, Без пощады лишая кудрявую рать живота. Ты глядишь из окна поутру, ты привык понемногу Это видеть, но стали заметнее складки у рта. «Да минует меня…», – бьется вечным рефреном в подкорке. Не минует, не бойся, наступит своим чередом. Опадут, отольются, и дети с покатистой горки Будут ехать под визги полозьев. А ты – за окном, Со своей стороны – не оценишь зимы милосердье, Как бесстрастный ученый, оценки не вправе давать. Сотни белых листов заполняй предикатами смерти, Ощущая, как кожу сдирают судьбы жернова. ПЕРЕВОД С БАГУЛЬНИКА Путешествия Нильса с гусями, адаптированные для рыб, но прочитанные кротам, а потом пересказанные багульнику – и случайный грибник в его зарослях услышит как вдруг, навзрыд, полетит под ним воздух, всклокоченный и прогульный, *** В пустыне, где родосский истукан кукожится, покуда не исчезнет, прогнувшись тетивой тугой, река того гляди пульнёт мостом железным по дальней сопке, где возможен лес, но чаще степь – монгольская бескрайность – такая, что не вытянет экспресс ни транссибирский, ни трансцедентальный. и земля задрожит как огромный лист – еще утром на нём пас тлей, а сейчас изузоренною ящерицей (изнурённою, иллюзорною), сгорблен ветром и светом насквозь продут, на железной сидишь метле – надышался чудес и сник, да корзинка опрокинулась беспризорная. Маши платочком, Дафнис... Утекут коробочки стальные вереницей. В теплушке Хлоя даст проводнику, а после – всей бригаде проводницкой. А ты на полку верхнюю, как в гроб, уляжешься, зажав в ладони книжку. Очнёшься ночью, дёрнешься и лоб расквасишь о захлопнутую крышку. 97 На лист бумаги или на постель – проекция земной любви на плоскость. Лиловый свет внезапных фонарей оконной рамой режешь на полоски и думаешь тяжёлой головой: зачем тебе сей странный орган нужен – божественный, когда есть половой, и ты, в конце концов, ему послушен. Так к слову о каком-нибудь полку задумаешь Отчизне свистнуть в ухо, а выйдет снова: поезд в Воркуту, монгольская пустыня, групповуха... Но это всё – осенний глупый сплин. Зима идёт синюшными ногами, и первый снег бодрит как кокаин, и снегири на ветках упырями… 47 памяти а. миронова сколько синего на белом сколько черни у кости разбуди меня напевом сладким утром угости в прошлое отправь на первом сколько слов мы ремеслуем сколько мастерим про ту жизнь в какую наказуем незамеченным пройду по соленым поцелуям сколько белого на синем сколько молодости пропущено к вещам носильным мест насиженных тепло прикрепляется насильем светлое белье наденем и отчалим в горести так и льнут к крестам нательным надземельные кресты а не к ангельским антеннам возле альфы и омеги незамеченным сойду и затянет дождь по меди и захлопнется в саду занавес трагикомедий только расставаясь с телом бессловесным и бессильным видишь взглядом обреченным сколько белого на белом сколько синего на синем сколько черного на черном 98 ОКНА НА ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ СВЕТА Расскажу вам, как есть. А всё остальное – вранье. Дом стоит, о котором всю жизнь говорю – «мое». По периметру – окна. Смотрят себе в небе бесконечные сериалы про ласточек и воронье. Только в центр пространства и можно поставить мебель, хоть обычно она окружает нас, а не мы ее. … Запад будет представлен клубникой, на вкус и цвет яркобокой которой товарища, точно, нет; языком, похожим на перекись водорода, пресмыкающееся движение в сухой, прошлогодней траве; да научным трудом, что и вы – представитель рода, неудачный, правда, помутившийся в голове. ... Проходите теперь ко второму окну, ко второму окну, северному полотну, изображающему вашу бывшую – ладную, с выходом к морю, с которой вы лет четыреста жили страна в страну. За покупками или так, помянуть историю, только в этом качестве я вам ее верну. ... И, куда ни одна река не несет свой сток, третье нынче окно таращится – на восток. Неплохая картина. Cмотрите, какая рама: за одну позолоту можно кормиться сто... Но и сто проходят, и двести проходят граммов, оставляя похмелье во рту и мошну пустой. ... Из четвертого виден лишь дым, обуявший юг. К поездам на станциях женщины подают непременное сало, но ешь ты его с испугом, ибо как называть это красное там и тут? Телеграфные мачты протягивают друг другу детские распашонки, не заменившие парашют. ... Разве что неудобно мебель, а так – симпатичный схрон. Подменяй, муэдзин, собой колокольный звон! Голоси петухом, завершая ночную пашню! Отбирай у любовниц детей и гони их вон! ... Равнодушный рассвет обводит контуры башни, и мороз по коже: надо же... Вавилон. СОСТАВИТЕЛЬ – АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ШОРОХ ПЬЕСА ДЛЯ ЛИЧНОСТЕЙ АСТЕРОИДНОГО ТИПА 1. Октябрь. Лес. По едва заметной тропинке идут двое – Олег и Лёша. Лёша заметно прихрамывает. Олег печально поглаживает совершенно лысую голову. Останавливаются. Олег. Мне неуютно. Лёша. Тебе и не должно быть уютно. Олег. Нет, я хочу, чтобы мне было уютно. И я хочу радоваться. Лёша. А что, есть чему? Олег. Не знаю. Наверное, нет. Но я хочу. Лёша. Вот, радуйся, ты в лесу. Олег. Не радостно как-то. Лёша. Ну, тогда не радуйся. Олег. Но я хочу! Лёша. Тогда радуйся и оставь меня в покое. Олег. Я не хочу один идти. Лёша. Иди не один. Олег. А с кем тогда? Лёша. А я что, пустое место? Олег. Ты сказал оставить тебя в покое. Лёша. Не совсем меня всего, а мой бедный мозг. Олег. Я не трогал твой мозг. Короткая пауза. Лёша. Знаешь, что странно? Олег. Нет. Лёша. Странно то, что тебя ещё никто не убил. Олег. Ещё чего. Лёша. А знаешь, что ещё страннее? Олег. Пока нет. Лёша. Что этого не сделал я. Хотя уже давно пора было. Ещё классе в третьем. Олег. Ты маньяк? Лёша. Нет, Олежа, это ты – маньяк. Тебя надо в какое-нибудь спец.учреждение сдать. Олег. Да ну. Зачем. Я уже был. Лёша. Да? И как? Олег. Нормально. Только мне не понравилось, что в туалете дверей не было. Лёша. Это где же? Олег. Это в больнице. Лёша. В психушке, что ли? Олег. Ну да. Меня мама туда сдала. Лёша. Как интересно. А почему я не знаю? Олег. Меня быстро выписали, я же нормальный. Лёша. Уверен? Олег. Нет. Но мне так сказали. Лёша. Хорошая у тебя мама. Олег. Хорошая. Это она мне Фонарика подарила. Лёша. И она, наверное, так его назвала – Фонариком? Олег. Нет, это я. Лёша. А почему, собственно, Фонарик? Олег. Потому что Шарик, Джек, Душман – это всё какая-то банальная ерунда. Я несколько дней думал, как его назвать, а потом взял первую попавшуюся книгу и ткнул пальцем туда, где она раскрылась. 100 Лёша. И там было слово «фонарик». Олег. Нет. Там было слово «скособочилась». Но не называть же так собаку. Лёша. И? Олег. Ну, и я подумал – пусть будет Фонарик. Лёша. Так. А к чему вся эта история с книгой? Олег. С какой книгой? Лёша. В которую ты пальцем тыкал, имя выбирая. Олег. А. Ну. Не знаю. Просто рассказал. Лёша. Понятно. Я думаю, тебя рановато выпустили. Что-то они там проглядели. Олег. Ну что ты пристал? Лёша. Да нет, ничего. Ладно. Курить будешь? Олег. Не буду. Не курю. Лёша. Ну и не кури. Я к тому, что посидим давай. Олег. Тут нет скамейки. Лёша. А вон тебе скамейка, чем не скамейка? Олег. Я не хочу на мокрое бревно. Лёша. На пакет сядем. Олег. Я не хочу. Лучше пошли. Лёша. Я устал. Хочу посидеть. Колено разболелось. Олег. Давай пойдём. Скоро стемнеет. Лёша. Ну, и стемнеет – и что? У меня фонарь есть. Пойдём к Фонарику, помогая себе фонариком. Олег. Очень смешно. Лёша. Ну, не я же так собаку назвал. Олег. Ты бы точно Дима назвал. Лёша. Почему Дима? Олег. Ну, чтоб поскучнее. Лёша. Я бы собаку для начала не стал заводить. Столько забот лишних. Олег. Я не заводил. Мне мама подарила. Лёша. Мама, которая тебя в психушку сдала. Олег. Ну и что? Все ошибаются. Может, и правильно сдала. Лёша. Вот так даже. Олег. Она боялась, что я с собой покончу. Лёша. Были основания бояться? Олег. Были. Наверное. Много книжек читал, ну… таких. Лёша. Шизотерику всякую? Олег. Как ты сказал? Лёша. Ну, эзотерическую эту всю макулатуру. Зеланд какой-нибудь там. Олег. Да, именно. И не только. Я ещё из тела пытался выходить. Лёша. Удачно? Олег. Нет. Не получилось ни разу. А мама думала, что я наркотики принимаю. Лёша. Я бы с ней согласился. Если бы не знал тебя получше. Олег. Я что, настолько странный? Лёша. Да как тебе сказать. Так и не скажешь. Но я бы тебя подлечил. Для профилактики. Олег. Ты покурил? Лёша. Сейчас, вторую. Олег. Тебе первой мало было? Лёша. Мало. Я по две курю. Олег. Зачем? Лёша. Потому что я курильщик. И лёгкие у меня – как страшная такая чёрная губка. И если их из меня вынуть и сдавить посильнее, то из них никотин закапает. Чёрный такой. Олег. Кого ещё лечить надо. Лёша. Шуток не понимаешь. Олег. А ты знаешь, кстати, что они курящих не берут? Лёша. Знаю. Они много кого не берут. Я даже и не рыпаюсь, сразу понял, что не пройду. Да и не хочу. Олег. А мне всегда хотелось. С детства мечтал. Лёша. Кто бы мог подумать, что мечты таких психов иногда всё-таки сбываются. Олег. Просто хотеть надо было. 101 Лёша. Да нет, это просто совпадение, Олежа. Тебе повезло. Олег. Я так не думаю. Лёша. Знаю. Олег. Ты докурил? Лёша. Почти. Сейчас пойдём. Странно, что при таком количестве ограничений ты оказался идеальным кандидатом. Олег. Таких много. Лёша. Да я бы не сказал. Тех, кто не подходит, больше в несколько тысяч раз. Олег. Всё равно много. Лёша. Ты думаешь, все полетят в итоге? Никто не откажется, не передумает? Олег. Не знаю. Я точно не откажусь. Лёша. Вообще никаких сомнений? Олег. А зачем? Я всегда этого хотел. Лёша. И не жалко? Олег. Чего? Лёша. Ну, маму оставлять. Родину. Там же всё другое. Олег. Фонарика жалко. Лёша. Фонарик умер. Олег. Так бы – с собой взял. Лёша. Собак пускают? Олег. С хозяевами. Лёша. Ну, понятно, что не самих по себе. Олег. Я думаю, собаки умнее людей. Лёша. Как тебе так сказать, чтобы ты не обиделся. В общем, ты ошибаешься. Олег. Ну и ладно. Пойдём уже. Ты уже третью куришь. Лёша. У меня колено. Олег. У меня два. Лёша. Они у тебя болят? Олег. Нет. Лёша. А у меня болит. Одно. Олег. Второе не болит. Лёша. Ох. Ладно. Чёрт с тобой, пошли. Олег. Да, а то я замёрз. Лёша. Ну, не я же придумал его в лесу хоронить. Олег. А ты бы его вообще не хоронил. Ты бы на мусорку выкинул. Лёша. Почему ты так думаешь? Олег. Ты равнодушный. Для тебя животные – просто животные. Лёша. А для тебя? Олег. А для меня – друзья. Лёша. Все-все? Олег. Не все, конечно. Крысы не друзья. Или, там, змеи. Собаки – друзья. Кошки тоже. Хотя собаки лучше. Лёша. Все они одинаковые. Гадят и мозг едят с утра до вечера. Олег. Тебе все мозг едят. Как не съели ещё. Лёша. Ничего, у меня много. Подавятся. Олег. Ты идёшь? Или так и будем топтаться? Лёша. Иду. Олег. И так неуютно, а ты встал. Лёша. Я тишиной наслаждаюсь. Олег. Там тоже тихо. Даже тише, чем здесь. Лёша. Одинаково. Олег. Нет, там Фонарик. От него тише. Лёша. Мда. Почему они таких берут? Олег. Каких? Лёша. Ну таких вот. Как ты. Психопатов. Олег. Я не психопат. Лёша. Есть другое слово хорошее, тебе подходит. 102 Олег. И? Лёша. Лунатик. Олег. Лунтик? Лёша. Лунтик тоже ничего. Олег. Я не Лунтик. Лёша. А похож. Олег. Давай быстрее пойдём. Очень тут неуютно. Лёша. Колено у меня. Не могу так быстро. А место, кстати, ты сам выбирал, не так ли? Олег. Сам. Потому что тут хорошо. Лёша. Ты же говоришь неуютно? Олег. Ну я же летом его хоронил. А не в октябре. Летом здесь было хорошо. Лёша. Ты тащил мёртвую собаку в такую даль. Ей-то какая разница, она же сдохла. Олег. Мне разница. Я не сдох. Лёша. Давай исправим. Олег. Не говори так, мне страшно становится. Лёша. Я шучу, Олежа. Олег. Ты плохо шутишь. Лёша. Ну прости. Как умею. Олег. Ладно. Лёша. Ты как могилу обозначил? Олег. Камнями окружил. Вот она. Смотри. Лёша. Большая. Олег. Фонарик был большой. Лёша. Ума не приложу, зачем ты его так далеко пёр. Короткая пауза. Олег. Привет, Фонарик. Лёша. Ага, сейчас ответит. Олег. Как ты тут, хороший мой? Лёша. Прекрасно. Лежу в земле, мёртвый, кормлю червей. Олег. А мы вот с Лёшей пришли тебя навестить. Лёша. Ну что ж, спасибо. А то скучновато в холодном лесу. Неуютно и безрадостно. Олег. Ты знаешь, Фонарик, я улетаю. Лёша. Да, на воздушном шарике. Олег. Нет, на большом корабле. Совсем как в кино. На большом сияющем корабле. Лёша. Которым рулят зелёные человечки с огромными головами. Олег. Нет, совсем нет. Они такие же, как мы. Разве что повыше – и глаза жгучие-жгучие, не выдержать. Лёша. Прям сгореть можно. Олег. Если бы ты, Фонарик, не умер, то мне бы разрешили взять тебя с собой. Лёша. Но я умер. И ты умрёшь. Пусть даже на другой планете. Все умрут. Олег. Я буду там работать. Строить город. Лёша. Ну что же, в добрый путь. Строй. Если всё и правда именно так. Олег. Многие не верят, говорят, что нас пустят на мясо. Но я их не слушаю. Лёша. Ты никогда никого не слушаешь. И не жалко тебе мать оставлять одну? Олег. Знаешь, Фонарик, мне здесь делать нечего. Здесь неуютно. Лёша. А как ты хотел? Это взрослая жизнь, в ней по-другому не бывает. Олег. Я хочу радоваться. А не радует ничего. Был ты у меня, а теперь всё. Лёша. Не факт, что там у них так уж радостно. Может, ещё и хуже. Олег. Прощай, Фонарик. Теперь навсегда. Лёша. Ох, прям так трогательно, блин. Это же всего лишь собака! Олег. Пока. Олег машет могиле рукой. Где-то далеко за деревьями раздаётся весёлый собачий лай. Олег довольно улыбается, смотря в одну точку перед собой. Лёша стоит у него за спиной, закрыв лицо ладонями, и тихо-тихо плачет. Плечи его дёргаются. Порыв ветра шевелит листву. 103 2. Комната. Вася, Маша и Павел. Вася стоит у двери на балкон, Маша сидит в кресле, Павел – ко всем спиной, за столом, клацая по клавиатуре ноутбука. На стеллаже с книгами – несколько новых, ни разу не использованных детских игрушек. Вася. Да, я голубой. Что из этого? Маша. Мне кажется, ты притворяешься. Это просто поза. Вася. Тебе что, доказательства нужны? Маша. Ну, как минимум. Вася. А как максимум? Павел. Ребят, можно потише? Вася. Можно. Нашёл что-нибудь? Павел. Нет. Это какие-то другие люди. Маша. Может, его просто нет там? Вася. Не может, сейчас у каждого что-нибудь есть, хотя бы твиттер какой-нибудь. Маша. У твоей мамы есть твиттер? Вася. А что сразу моя мама? Маша. Мне вот интересно, ты ей сказал? Вася. Что я должен был ей сказать уже? Маша. Ну мне же ты гордо так заявляешь, мол, такой голубой, что смотреть больно. Вася. Да что ты пристала? У тебя что, обострение на почве гомофобии? Павел. Ребят, я понять не могу, зачем мы его ищем вообще? Человек давно живёт своей жизнью. Может, ну его? Вася. Я так не могу. Ты, может, и можешь вот так вот просто все нитки оборвать, а я – нет. Маша. Спал с ним, что ли? Вася. У тебя проблемы с этим, что ли? Павел. Ну ребят! Вася. Нет, ну что она..? Павел. Вы меня оба бесить начинаете. Сейчас сами искать будете. Маша. Мне-то зачем. Это не мой друг. Вася. У тебя, похоже, их вообще нет. Маша. Кого это? Вася. Друзей. И… Маша. Да-да, давай. Продолжай. Скажи уже, скажи! Павел. Ну ребят! Маша. Давай, скажи! И мозгов. Скажи: и мозгов! Вася. Да отстань ты. Маша. Сексист. Вася. С ума сошла? Павел. Слушайте, ну это бред какой-то. Чего вы сцепились? Какая кому разница? Вася. Вот и я говорю. Маша. Знаешь, что меня больше всего удивляет, Паша? Павел. Не знаю. Вы меня отвлекаете. Вася! Вася. Я разве её трогаю? Маша. Так вот, Паша. Больше всего меня удивляет даже не то, что его берут. А то, что этот, как он сам утверждает, голубой работает в детском саду воспитателем! Вася. И что? Павел. Да, и что? Маша. Да как что? Вы сдурели, что ли, оба? Вася. А что, по-твоему, если гей, то сразу, автоматом, ещё и педофил? Ты что, совсем? Из какой ты деревни вылезла вообще? Маша. Ты на деревню не гони, всё нормально в деревне. Вася. Да я вижу. Павел. Вась, ты просто не реагируй на её провокации. Вася. Да как не реагировать? Ты слышишь, что она вообще говорит? Павел. Не обращай внимания. Просто не обращай внимания. 104 Маша. И это говорит мой муж. Павел. Маш. Ну, тише, ладно? Маша. Не ладно. Павел. Ты обидься ещё. Вася. Давайте все прекратим и не будем ссориться. Хорошо? Павел. Хорошо. Не будем. Все немного помолчим, пока я буду его искать. Короткая пауза. Маша. Это обидно. Павел. А ты прости нас. По-христиански. Маша. Нет, ты не понял. Я про сам принцип. Павел. Какой принцип? Ты о чём? Маша. Принцип, которым они руководствуются, отбирая кандидатов. Павел. У них свои критерии. Они же не люди. Вася. Да всё просто – берут только хороших людей. Маша. Как легко и просто ты себя в хорошие записал. Вася. А что я, плохой? Маша. А я? Я – плохая? Вася. Нет, не плохая. Ты хорошая. Просто злая. Маша. А ты, значит, добрый? Вася. А почему нет? Добрый. Детей люблю. Маша. Да тебя за такую любовь… Павел. Ребят, ну что вы опять начинаете, а? Ну, честное слово. Маша. Ты разве не понимаешь, что он опасный человек? Павел. Ну, что ты в самом деле, Маш? Какое тебе дело до его ориентации? Вася. Да гомофобка она. Маша. Да. Гомофобка. Вася. Может, ты ещё и гордишься этим? Маша. Я горжусь тем, что я – нормальный человек. Вася. Я тоже нормальный. Павел. Мы все – нормальные люди. Обыкновенные, нормальные люди. У каждого из нас свои особенности, но все мы – люди. Маша. Мы-то – да, а они там, у себя, наверное, все чпокаются друг с другом. Павел. Маш, ну ты же на самом деле так не думаешь. Зачем ты? Вася. Она просто завидует. Пауза. Маша. Да. Я завидую. Вася. Сама сказала. Маша. Да, я откровенно тебе, Вася, завидую. Павел. Это нормально. Вася. Нет, не нормально, Паш. Завидовать нельзя, это может привести к раку. Маша. Да пусть приводит. Какая разница? Вася. Тебе детей рожать. Маша. Не тебе об этом говорить. Вот ты – и такие, как ты – вы все нас оставите здесь, оставите тупо умирать! Вася. Да кто тебе мешает жить-то? Маша. А тебе – кто? Почему ты не остаёшься? Вася. Из-за таких вот, как ты, и не остаюсь. Маша. Подумаешь, не люблю я тебя. И что? Всем нравиться нельзя. Вася. Я не хочу нравиться всем. Я просто хочу, чтобы меня не трогали. Чтобы оставили в покое. Маша. Ты просто убегаешь. Это не по-мужски. Вася. Ха. Павел. Вась, это бессмысленно. Вася. Да я знаю, что бессмысленно. С ней спорить – это в стену головой стучать. 105 Павел. Я не о том. Искать его бессмысленно. Нет его. Вася. Должен быть. Павел. Даже если и есть, то не факт, что под своим настоящим именем. Это же сеть. Пауза. Вася. Это грустно. Павел. Ну, прости. Я ничего не могу сделать. Маша. У него разве телефона нет? Вася. Похоже, он сменил номер. Другой кто-то отвечает всё время. Маша. А ты у этого другого спрашивал? Вася. Да. Он не в курсе. Павел. Ну, хорошо. Адрес? Вася. Да я разве просил бы тебя, если б знал, где он сейчас живёт? Маша. Друг называется. Вася. Потерялись. Выросли оба и потерялись. Павел. Ну, это нормально. Маша. У тебя всё нормально. Всё у тебя хорошо и солнечно. Павел. Нет. У меня просто нет иллюзий. Люди – это сложно организованные животные, и ничего такого выдающегося в их поведении нет. Маша. Какой ты, однако..! Я тебе не животное. Павел. Да-да-да, старая песня. Маша. Вы оба, может быть, и животные. А я – нет. Я – человек. Вася. Вот потому тебя и не берут, что ты – человек. Слишком человек. Павел. Ребят. Я заканчиваю. Просто не вижу больше смысла. Вася. Ладно. Жалко, конечно. Павел. Ну, значит, так человек захотел. И откуда ты знаешь, может, он там с тобой вместе с вами всеми окажется. Ты же не знаешь? Вася. Нет, не окажется. Знаю. Павел. Да откуда же? Вася. Мы с ним говорили об этом. Маша. Когда? Ты же сам сказал, что не видел его пять лет уже. Вася. В детстве. Маша. Смешно. Вася. Смейся. Маша. Я и смеюсь. Вася. Главное – не заплачь. Павел. Ребят. Пауза. Вася. Мы с ним постоянно о таком говорили. Всё время, когда были вместе. Шли, например, домой из художки – и говорили. Врали друг другу ужасно. Понимали оба, что врём, но продолжали. За ним всегда бандиты и разные сектанты охотились, а я всё время всяческие артефакты находил – типа как бы ключи от других миров. Пирамидки золотые, монеты с тремя сторонами, книги на чужом языке. На совсем чужом. И мы постоянно друг другу задавали такие вопросы – например, к тебе пришли и сказали, мол, выбирай любую суперспособность, но одну – ты бы какую выбрал?Никогда, кстати, особо не задумываясь о том, кто же эти самые те, которые пришли и сказали. Они как бы всегда были, по умолчанию. Такие высокие люди в тёмных плащах, молчаливые и без эмоций. Ну, это я себе так представлял. И вот они приходили почемуто именно к нам и каждый раз что-нибудь предлагали, а нам нужно было выбрать. То суперспособность, то какой-нибудь один странный прибор из целого ряда странных приборов, то одну страну из ряда стран. Или, например, планету. Меня очень волновала возможность отправиться куда-нибудь ещё, за пределы нашего родного мира, я был готов прямо сейчас, не задумываясь, – всё бросить и полететь с этими, в тёмных плащах, а вот он – нет. Он – нет. Пауза. 106 Павел. И что его останавливало? Маша. Страх. Вася. Нет. Маша. Обыкновенная трусость. Вася. Нет. Павел. Что тогда? Вася. Любил он это всё. И до сих пор любит, скорее всего. Короткая пауза. Маша. Это было давно. Люди меняются. Павел. Вряд ли. Маша. Меняются. Становятся хуже. А потом вообще умирают. Может, он умер? Павел. Маш..! Вася. Не хотелось бы. Маша. Можно умереть, формально оставаясь в живых. Умереть для него, который реально существует, в отличие от твоих этих – в тёмных плащах. Павел. Маш, не начинай. Маша. А что? Да, я верю в Бога, и что? Он – есть. Вася. Но ведь по правде получается, что как раз наоборот. Что есть как раз люди в тёмных плащах, пусть даже и без плащей. Те, которые пришли и сказали… Павел. Маш, давай не будем про Бога снова, ладно? Маша. А что, ты хочешь сказать, что его нет якобы, да? Что все мы – просто тупые животные, да? Павел. Ну почему же тупые. Маша. А какие? Умные, что ли? Ты посмотри телевизор. Павел. Маш, ты сама себе противоречишь. Маша. Да в чём же? Люди просто слабые, а Бог в этом не виноват. Вася. Вот тогда и меня не трогай с этой своей гомофобской темой. Я просто слабый. Маша. Да. На одно место. Павел. Маша!.. Пауза. Вася. Жаль, конечно. Я просто хотел сказать ему пока. Маша. Переживёшь. Вася. Переживу, конечно. Но меня волнует один вопрос. Маша. Ну и какой же? Вася. Это к Паше вопрос. Павел отворачивается от Васи и Маши и начинает лихорадочно перекладывать вещи на столе. Маша. Я тебя слушаю. Вася. Так ведь не к тебе же вопрос. Маша. Ничего. Я его жена. Вася. Ладно. Я одного понять не могу. Маша. И? Вася. Почему Паша не летит. Он же подходит? Маша молча выковыривает из пачки сигарету и закуривает, ловко орудуя зажигалкой. Вася сидит и внимательно, но отстранённо разглядывает ладони. Паша продолжает перекладывать вещи. Он плачет. Плечи его дёргаются. Где-то далеко на улице весело перекрикиваются дети. 107 3. Припаркованный на обочине автомобиль. Внутри – Ростоцкий и Мартынов, оба в тёмных плащах. Мартынов держится за руль, Ростоцкий почти лежит, во рту зубочистка, на носу – тёмные очки, съехавшие к самому кончику носа. Ростоцкий. Как думаешь, на кого мы с тобой похожи в этих нелепых плащах? Мартынов. На страховых агентов. Ростоцкий. Почему на страховых агентов? Мартынов. Не знаю, мне кажется, что страховые агенты именно так выглядят. Ростоцкий. Ты видел вообще когда-нибудь в жизни страхового агента? Мартынов. Нет. Но представлял как раз так – в плаще и без галстука. И в плохих ботинках. Ростоцкий. У меня хорошие ботинки. Мартынов. Повезло. Мои воду пропускают. Ростоцкий.Ну, я к выбору обуви всегда очень внимательно относился. И отношусь. Мартынов. Я бы сказал тебе, что мне мои жена купила. Но у меня нет жены. Так что сам виноват. Ростоцкий. Одежда – дело серьёзное. Мартынов. Может быть. Ростоцкий.Одежда – это практически весь ты для других людей. Во многом именно то, как ты одет, и формирует их отношение к тебе. Мартынов. Это из какого-то учебника для неудачников. Ростоцкий. Да, наверное. Я не помню уже. Но я и сам так думаю. Одеваться нужно тщательно. Мартынов. Никогда об этом не думал. Ростоцкий. Ага. И потому в слякоть у тебя постоянно полные ботинки воды. Мартынов. Да. И брюки до колена мокрые. Ростоцкий. Можно ведь подворачивать. Пауза. Мартынов. Она опаздывает. Ростоцкий. Задержали на работе. Мартынов. Ждём ещё пятнадцать минут. Ростоцкий. Ты куда-то торопишься? К жене? Мартынов. Да. К призраку возможной жены. Есть хочется. Ростоцкий. Хочешь, я схожу куплю что-нибудь? Мартынов. Нет. Ростоцкий. Ладно. Мартынов. Я боюсь. Ростоцкий. Что, правда? Мартынов. Правда. Ростоцкий. И чего же? Мартынов. Женщин боюсь. Ростоцкий. Кто же их не боится. Мартынов. Я очень боюсь. Ростоцкий. И потому ты не женат. Мартынов. И поэтому тоже. А ты разве женат? Ростоцкий. Я похож? Мартынов. Ты похож на убеждённого холостяка. Ростоцкий. Я такой и есть. Я вообще асексуал. Мартынов. А для кого ты тогда так одеваешься? Ростоцкий. Для себя. Для внутреннего комфорта. Мартынов. А говорил про отношение к тебе других. Ростоцкий. Это тоже. Но для себя в большей степени. Люблю уют. Сухие носки. Мартынов. Сухие носки? Ростоцкий. Да, сухие носки. Не люблю, когда хлюпает в ботинках. Мартынов. Кто ж любит. Ростоцкий. Ты, похоже. 108 Мартынов. Просто не очень удачная обувь. Ростоцкий. Ты какой-то неправильный холостяк. Мартынов. Я не холостяк. Я просто одинокий человек. Ростоцкий. Принципиально? Мартынов. Нет. Так получилось. Ростоцкий. Просто ты боишься женщин. Мартынов. Просто я боюсь женщин. Ростоцкий. Особенно таких, как эта. Мартынов. Особенно таких. Меня пугает то, что она так упорно опаздывает каждый раз. Ростоцкий. Она женщина. Мартынов. Я понимаю. Но ладно бы у нас с ней были какие-то там просто деловые отношения. Ростоцкий. У нас с ней очень деловые отношения. Мартынов. Очень деловые, но при этом и очень деликатного характера. Ростоцкий. Хорошо, что я не её муж. Мартынов. Хорошо. Но, с другой стороны, и плохо. Ростоцкий. Почему? Тебе надоело жить? Мартынов. Нет, мне очень нравится жить. Даже слишком. Ростоцкий. А что тогда? Мартынов. Ну, он богат. Ростоцкий. Только поэтому? Мартынов. Нет. Не только. Его взяли. Ростоцкий. А тебя нет. Мартынов. И тебя тоже. Ростоцкий. Я и не надеялся. Ты сколько раз ходил на тесты? Мартынов. Восемь. Ростоцкий. Восемь? Мартынов. Восемь. А что, много? Ростоцкий. Прилично. И что, никак? Мартынов. Никак. Даже половины баллов не набрал. Ростоцкий. И я. Мартынов. Каждый раз баллов было всё меньше. Ростоцкий. А я один раз ходил. Мартынов. Почему так мало? Ростоцкий. Потому что себя знаю. Им такие не нужны. Мартынов. Я думаю, им разные нужны. Ростоцкий. Вряд ли мы с тобой хороший материал для постройки новой цивилизации. Мартынов. Но что-то мы умеем. Ростоцкий. Да, негодяи мы с тобой отменные. Мартынов. Почему сразу негодяи. Это работа. Как и любая другая работа. Не всем же быть начальниками, кому-то и мусор надо убирать. Ростоцкий. Да, особенно если этим самым мусором становятся начальники. Мартынов. Некоторые. Ростоцкий. Некоторые. Но я бы сказал – многие. Мартынов. Почти все. Ростоцкий. Почти все. За редким исключением. Мартынов. Вот у неё муж – как раз такое исключение. Ростоцкий. Да, удивительный экземпляр. Богатый, чиновник, но человек внезапно хороший. Мартынов. Да ну, что-то тут не так. Мифология какая-то. Не верю. Ростоцкий. Но его взяли. А нас не взяли. Ни тебя, ни меня. Мартынов. А ты уверен, что они только хороших берут? Ростоцкий. Не знаю. Но очень похоже на то. Пауза. Мартынов. Знаешь, я думаю, тесты – это для отвода глаз. Ростоцкий. Почему? Мартынов. Ну, мне кажется, что они сразу знают, кто да, а кто нет. 109 Ростоцкий. Видят насквозь? Мартынов. Похоже на то. Ростоцкий. Может, и так. Получается, что я правильно не стал восемь раз на тесты ходить. Мартынов. А я стал. Я надеялся. Ростоцкий. Надежда – главный враг человека. Кому как не тебе это знать. Мартынов. Я знаю. Но тем не менее. Ростоцкий. Люди обманывают себя, надеясь. Мартынов. Иногда обманываться проще. Ростоцкий. Проще? По-моему, куда проще быть честным с самим собой и знать с самого начала, куда ведут все дорожки. Мартынов. В морг? Ростоцкий. Бинго. Пауза. Мартынов. Пожить нормально хотелось. Ростоцкий. Там работать надо. Ты любишь работать? Мартынов. Я не люблю работать. Ростоцкий. Я тоже. Мартынов. Вот и она – тоже не любит. Ростоцкий. Странно знаешь что? Мартынов. Ещё нет. Ростоцкий. Ну, он же мог ей оставить денег, хотя бы какую-нибудь часть. Мартынов. Наверное, не мог бы. Ростоцкий. Ну, пускай девяносто процентов на благотворительность, а ей – и десяти хватило бы до самой смерти. Он же знает, что она стерва. Почему бы не позаботиться о собственной безопасности? Мартынов. Может, он и правда человек хороший? Ростоцкий. Слушай, меня буквально подмывает взять и позвонить ему. Мартынов. Зачем? Он же нам не заплатит. И она, если её примут, не заплатит. Уже. Тебе деньги не нужны? Ростоцкий. Нужны. Но… Понимаешь, я бы ему позвонил и сказал: перепиши, мол, быстрее своё завещание и спрячь получше, потому что жена твоя знает, где ты его прячешь, и знает, что там пока всё на неё отписано. Не медли, мол. Она же тебя заказала, пока ты сбежать не успел. Мартынов. Ты серьёзно? Ростоцкий. Ну как тебе сказать. Пауза. Мартынов. Ты знаешь, я тут подумал. Ростоцкий. Да? Мартынов. А давай её убьём? Ростоцкий. Хм. А резон? Мартынов. Не нравится она мне. Ростоцкий. Мне тоже не нравится. А деньги как же? Мартынов. Не знаю. Не хочу я этого мужика валить. Пусть хотя бы он полетит, если не я. Ростоцкий. И не я. Мартынов. И не ты. Ростоцкий. Мысль в целом неплохая. Мартынов. Только она опаздывает. Ростоцкий. Может, правильно и делает. Чувствует. Мартынов вынимает из кармана мобильный, нажимает несколько кнопок и прикладывает к уху. Задумчиво прислушивается, ждёт. Ростоцкий тихо смеётся, прикрывая ладонью рот. Плечи его дёргаются. Мартынов замечает в зеркало, что Ростоцкий смеётся, и сам начинает улыбаться, а после не выдерживает – и вот они смеются оба. Из телефона приглушённо: «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети…» 110 4. Утро. Кафе. Несколько столиков. Заняты только два. За правым сидят Олег и Вася. За левым – Ростоцкий и Мартынов.Тихонько перекатывается под потолком лёгкая музыка. Олег. Ты будешь кофе или чай? Вася. Я буду чай. С кофе у меня отношения так себе. Олег. Не любишь кофе? Вася. Да я даже не знаю, кто из нас кого не любит. Может быть, он меня. Олег. Ссоритесь? Вася. Ага. Неделю нормально живём, а потом я его выгоняю. Говорю ему: кофе, ты, конечно, хороший парень, но мне чай больше нравится. Олег. Ты жестокий. Вася. Да нет, почему. Он же не против. Знает, что через полгодика опять ко мне вернётся, пусть даже и на недельку. Олег. А я сок люблю. Вася. А он тебя? Олег. И он меня. Мы любим друг друга. Вася. А я чай. Пожалуй, зелёный больше. Тут дают зелёный? Олег. Тут любой дают. Вася. А выпить? Олег. А ты хочешь выпить? Вася. А ты? Олег. Ну я же не пью. Ты знаешь, Лёша умер. Пауза. Вася. Теперь знаю. Олег. Почки. Вася. Знаешь, не буду чай. Буду коньяк. Олег. А я сок. Вася. Я его искал. Олег. Лёшу? Вася. Да. Эх, если бы я догадался, что ты с ним отношения поддерживаешь… до сих пор… Олег. А зачем ты его искал? Вася. Я улетаю. Олег. Ого. И я. Вася. А он – нет. Олег. Да. Он – нет. Даже тесты не стал сдавать. Сказал, что всё это бессмысленно. Мол, какая разница, где умирать. Вася. Говорят, у них там не умирают. Олег. Я тоже такое слышал. Но ещё я слышал, что из нас – там, у них, – будут делать фарш. Вася. Да ну, ерунда. Олег. Фонарик тоже умер. Вася. Кто? Фонарик? Олег. Да. Собака моя. Вася. Почему Фонарик? Олег. Ну… а какая разница? Вася. Да нет, никакой. Просто забавное имя. Олег. А у тебя есть собака? Вася. Нет, у меня аллергия. Олег. Один живёшь? Вася. Нет. С Пашей. От него жена ушла. Олег. Ничего себе новости. Вася. Ну, вот так. Он ко мне переехал. Ростоцкий показывает пальцем на Васю и Олега. 111 Ростоцкий. Смотри, геи. Мартынов. Где? Ростоцкий. Да вон. Мартынов. Почему геи? Ростоцкий. Ну, а кто? Мартынов. Да просто ребята какие-то. Ростоцкий. Ну, хочешь я подойду и спрошу? Мартынов. Зачем? Ростоцкий.Ну чтобы точно знать. Мартынов. А ты не уверен? Ростоцкий. Я-то уверен. А ты нет. Мартынов. А если скажут, что не геи? Что ты делать будешь? Ростоцкий. Ничего не буду. Назад вернусь. Мартынов. Ну, а если геи? Ростоцкий. То же самое. Мартынов. И зачем тогда? Ростоцкий. Да просто так. Интересно. Мартынов. А ты что-то против геев имеешь? Ростоцкий. Да вроде нет. Просто… смешные они. Мартынов. Сейчас все, кому до тридцати, смешные. Ростоцкий. Трудно спорить. Но вот этот, лысый, сто процентов – гей. Мартынов. Даже если и так, то что? Ростоцкий. Не знаю. Хочется похлопать его по лысине. Блестит смешно. Мартынов. Ты что-то развеселился сегодня. Ростоцкий. А что ещё остаётся? Только веселиться. Мартынов. Ну, подойди похлопай. Ростоцкий. А вдруг драться начнёт? Мартынов. Тогда не хлопай, если боишься. Ростоцкий. Да нет, просто бить в ответ не хочется. Вася кивает в сторону Ростоцкого и Мартынова. Вася. Смотри, бандиты. Олег. Где? Вася. Да вон. Олег. Почему бандиты? Вася. Ну, а кто? Олег. Больше на страховых агентов похожи. Вася. Да ну, разве страховые агенты так одеваются? Олег. Не знаю. Плащи похожие. У страховых агентов обычно такие плащи. И портфели. Вася. У этих нет портфелей. Олег. У этих нет. Может, в машине оставили? Вася. А у страховых агентов бывают машины? Олег. А почему нет? Они же тоже люди. Вася.Может быть, может быть. Олег. Да точно тебе говорю. Вася. У меня полной уверенности в этом нет. Олег. Да? Хм. Вася. По крайней мере, что касается конкретно этих агентов. Они вообще мало на людей похожи. Олег. Да вроде же люди. Вася. Ну разве нормальный человек будет в помещении в тёмных очках сидеть? Тем более, в таком, где света и так почти нет. Олег. Может, у него глаза больные. Вася. Хочешь, я подойду и спрошу – люди они или нет? Олег. Даже если и не люди, то что ты думаешь, они тебе признаются? Вася. А вдруг? Олег. Попробуй. 112 Вася. Да нет, не буду. Это бандиты. Олег. Не страховые агенты? Вася. Нет. Слишком хищные для страховых агентов. Особенно этот, в очках. Олег. А чем, собственно, занимаются страховые агенты? Вася. Я точно не знаю. Может, уже и нет их давно. Олег. Мне кажется, есть. «Госстрах» был же когда-то? Вася. Был «Госстрах», а теперь «Госужас». Олег. Серьёзно? Вася. Да конечно. Ты совсем шутки разучился понимать. Олег. Я и не понимал никогда. Ростоцкий поднимается и идёт к Олегу и Васе, без приглашения присаживается за их столик. Ростоцкий. Ребята, привет. Олег. Здравствуйте. Вася. Привет-привет. Ростоцкий. Можно вам один вопрос задать? Вася. Да вы уже задали. Ростоцкий.А ты ничего. Молодец. Вася. Вы тоже ничего. Очки красивые. Ростоцкий. Спасибо. Так можно вопрос? Или нет? Вася. Валяйте. Ростоцкий. Ребят, а вы случайно – не геи? Олег. Нет. Вася. Он, случайно, – нет. А я, совершенно случайно, – да. Ростоцкий. Что, правда? Вася. Чистейшая. Ростоцкий. Слушай, как интересно. Никогда живого гея не видел. Только по телевизору. Вася. Там мёртвые. Олег. Он шутит. Ростоцкий. Да я заметил уже. И голубой, и петросян – интересная личность. Вася. А можно встречный вопрос? Ростоцкий.Почему же нельзя? Давай. Вася. А вы – бандит? Ростоцкий. Я страховой агент. Олег. Ну, я же тебе говорил! Вася. А я думал, что бандит. Ростоцкий. Ошибся, с кем не бывает. Вася. А друг ваш – тоже агент? Страховой. Ростоцкий. Тоже. Напарник мой. Олег. А в чём заключается ваша работа? Ростоцкий. Ну, а как сам думаешь? Олег.Страхование… от несчастных случаев. Ростоцкий. Ну… почти. Но в целом – да. С чужими страхами работаем. И со своим изредка. Страшная у нас работа. Мартынов поднимается и идёт к остальным, присаживается рядом с Ростоцким. Мартынов. Ребята, а вот предположим – нужно вам выбрать одно из двух. Вася. Например? Мартынов. Например, убить хорошего человека и взять деньги. Или убить плохого и ничего не получить, никаких денег. Олег. А вообще никого не убивать – можно? Мартынов. Беда в том, что если никого не убивать в данном случае, то хороший человек всё равно умрёт – других найдут, чтобы его убить. Вася. Не хочется никого убивать. Ростоцкий. Не хочется. А надо. 113 Олег. Плохо. Ростоцкий. Не расстраивайся, лысенький. Не тебе же. И не тебя. Олег. Не люблю, когда умирают. Собака умерла. Друг умер. Вася. А для нас, Олежка, скоро все на этой планете умрут. Ростоцкий. А вы что, летите? Олег. Да. А вы? Мартынов. А мы – нет. Таких не берут. В космонавты. Вася. Жаль. Честное слово – жаль. Короткая пауза. Мартынов. Ну, так что? Какой вариант? Олег. Мне никакой не нравится. Вася. Мне, в принципе, тоже. Ростоцкий. А выбрать надо. Вася. Ну, если надо, то я бы всё-таки плохого человека убил. Ростоцкий. А ты, лысенький? Олег. Меня Олег зовут. Ростоцкий. Очень приятно, Олег. Меня Коля. Так что? Олег. Я бы никого не стал убивать. Я бы лучше сам умер. Мартынов. Но вариантов только два, Олег, и по-другому – никак. Олег. Тогда я как Вася – плохого. Мартынов. Вот видишь, Коля. Ростоцкий. Вижу, Серёжа. Даже геи – за. Олег. Я не гей. Ростоцкий. Ну, похож. Немножко. Вася. А я – гей. Мартынов. Ух ты. Гордишься? Вася. Нет. Просто это факт. А вы – гомофоб? Мартынов. Да мне, в общем-то, всё равно. А тебе, Коля? Ростоцкий. А я даже сочувствую. Потому что женщин тоже не люблю. Олег. Я люблю. Но не всех. Вася. И я люблю. Но по-другому. Пауза. Ростоцкий. Когда вылет, Вася? Вася. Через месяц. Мартынов. Не грустно? Вася. Немного. Друга жена бросила, не хочется его одного оставлять. Ростоцкий. А тебе, Олег? Олег. Очень грустно. Без Фонарика как-то совсем не то. Мартынов. Так ты возьми фонарик, делов-то. Вася. Это у него собаку так звали – Фонарик. Ростоцкий. Забавно. Фонарик. Мне нравится. Мартынов. Да, ничего так. Оригинально. Ростоцкий. А какая порода? Олег. Немецкая овчарка. Ростоцкий. Большая собака, красивая. Может, мне такую себе завести, а, Серёж? Мартынов. Заведи, почему нет. Места сейчас много станет. Все хорошие улетят. Останемся мы, плохие. Всякие гады и сволочи. Олег. А вы плохие? Ростоцкий. А как ты думаешь, Олег? Если нас не взяли. Вася. Туда разных берут, не только хороших. Мартынов. Молодых, здоровых, выносливых. Ростоцкий. Геев и дураков. 114 Пауза. Ростоцкий. Слушай, Олег. Ты только не обижайся, ладно? Олег. Ладно, не буду. Ростоцкий. Можно я тебя по лысине похлопаю? Легонько. Очень уж она мне нравится. Вася. Чем вы его хлопать собрались? Ростоцкий. Да не беспокойся ты, ладонью! Олег. Можно, можно. Хлопайте. Мне не жалко. Олег наклоняет голову. Ростоцкий, блаженно улыбаясь, хлопает ладонью по блестящей коже голой головы Олега. Вася смотрит на это действо с кривой ухмылкой. Мартынов берёт из стаканчика на столе салфетку, плюёт на неё и пытается оттереть тёмно-красное пятнышко на плаще. За большим, во всю стену, окном как ни в чём не бывало снуют туда-сюда разноцветные автомобили. НАРОДЫ Действуют: Вадим Иванович, представитель местной власти Надежда, сельская учительница Гость Октябрь, в полях ветер и листья, и кажется, что октябрь везде, на всём белом свете, и листья летят по всей земле… В кабинете Вадима Ивановича, главы администрации сельской администрации, уютно, натоплено, пахнет яблоками печкой. На стене портрет президента, икона Николая Чудотворца и карта района. Вадим Валерьевич сидит за столом и смотрит на своего гостя – невысокого щуплого мужчину в кепочке, джинсах и пиджаке, смуглого, темноглазого, явно нездешнего, «неместной» наружности. Гость сидит на стуле перед столом Председателя, с любопытством глядя по сторонам. Входит Надежда, молодая учительница сельской школы. Надежда. Звали, Вадим Иваныч? Председ. Заходи, Надежда, помогай разбираться. Видишь, гость у нас. Надежда смотрит на гостя, и гость молча приветливо улыбается ей. Надежда вопросительно смотрит на Председателя. Председ. Полчаса бьюсь, разобраться не могу, кто такой. Хоть милицию вызывай. Надежда. Может, Гали Савосиной родня, с Пеновского района? Они там, в Пенно, все рёхнутые маленько. Председ. Ты ксенофобию тут не разводи – Пеновские нормальные ребята. Какой язык ребятам преподаёшь? Надежда. Английский. Председ. Вот и действуй. По-русски он не шарит, вот что. Мужики у колодца обнаружили. И сидит на корточках, и курит, совсем как наш. А по-русски-то не шарит. Надежда поправляет косыночку на голове и строго, как на ученика, смотрит на гостя. Надежда. Инглиш? Гость нерешительно кивает. Надежда. Нид хелп? Гость. Вай-фай? 115 Председ. (усмехается, так как от детей своих и внуков знает, что такое вайфай). Вай-фай, как же… Макдональдс ещё… Суши-бар… Надя, скажи ему, у нас интеренет только на кладбище. Кладбище на пригорке, на кладбище колокольня, на колокольне модем хорошо ловит. Надежда. Что вы здесь делаете? Откуда вы? Гость говорит по-английски, короткими предложениями. Гость. Нуй-Вэм. Моя страна. Остров. Океан. Зима. Плохой прогноз. Ураган. Опасно. Эвакуация. Надежда. Ничего не пойму… Это что, телепередача «Программа Розыгрыш»? Надежда смотрит по сторонам, словно пытаясь разглядеть где-то скрытую камеру или другие признаки телепередачи. Гость. Мы живём на острове. Нуй-Вэм. Остров-страна. Моя страна. Кругом океан. Зимой обещают сильный ураган. Надо готовиться к эвакуации. У вас много места. Мы к вам. Переждать ураган. Нас чуть больше тысячи человек. Надежда (Председателю). Пляшите, Вадим Иванович. Они к нам от урагана эвакуироваться приехали. Тысяча человек. Председ. Это чьё распоряжение? Мне ничего не спускали. Гость достаёт из кармана пиджака портмоне, бережно вынимает сложенный вчетверо листок, показывает Надежде. Надежда. Тульская область, Жуковский район, деревня Пирогово, дом тридцать. Орехов Николай. Председ. Это с Питера, что ли, бородатый такой, на «Ниссан-Патроле» убитом? Надежда. Он дачник Гость. Что-то плохое? Надежда. Дачники, понимаете? Летние люди. Живут здесь только летом. А осенью уезжают в свои города. Работают там, всё такое. Сюда – только летом. Дачники. Гость. Николай. Русский. Загорал у нас всю зиму. Всегда обедал у меня. Руку жал. Прощались – говорит, если что, приезжай к нам, друг, у нас земли много. Адрес дал. Надежда. Нет, всё-таки, это программа Розыгрыш… Председ. Садись на велосипед, сгоняй до этого Николая, разбираться будем. Надежда. Он уж в Питере давно, октябрь на дворе, Вадим Иванович. Гость. Я стучал, закрыто. Председ. Ничего, я его теперь из-под земли достану. Загорал он… Нормально… Он загорал, а мы разгребай… Надежда (Гостю). Произошло недоразумение. Вы с Николаем друг друга не поняли. Понимаете, когда он сказал: «приезжай, друг, всегда рады», это были просто вежливые слова. Как «спасибо, до свидания». Вежливые слова. Он совершенно не думал, что вы приедете. Гость. Обманул? Надежда. Нет… Он не хотел обмануть. Но это просто вежливые слова. Гость. Зимой у нас много русских. Приезжают надолго. Загорают. А ещё музыканты были. Красиво… Музыка… Русские весёлые, добрые, хорошо платят… Гость умолкает. Председатель задумывается. Слышно, как поёт ветер и трещат поленья в печке. Председ. Нельзя им сюда. Во-первых, холодно зимой, акклиматизация, всё такое… Во-вторых... Надежда (терпеливо, по-учительски). Послушайте. Вы видели русских, которые приезжают к вам, за тридевять земель, загорают, тратят деньги, или играют красивую музыку. Но здесь, в деревне, живут другие русские. Они почти не пользуются деньгами, потому что их у них нет. Они едят то, что выросло на огороде. То и дело крепко выпивают, дерутся и гоняются друг за другом с топорами. Они тоже русские, но другие, понимаете? Гость. Нет. Надежда. Страна большая. Народу много. По-разному люди живут. Председ. Спроси, их же всё равно эвакуировать будут? Не оставят же посреди урагана? 116 Гость. Да, постараются переселить на материк. Но и там опасно. К тому же, не получится весь народ в одно место. Так и потеряться можно. А нам всем вместе надо. Мало нас… Председ. Сто раз просил – обеспечьте сельсовет вайфаем… Счас бы щёлк-щёлк, и политическая карта мира… Звони географичке, пусть берёт в школе глобус и бежит сюда, хоть глянем, где этот Нуй-Вэм… Надежда. Петрова по географии сегодня свинью режет. Председ. Нашла время… Привыкли жить в медвежьем углу, а мир, между прочим, меняется, стираются границы… Снова пауза, слышен ветер и треск поленьев и отдалённый нестройный хор, похожий на вой и визг. Надежда (Председу). Луковы свадьбу догуливают. Второй месяц. Синие все уже. (Гостю). Поют люди. Настроение хорошее. Председ. Ладно, переведи ему – счас пойдём ко мне, пообедаем по полной, и я его до райцентра доброшу, до станции. Посмотри, что там у него с билетами, объясни подробно, как ему, куда… И это, кстати… Он как вообще в страну попал? Не нарушал ли? Надежда. Покажите, пожалуйста, паспорт с визой. Гость. У нас с вами безвизовый режим. Дружба. Взаимопонимание. В голосе его укор. Он встаёт и закидывает за плечо свой рюкзачок, маленький, детский, ярких цветов. Вадим Иванович смотрит в узкую, как у подростка, спину гостя и думает о далёком острове в Тихом океане, где в ожидании урагана сидит тысяча человек с доверчивыми тёмно-карими глазами и надеется только на них, на Вадима Ивановича, на дачника Николая, на весь их полуразвалившийся колхоз «Победа Октября». Вадиму Ивановичу вдруг становится интересно и весело, как не бывало уже давно, с детства, когда отец брал его на ночную рыбалку со старшими. Словно десятилетний мальчишка, он думает, как все удивятся, как «обзавидуются» другие сельские округа, а председатель соседнего колхоза «Первое мая» просто упадёт… Председ. А знаешь, брат… Давай! Приезжайте! Надежда. Вадим Иванович, да вы что?! Председ. А в войну как жили? Поместимся! Россия – щедрая душа! Они пока ехать будут, мы турбазу заброшенную подремонтируем… Надежда. Да тут что ни день – пьяная драка, поджог, поножовщина, куда их? Председ. Правильно. Одичали совсем одни сидеть. А тут – гости. Подтянемся. Дисциплина! Надежда. А миграционный контроль? Председ. Ты что, Кочкина из миграционки не знаешь? Нормальный мужик. С ним посидеть, выпить как следует – любой вопрос решит. Надежда. Ну, Вадим Иванович, дело ваше… Председ. Шутка ли – тыщща человек, рук рабочих… Да мы с вами горы свернём! Водокачку починим, мост… Давай, брат, собирай своих и двигайте к нам! И для детишек наших полезно, пусть видят – велик мир, разные люди бывают, долой ксенофобию! Надежда качает головой и уезжает на велосипеде. Дует ветер, стоя на крыльце, председатель оглядывает бескрайний русский простор, ему приятно, что земля его так велика, и может легко приютить далёкий незнакомый народ, попавший в беду. Он по-дружески обнимает гостя, приглашая полюбоваться осенним простором. Председ. Пиздато листья летят… Как в детстве… 117 118 МАЭСТРО Мария Орлова родилась в Одессе и закончила Московский текстильный институт. Она член Ассоциации московских художников, но в настоящее время живет и работает в Grӧtzingen, Карлсруэ. Сегодня ее интересы весьма разнообразны: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство. Мария освоила технику ковроткачества, росписи по шелку, ее увлекает мозаика, керамика, витраж. Похожие на морозные узоры графические работы Орловой отличает изящество и декоративная условность. Высокая степень обобщенности и интимность этой воздушно-легкой графики рождают в душе человека глубокие чувства. Автор – участник многочисленных коллективных и персональных выставок в России и за рубежом – в Москве, Одессе, Карлсруэ. Лилия 120 Роза Улитки 121 Метаморфозы 122 Бабочка Природа 123 Орхидеи 124 Любовь женщины 125 Мартышки 126 ХОРОШО ПРИ СВЕТЕ ЛАМПЫ… ПОВЕЛИТЕЛЬ ГРЁЗ О книге стихов Александра Крупинина «13 сапфиров и разноцветные черендыбы». И стали видимы средь сумеречной сини Все знаки скрытые, лежащие окрест: И письмена дорог, начертанных в пустыне, И в небе числа звезд. М. Волошин На самом деле, их не чертова дюжина, а намного больше – ярких, удивительных, драгоценных стихов Александра Крупинина из книги «13 сапфиров и разноцветные черендыбы». «Крупинин?», – читатель пожмет плечами и покачает головой, – «не слыхал о таком». Что ж, не беда, пожалуйста, прочтите сборник питерского стихотворца, не пожалеете. Уверен, вас приятно удивит зрелость автора, его мастерство и верность поэтической традиции северной столицы. Это книга о тех, кто внутри не полый, то есть не пустой, но кто, увы, вынужден жить в пустыне – одиноко и созерцательно. Уклоняться от сует, нащупывать выход, искать исход… Исход – это действие, изытие, исшествие. Конец одного и начало другого. Вершина, исток, и, вместе с тем, распутье, перекресток, раздорожье… Изойти, значит, изводиться, расходоваться, тратиться, истощаться, умирать, сходить с ума… «Исходом» называется вторая книга пророка Моисея. Неудивительно, что в имени Мюда Моисеевича Майского, с рассказа о котором начинается крупининский сборник, это имя – Моисей – неожиданно оживает. Оно вспыхивает, рождая воспоминание о библейской легенде, что в мае, третьем весеннем месяце, нередко случается чудо – человек вступает в завет с Богом. У каждого из нас в душе своя земля Ханаанская. Тяжек путь через пустыню, но потерянный рай по-прежнему сочится майским мёдом, ароматом дыни манит назад, к истокам… «Гнусные карлики» захватили власть. «По ящику» врет генерал Рукавицын. Батальоны конной милиции прочесывают молчаливые окраины. Здесь «даже стены страдают от экзистенциальной тоски». «Бабы спят, мужья впадают в пьянство». «Семьдесят восемь дней внутри горы», идет всенародная стройка Северомуйского тоннеля. Дни напролет ты, как дятел, «проводишь в долбежке», «думаешь о кормежке», но в душе мечтаешь взлететь высоко-высоко – легендарной чайкой по имени Джонатан Ливингстон. Грезится очутиться в живописной провинции Перигор, насладиться вином Жюрансон, «форелью из соседней реки Гав». Греза, грезы… Брат смерти сон… Происходящее – неразрывная гипнотическая цепочка, летаргическое мистическое путешествие. Сны Ганса Касторпа и каюра Эль Койота в безбрежном снежном тумане. Отключка доктора Вольфсона в эскимосских нартах, падение в кошмар, будто лежишь бесчувственным трупом на лубянском холодном полу, а железный нарком Каганович поит тебя молоком из соски. Рыхлые, блеклые, яркие сны Петюганья. Первый, второй, очередной, последний… Визии, дрёмы, мечты… Чудеса и казни египетские. Бредится Натану Лейтесу: он – Иосиф Прекрасный, Моисей пред троном сурового фараона, новоорлеанский черный трубач, восклицающий: «Let My People Go!». Let My People Go! – и… правитель – делать нечего – соглашается, отпускает, а сам – уходит… Народ собирается в путь. Начинается великий исход. «О, эта дорога на Северный Муй, / Страшная, страшная дорога на Северный Муй». Непонятная, загадочная, трансцендентная, закручивающаяся в спираль. Ботильоны и скрюченные пальцы. Утомлённые лоси таинственной вереницей движутся по улице Зодчего Росси. Ученицы двести двадцатой средней школы шествуют по Невскому абсолютно голые. Доморощенные народные мстители – ячейка Бублеевой – перемещаются, как флотилия бумажных корабликов, по коридору коммунальной квартиры. Сталин бежит по лугу. Мимо проезжает огромный «Камаз». Уходят все, в городе остался один Кирюша, наверно, ничего не слышал – больные уши. 128 Сердце выстукивает знакомое: «Загремим под фанфары!», «Мракобесие и джаз», «Русскоабиссинская песня ушельцев»… Герои и антигерои книги Крупинина «покидают Вавилон навсегда» под H-molную мессу Баха, арии «Мадам Баттерфляй», шлягеры Мендельсона, Эллингтона, Пресли, «Роллинг Стоунз». Эскимос в тундре громко выводит оперу «Тоска», в тронном зале весело пускается вскачь баптистский хор, скрипач Мурыгин в творческом порыве поправляет в кальсонах поднявшийся «солидный» хвост, а беленькая Киса на плече флейтиста Сергеева нежно мурлычет свой любимый шлягер, балладу группы «Metallica» “Nothing Else Matters”. «Остальное – неважно!» Как же, как же, помним известный слоган ревизиониста Бернштейна: «Движение – всё, цель – ничто!» Четыреста вёрст по дороге, засыпанной снежной пылью, с краткой остановкой в Йошкароле. «Проходят дни, пробегают недели, и так они бродят без всякой цели». Брат Пахоруков скачет вокруг села, боится войти, а селяне – выйти. В луже крови у самой дороги в Северный Муй лежит красный селькуп, так и не увидевший своей прекрасной блондинки. Не всякая птица, увы, долетает до середины Москва-реки… Фараон-подполковник Кукин ведет страну в двадцать первый век, но она, как паром «Принцесса Анастасия», продолжает ходить по вечному кругу… Мне кажется, вы настроились услышать еще об одном сочинителе-экзистенциалисте, авторе философских притч о внутренней свободе, страхе, ответственности за совершённое действие и непреднамеренные ошибки. Да, у Крупинина есть всё, что могло бы соблазнить Кьеркегора и Сартра: бытие «в рассеянии и бессвязности», исход «из» – «в». Однако автор «13 сапфиров» традиционную литературную форму намеренно ломает и деформирует посредством алогизмов и непроизвольно возникающих отклонений. Поэтому окружающая реальность сторонним наблюдателем начинает оцениваться иначе, в стереотипе возникают бреши, в классическом мифе видится погрешность. Карнавал, эксцентричность, парадоксальность, фантасмагория и гротеск, балаганные аттракционы и неомифологизм, эстетический эпатаж – все это заставляет вспомнить прямых предшественников Крупинина – поэтов-обэриутов. В размерах и рифмах Александра, как правило, отсутствуют изыски, зато он очень любит обыгрывать возможность подмены и утраты смыслов. Семантические игры, детское мышление, интерес к инфантильному фольклору, считалочкам, «нескладушкам», черному юмору роднят поэзию Крупинина с наследием Хармса. О Данииле Ивановиче, в частности, постоянно напоминает заимствованный прием фонетических столкновений (Бублянский-Бубликов-Бублеева-Блябликов, Кошкодамов-Кашкадамов-Сулейманов-Хламов, Аннадурды Нияздурдыевич Нияздурдыев, Куйбышев-Уйбышев) и заметная любовь к фантастическим персонажам (огурциям, пересильду, бириндикам и черендыбам). В стихах Крупинина чрезвычайно высока степень ассоциативности. Автор способен извлекать из памяти читателя целые мириады образов и ощущений. Например, стихотворение «Ночью суп хорошо, / Даже очень хорошо!» выпускает, как «джина из бутылки», искрометный фейерверк: детские стихи Маяковского («Что такое хорошо, а что такое плохо»), советский шлягер (Солнце в небе – это очень, / Очень хорошо! / Снегопады – это очень, Очень хорошо!), кинопесенки – Буратино («Это очень Хорошо, / Даже очень Хорошо!») и Айболита («Это даже хорошо, что пока нам плохо!») Действие в книге калейдоскопично и раздроблено, автор сознательно соединяет и отождествляет нетождественные начала. Основу его миропонимания составляет причудливое течение времени, парадоксальное понимание пространства. Лирический герой – либо наивный рассказчик-наблюдатель, либо визионер и чародей. Он, герой, одновременно сочинитель снов, но и толкователь, но и повелитель. Точное определение этого редкого умения заключено в ёмкой идиоме «Dream Maker». Фантастика и бытовой гротеск переплетаются и создают в сборнике бредовую несуразицу «непривлекательной действительности». Сны, рассказываемые Dream Maker’ом, озорны и причудливы, но, вместе с тем, оставляют ощущение безысходности, всевластия произвола и жестокости. Универсальной метафорой для Крупинина является слово «пустыня» и связанные с этим понятием слова-символы. «Верблюд» – не только живое существо, пересекающее жаркую бесконечность, как, например, Бактриан из цикла «Каракумский вопрос», но и вербальный триггер, способный вызвать ассоциацию, порождающую сон, грёзу, мираж: «Шел один верблюд, шел другой верблюд, шел целый караван…» Тема грез в поэзии Крупинина возникает неслучайно. Сон, мечту, фантазию автор сознательно противопоставляет обывательскому здравому смыслу и прагматизму. Герой одного из стихотворений, некто Куйбышев, примерный член общества, когда-то командовавший Госпланом, 129 после смерти попадает в ад, а его антипод Уйбышев, любитель травки и галлюциногенных сновидений, незаслуженно, «по блату», как считает нарком, «определен» в рай. Уйбышев продолжает грезить, пребывая в компании таких же, как он, визионеров – Святого Иоанна и «командированных» в Эдем поэтов. Нетерпимость «реалиста» Куйбышева направлена против никчемных мечтателей, таких, как, например, поэт Свеклов, который при жизни «занимался формальными экспериментами / И разрушал единство между народом и интеллигентами». А он только строил цепочки из слов, Стихи составлял из видений и снов. «Стихи – это просто узоры из слов, / В них пользы не больше, чем в рёве ослов». Обычно так считает обыватель, ведь в воображении ему, увы, отказано с самого рождения. «Как только эту сволочь не перестреляют?!» – ворчит он под нос. Но именно редкое умение чудесным образом видеть невидимое – тускло мерцающие во тьме сапфиры – для автора сборника и представляет главную жизненную ценность. Поэта по-прежнему, как и в юности, продолжает волновать незабываемая заповедь Беранже: «Честь безумцу, который навеет / Человечеству сон золотой!» Однако автор не призывает бороться с помощью вымысла с реальностью. Его творческий метод – своего рода реализм, ибо стихотворные перформансы Крупинина имеют непосредственное отношение к современной действительности. Сегодня она представляет собой коллаж культурных инсценировок. Доминирующей чертой ее стиля стала спектакулярность – создание коллективных иллюзий, стирание пространства, уничтожение времени, размытие понятий «онлайн» и «офлайн», клиповое мышление, визуальная всеядность, культурные инсценировки, упрощение мира до компьютерной «иконки». И это тоже тема книги, предмет иронии и гротеска. Спектакулярная театрализация, навязываемая человеку зрелищность, представляют собой имитацию действительности, организованную общественную «грезу». Автор «13 сапфиров» колективному перформансу противопоставляет авторский, «штучный» продукт – перформанс как действие спровоцированное, спонтанное, окрашенное нигилизмом, позаимствованным у дадаистов. Крупинин реализует принцип создания «жизни наоборот»: абстракция соединяется с реальными предметами, «внутреннее» меняется местами с «внешним», привычный «имидж» перемещается в чуждый контекст. Популярный иконографический сюжет о мудрецах, пришедших поклониться богоявлению, в книге неоднократно парадоксально преобразовывается и иронически перетолковывается. Волхвы – это и монгольские астрономы Мягмарсурэн и Бямбасурэн, направленные в пустыню генсеком для решения «каракумского вопроса». Но вместе с тем, это и Владимир Рысь, Марк Крот и Павел Лось – то ли древнерусские жрецы, прорицатели будущего, то ли три богатыря, считай, бандиты с большой дороги. Не вступая в противоречие с апостолом Матфеем, крупининские волхвы приходят с Востока, как, например, уже упомянутые звездочеты, но могут они отправиться и на Восток – в новый Тибет, Купчино, как это делает норвежский духовный искатель Педро Кускович. Заметим, что по авторскому замыслу кудесникам Мягмарсурэну и Бямбасурэну царь Ирод на пути встретиться не должен, они сами посланцы деспота, то есть лично товарища Юмжагийна Цеденбала, председателя Великого Народного Хурала. Восточные люди не ищут на Севере божественного откровения, они сами несут «мудрость» – «три тома Маркса на монгольском языке». Однако решение «каракумского вопроса», заключающееся в экспорте всенародного счастья, оказывается астрономам не по зубам, и эмиссары остаются с носом, вернее, без него. Приход волхвов у Крупинина отнюдь не означает начало бегства в Египет. Напротив, это событие инициирует исход из Египта (хотя не факт, что из Египта, ведь автор рассказывает и о том, что народ «покидал Вавилон навсегда»!) Кроме того, непонятно, кто отпускал людей – то ли строптивый владыка, пред которым предстали Моисей с Аароном, то ли Кир Персидский, то ли современный поэту фараон, допустим, Gorby. И совсем неясно, где находится заветная лестница Иакова, необходимый для снотворчества инструмент. То ли на острове Скай, высоко на чердаке маяка, то ли внизу, в погребе деда Голованя, или же в кофейне на Пролетарской улице, куда через разверстые небесные ворота для встречи с глухонемым алкоголиком Гришей иногда спускаются в цветных париках и в смешных кюлотах божественные идиоты – дадаисты Курт Швиттерс и Хуго Балль. Неважно. На самом деле, выяснить это несложно. Так считает Александр Крупинин. Ведь нет ничего проще: надо быть поэтом, уметь толковать сны и знать волшебное заклинание: «Oh my mints, oh my mints, oh my dream and my sickness...» 130 НЕВЕРНАЯ НИТЬ АРИАДНЫ ХУДОЖНИК ОБ ИСКУССТВЕ «Не без некоторого трепета приступаю я к этому повествованию» – такие строчки понравились мне в книге издания XIX века. Не важно уж, о чем – можно ограничиться предисловием. Как говорил великий режиссер: «Театр начинается с вешалки»! Я тоже попытаюсь испытать «некоторый трепет» – раскрыть, каковы были мои взгляды на искусство живописи, отношение к натуре, методы, техника, вникание в суть дела – насколько широко видел, насколько глубоко чувствовал, был ли прав или ошибался? Словом, чем больше слов, тем меньше дела. Все это я когда-то мог узнать сразу в течение 20-30 минут, у меня была такая счастливая возможность, но, увы, я ею не воспользовался. А дело было так: в Москве проходила городская отчетная выставка творчества «самодеятельных художников». Под это определение попадают многие, как в старину говорили, «воскресные художники», то есть, творившие в свободное от работы время. Еще их называют художники-самоучки. Так начинали Ван Гог, Утрилло, Чонтвари, Руссо, Пиросмани и т.д. В старые времена художники обучались ремеслу в частных студиях и школах, были помощниками своих учителей, начинали с растирания красок, грунтовки холстов, столярных работ. В дореволюционной России прекрасно было поставлено дело преподавания живописи и рисунка в гимназиях. Учителей выпускали Академия художеств, Училище живописи и ваяния, Строгановское училище. Многие художники имели свои школы и студии вплоть до революции 1917 года, позже их заменили изостудии домов культуры, клубов, домов пионеров. Вход был открыт всем от рабочих до академиков, у которых была свои студия в Доме ученых – «работники умственного труда» очень неплохо владели этим ремеслом, отчитывались выставками. Изостудии были бесплатными: реквизит, слепки, живая натура – все к вашим услугам. В Доме пионеров молодому дарованию выдавали лист ватмана, карандаши и ластик – сиди, твори! Преподаватель внимательно отслеживал твои поползновения, делал правки, замечания, давал советы. Часто учителя сами были талантливыми художниками, шли в изостудии по зову сердца, т.к. оплата была мизерная, хлопот много, а «спасибо» не всегда дождешься. Но тогда было время скромных, бескорыстных людей, которые со временем оказались «не в формате». Однако вернемся к выставке, о которой зашла речь. Проходила она в каком-то престижном Доме культуры. У меня отобрали десять пейзажей разного времени года. С волнением отправился я на экспозицию собственных работ: одно дело – дома, в тесной комнате, другое – развеска экспозиционная, тут картины начинают жить своей жизнью, и вроде как уже и не твои. Очень похоже на писательский труд: в рукописи – не поймешь, что, напечатанное – уже нечто. Я шел через анфиладу безлюдных залов, т.к. время было рабочее. Смотрел невнимательно – искал свои работы. В отдалении увидел человек 20 зрителей, которые что-то обсуждали. Дискуссию вел средних лет гражданин, задавал глупые вопросы и сам же на них отвечал. К моему изумлению, стояли они около моих работ, которые заняли целую стену. Еще более удивительно: другую стену отвели моему соседу Игорю Могутнику – наши квартиры рядом. Тогда мы не были знакомы, т.к. только въехали в дом. Он талантливый художник и преподаватель в детской изостудии. Его творчество – Москва и ее жители 1960 –70-х годов: дворы, семьи, животные, все, что украшает город. Экскурсовод возбужденно рассказывал, как я пишу, чувствую, что вижу, какими приемами владею, «в чем секрет». Гражданин то отходил, то приближался к этюдам, крутил ладонью. Я услышал: «Он угадал и понял!», потом стал сердито смотреть на меня и ждать, когда я уйду. Группа тоже с неудовольствием повернулась ко мне. Я почувствовал себя лишним на этом Олимпе, и, сконфуженный, постепенно удалился. Так я и не узнал, что же «угадал и понял», как работаю. Однако, «не все же петь соловью – дайте почирикать и воробью»! Я с детства полюбил природу. Ничего лучше нее нет. Она прекрасна во всех проявлениях. Подмосковье, средняя полоса, озера Карелии, Литвы и Латвии; моря, полноводные реки и маленькие речушки с заросшими берегами… Русский Север – целый континент, слава Богу, еще мало заселен, а еще, стало быть, не загажен. Для нашего ландшафта нет ничего лучше изб. Они архитектурный шедевр, идеально вписывающийся в природу. Меня всегда завораживала русская деревня на пригорке, особенно в пасмурный день, занесенная снегом. Вы можете увидеть ее на картине А. А. Пластова «Баня» – виднеется в проеме двора. Как-то писал такую, сыпал снег. На этюдник у палит- 132 ры села синичка, покрутила любопытной головкой, весело на меня посмотрела, что-то прощебетала и упорхнула. В избе вы можете курить махорку, мыть кисти скипидаром, сидеть в ней в лютый мороз, не проветривая, и все равно – воздух будет чистым, «духовитым», она дышит, а печь – как вытяжка. Чем севернее, тем избы больше, мощнее. В Архангельской, Вологодской областях – уже с подклетами, где можно разместить подводу с лошадью. Под одной крышей целое хозяйство. Можно спокойно переждать буран, непогоду. Мое детство прошло в тесных московских дворах, коммунальной квартире. Летом выезжали с мамой в подмосковные деревни, снимали комнату. Первый раз с восторгом увидел, как цветут яблони и вишни, уже взрослым, когда переехал в Кусково, так как раньше бывать весной за городом не приходилось. В Москве цвели тополя, липы, кое-где цветы. Моя мама хорошо владела линией, о чем-нибудь задумавшись, рисовала изящные женские головки, цветы, животных, шаржи на подруг. В ход шла любая бумага, которая оказалась под рукой. Рисунками не дорожила, тут же выбрасывала, не придавала им значения. Ее ярко выраженные филологические способности не получили профессионального Алёша с мамой Еленой Михайловной развития. Она рано потеряла родителей, и надо было просто выживать. Вокруг была разруха. Отец хорошо рисовал в гимназии. Но потом это дело забросил, так как поступил в Межевой институт, после которого надолго уходил в дальние экспедиции: Якутию, Эвенкию, Хабаровский край, Амурскую область. Позже, отправляясь в экспедиции южного направления, брал с собой альбом и делал зарисовки – в Средней Азии, на Кавказе, в Крыму. Любил рисовать Подмосковье и памятники архитектуры. Родители любили живопись, ходили на художественные выставки. Мама рассказывала мне про импрессионистов, восторгалась портретами Дрезденской галереи, которую целиком выставили после реставрации перед отправкой в ГДР. Гораздо позже мне посчастливилось увидеть ее не один раз уже в Дрездене и даже провести там свой день рождения. Первое впечатление от «Сикстинской мадонны» Рафаэля – какая-то клеенка! Потом глаз не оторвешь, чем дальше – тем больше. В ней скрыта магия, как в «Джоконде» Леонардо. То есть, не ты смотришь на произведение гения, а оно на тебя. Готов ли ты увидеть? Часто – не готов. К походу в художественную галерею, на выставку надо относиться, как к походу в храм Божий: «Служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво» – великий поэт двумя строками казалось бы вразумил, но кощунники все пытаются обесценить, научить обратному. Действуют, как Крысолов, который сладкой музыкой на дудочке завел крыс в воду и утопил. Сейчас огромные силы подняты, чтобы все ценности культуры и искусства свести на нет. Проводятся масштабные антихудожественные выставки, которые народ не посещает – не такто просто его оболванить. Проходимцы и ничтожества примазались к искусству, не жалеют денег, чтобы его опорочить. Но прежде, чем их слушать, посмотрите внимательно на эти лживые физиономии – ничего отвратнее вы не увидите. Реализм объявлен устаревшим. Но как может устареть природа, люди, которые вас окружают? Возьмите русскую икону. Казалось бы – канон, но сколько школ, сколько святых образов – нет одинаковых. То же и в книжной миниатюре, мало знакомой зрителю, больше исследователям. Свобода творчества – в творчестве, а не в кривлянии «ниспровергателей устоев». Посмотрите на натурные работы этих «революционеров» – они хилые, их стараются не публиковать и не показывать. Авангардисты становятся ретроградамиНиколай Иосифович Хетагуров реалистами, когда пишут своих близких, свой участок земли, даже 133 свою кошку. Пикассо жену и сына писал вполне реалистически, треугольники и кривляния доставались другим физиономиям. Расчленял, дробил натуру, откровенно дурил богатого зрителя в угоду моде. Он мог себе это позволить, так как был большим мастером, хотя чаще всего бывает наоборот. Мир Божий создан не нами и не нам над ним насмешничать, ёрничать. «Талант – единственная новость, которая всегда нова» – это у Б. Пастернака. Вы всегда отличите подлинный талант от холодных упражнений ремесленника, попавшего «в струю». Реализм многообразен и бесконечен, он многолик. Казалось бы, импрессионизм – революция в живописи. Но попадите в те места, где создавались полотна – увидите талантливое повторение натуры, света и цвета, всей полноты жизни, а не засушенные в мастерской холсты. Ван Гог! Я ходил каждый день на его выставку в Москве. Работы были привезены из музея Крёллер Миллер в Оттерло. Досмотрелся до того, что увидел эти картины во сне: пастозные прямоугольные мазки быстро двигались, как бы догоняя друг друга – холсты ожили в полном смысле слова! Эту силу в них заложил автор, он пропустил через себя каждый мазок. Уже гораздо позже я шел на этюды в Кусково: начало весны, осевший подтаявший снег. Проходил мимо брошенных деревянных домов. Кругом сугробы. По дороге в лес на одном из них увидел репродукцию – автопортрет Ван Гога. Привет от любимого художника. Хотел взять – бумага отсырела и рвалась на куски. Как Ван Гог попал в Кусковский парк? Один в лесу. Это оказалось знамением. В Амстердаме летом открылась большая выставка Ван Гога, посвященная столетию со дня смерти художника. Проходили памятные встречи, лекции, телепередачи. Около музея Ван Гога выстроен целый городок из шатров. Мой добрый друг в Голландии Сусанна Скалова – замечательный реставратор и художник, пригласила меня на торжество. Вопрос был в деньгах на дорогу, но тут случились чудеса. Появились покупатели моих работ, даже из Голландии, как нарочно. Сумма была собрана, и я оказался на торжествах в Амстердаме. В реставрационной мастерской музея увидел в микроскоп картины великого художника! Это неповторимое зрелище: скалы и утесы из драгоценных камней теснят друг друга – вы увидите вершины, глубокие ущелья, можете путешествовать по ландшафту, созданному гением. Каждого художника надо изучать вблизи: как он накладывает мазки, лепит фактуру. Нет одинаковых. Один любит лессировки, гладкую живопись, другой – пастозную, выпуклую. Главное – результат. Возраст художнику не помеха. Часто старики бывают мощнее и темпераментнее молодых. Таков Микеланджело. В экспозиции Венецианской Академии меня поразила «Пьета» Тициана – в ней была экспрессия, никем не превзойденная, а ведь она написана в предпоследний год жизни автора, в 1575 году, когда ему исполнилось 90 лет. Всю жизнь мучился сомнениями: кто я? Кончил истфак, а не историк. Не имею диплома художника, а занимался этим ремеслом. Напасть какая-то. Люблю историю, эту профессию, пытался стать историком, жалею, что не стал. А все время тянуло к природе, краскам, холстам. Сидел над любимыми древнерусскими рукописями, а в глазах – поля, рожь, солнце. Надо написать это, время уходит. Что делать – метался от одного к другому. Живопись одолела. В школе были уроки рисования, но кроме хилых бумажных цветов я ничего не запомнил. Преподаватели еще вели уроки труда, бòльший упор делали на «рукомёсла». Учебных часов им отводили мизер, так что при всем желании они мало чему могли научить. Это были скромные, добросовестные люди. Не по их воле ученики должны были отчитываться не живописными работами, а самодельными табуретками, на которых было опасно сидеть. Чтобы освоить рисунок, я стал ходить в городской Дворец пионеров. Но там было много народа, большая аудитория, преподаватель не мог заниматься с каждым, новичков не замечал. Федор Морицевич Кригер 134 Как ни удивительно, на стезю живописания вывел меня опять же истфак. При доме культуры гуманитарных факультетов МГУ была изостудия, которую вел удивительный и талантливый художник-педагог Федор Морицевич Кригер, выпускник Московского университета 1913 года. У меня есть памятный подарок от него – написанный от руки гимн «Gaudeamus igitur». Федор Морицевич был учеником художника Василия Никитича Мешкова (1867-1946), а в раннем возрасте на эту стезю его благословил великий Василий Суриков. Кригер был умен, открыт, самокритичен. В студии кто только не учился! Дети университетских уборщиц, рабочие, служащие, студенты, абитуриенты. Были совсем экзотические личности, например, потомок польской аристократии Домбровский – с великолепно вылепленной головой и чертами лица. Он был частично парализован, руки плохо двигались, но упорно работал над слепками Цезаря, Антиноя, Венеры. Карандаш его плохо слушался, линии загибались, обрывались, накручивались… Домбровский героически боролся с недугом – полем битвы был лист ватмана: «Марш, марш, Домбровский за край наш польский!». Не менее интересен был столяр Волощенко с лицом запорожца. Он был певцом женской красоты – писал только обнаженную натуру, преодолевая ярость собственной супруги. Красавицы были им придуманы, они населяли ручьи, гроты, лужайки, чащи леса и, конечно, гостиные и будуары. Мне он подарил копию с Ренуара – «Обнаженную». Угадал мою симпатию с детства. И еще картину «Источник» – обнаженная стоит на берегу ручья. Волощенко ругали за китч, но он был прекрасный рисовальщик, да и тетеньки его мне нравились. Он был романтиком, писал «гарных дивчин» с пышными формами – где они теперь? Занятия посещал профессор Серафим Иванович, совершенный ангел во плоти. Показывал очень недурные этюды и страшно стеснялся. Биолог Ольга Оглоблина писала великолепные букеты цветов акварелью. Могла бы украсить любую галерею. Был еще сухонький художник в старомодных круглых очках. Жил замкнуто, одиноко. Все свободное время отдавал Изостудии, тоже предпочитал обнаженных, но без романтизма. Натура с доскональной проработкой, желательно в интерьере изостудии. Он рано умер, и все его работы оказались на помойке – соседи заняли комнату, а картины и наброски посчитали неприличными. Это общая беда художников: сколько итогов их мучительного, вдохновенного труда переселяется на свалки! Там можно найти даже известных, а то и великих художников. У нас в доме находилось Правление Союза художников. Рядом через арку помойка. Иногда туда перекочевывали «нетленки» из руководства Союза. Многие попали по адресу, но были и вполне приличные пейзажи и натюрморты. Я бы взял их, но некуда – мы жили тесно, в коммуналке. Своей продукции не было места. Наша Изостудия весной выезжала на природу. Часто с натурщицей – обнаженная, она лежала среди берез и цветов. Ошалелые окрестные мужики воровато выглядывали из-за деревьев. В Переделкине через нас кабаном прошел композитор Тихонов – не ожидал такого сюрприза! Раз в год Изостудия отчитывалась художественной выставкой в фойе Дома культуры. Во время занятий Федор Морицевич рассказывал про Италию – в студенческие годы он совершил туда путешествие. Группа была для малообеспеченных: студенты, сельские учительницы, служащие. Показывал нам фотографии Венеции, Флоренции – недостижимый рай. Рядом с молодым красавцем – загорелая белокурая дива, его подруга на всю жизнь. Завидев ее, итальянцы хлопали в ладоши. Когда-то венецианки красили волосы золотом, а тут златокудрая от природы. Как-то мы всей группой пошли к ней в гости в большой дом на Тверской. Это была уже пожилая дама с остатками былой красоты, интересная и очень живая. Жила она одна в большей квартире, обставленной старинной мебелью. В витринах – сервизы. Вот чашка императрицы, вот платок великой княжны Ольги с инициалами. Ее муж был известным коллекционером. Жил Федор Морицевич в старинном особняке прямо против станции метро Третьяковская. Оттуда он уходил на войну 1914 года. Был офицером, на фронте пережил революцию. К ним приезжал А. Керенский, держал речь – непрерывно кричал и поминутно вытирал рот. Рядом стоял адъютант, забирал мокрые носовые платки и подавал сухие. Солдаты слушали истерика молча. Когда закончил, пожал Федору Морицевичу руку: «Кригер, помогите!». На фронте не понимали, почему революция, готовились к масштабному наступлению. В огромном количестве поступала новая техника, боеприпасы – у всех приподнятое настроение, все уверены в грядущей победе. А тут вместо Государя-главнокомандующего какой-то психопат, вместо генералов – комиссары Временного правительства, депутаты Думы, по виду – жулье. Приказано солдатам вбирать себе командиров – те выбрали своих привычных, с кем сражались в боях. У Федора Морицевича на стене висели прекрасные портреты этих «выбранных», он писал их в землянках. Прямо лермонтовские, полежаевские лица – безнадежно ушедшая прекрасная романтическая Россия. На обороте портретов фамилии офицеров, дата и печать комитета солдатских депутатов. В лихие годы «лужковщины» начали снова ломать Москву, застраивать элитным жильем – жулью. Целыми кварталами сносили окраины Ордынки. Досталось и дому Федора Морицевича. 135 Сокрушили трехметровые стены, сравняли с землей. Федора Морицевича переселили в обычный дом с маленькой квартиркой, где он доживал век (в буквальном смысле) со своей сестрой. Наш дорогой Федор Морицевич дожил до 96 лет. Дал нам прекрасную академическую школу. Не чурался и новых техник. Я любил изостудию, ее творческий дух, который царил там благодаря Кригеру. Иногда, когда почему-либо не приходил натурщик, он говорил: «Рисуйте сегодня меня». Это прекрасное, умное лицо было наполнено вечно молодым обаянием, добрым юмором. Таким, наверное, были А. Бенуа, К. Коровин, Ф. Чистяков и десятки других великих художников и деятелей культуры. Федор Морицевич руководил изостудией более 60 лет – сеял разумное, доброе, вечное. Его усилиями у меня два раза была персональная выставка в фойе Дома культуры. Посетил ее мой незабвенный научный руководитель Анатолий Дмитриевич Горский – все такой же вдумчивый, серьезный. Историк с большой буквы, тогда уже зав. кафедрой феодализма. До сих пор сокрушаюсь, как я не догадался подарить ему любую работу на выбор. Как-то пришел странный журналист. Сказал, что из осетинской газеты, хочет сделать репортаж. Искал сюжет для фото, долго двигал стенды. Точку съемки нашли, но ему нужна была обязательно бабушка в летней панамке (на улице было жарко), которая смотрела бы мне в рот, а я бы ей вещал нечто художественное. Были редкие посетители, но бабули не предвиделось. С друзьями-художниками была договоренность выставку обмывать, так что пришлось творческий процесс журналиста прекратить, и стенды поставить на место. Думаю – к лучшему: не обошлось бы без очередного ехидства, его и так хватало. Благожелатели писали, что посетили выставку «историка среди художников и художника среди историков», и «лучше бы автор оставался научным сотрудником, а не мазюкал!». Были пожелания не подражать Ван Гогу, писать горы, а не равнины; поменьше экспрессии; что-то не в порядке с нервами, надо провериться… Милые девушки оставляли телефоны – у них были вопросы к моему творчеству. Пару работ просто сперли. Друзья говорили, что это к лучшему – народ признал: ты художник, которого крадут! Вообще-то были правы. На самой первой выставке в Доме учителя – еще в бытность мою пионером – у меня украли акварель «Башня и стена монастыря в Новом Иерусалиме». Руководитель изостудии удивлялся-возмущался: первый раз такое! Другая акварель – «Скит патриарха Никона» – уцелела. Правильно говорят, что художника – а я бы добавил, и реставратора – каждый может обидеть! Все разбираются, понимают, как надо, как не надо. Даже свинья может хрюкнуть перед натюрмортом, что-то углядеть знакомое и поправить пятачком. Художник, хоть самый слабенький, пишет душой, так что, господа, не плюйте ему в душу! У вас, может, и такой нет. Федору Морицевичу исполнилось 90 лет, он решил оставить студию. Мы отпраздновали юбилей. Студия захирела – идти на грошовую работу желающих не было. Я больше там не появлялся. Теперь в это здание вернулась церковь Св. Татьяны – все правильно, справедливо. Церковь была задумана как студенческая, а ходят ли туда? Несколько раз приходил днем – заперта. Вокруг несколько действующих церквей, и в тех малолюдно. Что такое искусство – это болезнь, наваждение, страсть. Человек отдается ему, и все идет кувырком. Л. Н. Толстой мудро пророчески говорил: «Если можете – не пишите!». Будь то художник, музыкант, писатель, скульптор, самоучка, профессионал – все равно. Сколько людей открыли себя уже в преклонных годах, стали художниками, резчиками по дереву или камню. Сколько людей поддалось стихии творчества, не удержалось: Лермонтов, Грибоедов учились в Московском университете, могли бы жить спокойно, делать карьеру. А Гончаров, Тургенев, Чехов – опять же выпускники университета – ударились в писательство и началось мыканье по городам и весям. Конечно, слова – это хорошо, но достигаются они лишениями, потом и кровью. Скольких художников знал, чьи жены не перенесли их ремесла. Говорили: «Лучше бы ты пил!». Они, конечно, никогда не жили с пьяницами, поэтому и были так храбры. Зарабатывали большие деньги лишь единицы везунчиков с коммерческой жилкой. Но коммерция и творчество редко уживаются вместе, и по большому счету вообще антиподы. А. С. Пушкин говорил: «Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать!». Первый русский поэт, который решил зарабатывать деньги творчеством. И что получилось: после смерти долга более ста тысяч, цифра по тем временам астрономическая. Семья на грани разорения. Долг оплатил император Николай I из своих средств. Он же за свой счет стал издавать собрание сочинений поэта, деньги от продажи которого пошли семье. 136 Алексей Хетагуров на этюдах в Венеции Из всех видов искусства самое тяжкое – быть художником: оно никому не нужно, как и все остальное, впрочем. Но есть разница. Писателю, поэту достаточно стола, даже кухонного. Музыканту, композитору – инструмент и опять же стол. Художнику нужно куда-то складывать свою продукцию; нужно место для работы, хоть какое-то пространство; нужно покупать краски, кисти, холсты, подрамники, разбавители и т.п.; бродить, ездить в поисках натуры. На что-то надо жить, а если семья, то вообще не на что. Болезнь заразная, неизлечимая. Хорошо, если есть приработок, но его еще надо найти, если повезет. Поэт, писатель пишут «в стол», так же и композитор, а что делать художнику, скульптору? Почти все профессии востребованы, кроме творческих. Я пишу, а у меня перед глазами бьется на воде отравленная солитером рыбка, не может опуститься в глубину – погибнет. Помочь нечем, я подталкиваю ее, а она опять ко мне. Одна из тысяч здоровых. Почему ее поразил недуг? Почему среди нормальных, прагматичных, здоровых людей единицы заболевают творчеством? Многие с раннего детства. Пушкина мучили рифмы, Чайковского истязала музыка – он не знал, как ее переложить на ноты. У больного, глухого Бетховена она непрерывно звучала…. Как-то на сцене дома культуры МГУ выступали поэты – в основном молодые, ядреные. Потом вышел Павел Антокольский – старый, источенный болезнью. Пока шел на середину сцены, его поводило, он беспомощно улыбался. Зал боялся: вот-вот рухнет, не дойдет! Начал читать стихи – голос загремел на весь зал, глаза загорелись, как два угля. Живой скелет своей духовной мощью затмил всех молодых – так, кролики! Зал проводил его шквалом аплодисментов. Больной, немощный священник заражается энергией в алтаре, актер – на сцене. Вот и подумаем, что сильнее: дух или материя? «Вначале было Слово» – стало быть, дух. Только жить одним духом, творчеством тяжкая ноша, чаще всего бесперспективная. Как та рыбка – выплыла на поверхность, чтобы погибнуть. Не буду перечислять художников, что ушли в забвении и прославились после смерти – их большинство. Полотна художников, которые и даром никто не брал, теперь стоят миллионы. Рукописи, лежавшие десятилетиями в столе, издаются тысячными тиражами. А сколько так и сгинуло на помойках, выкинуто на свалки! Но все равно неукротим дух творчества, как горная река: как не перегораживай ее – пробьет себе дорогу, сокрушит пудовые глыбы, как щепки. 137 ЗАРЕЧЕНЦЫ1 Осень на севере нудная, смурная. Целый день сеет мелкий густой дождь, если он идет ночью, то слышишь его за стеной, как будто горох кто-то сыпет. Серые тяжелые тучи поднимаются из-за реки прямо на избу. Деревня стоит на горе, а под ней – Унжа, заросшая по берегам ивняком. На другой стороне реки – остатки Европейской тайги, когда-то покрывавшей пространства Старого Света. В лесу – клюква, брусника, грибы, но все это в прошлом, теперь настали холода, принесшие деревенскому жителю лесную бескормицу. Из окна видно Унжу – три раза в неделю проходит по ней с фурчаньем леспромхозовский катер, единственная связь с «Большой землей». Дороги лесные разбиты, колеи от трелевочников по пояс, пройти может только вахтовка. Она появляется редко – возить некого, так как лес, слава Богу, рубить перестали. Много его давно уже гниет по берегу штабелями. Когда-то глубокая, судоходная река забита бревнами так, что летом и моторка не везде пройдет – негде маневрировать. По берегам виднеются «дюны», при ближайшем рассмотрении – горы удобрений, оставленные колхозом, приказавшим долго жить. Химические удобрения размываются дождями, талой водой и отравляют реку из года в год. Но уже хорошо, что нет этой жуткой запани, когда лес по весне большой водой спускался 2 из верховьев и забивал реку на километры – поверхность воды выглядела так, как будто выложена паркетом, гулять можно. Часть леса тонула, часть выбрасывало на берег. Потом бревна крючьями стаскивали в реку. Рубили лес – что получше, половину оставляли гнить – печальное зрелище, как после бомбежки. Кто только не изничтожал красавец-лес – приезжали бригады со всей страны. Не жалели – лес-то не свой! Хозяина у земли не было. Местный колхоз разваливался на глазах. Новую технику, только что полученную, еще пахнущую свежей краской, бросали в поле на зиму, прямо с брикетом сена, которое надо было запасать на зиму для колхозных телят. Эти несчастные создания стояли в коровниках, подвешенные на ремнях, чтобы не упали с голода и не захлебнулись в навозной жиже. Комбикорм разворовывался и пропивался скотниками. В нашей деревне работали охотно, в ней продавалась водка – в центральной усадьбе не разрешали до окончания покоса. Сено заготавливали в заброшенных домах, на чердаках. Зимой и весной возили его на тракторах на скотный двор. Весной уцелевших телят привозили в наш деревенский загон. Они начинали оживать, осматриваться, веселеть. Как-то пошел к роднику: телята дремлют в своем загоне, жуют, шумно вздыхают, нюхают воздух мокрыми мягкими носами. Слышно какое-то хлюпанье, пофыркиванье, довольное сопенье. Оглядываюсь – все телята в дреме, никого нет – что такое? Набрал воды – опять то же самое. Выглядываю за кусты, а там – теленок: лежит, поджав ноги, на брюхе. Во рту ромашка, крутит весело головой, хлопает ушами, фыркает. Собратья на него внимания не обращают, а он радуется жизни: хорошо-то как – кругом цветы, солнце, много сочной травы. Теленок словно плюшевый, сам не знает, как хорош! «Что б я так жил!» – говорит. И, правда, почему бы ему не прожить свой телячий век благодатно и сытно. 1 2 Жители Заречной стороны Это называется молевый сплав леса – одиночными бревнами. 138 Раздавали телят вместо зарплаты на мясо, других резали на поставки. Подошел как-то ко мне теленок, ткнулся носом, а я возьми да и скажи: «Ах ты, бедный! Зарежут тебя осенью!». Теленок посмотрел на меня и слезы брызнули из его глаз, потекли ручьями по моим брюкам. Я оторопел: все они понимают, но не по-нашему, а иной раз и лучше нас. Нельзя им таких вещей говорить. Теленок был отдан пришлому пастуху. Пастух и его дружки лазили по избам, воровали все, что плохо лежит, и пропивали. Ворованных коров сваливали на медведей, которые шастали в окрестных лесах. Было еще приключение с теленком. У Маши – бывшей продавщицы магазина, бойкой и разбитной, с веселыми васильковыми глазами, ладно скроенной и крепко сшитой – отелилась корова. Сначала теленок рос, как надо, но потом стал тощать и беспрестанно поносить. Маша винила в том мужика, сбежавшего из Костромы, коего подозревала в колдовстве. Мужик, и правда, поселился особняком, но мною не был замечен в колдовстве, ворожбе предпочитал книги. Я с ним и его одноруким братом, бывалым зэком, неоднократно пил и закусывал. Брат был весьма мастеровитым – сам огородил загон для телят, а мне покрыл крышу старым шифером, соорудив искусные водостоки. Да и вообще был симпатичнейший жулик: выпив, на всю деревню заливисто требовал «отпустить его на Гималаи»! Не мужик, а золотая рука. Как я потом узнал, «на Гималаи» он опять попал, так как его специализацией были винные магазины и склады, которые он грабил с дружками, а они его на похмелку закладывали. Он подробно мне рассказывал, как надо разбирать стену, как определять кирпич: новая кладка или старая – везде свой подход и метод. Чем старше кладка, тем сложнее разбор. Однако с уважением относился к Николаю II: при нем кладка была серьезная! Но одолевал любую, ящики выносились, шла гульба, потом отсидка. Пожил в деревне недолго, память по себе оставил хорошую. На зоне и окончил свои дни. Звали Александром. Царство ему небесное, у нас он ничего не воровал. Его брата-«колдуна» звали Волоха, он был весьма недурен: средних лет, цыганистого вида. Большой книгочей, читал дома, а больше в поле, сидя на лошади, когда пас колхозных коров. Их он не бил и не материл, и вообще мало уделял им внимания, так как углублялся в Джека Лондона или какой-нибудь военный роман. Зимой жаловался на «белое безмолвие» и летом сетовал, что «враги сожгли родную хату» – накликал: весной его деревня сгорела от подожженной травы. Иногда он, его сынуля, брат и еще кто-нибудь из окрестных мужиков устраивали «Афганистан» с пальбой из ружей друг по другу после перепоя, обходилось малой кровью. Вот этот самый книгочейВолоха возымел на Машу магическое действие. У них был недолгий бурный роман. Но внезапно колдовство прошло, Волоха ушел, Маша страдала, потом, правда, говорила: «Нужна мне эта портянка!». Волоха уговаривал ее снять с книжки деньги – 50 тысяч, огромное состояние по тем временам! – и уехать в Крым отдыхать. Лучше б сняла – потом они пропали: государство «кинуло» своих граждан хлеще всяких бандитов. Долго еще на Машином магазине, уже закрытом, ржавела вывеска «Храните деньги в Сберегательной кассе». Попались граждане на эту удочку. Поверила, хранила, была местной знаменитостью – богатой невестой. Хотела вернуться к себе на родину в Иваново, купить дом, зажить по-настоящему. Вмиг все потеряла. Остались деревенская изба да корова с теленком, «заколдованным» Волохой – теленок погибал на глазах, а ветеринара в нашу глухомань не дозовешься. Каждый год Маша откармливала телёнка, а потом быком продавала – а тут такая напасть! Меня осенило: колдовство надо снять. Шутки – шутками, а каждое лето привозил я с собой крещенскую воду: житья не было по ночам от криков, тряски и буханья и звона посуды. Мой сосед атеист, с мистикой не в ладах, тоже жаловался. Святой водой я окроплял избу, давал и ему – все проходило. Никто по ночам больше не крякал и не стучал, посуда не падала. Предложил я Маше теленка окропить, заодно и загон его тоже. Пришел бедный теленочек – грязная свалявшаяся шкура, кожа да кости. Смотрит жалобно – не жилец! Маша уповает. Сделал все, как положено, а в загоне крест выжег свечой. И верь – не верь, начал теленочек мамку с аппетитом сосать, поносить перестал, пошел на поправку! К концу лета в хорошего бычка вырос. Приезжаю на следующий год – стоит перед Машиным домом огромный бык – и не видывал такого! Оказалось – тот самый, покупателя тогда не нашлось. Бык перезимовал, 139 стал к матери приставать – та прочь гонит, серчает. Бык стал озоровать: подойдет к стогу, снизу поддаст рогами – и нет стога! Сама Маша боялась – выпустит и за забор прячется. Иду к ней за молоком – а бык ко мне задумчиво поворачивается. Маша кричит: «Уйди, он бодается!». Но почему-то не страшно – морда добрая, явно хочет познакомиться. Подошел, обнюхал и стал лизать – может, узнал «спасителя»? Лижет куртку, головой трется, и Маша подошла, удивленная: никого, говорит, не подпускает. Как увидит постороннего – рога навострит, бежит, пыль столбом стоит. Что делать с ним не знает, стога раскидывает, хулиганит, такого красавца бы на племя, да некому. Потом к осени приехал – не стало быка, купил кто-то на мясо. Другой пастух тоже из пришлых, костромской. Повадился ко мне ходить о Руси рассказывать, коль нашелся дурак, который спиртом за это расплачивался. Начнет «былину», а потом: «Ты налей, я сейчас еще расскажу». Вроде все как бы из своей жизни, но отдавало хрестоматией. Не было, правда, там Кобыльей головы, Соловья-разбойника, печи на колесах. Все больше девки, хороводы, употребление кваса, парни с балалайками, один раз проскочил старик с гуслями. «Пойдешь с ней за околицу, к реке. Обнимешь, схватишь за холку, а она – нельзя, тятенька не велит! Отпустишь». В общем, картина вырисовывалась благостная: поселяне и поселянки. Уже нельзя было понять в какой стране это и происходит. Вспоминал былое, пока в графине оставалась влага, если надо мне было выйти, то говорил: «Ты иди, иди, я ничего не возьму!». Мужик был не старый, средних лет, а по рассказам вроде как вспоминал времена А.С. Пушкина или «Очакова и покоренья Крыма». Кончилось тем, что коровы у сказителя разбежались, а одна провалилась в заброшенный колодец. Нам с товарищем пришлось ее оттуда вытаскивать. Из колодца выглядывала ее испуганная морда с выпученными глазами. Сама она пыталась ногами зацепиться за край. Природа позаботилась на этот случай, подарив корове рога, на которые можно накинуть веревку. Худо-бедно, но с помощью коровы операция спасения была завершена успешно. И буренка пошла за нами, игнорируя окрики пастуха, словно просила: «Возьмите меня, дяденьки!». На следующий день «акын» сбежал, прихватив костюм друга и деньги «взаймы». Местные поселяне пытались организовать погоню, но безуспешно, обещали в Костроме ему рога обломать. Они же мне и рассказали, что это их местный воришка. До приезда в деревню работал на колбасном заводе, но и там что-то украл, бежал! В деревне никогда не жил, сам городской. Вот тебе и караси на Руси. Ухандокали деревню мудрецы кремлевские. Один из верных учеников «самого человечного человека» призывал уже в 1918 году: «Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах, если нам удастся восстановить деревенскую бедноту против деревенской буржуазии, – только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделаем то, что смогли сделать для городов»3. Очень мудро, а главное – гуманно. Натравить одних на других – в деревнях, где люди веками жили вместе, почти всегда в родственных связях. Специалист по деревне ранее был учеником аптекаря, фармацевтом. Эксперимент удался, осуществляли его такие же спецы из городов, часто просто бандиты. Трудно подружить – разобщить всегда просто. Крестьяне поняли, что их обманули, когда власть стала проводить поголовную продразверстку, отбирая личные запасы, плоды крестьянского труда. Потом налог грабительский. Далее «головокружение от успехов» – загоняли в ненавистные колхозы. Обескровило деревню раскулачивание. Миллионы крестьян целыми семьями были выселены в места, не приспособленные для жилья, без крыши над головой, без инвентаря – на голодную смерть. Где еще так расправлялись со своим народом? Наверно, только в Китае. Писатель Виктор Астафьев провел свое исследование – ходил по избам, смотрел фотографии односельчан, их родителей, дедов, изучал архивы краеведческих музеев. Если на снимке хорошая семья – обязательно сослана. Справный красивый мужик сгинул в лагерях, крепкое хозяйство порушено. Бездельник, пьяница назначался активистом, возглавлял комбед. Если деревня сопротивлялась, из города присылали подмогу, карателей. Часто свои деревенские лютовали еще больше, чинили расправу. Зимой в мороз выгоняли на улицу, гнали в ссылку, ничего не давали взять. Если семья обедала, обед выливали под ноги. Все это чинила власть, которая называла себя рабоче-крестьянской! Когда-то вождь еще только на подступах к единоличной власти пустился в рассуждения с соратниками: «Что самое приятное и радостное для человека?». Один сказал: «Мировая револю- 3 Я. М. Свердлов. Задачи советов в деревне. Речь на заседании ВЦИК IV созыва 20 мая 1918 г. Избранные статьи и речи. Гос. Изд-во Политической Литературы, Л., 1939 г. 140 ция!», другой: «Здоровье, счастье близких людей!». Вождь помолчал и отрезал: «Месть!» – и еще раз: «Месть!» и ткнул куда-то пальцем. За что он мстил русским деревням, украинским селам, северо-кавказским и казахским аулам, монгольским улусам теперь уже никто не ответит. «Великий перелом» стал великой катастрофой для русской деревни. Добивать ее стали наследники-соратники вождя народов. Я помню стишок деревенский про Хрущева: «Не жнет, не пашет, только шляпою машет!». Прилепилось к нему прозвище «Кукурузник». Увидел в Америке, как хорошо растет там эта культура – давай засеивать Россию в принудительном порядке. Не прижилась – оказывается, климат другой. Объявил кампанию укрупнения колхозов – что-то вроде поселений, с запретом иметь частное хозяйство, а как класс ликвидировать кур, мелкую живность, коров. А если есть такая роскошь, как яблони – вырубить! Коров отбирали, сгоняли в заброшенные, продуваемые ветром скотные дворы, не кормили и не доили. Стоял рёв и стон. По ночам бабы пробирались к своим бурёнкам, пытаясь чем-нибудь накормить. Но линия партии проводилась твердо – баб гоняли. Потом пустили коров на мясо – некому было с ними возиться и кормить нечем. Я мальчишкой слышал жалобы этих мученицкрестьянок, видел их слезы. Но никто о них не печалился. За предыдущие годы все были так замордованы сталинщиной и запуганы, что старались не замечать безобразий, помалкивать. Потом Кукурузник увлекся целиной, провалил и эту кампанию и, отметив пышно 70-летие, был снят соратниками за волюнтаризм. Сделал он все же доброе дело: выступил с разоблачением преступлений «отца народов». Никто за «отца» не заступился, не возмутился: знали, что все это так и было. В каждом доме, деревне кто-то был сослан, посажен, расстрелян, сгинул в лагерях. В нашем доме и соседнем исчезли десятки людей. Я с детства помню эти нескончаемые серые колонны зеков в подбитых ветром телогрейках и шапчонках. Железнодорожная станция была перевалочным пунктом. Они часами стояли безучастно – одна сплошная серая масса. Много явно деревенских мужиков: забитые снегом бороды, детские глаза, натруженные руки – типичные кулаки. Как в издевку, город назывался Свободный – бывший Алексеевск Амурской области, названный в честь цесаревича Алексея. Отец работал там в экспедиции, взял нас на время к себе. Дорогой голодные дети осаждали поезда, выпрашивая кусок хлеба. Несколько мальчишек пробрались в наш вагон и в помойном ящике около туалета обнаружили огромные сырые кости-мослы с остатками жил и мяса. Стали с жадностью их грызть, повторяя: «Как вкусно! А вот этот вкуснее!». Выгребли весь ящик, понесли подарок домой – суп варить. Кто помнит теперь об этом! На диктаторов пошла мода – не знают, что это такое. Сытый буржуа с удовольствием вешает портрет председателя Мао, ходит в футболке с его изображением на толстом пивном пузе. Мы не исключение. Когда сняли Кукурузника, думали: теперь, наконец, полегчает. Но не тут-то было! Новый генсек, прозванный в народе «Бровеносец в потемках», росчерком пера бабы-академика, не покидавшей теплого кабинета, объявил тысячи деревень не перспективными, подлежащими ликвидации. Я был свидетелем, как по всей средней полосе (в других местах я тогда не был, не знаю) рушили крепкие деревенские дома, перепахивали участки. Запомнилась картина: у порога на стуле сидит старуха, рядом бульдозер поддевает выселенную избу, дом разваливается, пыль столбом, треск. Старухе идти некуда – вокруг руины, деревня пуста. Остановившийся взгляд старческих водянистых глаз, в них вопрос: «За что?». Но кто теперь вспомнит об этих старухах, всю жизнь отдавших колхозам и выброшенных из домов уже в наше время – «застойное». Нет, говорят, какой хороший был «застой». Как-то в одном Богоспасаемом монастыре услышал от мужика-трудника определение «застоя»: «это был коммунизм, только его не заметили». Мудро. Невдомек было, что коммунизм давно уже построен для партийных функционеров – номенклатурой назывались. Позже, живя в своей деревне, я заходил в брошенные дома, оставленные жителями в лихую годину – зрелище жуткое: там поселилась нежить. В комнатах через гнилые половицы проросла какая-то стеблевидная белесая субстанция – почти до самого потолка. На столах брошенная посуда, письма, школьные тетрадки, фотографии, наградные грамоты с профилями ЛенинаСталина, из шкафов вываливается одежда, на стене заржавевшие ходики… Впечатление, что люди не уехали, а какая-то злая сила уволокла их в небытие. Наверное, такое впечатление бывает у моряков, когда они встречают в океане брошенный корабль, в котором еще не остыл обед, а команда исчезла бесследно. Это в городе люди переезжают на другие квартиры, взяв с собой все дорогие и нужные вещи – в ожидании лучшей жизни. Деревня уходила в города от худшей доли. Мой товарищ как-то попробовал переночевать в таком доме. Ночью тот наполнился скрипом, вздохами и стонами. Нежить угрожающе подступала, он чувствовал ее где-то рядом. В ужасе он бежал до своего дома несколько километров сквозь ночную тьму. Настоящей живой деревни уже нет: «укатали сивку крутые горки». Ее не возродить. 141 Моя деревня и все соседние тоже были объявлены неперспективными. Школу, почту, магазин и сберкассу закрыли. Сельсовет перевезли за 12 километров через реку – каждый день надо идти за разнарядкой, потом просить кого-нибудь перевезти на другой берег. Туда-обратно – 24 километра по бездорожью с переправой, еще целый день работать, куда пошлют. Разбежался народ, опустели деревни. Теперь уж точно неперспективные. А как было? Сосед мой, однорукий умелец, копает огород: что-то звякнуло. Поднял – монета, потёр – серебряная. Подозвал меня, смотрю: рубль Екатерининский с профилем императрицы. Купи, говорит, рубль – мне не нужен. Я отказался. Купишь – скажут: мало дал, обманул художник. Теперь жалею. Рубль он кому-то сплавил за бутылку водки. Стало быть, более двухсот лет была деревня перспективной, имела 100 дворов, дорогу вдоль реки – до самого города. В соседней деревне меня привлек дом в два этажа, с красивыми водостоками, большими окнами, лепными потолками – вроде как господский. Оказалось, выстроил местный деревенский, он даже в 1900-м году на Всемирную выставку в Париж ездил. Его сына я часто видел в районном центре – маленький, похожий на гнома, с длинной седой бородой. Школа в деревне была земская – добротная, под железной крышей. После закрытия держали в ней овец, а потом совсем пришла в запустение. Уже зимой сижу – пишу Унжу, с ветлой внизу и банькой под горкой, замерзшая река тянется за горизонт, теряется в лесах. Бабки рядом школу пилят. Решил согреться, размяться, подсобить. Взялся за топор, поставил кряж полена, и так и эдак – не поддается. Бабки пилят. Отпихнул кряж незаметно, поменял на плаху ровную без сучков, топориком помахиваю, идет хорошо. Нюра – другая жительница нашей деревни – краем глаза углядела, спрашивает: а этот чего не разбил? Его не разрубить, говорю, весь в сучьях. Не дается! А ну дай-ка, говорит. Поставила на него ногу в валенке с калошей. Как махнет – и нет кряжа, разлетелся. Спокойно так дальше пилит. Увидел я, что рубанула она всем рычагом плеча и рук, как единый мощный механизм. Не столько сила, сколько сноровка. Да и точность, ведь топор рядом с ногой просвистел. А ведь старуха тоже неперспективная и, похоже, такая судьба была уготована ей с самого рождения. Сначала порушили многовековой уклад крестьянской жизни, потом начали его «обустраивать» в кремлевских кабинетах, шарахаться из одной крайности в другую, засыпать директивами, все это было похоже на игру ребенка в железную дорогу: нажимай кнопочки – вагончики сами знают, куда ехать! Пути, стрелки, мосты, тоннели, станции – все, как настоящее, а на поверку – муляж. Посади такого специалиста за пульт тепловоза – крушение неизбежно. Деревней занимались все, кроме самих крестьян, их учили, как надо жить, те проголосовали ногами: деревня обезлюдела. Всего этого хлебнула Нюра сполна. Получила образование: четыре класса в деревенской школе, после работала без продыха. Помогала родителям, потом в колхозе: косила, возила навоз, пахала на лошадях. Уродилась она богатырем, наравне с парнями мешки с зерном таскала. Те на загривке еле-еле тащат – Нюра брала под мышку и несла, как кошелку. Все любили с ней работать: всегда основную тяжесть на себя брала. В годы войны в деревне мужских рук не хватало, Нюра и тут за десятерых: была трактористкой, молотобойцем в кузнице, лес валила, потом более двадцати лет конюхом, а, выйдя на пенсию, ухаживала за телушками, пока сил хватало. За всю свою трудовую жизнь была в отпуске всего два раза – в пятидесятых годах: за хорошую работу премировали ее поездкой в Москву на ВДНХ, другой раз дали путевку на две недели в местный дом отдыха. 142 Была Нюра партийной, всегда в передовиках ходила. Имела награды, держала их в пакетике за старой дощечкой-иконкой, совсем темной от старости и копоти. Говорили, там даже орден имеется. Не помнила Нюра, когда последний раз их надевала. В шестидесятые годы, в разгар хрущевской кампании укрупнения колхозов, была обвинена в принадлежности к «антипартийной клике». Сама Нюра толком не понимала, в чем провинилась. Колхоз «Верный путь» был для нее как дом родной – в районе самый лучший, больше всего трудодней начисляли работникам. Но кому до этого дело: регулировщики из Кремля решили «Верный путь» в тупик отправить. Так и вышло, соединили с нищим соседним колхозом, да еще начали борьбу с личным подворьем, покосы отняли. Угробили оба колхоза разом. Кормить нечем скотину – сдавай в колхоз, на голодуху. Стали крестьяне березовый лист заготовлять – и тот бригадиры конфисковывали, строго выполняли указание партии. Нашла Нюра в лесу поляну, выкосила ее – овец-то кормить нечем. Солнца в чащобе не хватало, сено никак не сохло. Ночами Нюра таскала его на лямке в свой сарай, прятала за разной рухлядью. Кое-как продержалась. А как их деревню «неперспективной» объявили, началась у них «эмиграция»: одни в районный центр, другие вообще под Ленинград, там целые деревни таких «эмигрантов» появились. Нюре с Машей бежать некуда, обе пенсионерки. Живи, как хочешь. Чудно сказать: остались на земле, бери ее, сколько тебе угодно, а толку чуть. Картошку не посадишь, кур не разведешь, молока не попьешь. Только овцы, но и тех не употребляли в пищу – резать жалко было: как дети свои. Нюра вообще – в память прошлой жизни – «товарищами» их называла. Пасет в поле и, если рядом никого нет: «Товарищи, куда вы? Не разбегаться! Товарищи – звеньями, звеньями, травы всем хватит! К лесу не подходите!». Диалог был постоянный: Нюра беседовала с «товарищами», овцы преданно блеяли. Нюра с Машей годами жили без картошки. Кабаны хозяйничали в округе, разрывали даже огород, если без забора. Наконец, решились: закупили мешок в центральной усадьбе и высадили. Уговорились сторожить ночами посменно. Днем заготавливали дрова, ночью разжигали костер, били в бадью, сидели в засаде. Кабаны тоже свою вахту несли, руководил огромный секач, иногда нахально выглядывал из леса: кто кого. Надо было жечь костер и лупить в бадью до рассвета, кабанам же никакого напряга: лежи, наблюдай. Наконец Маша не выдержала: нет сил, пусть жрут, так все лето по ночам в засаде сидеть – никакой картошки не надо! На следующее утро вся картошка была выкопана. Такая же беда и с курами – их таскала лиса. У Нюры остались две курочки и петух. Петушок был веселый, пел заливисто – жива деревня, коль петух кукарекает, настроение поднимает. Среди бела дня утащила лиса петуха, только перья остались разбросанные. Совсем тоскливо стало Нюре без петушка. Потом утащила и курочек. Остались «товарищи»-овцы. Пасла своих и Машиных – той некогда стало, корову завела, давно мечтала молочка попить. Корова молоко хорошее, жирное давала, только мало. На двоих хватало, даже Машиным кошкам перепадало. Маша корову любила, разговаривала с ней ласково, кормила до отвала. Вообще хозяйка была справная во всех отношениях. Огород ухоженный, в доме чистота, сама аккуратная, деловая. Когда в магазине работала, образцовый порядок был, даже товары экзотические имелись, например: телогрейка корейская – длинная, черная, добротная. Бывало, пишешь в поле этюд. Маша из магазина домой идет, сумку несет: «Бери, Николаич, скумбрию, деньги потом отдашь!». И вправду – дает тебе мороженую рыбу на два килограмма. Товары ей с торговой базы привозили на моторной лодке, продукт всегда свежий и питательный. Маша никогда никого не обсчитывала, пользовалась уважением селян. Ее магазином кормились оставшиеся жители. Так получилось, что на Маше держались все три деревни. Она через коробейников имела связь с центром, сама туда часто наведывалась. Доставала продукты, хозяйственные товары, привозилаотвозила письма, доставляла газеты. Магазин был чем-то вроде клуба, где обменивались новостями. Хозяйка всегда приветлива – слова грубого, окрика от нее покупатели никогда не слышали. Нет денег – запишет в тетрадочку: потом отдашь! Была Маша сметлива и хохотушка, могла и матерком, но как-то беззлобно, для куражу. Имела ум природный. Внимательно следила за политикой, от перестройки ожидала благ. 143 Селяне перемены с неудовольствием встретили – совхоз стал рушиться на глазах. Пугали Машу: заселят приезжие чужеземцы, а та: ну и что, места всем хватит, лишь бы люди жили, работали. Не нашлось чужеземцев в глухомань-бездорожье на голодуху ехать. Магазин закрыли. Потянулись остатки деревенских куда-то, опустели дома – некоторые купили москвичи, чтобы приезжать летом. Все же какая-то жизнь, и на молоко Машино спрос большой, его не хватало. Благодаря дачникам летом в деревне веселое житье было – не соскучишься. Зимой – другое дело. Две пенсионерки в занесенных снегом избах, хорошо, хоть рядом стоят. Вода – под кручей в колодце, по три раза в день ходят по тропке, чтобы овец и корову напоить. Не дай Бог заболеешь – никто не поможет, снегом все дороги завалены, весной – как на острове: Унжа разольется, лес в воде стоит. Ждут лета – не дождутся! Пошла травка – Нюра опять пасет «товарищей». Никак в толк не возьмет: всю жизнь работала – ничего не нажила! Землю, ее потом политую, разорили и забросили, хозяйство, что годами строили – порушили. Поле, где еще девочкой трудилась, лесом заросло. Кругом – безмолвие зеленое. Стоит Нюра с «товарищами», о палку руками опирается, на руки голову опустила, с тоской смотрит на малую свою родину, ставшую ей злой мачехой. «Товарищи» рядом, в кучку сбились, молчат, смотрят вопросительно, словно понимают что-то. Они для нее дети несмышленые. Спросишь: «Как жизнь, тетя Нюра?» – «Какая тут жизнь, батюшка, не жизнь – железка!». Не поймет, как это так: назначили ей грошовую пенсию, да и ту неизвестно, когда выдадут. Как назло: из соседней деревни пострел лет сорока, редко когда работавший, мамашин иждивенец, бежит весело раз в месяц получать пособие по безработице, а по деньгам больше, чем Нюрина пенсия, и выдают аккуратно. Вот тут Нюра задумывалась, а Маша пускала матом. Пособие это пропивалось сразу, почти не отходя от кассы с такими же тружениками. «Безработный», правда, не воровал, по домам не лазил и был даже как-то культурен, а по виду вообще дворянин, только из забубенных. Говорил голосом тонким, надеялся, что в деревне сделают охотохозяйство, и он станет сторожем. Я как-то спросил: «А кто же тебе деньги-то будет платить?» – «А спонсор!». Вопрос был неуместен. У этого бегуна было прозвище «Витя – Быстрые Ножки» – он в летнюю пору резво бегал за водкой. В зимнюю пору гонял за ней же на колхозном трелёвщике, который стоял у его дома в ожидании распоряжений начальства относительно брикетов сена для центральной усадьбы. Както в пьяном виде застрял в лесу. Мать упросила соседок помочь вывезти сына. Везли бабки, впрягшись в санки, а Витя спал беспробудным сном. Трелёвщик оставили до весны. Иногда о пенсионерках вспоминали – правда, редко: лишь в дни выборов в органы власти, которая благополучно о них забывала на следующий день. Тогда зимой через поля и леса, разметая снег ураганом, как танк, мчался трелевщик с агитатором и урной в кабине. Как-то я был свидетелем таких выборов летом, случайно оказавшись у Маши. Тогда еще у нее был телевизор, и она смотрела заседания парламента. Ораторов невзлюбила. Ее многочисленные коты получили новые имена: Горбачев, Ельцин, Черномырдин, Гайдар, Чубайс и т.д. Особенно доставалось Чубайсу – он гадил дома. Сам видел, как он пропоносил на печку, и в него полетело Машино полено. Так вот, о выборах. А выборы те были нешуточные, в Совет Федерации. Каждый голос на счету. Нюра, как старый партиец, за Зюганова, Маша – всех по матушке. Затарахтела на реке моторная лодка: «Маша, кто бы это мог быть?». Выборы, говорю, к вам едут. И, правда, у лодки мотор заглох и вскорости прилез к нам на гору мужик с рюкзаком за спиной. В дом заходит, рюкзак развязывает – в нем урна. Все как положено. За кого голосуете? Нюра определилась, а у Маши раздумья – ни за кого не хочет. А потом вдруг вспомнила, просветлела, оживилась: – А кто это бабу там за волосы таскал? Хорошо таскал, так ей и надо, б…и! – А то Жириновский, – с готовностью агитатор. – Вот за него и буду, всех их так, б…ей, надо. Молодец. Соседние деревни тоже проголосовали за Жириновского. Правильно рассчитал Вольфович: «Быть мне депутатом!». Заелись там, в Москве, да еще бабы заседают, их бы сюда в деревню пусть поработают. Но и те надежды были напрасными, никому не нужна деревня. Скоро 144 останется она только в сказках да повестях русских классиков. На месте изб растут голландские и немецкие шале, которые смотрятся среди наших полей и лесов как на корове седло. А то и замки с башнями и стенами прямо как на берегах Луары – «смешение французского с нижегородским». Когда-то деревня шумела, бунтовала. Жили – значит, было, кому и за что бороться. Десятилетия ломали ее и гнобили, мужика изводили как класс. А долго ли умеючи: в истории целые народы исчезли с лица земли – жевали коку, пили «огненную» воду и вымирали. Вот этот последний аргумент и остался у деревни. Мужское население обреченно спивается, а женское сатанеет от свалившейся на него тяжелой доли. Времена сейчас не худшие, но болезнь уже запущена и дорогие лекарства не помогают. Надеяться надо только на чудо, они на Руси, слава Богу, совершаются. Деревенский мужик, если ему не мешать, рукаст и талантлив. Выбора только нет. Сколько их ушло в города и не пропали. А посели городского в деревне – выживет ли? Появился у нас такой фермер. Привез перепелок, хорьков, норок, свинью, две тёлушки, лошадь и зачем-то огромные заводские токарные станки. Деньги дала богатая бизнес-мама, чтобы отпрыск нашел себя. Он был в поиске. Дело пошло, тот организовал безотходное производство. Ни о кормах, ни об условиях содержания не позаботился. На перепелок напал мор, пошли на корм хорькам, потом наступила очередь хорьков. Тоже дело, пошли на корм норкам. Свинья опоросилась от такой жизни поросятами-мутантами без глаз. Бежала она в другую деревню за лучшей долей, бегала по дорогам красная от мороза. «Вот мы дивовались!» – рассказывала Нюра: «Никогда такого не видели, чтобы зимой свинья по улицам бегала!». Сам фермер спрятался в избе, заткнув выбитые окна подушками. Печки не топил, кутался в тряпье. Раз пытался взгромоздиться на кобылу, подставив ржавое ведро. Почти залез, но дно провалилось, и предприниматель бухнулся в снег, что спасло его драгоценную жизнь. Зато хвастал: «Меня узнают, обо мне говорят!». Еще бы – неудивительно. В итоге удрал и все бросил. Бабки отстранились, да у них у самих овцы. Покорми, принеси воды, колодец под горой – не натаскаешься. Телушки ревут, конь бьет копытами, норки шипят. Пришлось мне норок кормить манной кашей, для телушек и лошади воровать колхозное сено! Но, слава Богу, приехал мой товарищ и взял все на себя. Он был дальним родственником фермера и соучредителем этого своеобразного кооператива. Когда я приехал весной кооператив развалился окончательно. Норки вымерли, телушек забрал колхоз. А лошадь, родившая к тому времени жеребенка, беспризорно скиталась по центральной усадьбе, куда ее привел фермер: не дождавшись покупателя, он бросил ее, привязав у магазина. Бизнес-мама организовала отъезд отпрыска, с ним вместе уехали станки, так и не запущенные в производство. Лошадь с жеребенком долго еще бродили, бесхозные, по улицам, но потом забрал колхоз, сжалился. Больше поползновений на фермерство не было. Но мы – городские – стали выглядеть в глазах сельчан еще дурее, чем того заслуживали. Но дурь у каждого своя. У селян ее тоже хватает. Вот, например: надо уезжать, нервничаешь, весь как на иголках – будет вахтовка, не будет. Вроде бы обещали, даже час назначили. Собрался, ждешь. Из другой деревни километра четыре, прослышав о моем отъезде, приходит баба Шура, весьма в годах. Садится у крыльца и начинает: «Нет! Сегодня не уедешь, будет поломка, поломка будет. И завтра не уедешь. Один тоже, вот так приехал в отпуск и помер. Не знаешь, где свою смерть найдешь…». Сидит бабка божий одуванчик, гундосит, вид благостный, даже приоделась. Вахтовка приходит, бабка удаляется разочарованная. А я ведь к ней в гости ходил, она мне какао заказывала, у нее кот 20-летний, я с ним дружил – когда потягивался, его кости скрипели, как телега немазаная. Но оказалось, пугала Шура не напрасно – накликала. Рядом со мной домик купил ленинградец-пенсионер, бывший моряк, бывал наездами. За глаза обвинил меня в краже рубероида, о котором я и не подозревал. Потом раскланивался, как ни в чем ни бывало. Приехал этот моряк на побывку. Перенес инфаркт, решил поправить здоровье. С катера выгрузили мешки с крупой, мукой, сахаром, тушенкой. Пожить всерьез и надолго. Домик маленький, протопить легко. Можно и зимой. Приехал с собакой, с ней же спустя три дня, взяв ружьишко (охотой баловался), ушел в лес. День проходит: никого нет. На следующий день собака пришла без хозяина. Потом и сам пришел, через день. В доме закрылся, записку вывесил «Прошу не беспокоить, отдыхаю». Три дня не появляется, а тут приехал его друг, парнишка из леспромхоза. Дверь все же высадил, а моряк совсем плох. Оказывается, спал он в лесу на земле, плутал, насилу обратно дошел, слег с воспалением легких. Увезли его в районную больницу, там и умер. Похоронили на местном кладбище в сосновом бору над рекой. За счет города. Никто не приехал, к тому времени он овдовел, а детей не было. Может и хорошо его душе, упокоился после бурь и штормов в местах, которые облюбовал на склоне лет. Город не любил. Вид имел моряк солидный, собаку умную и вежливую. Забрали ее в леспромхоз. 145 Так что Шура то ли прозорливица, то ли глаз недобрый. А скорее всего житейский опыт и наблюдения, много чего на своем веку пережила. Тоже лес валила в войну, потом всю жизнь в колхозе. Изба чистенькая, в углу киот, а в нем Никола в белом кружевном рушнике. Вокруг киота все свежей краской покрашено. Уютно и торжественно. Любила Шура со своим старичком телевизор смотреть. Она на стуле, он в кресле рядом. Впечатлениями обмениваются. Сын далеко – в Ленинграде, уже в инженерах. Старику скучно было дома без дела сидеть. Стал в колхозе помогать трактористам. Как-то случилось у трактора неполадка, прямо около дома. Залез он под него, стал чинить, а трактор на откосе стоял. Взял да поехал и старика ее раздавил. Так стала Шура вдовой. Осталась одна с котом. И все равно не хотела в город переезжать, жила до последнего. Рядом соседка Оля с сыном, а дальше иди 300 километров – ни души не встретишь: леса, речки, да чащобы. А телевизор она в чулан засунула. Как сядет смотреть, так и кажется ей, что рядом старик ее в кресле. Повернется, пусто, тоска, ну его совсем, телевизор этот. Соседка Оля – тоже старуха местная, всю жизнь в колхозе проработала. Вдвоем сено косили, стога метали, грибы собирали, сушили, у Оли телевизор смотрели. Она была доброй и кроткой, жила без мужа. Вся любовь к сыну Виктору – он, деревенский, к матери на «Вы» обращался, был почтителен. Работу считал делом ненужным и безобразным. Где-нибудь подработать – другое дело. Подработал – и в магазин, можно и бутылкой расплачиваться. В ходу была такая валюта стабильная: спирт «Рояль» называлась. Был он питьевой и технический, последний шел лучше, пробирал ядренее. Спирт был американский, не чета доллару – не падал, и сейчас бы курс держал. Выпил я в гостях этого «Рояля», вечером насилу до своей деревни дошел, собственного дома не узнал, показался он мне небоскребом – крыша терялась в звездном небе. У меня был свой спирт, отечественный, так по сравнению с этим «Роялем» – амброзия. Как-то пригласил Витю дрова напилить, у него бензопила была, отпилит – налей! Отпилит еще – налей. Ну не берет! Смотрит недоуменно – не берет! Спирт, конечно, разведен. Ну и «Рояль» ведь тоже разводили – брал. Так весь спирт выпил, не допилил, ушел разочарованный. В их деревню заглядывали волки и медведи. Рядом лес корабельный. Как-то иду вдруг треск, топот тяжелый и никого нет. Подхожу на дороге – куча брусники. Оживился – думал, кто оставил, присмотрелся: брусника какая-то странная. Одни ягоды целые, другие, как желе. Тогда понял, что приключилась медвежья болезнь с косолапым. Только что разминулись. В этом же месте видел я вообще диво дивное: белого вóрона. Сидит на елке среди ветвей, о чем-то думает, на меня внимания не обращает, никогда не видел я такого достоинства и благородства. Весь белый как снег, перья длинные с какой-то бахромой. По виду древний старец, патриарх. Клювом выправляет длинные седые перья, сердито ворчит. Меня не замечает, озабоченно занят туалетом. Стою столбом, загляделся – до того хорош! Слышу скрипучий голос: – Ты их племени?! – глядит на меня тусклыми красными глазами. – Да, – говорю. – Племя наше известно: «Что хочу, то и ворочу», «Ни дна нам, ни покрышки» называется. Словом – человечье племя. – Сколько еще безобразить будет ваше племя? Все уже изгадили, теперь сюда добрались. Унжу потравили, лес крушите, как врага лютого. Раньше по реке пароходы ходили – теперь в жару вброд перейти можно, забили лесом. Зверья побили без нужды, рыбу глушите, бьете током. Покрупнее – в мешок, остальные – плыви умирать?! Все живое бежит от вас, как сами вы когда-то бежали от чумы. К чему ни прикасаетесь, куда ни пролезете, там погибель, и нет на вас управы… 146 Помню я эти места благодатными, леса – полные птиц райских, зверья сытого и веселого. От рыбы река бурлила. Всем места хватало. Обещаете вы себе рай в другом мире, когда этот угробите. Но не будет вам рая, был он уже здесь, пока вы не явились. Самый убогий из вас может отравить реку, поджечь лес, загадить колодец, превратить поле в свалку, не пожалев благоуханных цветов, что ковром покрывали его когда-то. Пропитой, обожравшийся, провонявший табаком приехал «отдыхать» – убивать потехи ради беременную медведицу, красавца-лося, благородного оленя, трудягу бобра, робкого зайчишку… Им бы прокормиться, вырастить потомство, выжить долгими суровыми зимами. А тут спорт, развлечение, игра в одни ворота, беспроигрышная: оснащен по последнему слову техники, а она беспощадна. Не будет вам счастья и удачи, пока вы с нами, с природой так обходитесь, будет вам погибель лютая, если не опомнитесь, а еще лучше – если не найдется сила, которая наденет на вас узду, намордник, как когда-то карали вас за напрасно срубленное дерево, потравленные луга. На литургии в храмах возглашаете: «Всякое дыхание да хвалит Господа!». А вы дыхание это ни во что не ставите, бьете на вдохе. Уничтожать все живое – это стало хорошим прибыльным делом, а там, хоть трава не расти! Но был у вас один святой, звали Василием Великим – может, вспомните о нем, его слова будете читать по утрам, чтобы сберечь то, что еще осталось: «О Боже, расшири в нас чувство товарищества со всеми живыми существами, с нашими меньшими братьями, которым Ты дал эту землю, как общий дом с нами. Да уразумеем мы, что они живут не для нас только, но для себя самих и для Тебя, что они наслаждаются радостью жизни так же, как и мы, и служат Тебе на своем месте лучше, чем мы на своем»… Я слушал Белого ворона, и мороз по коже пробегал – может, он и Василия Великого застал?! Оробел, отвел глаза, оглянулся – никого нет. Но я его видел наяву! Был он бел, как снег, величав обликом и мудр, как десять восточных патриархов в святом граде Иерусалиме. А вот другой сказ. Как-то зимой решил написать излучину реки. Расположился на высоте, рядом брошенный дом. Начал писать, слышу сзади хлопанье крыльев. На конек крыши садится большая сова. Смотрит, как я работаю, крутит кошачьей головой, отслеживает, только что советов не подает. Сидела так часа два, пока я работал, а как начал складываться, ухнула на прощанье, взлетела и подалась куда-то через реку в лес. Всякая живность любит нашего брата-художника: то синичка сядет на этюдник, внимательно посмотрит и клювик приоткроет: «Тювить, тювить!»; то лиса пробежит – только что хвостом не заденет. Вся животинка любит, чтобы с ней разговаривали, особенно птицы. Пока говоришь – смотрит, внимательно слушает. Закончил – пропищит что-то и улетает. Зимой на этюды со мной кошка ходила. Я нагружен этюдником, мольбертом, холстом, в валенках, снег по колено. Где вытоптано – кошка впереди, если снег глубокий, залезала мне на загривок. Пыхтели оба, я ради высокого искусства, кошка за компанию. Пока писал этюд, кошка спала на бревне, коими был усыпан весь берег – рубили лес, не жалели, половина пропадала. Умерла весной, не разродившись. Хорошая была кошка, Дезабелл звали – англичанка, наверное. Нюра узнала, отчего умерла кошка, посетовала: надо было ей сказать – она еще и акушеркой была у всей колхозной скотины. С кошкой бы справилась в два счета, пустячное дело. Мир русской деревни не ушел бесследно. Поэты, писатели воспели его. Вся русская литература вышла из русской природы. Особенно хорошо о ней писалось, когда сочинитель пребывал в благополучной Европе – там обострялась любовь к «отеческим гробам», к своему забитому, угнетенному, но великому и мудрому народу. Никто не сказал лучше Тютчева: Эти бедные селенья, Эта скудная природа – Край родной долготерпенья, Край ты русского народа! Не поймет и не заметит Гордый взор иноплеменный, Что сквозит и тайно светит В наготе твоей смиренной. Удрученный ношей крестной, Всю тебя, земля родная, В рабском виде царь небесный Исходил, благословляя. 147 Случались у моих бабок драки: младшая охаживала палкой старшую. Хоть через ватник, а чувствительно. «Эх, была бы я моложе, дала бы ей» – говорила Нюра, она ведь и кузнецом была одно время, так что силенки не занимать. Доставалось ей за партийность. Вся Машина ненависть к коммунистам отпечатывалась на Нюриной спине. Крыла их на чем свет стоит, видно натерпелась, с молодых лет. Родители были из раскулаченных, и Машино детство прошло по чужим людям и углам. Была она в молодости хороша, личико круглое, носик прямой короткий, зубки белые ровные маленькие – сахар. Перебралась из деревни в «город невест» там-то ее и углядел солдат, отбывавший воинскую службу. Привез ее на родину, и зажили в деревне нашей. Тогда там бы школа, клуб, сберкасса, магазин – в нем Маша стала продавщицей. Так как была сметлива и с людьми разговаривать умела. Жили хорошо, дружно. Муж охотник был страстный, досталось от него зверью. Маше медведиц жалко было: шкуру снимет – словно женщина лежит со всеми признаками. Потом заболел муж тяжелой болезнью, промучился в избе, исхудал и умер. Осталась Маша вдовой. Замуж идти не за кого, мужики подкатывались, но безуспешно, один Волоха «околдовал», но и то ненадолго. Приезжали иногда в гости ее бывшие поклонники с бутылкой, закуской – на моторке: побритые, оживленные. Маша сажала за стол, угощала, посмеивалась и была очень довольна, что замуж не вышла. А может и по-другому думала, кто знает? Как-то раз и меня принял за ее друга заезжий американец. Не знаю, чем я заслужил такую честь. Я приехал из Москвы, зашел в избу и орал громко – звал товарища. Какой-то тип сидит, через очки пучит глаза, в руках дрожит лист бумаги. Сынок друга что-то по-французски растолковывает по слогам, а тот все равно глазами хлопает, смотрит дико. Оказалось, привез его товарищ познакомить с Русью. Пригласил я к себе компанию – американец со страхом смотрит на сало. От всего остального тоже шарахается, только «колбас» и водка. Оказывается, всю еду американец привез с собой. Даже какие-то целебные напитки, бутилированную воду из штата Нью-Йорк, еще морсы маминого приготовления – ими он решил угостить компанию, но они выстрелили, обдав всех кислятиной: перебродили. На следующий день договорились начать знакомство с Русью. Я в патриотическом порыве решил это взять на себя. Но утром никого не обнаружил. Оказывается, американец запаниковал, со страху запоносил и бежал, сопровождаемый моим товарищем. Оно и лучше, вряд ли бы крещенская вода помогла басурманину. Позже написал книгу о пребывании на Руси – вышла в свет в Америке. В ней дремуче «засветилась» наша деревня, тетя Нюра, Маша и я, грешный – но уже в качестве «профессора», прикатившего инкогнито с аспиранткой. «Аспиранткой» была моя крестница, измученная дорогой – на нее он все время подозрительно косил глазом. Американец был большим оригиналом, тоже историк. Нюра была из местных, родилась в нашей деревне. Кто были ее предки, не интересовалась: жили и все тут – как лес, река с окаменевшими раковинами и неведомыми растениями, коим лет тысячи. Не вели крестьяне родословную, не выстраивали генеалогических древ. Были они как сама земля, на которой рождались, в нее и уходили, когда срок подходил. От рождения была Нюра богатырь: любого парня могла заломать. А нрава тихого, поведения скромного, с детства молчалива и к крестьянскому труду приучена. Жила в бедной семье, многодетной и дружной. Молодость пришлась на военное лихолетье. Братья ушли в армию, Нюра с сестрами в колхозе. Потом сестры в город подались, осталась Нюра с родителями. Мужских рук не хватало и стали Нюру на все работы посылать. Знали, что безотказная, работу всегда выполнит, лучше всякого мужика. Семьи не завела, мужики ее как бы за своего принимали, да и было их – кот наплакал. Одни на войне погибли, другие покалеченные вернулись, третьи осели в городах. Нюру за ее успехи награждали грамотами, а потом и в партию приняли. В пример ставили, на доске почета отмечали. Известность имела по всему району. Сёстры в город звали, Нюра не поехала, отец умер, осталась больная мать беспомощная. Знала только жизнь деревенскую, ее и любила. Какие у нее были радости, не могла назвать. А что видела красивого – как-то рассказала и вся озарилась: была у них рядом церковь, водили ее туда в детстве. И как по лесенке поднимаешься – окно, а в нем цветные стеклышки, зеленые, синие, красные, желтые на солнце светятся, чудо как хороши. В церковь ту ходила с мамой, на окошки любовались. Потом окошки те местный парень разбил, а церковь ломать стали. Хотели на кирпичи, но куда там: на совесть строили деды и прадеды. Что спасли, бабы разобрали по домам. Саму церковь разбили в щебенку, свои же мужики трудились. Батюшку на телегу посадили, из дома всё повыкидывали, увезли. Старушки, которые при церкви были, шли за телегой, плакали – плакал и батюшка, был он старенький, жену схоронил, жил своим приходом, все его любили. Городские, что уво148 зили батюшку, цыгарками дымили, харкались, на баб ругались. Особенно лютовал один в кожанке, грозил последствиями. Была Нюра коммунисткой, но церковь ту помнила, ее стеклышки цветные. Ни о ком худого слова не говорила, ругаться не умела, а тех мужиков кляла, помнила по именам. Тот, который окна бил, сгинул, и мать родная не узнала, что с ним сталось. Одни с войны не вернулись, другие пропали по пьяному делу. Тот из местных, который руководил поломкой, в председатели лез, да народ против был. Потом он долго и тяжко болел, а когда умер, никто хоронить не пошел. Как вспоминала Нюра свое детство, так и видела эти стеклышки. На солнце – как фонарики! Какие стеклышки были… Была у Нюры любовь, любила она такую же тихую, беззащитную девушку калеку-хромушку. Работу тяжелую та не могла делать, делала за нее Нюра. Заботилась о ней, помогала по дому, хозяйству. Маша рассказывала о давней Нюриной любви, говорила, что и не баба та вовсе была, только по виду девка, а так у нее признак замечен был, люди видели. Любому мужику нос утрет. Но таких рассказов о сельчанах у нее много было, послушаешь, так не деревня, а Содом с Гоморрой. На язык Маша была остра. Доставалось всем и мне грешному. Могла срезать любого. Пришла как-то баба из города свой проданный дом навестить: наличники сняты. Стала с Машей ругаться, и так и этак кроет, Маша не отстает. Потом говорит, а ты знаешь, кто? Лягушка! А та и правда сходство имела. Как лягушка? Так лягушка! Баба сдалась. А вообще самое худшее ругательство был Змей, это когда пробы негде ставить. Нюра тоже того, кто стеклышки разбил, Змеем называла. О любви той Нюриной вся деревня судачила. Маму свою Нюра схоронила и переехала жить к подруге. Та совсем разболелась и из дома редко выходила. Жили тихо, потом все привыкли, и судачить перестали. Мало-помалу из деревни разбегались, осталось несколько домов, потом подруга умерла. Вернулась Нюра в родительский дом на краю обрыва. К тому времени врос он в землю и зарос бурьяном. О себе заботиться Нюра не привыкла, довольствовалась малым. К тому времени на пенсию вышла, завела кошку, овец. Овцы с ней в доме жили. С годами навоз горой вырос, стал под потолок. Туда «товарищи» овцы забирались на ночь, смотрели внимательно. Кошке покупала тушенку, варила яичко. Сама обходилась кашей да вермишелью. Кошка мышей не ловила, только спала и капризничала. Так и жила Нюра, пока не объединила свое хозяйство с Машиным, ведь дома рядом. У той тоже овцы. Будем пасти вместе – а пасла Нюра. Если овцы разбегались, получала палкой по спине. Попала Нюра в полон. Машины овцы плохо уживались с «товарищами» бабы Нюры. Как-то вечером пишу около их домов большой этюд. Вечер, свежо, луна подымается, идиллия. Вдруг крики, мат. А потом: «Алеша спасай!». Прибегаю, Маша Нюру молотком охаживает, все старается по голове. «В чем дело?» – спрашиваю, а Маша: «Косу отбивала, молоток мой украла!» – хотя сама молотком орудует. Насилу унял. Пошел идиллию дописывать. Идет Нюра, в руках держит пузырек с йодом. «На, помажь!» – со лба прядь откидывает, а там кровь. Йодом мажу, а Нюра: «Ой, злой какой, злой какой!». На следующий день вместе сидят, овец пасут. Как будто ничего и не было. Только лоб у Нюры завязан и платок ниже спущен. Доставалось еще Нюре за то, что партийной была властями отмечена. Маша от властей натерпелась, сначала родители, потом, когда продавщицей стала: «Каждому чину кланяться надо, ловчить, угодничать!» – а сама плевалась. Нюра – передовица производства к пенсии подошла нищей, а у Маши сбережения на пятьдесят тысяч пропали. Но Перестройка их уравняла. Вот тебе «от каждого по способностям, каждому – по потребностям», коммунизм долгожданный: у одной пропали, другая не нажила. Остались две избы рядышком, как близнецы, сморят окошками на реку. Кто проехал, кто прошел, все видно. Для интереса идешь иной раз огородами, чтобы не заметили. Все равно к вечеру Маша – вроде как корову ищет: «А в лесу был? Сколько набрал? Далеко ходил? Корзинка-то не полная была». Ничего не пройдет мимо, любая мелочь становится известной. Это и поныне для меня загадка деревенской жизни. Что это за телеграф такой, все про всех известно, ничего не утаишь. Вроде все по домам сидят, разве что не за ставнями, а все равно знают, кто к тебе приехал, кто уехал. Один раз все же озадачил соседок обувью. Долго терпели, потом пришли справиться: что у тебя на ногах было, чудное такое? Оказалось, ходил я босиком по окрестностям, а уж этого давно в деревнях не видывали. А я уподобился великому классику, у которого брат моего деда жительствовал в Ясной поляне. Софья Андреевна недолюбливала этих постояльцев. Классик поселил их в овине. «Гуру» навещал, учил. От скученности и грязи у родственника образовался в волосах колтун и в двадцать лет он стал совершенно лысым. Письмо к нему от Льва Николаевича есть в полном собрании сочинений. Колтун – в придачу. Ученики тоже придерживались «босоножества», местные мужики носили лапти, кто побогаче – сапоги. 149 Зимой утопали наши избы в снегу. Светает, мороз – а из труб уже дым валит, ровным столбами стоит, скотине воду греют. Идут с пилами топорами школу пилить. Маша с прибаутками, Нюра деловито. Вокруг ни души, ни звука постороннего, если едет трактор, то слышно уже за десять километров. Как-то печку дома не топил, бабки забеспокоились, не случилось ли что – зашли, проверили. Товарищ мой зимовал, только радиоприемником спасался. Сидит как-то, вдруг слышит – трактор. Кто бы это? Замолк. Подождал – опять. Может, письмо какое передадут. Оживился, стал ждать – опять замолк! Вдруг снова заурчал мотор – тогда только понял: это кот Потап на коленях спит и мурлычет! Этот Потап держал всю Машину кошачью братию в ежовых рукавицах. С кошками был милостив, коты по струнке ходили, а другие так и в лес от него убежали: был он им страшнее лисы и волка. Появлялся, входил солидно, смотрел строго. Товарищ отдал его Маше, так как сам надолго отлучался, но дом он свой кот не забывал. Как-то, приехав из Москвы, шагали мы пятнадцать километров пешком по февральской поземке с товарищем и его американской женой. Жена его шла на удивление легко, не унывала и радовалась Руси. Все ей нравилось, хотя профессорша там в университете. Добрались до дома уже ночью, печь растопили, дом ожил, дровишки потрескивают. Профессорша свою заморскую еду распаковывает быстрого приготовления – крупу какую-то неведомую, говорит: польза необыкновенная. Опять же суп – что-то протертое, по виду и запаху неприятное. Начали есть, вдруг скребется кто-то: пришел к хозяину кот Потап с другого конца деревни, снегами. Дело обыкновенное. Поздоровался с достоинством, ни жалоб, ни угодничества. Хозяин обрадовался: Потапушка, пожалуйте к столу. Усадили, потом миску ему налили, каши положили – все же оголодал ты, в деревне сидючи без хозяина. Потап еду понюхал и на нас посмотрел как-то оскорбленно. А потом даже лапой сделал жест неприличный, это когда они за собой зарывают. Американская кухня ему не понравилась. Наша, сказал, крепче будет. Мы эту еду поели. Американка ее расхваливала, особенно ее пользу. Промолчали деликатно. Спать легли. На следующий день я их дом покинул и в своем готовлю отечественное. Профессора в гости пришли (товарищ тоже профессор был американского университета, но почему-то скрывал), бутылку принесли, у меня тушенка, колбаса, каша гречневая и т.д. Самовар ведерный опять же – пей, не хочу. Американка с Русью подружилась, ибо не чужда ей была, еще девочкой вывезли ее на постоянное место жительства в Штаты. Но через два дня запросилась обратно: «Руси, – говорит, – хватит, я лучше о ней в книгах прочту. И еду эту обильную американскую вам оставляю». Я был доволен, готовить не надо, поем ихнего. А запасы пригодятся. Отбыли, растворились в белом безмолвии. Я опять с бабками, веселее и спокойнее, без городских слухов и сплетен. Взялся за еду – в рот не лезет, ночью тогда с голодухи обошлось, а теперь ни в какую. А ведь оставили целый чугун большой. Другую крупу неведомую сварил – и того хуже. Потапа позвал, он шарахнулся. Вороны у меня летали – объедками, отходами их подкармливал. Не городские вороны, где помоек много, а деревенские, лесные. Еды им добыть нелегко. Решил я их обамериканить, всю ту еду полезную около крыльца вывалил. Гора получилась – пусть едят от пуза, будут помнить, ведь раз в жизни такое бывает. Вороны, и правда, налетели, окружили ту кучу, пробу сняли – и все. Много каркали недовольно, на меня ругались. И осталась та куча нетронутой на всю зиму. Окаменела от морозов. Что это за каша такая была, так я и не узнал, 150 помню только, что зерна коричневые, вроде как кофий. А суп с какой-то гущей пованивал неприятно. Воронам тоже не понравилось. А у Потапа того богатая жизнь была, много детей, внуков, правнуков. Ходил свободно, вразвалку. Лиса была ему нипочем. Наверное, чувствовала, что худо будет, Потапа избегала. Лапы у него были толстые и весь с виду боксер-тяжеловес. Рыжий был, конопатый: «рыжий-красный – очень опасный». Задрать мог своего брата кота или какого зверя, человека не трогал. Если чувствовал, что рассердят, уходил – не вводите в грех. Другой раз летом приехал – нет Потапа. Чем-то заболел и помер. Маша переживала, холила его, любила, и вдруг нежданно-негаданно! Во всей красе, и еще в летах по кошачьим меркам не старых. Назначила Маша коту вскрытие, позвала Нюру, которая со скотиной поработала и опыт имела. Вроде все нормально в Потапе, но обнаружился как бы шарик из сала, необычный какой-то. Решили, что много Потап сала съел или чего другого питательного, от того и шарик этот образовался и жизни Потаповой предел положил. Другого кота такого больше не было. Остальные или гадили по углам, чего Потап никогда не делал, или новорожденных котят жрали, что Потап пресекал на корню. Говорят, нет незаменимых. Все незаменимы, но иные коты тоже. Будет вам известно, заведите – узнаете. Со смертью Потапа округа обнаглела. Начался кошачий демографический бум. Изгнанные Потапом коты вернулись и стали невоздержаны. Семейство кошачье стабильно пополнялось. Завелся было пожиратель котят, но Маша прибила его поленом. Или другой случай, с собакой. Сидят Маша с Нюрой на завалинке, овцы в поле недалеко пасутся, беседа неспешная. Вдруг от леса какая-то собака бежит. Гадают, чья собака, вроде ни у кого из приезжих нет. Может, потерялась, бедная. Наверное, от охотников отстала. Собака подбежала вплотную, схватила овцу и побежала в лес. Насилу бабки отбили ее палками. Оказалось волк – молодой был. Так и убежал ни с чем. При Потапе такого не бывало. Как-то увидел я его портрет на старинной гравюре XVII века – вылитый Потап и подпись: «Любимый кот царя Алексея Михайловича». Немец гравировал, специально приглашен был. Семью царскую не гравировал, а кота – будьте любезны. Таков заказ был царя Алексея Тишайшего. При нем Русь благодатно жила. Нюра с Машей летом ходили в сапогах и телогрейках. Зимой в валенках и в ватниках. Летом платки полотняные белые, зимой серые из домотканной шерсти. Нюра задумчивая, рассудительная, немногословная. Больше смотрит, чем говорит. А скажет что-нибудь по делу, закончит: «Так-то, батюшка» – чувствуешь себя барином. Вступит Маша с насмешкой и решительно критику поведет, сомнения посеет. И выставит в свете самом незавидном. Сразу почувствуешь: чай не барин, видала она таких. Когда собирались за пенсией, приходили на берег, ждали катера леспромхозного – придет, не придет? Волновались! Там магазин, свои деревенские, давно переселившиеся. Уезжали на весь день, катер возвращался вечером. По этому случаю Маша надевала платочек белый с цветочками синими, плюшевый черный жакетик (всегда любовался я на такие наряды), сапожки резиновые зеленые. Вся собранная, строгая. Нюра в платочке черном с красными цветами. Полупальто драповое, старое, но чистенькое, местами подшитое, сапоги резиновые. Обе красивые красотой природной, естественной. Ничто так не идет к русскому женскому лицу, как платок. Восточное лицо в нем грубее. Черты резкие, носы крупные, все недостатки подчеркивает. Лица другие холодит, а русское – украшает. Почему не носят? Уж такие платки красивые делают, сами просятся, а покупают туристы. Я бы платок этот белый сделал знаменем всему российскому воинству женскому. В нем лес валили, сено косили, у станка стояли, коров доили. Надевали на всю тяжкую сельскую, городскую страду-работу. В этих платочках стираных и глаженых шли в церковь, когда была она поругана и под запретом. На пятаки этих женщин и бабушек в платочках пережила она лихолетия. Подвергались поношению и насмешкам не только властью, но и собственными детьми. За неимением хора пели они дребезжащим голосом в сельских церквах. Тайно крестили внуков. Читали над покойниками Псалтырь. Шли ходоками в столицу отстаивать церковь и гонимого батюшку. Беззащитные и бескорыстные для себя, проявляли волю и твердость, защищая свою Матерь Божию, своего Николу, своего Преподобного Серафима – не знали страха перед наглой и подлой властью, тысячи их стали новомученицами. Сохранились архивы-мартирологи убиенных, это крестьянки, полуграмотные работницы, сторожихи, уборщицы, кочегары, кого только нет. Читаешь и думаешь: власть была у обезумевших мужиков, коль сделали врагами своих матерей, сестер, дочерей и родственниц, что вскармливали их. Конец известен: мужики те сгинули вместе со своими идолами. Бог поруган не бывает. Как-то одному духовному лицу я так же, ожидая поддержки, пропел панегирик этим под- 151 вижницам. Духовное лицо долго молчало, потом подытожило: «Это мясо». Лицо было молодо, розовощеко, любило севрюжину с хреном. Помню, после войны было. Хлеб по карточкам, мука не продавалась. Около дома у нас оживленный перекресток: машины взад-вперед, пешеходы, еще трамвай ходил. С грузовой машины мешок муки упал, из маленькой прорехи высыпалась кучка муки на асфальт. Шофер мешок закинул в кузов, кучка осталась. Бабушка в белом платочке – маленькая, аккуратная – остановилась с тоской и отчаянием, на кучку смотрит. Машины вот-вот муку раздавят, загадят. Мимо милиционер идет. Бабушка к нему обратилась: «Можно забрать?». Он оглянулся, кивнул, и дальше пошел. Бабушка платок сняла, расправила и ладошкой быстро сгребла туда всю кучку. Машины объезжают, бибикают. Замотала его в узелок, грамм четыреста получилось. Радостная, улыбалась изумленно. Прижав узелок, побежала резво, не по годам. Этот перекресток странным образом возникает в моей памяти с раннего детства. Если его пересечь, то попадаешь в Лялин переулок, а мою маму все звали Лялей, и я был уверен, что он назван ее именем. Когда умер Сталин, был объявлен день прощания с вождем. Мама сказала, что пойдем на перекресток Маросейки и Лялина переулка, аккурат против нашей улицы Чаплыгина. Будут гудеть заводские гудки, как в день, когда прощались с Лениным. Все москвичи должны быть на улице. Мама привела меня в порядок, застегнула на все пуговицы, строго посмотрела, чтобы я чего не выкинул, и повела на перекресток. Там уже стоял народ, движение было остановлено. Действительно, в 12 часов дня уныло загудела Москва, народ стоял в безмолвии. Серый день, надсадное гудение, вся толпа смотрит в сторону Кремля. Через какое-то время гудки замолкли, и толпа, как по команде, стала расходиться – без скорби, без слез, деловито. Мы повернули домой, с нами поравнялась молодая женщина в дорогой шубе: – Здравствуйте, вы мама Хетагурова? Наши сыновья учатся в одном классе. Я видела, вы пришли попрощаться с товарищем Сталиным. Это большое несчастье, не правда ли? – Да, – отвечала мама несколько удивленно. Я действительно учился вместе с ее сыном. Мы были как бы из разного теста: не замечали друг друга, не разговаривали. Он отличник, я второгодник. У него дорогая шерстяная голубая форма, у меня хлопчатобумажная мятая грязно-серая, козырек на фуражке я подрезал и перешил, чтобы стала как у адмирала Нахимова. В общем, ничего общего – «не ровня», как говорили в старину. Его мамаша на родительских собраниях не удостаивала и взглядом мою маму, которую истязали за нерадивого сына. Это была холеная красивая генеральша с высокомерным, бесстрастным выражением лица. И вдруг эта встреча на перекрестке! Мы пошли вместе в сторону дома, собирались уже завернуть в ворота, как вдруг дама стала нас приглашать к себе домой попить чаю: – Пойдемте-пойдемте! Так приятно познакомиться! Не хочется в такой день быть одной. Я видела, вы тоже переживали. Такая потеря! Такая потеря! Мама стояла озадаченная: генеральши были не ее круга, но как отказать – дама была сама любезность, убедительно промокала кружевным платочком влажные глаза. Мама согласилась. Пришли – огромная квартира! Дворец после нашей коммуналки. Мебель из карельской березы с бронзовыми накладками. На стенах – странные портреты собак: пес в котелке с трубкой в зубах, пес с сигарой в тирольской шляпе с пером или с пивной кружкой в лапе; две собаки играют в карты… Наконец, целое семейство: старые лохматые дед с бабкой в очках, их дети – веселые собачонки средних лет (папаша подмигивает) и свора щенков-внуков гоняет клубок с нитками – нитки по всему полу. Стиль живописи немецкий, бюргерский, происхождение явно оттуда же. Немецкие сервизы, ковры с оленями – в общем, скорее всего трофеи. Запах богатой жизни. Из нашей кухни всегда несло чем-то прогорклым, под потолком клубился пар, окно мутное, запотевшее, с потеками воды от постоянно кипевших кастрюль – соседка отслеживала, чтобы горелка не пустовала. Когда вода выпаривалась, заливала новую – все это делалось, чтобы у мамы были проблемы с приготовлением пищи. Горелку надо было отвоевывать под визг соседки. А тут была невиданная роскошь. Нас пригласили в гостиную, налили крепкий душистый чай в фарфоровые чашки сервиза. На столе конфеты в коробке. Генеральша искренне переживала смерть вождя, негодовала, что есть равнодушные, и даже кое-кто радуется. Так, соседка по дому, еврейка, весело сказала: «Не велика потеря, другого назначат». Соседку можно было понять: в Москве ходили слухи о предстоящей депортации евреев в связи с «делом врачей» – последнее «дело» вождя. Наша соседка вообще заявила, что вождь был свиньей. Она ненавидела советскую власть. Помнила ее художества в детские годы в Киеве. Берут город белые – открываются все магазины, народ с цветами под колокольный звон встречает войска. Приходят красные – город пустеет, все прячутся по домам. Рядом на Стрелецкой улице, где они жили, – школа во дворе за забором. Ночью туда загоняли грузовик без глу152 шителя и под его грохот расстреливали юнкеров, гимназистов и всех неугодных. На этом же грузовике увозили тела неизвестно куда. Я не верил. Но позже у своего преподавателя живописи Федора Морицевича увидел написанный им портрет мальчика в гимназической форме. Спросил, кто это – оказалось, племянник. Расстрелян чекистами. Ему было 12 лет. С портрета смотрел ребенок в фуражке – с пухлыми щеками и добрыми глазами. Обо всех этих художествах моя мама знала, но в дискуссию с генеральшей не стала вступать. Она пережила войну в Москве, работала на оборону, и у нее был свой взгляд на это. К тому же, у нее на руках был я. Мы еще недолго посидели и засобирались домой. Пришел сынотличник, с недоумением увидел меня, от чая отказался, уединился в свою комнату. На этом скорбь по товарищу Сталину закончилась. Потом стало совсем не до него. Соратники начали делить власть. Главного претендента объявили английским шпионом и расстреляли – что посеял, то и пожал. В общем, «дело житейское» по тем временам. Другая сцена на перекрестке, увиденная мною уже позднее, была как бы из театра абсурда. Посреди перекрестка, взявшись за руки, мешая движению машин, стояли мальчик и девочка. Они растерянно, испуганно оглядывались кругом. При ближайшем рассмотрении они оказались мужчиной и женщиной средних лет, похожими друг на друга, как близнецы. Щуплые, маленького роста, на головах – густые шапки черных курчавых волос. Запавшие щечки, внушительные носы и наполненные ужасом глаза. Брат что-то спрашивал, крича – его никто не слушал. Они заблудились. Их объезжали машины, клаксоны не умолкали, водители высовывались, изрыгая проклятья. Народ собрался вокруг и веселился, крутили пальцем у виска. Брат был в засаленном черном костюмчике, сестра – в поношенном платье. Наконец, пришел милиционер, свистком остановил движение и вывел их из чащобы равнодушно-враждебных машин и людей. Под насмешки прохожих они, так же не разжимая рук, быстро пошли прочь. Брат вопросительно вскидывал глаза и видел перед собой стену. Они никому уже были не интересны. Только пожилая, по-восточному красивая айсорка – чистильщица обуви, вечно сидевшая на перекрестке, сокрушенно качала головой, повторяя: – Бедная, бедная, какая бедная! Почему такая несчастность? Платки эти белые головные были символом России. В последний раз увидел я такую бабушку в Москве на Таганке. Умер Высоцкий. В витрине театра его фотография была, толпа народа стояла. Смотрю, такая же точно бабушка – сухонькое иконописное благородное лицо, мужской старый пиджак и беленький платочек. Стоит, причитает, плачет. Рукой на портрет показывает, крестится. Никому до нее нет дела. Все больше смотрят, кто из артистов или других «значительных» лиц появится, а старушка кланяется портрету, крестит его… Подумал я: сама Россия с ним прощается, благословляет. Откуда знать ей, кто он – поэт, актер, певец? Она и в театре-то никогда не была. Значит, что-то было в нем, что скрывалось за внешней мишурой. Бабушка благословила, плача, ушла. А из ресторана тут же рядом разухабистая музыка с грохотом, под топот плясунов: «Ах, Одесса, жемчужина у моря! Ах, Одесса, ты знала много горя!» Поразительно, прошло с десяток лет – хоронили Окуджаву, прощание в помещении театра Вахтангова. Очередь километровая. Я рядом с театром, проходил мимо. Остановился, смотрю, что такое, опять грохочет музыка из кабака, топот, пляс. Тут скорбь, марш Шопена, а в тридцати шагах – веселуха: гуляй, рванина гламурная. Подумал, может это наша специфика, хамство Ивана, не помнящего родства. Вряд ли. Не могли так оскотинеть люди – в Бога веровали. Видать, какую-то другую породу вывели. На смерть поэтов не плясали при царе-батюшке. И еще о платках этих, коль речь зашла. Мой добрый друг, чешка, много стран повидавшая, восторгалась российскими бабушками: «Нигде таких нет, никто платков не носит. Не бабушки, а тетки, не поймешь какого возраста. У нас в Чехии тоже такие были, еще после войны в сельской местности, но давно уже их не встретишь, городскими стали». Чешка давно в Голландию переселилась, родину цветов. А больше всего ее удивили наши гладиолусы, которые бабушки продают. Только они их и выращивают, слава Богу, не перевелись еще те бабушки с цветами. Гоняют их, правда, но они стойкие, и не такое видели. Еще пришлось мне из-за такого платка ответ держать. Попросили меня друзья их гостьюнемку в Третьяковку сводить, иконы показать, как понимающего. Встречу назначили и час. Смотрю, идет красавица, с огромными «арийскими» глазами. Несмотря на лето и жару, закутана в роскошный павловский платок цветастый. Под ручкой плетеную корзину держит из ивы. Платок купила в «Березке», корзину по случаю у бабки. От немки глаз не оторвать. Одно смущало, платье на ней широкой вязки и все просвечивало. Сверху Русь пуританская, а остальное – Европа загнивающая. По тем временам так казалось, сейчас бы никто и внима153 ния не обратил. Идем в галерею, а вслед тетки ехидно: «А я иду, шагаю по Москве!». Я недоуменно покосился на платок – не по погоде, на корзину. А юная Лорелея: «Почему ваши не носят? Надевают всякую дрянь западную, дешевку. Такой красоты у нас днем с огнем не сыщешь. А корзинка – так удобно, руку не оттягивает. Всё туда положила!». Что я мог ответить? Сам я был одет хуже некуда. А уж за женский пол ответ держать – извините. Иконы смотрела внимательно, как подойдет к иконе – вижу: женщина почти голая! Смотрительницы ходят следом настороженно, смотрят. Экспозицию посмотрела, обедать захотела. В ресторан зовет. Для ресторанов я всегда был негодящий. Неудобно, когда тебе есть подают, в горло не лезет. Вроде как обязан чем-то. Напряжёнка. Повел ее в нашу университетскую столовую, что в тоннеле под главным зданием на Моховой. Там кормился. Окрошка, шницель, компот – все как у людей. Привел. Баба орать стала, что закрыто. Попробовали сесть, она стул на стол поставила. Немка закричала: «Дайте же нам поесть!». Наконец, бабка, ругаясь, ушла. Обед в кассе выбил, поднос принес, пообедали. А еще спросила: «Почему у вас машины нет? Технику не любите?». Подтвердил, что не люблю. С музейной зарплатой я и велосипед бойкотировал – он ровно столько же стоил. «Да, мой муж ее тоже не любит, вы, интеллигенты, другим живете!». Знать бы – чем? У немки глаза были цвета морской волны, оливковая кожа, длинные белокурые волосы, милая добрая улыбка… «Давайте, еще пойдем куда-нибудь? Я две недели буду в Москве» – что-то промямлил, обещал связаться с друзьями. Раскланялся. Так и не позвонил – проклятая стеснительность с детства! Почему женщины и мужчины бояться друг друга? С разных планет, что ли? Друзьям поведала: «Разговаривала с самым умным человеком России» – а выходит, что с дураком. А жаль, прекрасная, душевная была женщина, к тому же красавица. Во времена Тютчева ей бы стихи посвящали, в каретах возили, а не шницелем из хлеба кормили. Была она замужем за парижским родственником моих друзей. Развелись, и ушла она к хиппи, там и прожила. Заболела тяжело и умерла молодой. Светлую память оставила. Мир ее душе. Имя ее было Майя – вечно весенняя… Совсем худо в брошенной деревне в ноябре. Ни случайных туристов, ни грибников. Дороги разбиты, колеи по колено в воде. Лес голый, холодный, с черными мокрыми ветвями-прутьями. Светает поздно, темнеет рано – день короткий. Брошенные избы сурово, неприветливо смотрят глазницами выбитых окон. Кое-где крыши провалились, дверь висит на одной петле – заходи, а нет желания, в доме мерзость запустения. Река – темная, как асфальт, иногда блеснет зеркальцем на стремнине. Небо хмурое, рыхлые тучи несутся прямо над крышей. Земля покрыта травой жухлой, коричневой, лужи тускло отражают серое небо. Как отраду ждешь снега и первого мороза. Тогда всё осветится, заиграет, станет веселее. Зима как красавица-плясунья выходит в круг, а там уж глаз не оторвешь, смотри да радуйся. Что может быть лучше снежной морозной зимы с кружевом заиндевелых ветвей. Вся дрянь и разруха занесены снегом, скрыты сугробами. Брошенные избы и те повеселели, смотрятся сказочными избушками под снежной шапкой. В солнечный день морозный избы синие, дорога синяя, деревья синие. Соседняя деревня стала ближе, серые дома приукрасились, сверкают белыми крышами на солнце. Рано утром после снегопада весь лес стоит стеной из серебра, встречает восход. С первыми лучами солнца не лес это вовсе, а какая-то вязь бриллиантовая, но долго она не продержится, какой ни мороз, а солнце всё ровно ту красоту растопит, ветер сдует. Воздух ядреный, пить можно. Арбузом пахнет. Как ни далеко печку топят, а дымок все равно аппетитно щекочет ноздри, уютом и теплом завлекает. Зима сюрпризы готовит. Утром выйдешь – следы. Из леса с того берега волк приходил, оттуда они тянутся. За день их снегом запорошит. На следующее утро опять под окном сидел. Чего ему надо было? Приемник он слушал, на окно смотрел. Так несколько ночей и ходил, все следы оставлял. Радио «Свобода» слушал? Раз ночью у порога какая-то зверюга большая лохматая лежала, след оставила – для медведя мелковата, наверное, росомаха. Правду говорят, весна красна, но и зима красна, а лето просто именины сердца. А то так снегом заметет, что утром дверь еле откроешь. Везде по пояс. Какой уж там колодец – снег забиваешь в ведра и к заслонке, там он оттаивает – и пьешь, и моешься, и пищу готовишь. Вечером уже темно, бабкины избы огоньками светятся. У меня пять окон, все огнями залиты, радио наяривает, с бабками перекличка. За порог выйдешь ночью – на десять метров видишь только снег, а дальше тьма, сверху только звезды горят. Ты да Вселенная. Но когда дом теплый за спиной, печь русская и голландка дровами трещат, радуешься покою и уединению. Утром по радио передача какая-то культурная. Письмо П.И. Чайковского читают, адресат – Надежда Филаретовна фон Мекк. Пишет примерно так: «Я тут совсем один, вокруг тишина, мороз, солнце. Никто не мешает работе. Что может быть лучше». Слушаю, а потом соображаю: ведь у меня все то же самое! На этом, правда, сходство с гением и заканчивается, но и то – слава Богу. 154 Но это все зимой, а осенью поздней – только первые ее признаки. Лёд пошел кусками по течению откуда-то сверху, там, видно, уже совсем морозы. Первый снег тонко, хило покрыл крыши. Забелело на полях. Подмораживает. Не сегодня-завтра зима у порога. Бабки у себя с овцами, ко мне уже не заглядывают. Вокруг никого. Вдруг стучится кто-то в дверь сильно, настойчиво. Кого принесло? Открываю – конь, смотрит одним глазом, на другом бельмо. Конь без уздечки, вольный. В черной гриве репейники. Головой кивает, здоровается. Глазам не верю: откуда взялся? Стоит, есть просит. Кушать хочу, говорит. У меня пачка овсянки, но что это для коня. Высыпал ему в таз, он есть стал. К себе его не впустил, в мой осевший двор только овца войдет. Что делать? Пойдем, говорю, к бабкам, определимся. Все понимает, идет за мной, и глазом посматривает. Пришли, знают коня, Каря зовут, из колхоза. Вместе с техникой и его бросили. Где он целый месяц шастал – неизвестно! И как его волки не загрызли, медведь не задрал! Видно, в дальней брошенной деревне прятался. Подъедал недокошенное, брикеты сена, оставленные по полям. Первый снег погнал Карю к людям, зимой на полях не прокормишься. Обсуждаем его судьбу: что делать? Колхоз его не ищет, не нужен. В дом тоже не возьмешь, некуда, и кормить нечем. Сообразили бабки быстро: а поставим его в конюшню – хоть и крыша дырявая и окон нет, а все лучше, чем на улице. Да и не боится конь холодов. И, правда, посреди деревни стоит крепкая конюшня – небольшая, но складная, из толстых бревен. Увел я туда Карю, а там полный чердак припасенного колхозного сена в метровых брикетах. Не пропадем. Каря был старый опытный конь. Знал, что делал, на следующий день повалил снег, замело поля и дороги. До травы и соломы ему не добраться, спрятаться негде, подули студеные ветры. Пропал бы Каря: от малой его родины, скотного двора, отделяют двенадцать километров бездорожья, глухого леса с волками, а дальше вспученная льдинами широкая река. Не добраться Каре до дома, да и не нужен он там никому, никто не озаботился его возвращением. Отслужил свой век – скажи спасибо, что на колбасу не пустили. Был бы завод такой в округе, так не миновать ему такой благодарности хозяев: за несколько бутылок водки бы отдали. Корова, если хозяйку имеет, ласковые слова услышит, перед дойкой вымя погладят, поговорят с ней. Век ее бывает, пока молоко дает, совсем не тяжкий, потом тоже отблагодарят мясопоставками. Как получилось, что первый и надежный друг и помощник «венцу природы» стал главным его мучеником? Придумали ему сбрую, доспехи, которые не защищают, а истязают. Кровянят ему бока и спину, загнали в рот железки – рвут рот, охаживают плеткой. Малец только ходить научился, а ему уже хлыстик дают, на коня сажают: стегай, будь добрым казаком! Лошади только головой крутануть – и нет его. А она ждет, как его усадят и выучат на мучителя. Так и не понял я, почему истязание лошади – норма жизни, и все это веками. Без зазрения совести. Вот по телевизору смотрю какие-то соревнования, жеребцы мокрые в мыле несутся. Отпрыск королевский впереди, больше всех хлыстом лупит. Во весь экран трясет, проветривает свой августейший зад: смотрилюбуйся! А что господа зрители? Ничего, в бинокли смотрят, что-то в книжонки записывают, зонтиками от солнца закрываются. Дамы наряды показывают. На каждой леди шляпка – гнусный символ скачек, она главный приз. Наш гламур и это собезьянничал. Никому нет дела, что из тысяч лошадей до скачек выживают единицы, да и тех отправляют на бойню, как выйдут в тираж. Редко какая до десяти лет доживает, большинство погибает от перелома ног, спины, шеи, разрыва сердца, общего перенапряжения. Никого не удивляет, когда лошадь приходит к финишу с кровавой пеной на губах – это разрываются легкие. А сколько их избивают хлыстом, палкой – никто не считал. Забава дикарей придумана в Англии, в стране, которая кичится своей «самостью». Еще у них есть волынка – лучше бы ее переняли. Прекрасный инструмент, ее звук завораживает, наполняет душу радостью. Один скульптор из Франции сделал проект памятника лошадям, погибшим в России в кампании 1812 года – их пали миллионы. Честно и преданно служили своим хозяевам. Монумент предполагалось поставить на Бородинском поле, где стоят замечательные памятники, воздвигнутые еще при государях-императорах. Прошло двести лет. Место – лучше не придумаешь: поле русской славы. Это будет хоть малая толика благодарности от людей вечным труженицам, помощницам, защитницам и мученицам. Земля эта и поныне извергает из себя следы той небывалой битвы – ржавые подковы. В детстве читал я книгу «Путешествия Гулливера» Д. Свифта. Описывается в ней, как попал Гулливер в страну благородных Гуингмнов (лошадей), и жили рядом с ними дикие, злобные самцы и самки йеху. Они мерзко воняли, когда приближались друг к другу, обменивались воплями, визгливо хохотали, пронзительно орали. Гуингмны шарахались от них, обходили стороной. Написана книга была 300 лет назад. Что изменилось? Благородных Гуингмнов почти нет. А йеху? 155 Включаешь телевизор – и страшно. Есть! Дикие рожи, кривлянье, вопли. Вместо прекрасного певучего языка: «Короче! Блин! Вау!», сортирный юмор, хохот, матерщина травленых химией девок. Приблатненная поросль. Деньги не прибавили ума – отняли последний. Главное, чтобы «живот был полон – голова пуста» (Лао Цзы, VI век). «Panem et circenses» – «Хлеба и зрелищ» – лозунг черни всех времен и народов. Победил, окаянный! Земля бьется в агонии. Посылает знамения, предупреждения, потом возмущается – посылает бедствия, достается и правому, и виноватому. Одумайтесь, говорит: каждый день исчезают миллионы живых существ просто так. Скоро их можно будет видеть только на старых гравюрах и фотографиях. Благороднейший врач и органист, красавец-джентльмен Альберт Швейцер, который призывал: «Всё живое должно жить!» – не услышан до сих пор. Есть еще время услышать и одуматься, но очень мало его осталось. Всё возможно – да не всё можно. А что Каря? Каря зажил хорошей жизнью: никто его не охаживал плеткой, пьяно не материл, не изнурял непосильной работой, и он отдыхал в занесенной снегом конюшне. Каждое утро он приветствовал меня деликатным покашливанием. Я возвращал приготовленное колхозниками колхозному коню, который, я уверен, заслужил больше чем сено-солома, полведра овса ему бы не помешало. Пенсия – так пенсия – заслуженная, со льготами. Но он был доволен и этим. Я стаскивал с чердака брикет, разрезал веревки, разбрасывал сено. Брикета хватало до следующего дня. Если наваливал больше, то Каря его топтал, не ценил. Вел себя развязно. Нюра, углядев из своего далека, что я при исполнении, брала коромысло с ведрами и шла меж сугробами по тропинке вниз на колодец. Потом также наверх и несла ведра Каре. А ведь ей за семьдесят лет, и с утра уже сделала несколько ходок для своих овец. Грела им воду, поила. А тут еще Каря – что он ей, приблудный конь-инвалид. Но не могла святая душа крестьянская мириться с тем, чтобы скотина была непоеная, даже не своя. Мое дело – сбрось Каре сено, похлопай по шее, и ступай себе. А Нюра: снег навалит, она опять тропу протаптывает, вёдра несет. Каря воду увидит и ей благодарно покашляет. Целый день сено жует, воды много. В окно выглядывает, кивает, из конюшни не выходит. Нагулялся, наголодался. Так и жил. Потом я уехал. Маша с Нюрой дальше его там кормили. Зима устоялась. Дорогу трактора проложили. На реке лежневку льдом схватило, стала она проходимой, даже для трактора. Прослышав о Каре, прислал колхоз мужика-конюха. Сплел он уздечку из веревки, побалакал о том о сем со старухами, подивился сметливости Кари, оседлал старого и увел его на конюшню, где Каря прописан был, там он еще послужил, всеобщее уважение приобрел. Житию нашей деревни конец подходил. Перестройка ее не подняла, а угробила. По домам стали лазать не стесняясь. Лихие люди по вечерам пальбу из ружей устраивали, в Афган играли, так и доложили: «Николаич – в Афган!». Электросчетчик мой, никогда никем не проверяемый, остановился вдруг на цифре «666» – как я ни колотил по нему, он не желал сдвигаться. Понял – деревня в опасности. Соседняя деревня с уцелевшими крепкими домами сгорела весной: туристы траву подожгли – для веселья. До этого совсем худой знак был: уезжал осенью, к Красному углу подошел попрощаться, а все три иконы враз упали мне к ногам – забирай нас. Неприятно стало, тревожно. Поставил обратно на полку, избу запер и быстро на катер – другого ждать только на следующей неделе. Иконы самые обычные, для русской избы традиционные: Спаситель, Богоматерь Казанская и Николай Чудотворец. Я их из Москвы привез, и они несколько лет избу согревали, оживляли. Без икон дом, что сарай: сиди, озирайся: где я, что со мной? К весне письмо от Нюры приходит, что дверь в избе открыли и лазали. Приехал в мае, и правда, в доме из погреба всё вычистили. Кое-какие вещи украли, а самое главное – икон нет. Не зря просились. Остальное неважно, а иконы одно расстройство. В каких руках будут, кому продадут? Видел я, как продают их барыги. Лежат на земле, рядом плюют, окурки бросают, матперемат. Потомки «богоносцев». Написал заявление в милицию, передал в райцентр. В деревне у лихих людей паника. Они и крали, больше некому. Забегали: «Не я, Николаич, на меня не кати!». А я и катить не собирался, только попугать. Днем как-то слышу: моторка. Причалили два в форме, поднимаются, видные такие, и ко мне. Сигнал услышали. Кто, да что? Дорогие ли иконы? Сколько рублей в сумме? Сказал, что денежная цена им гроши, но как иконы дороги. Смотрели озадаченно. Кого подозреваю? Ответил, что вызвал для профилактики лихих людей, а не для посадки. Ни на кого указать не могу. Хотя знал ворюгу. Последний человек: с тобой выпьет, у тебя же и украдет. У серьезных уважаемых воров таких крысами называют. Попросили меня написать всё поподробнее, перечислить украденное. Что-то подписал, и уехали. 156 Всё ругают милицию, а я думаю: для нас она даже очень хороша. Ее ругают, а она служит, такая-сякая, а чуть что к ней бегут. Вот и тут: приехали из райцентра, а это километров сорок, да еще бензина сколько извели на моторку, а вызвал приезжий москвич для профилактики. Зря ругают милицию, а сколько их гибнет, сколько вдов детей сиротами остается. Хоть бы об этом подумали. Нет хороших и плохих слоев, профессий. Все одинаковы, коль в одной стране живете. Другой говорит: не пойду в церковь, там мне один поп не понравился. А в магазин идет, хотя его там обхамили не раз. Не понравился сосед-художник, что ж теперь в Третьяковку не ходить? Любите, будьте добрее, граждане-товарищи, и вас полюбят. А с заявлением тем финал был по форме. Возвратился в Москву, поднимаюсь – в почтовом ящике письмо. Открываю – из Унженского районного УВД «В уголовном расследовании отказано за неимением состава преступления». Хотел профилактики – лопай ее. В конце лета вернулся в свою деревню. Зарастает она лесом со всех сторон, местные уроженцы иногда появляются – не узнают ее, никакой ностальгии. Всё-таки надеялся, а вдруг оживет. Зимой новый трансформатор поставили. Землю бурили, бетонные столбы установили, провода новые протянули. Как-то около дома геодезисты в теодолит смотрели, что-то чертили, записывали. Для дороги, говорят. Куда только? Обнадежили. Я как своего ворюгу увижу, ругаю ту падлу, что иконы украл: последнее, говорю, дело из жилой избы иконы красть. Ворюга мычит, соглашается. Вспомнил я систему Макаренко «исправлять заблудшего трудом» – много этой системой нам в школе мозги пудрили. Нанял я его крышу чинить и замки вывороченные заменить. Умелец этот за замки взялся, но честно предупредил: никакие ключи не показывай, любые подделать могу. Предупредил. Понял я, что не может артист со своим вдохновением справиться. Когда проверял, он отворачивался. Замки поставил на совесть. Взялся за крышу: два-три дня работает, старается. Поднимаюсь как-то с реки, смотрю – сидит на коньке, меня дожидается. Подхожу: – Николаич, с тебя бутылка! – А что? – говорю. – Посмотри в рюкзаке. Рюкзак открыт, а там иконы мои смотрят, целые и невредимые. – Откуда? – говорю. – В соседнем доме на сеновале нашел. Там видно и прятал. Бутылку ему поставил – за работу рассчитался. То ли система Макаренко сработала, то ли еще что, но свершилось чудо обретения икон, на которое я надеялся. Если есть чудо, пусть вернутся – и вернулись ведь. Вот и не верь после этого в чудо! А ворюга тот с большими способностями был. Телевизор починит, приемник, трактор. Больше на счет водки промышлял, но если что захочет, сделает в лучшем виде. Мне давно с детства ходики нравились. На железке-циферблате мишки в сосновом бору изображены. Шишки – гирьки еловые-сосновые на цепочках, маятник. Для избы – лучше не надо часов. В давно брошенном доме среди хлама подобрал я такие: механизм ржавый, гирек и маятника нет, но картинка цела. Повесил на стену, пусть хоть видимость будет. Зашел как-то ворюгаумелец в избу ко мне, часы увидел, спрашивает: а чего они у тебя не ходят? Говорю сломаны, проржавели. Так, о прошлом напоминают, ничего с ними не сделать. Дай мне, я посмотрю. Забрал и нет его, неделя проходит, раз мимо окон прошмыгнул – и опять нет. Зачем, думаю, часы отдал. Тоже – нашел часовщика. Сам дурак, а система Макаренко – еще большой вопрос. Как-то в избу стучат, открываю: стоит со свертком. Проходит к столу – со значением, развертывает – часы. Маятник из консервной крышки сделан, цепочка, гирьки. Механизм маслом смазан, никакой ржавчины. Часы на стену вешает, цепочку за гирьку подтягивает. По маятнику щелк – заходили! Маятник – понятно, а где же ты цепочку с гирьками достал? От своих часов! Вот и думай: ворюга или умелец. Думаю – умелец, а ворюга так по случаю, по совместительству. Не туда занесла нелегкая. Работа в хобби превратилась. В благодарность его детям, трое их было, презент решил сделать, из Москвы привез, разворачиваю киндер-сюрприз: яйцо шоколадное, в нем машинка. Принес, объявил подарок, снимаю упаковку, фольгу. Смотрят напряженно. Возьми да и скажи: «Сейчас как рванет!». Все за косяки, за шкафы попрятались. Папаша из-за шкафа: «Николаич, правда, что ли?». С тех пор больше не шучу так. Вообще понял, что дети по-своему шутки понимают и трактуют их по-другому. В летний зной, в жару – хожу, естественно, в плавках (деревенские так не ходят, стыдно) – решил развлечь соседнее семейство моего товарища в его отсутствие. Взял шарики, мячики. Номер разучил. Прихожу: сейчас, говорю, будут фокусы-покусы. Зрители – невестка, внуки, внучка. Стал но157 мер показывать. Шарик появляется в руке из-за спины. Изо рта вдруг вылезает и т.д. А дети меня «Дядя Король» звали, не знаю почему: я в деревне под посконного мужичка работал – ватник, телогрейка, лапти на стене, на короля никак не походил. Зрители смотрели с любопытством, озадаченно. Номер выполнил и ушел, собой довольный. Да и отвлекся: всё не одному сидеть целый день. Слышу, моторная лодка пристает, поднимаются в деревню товарищ с сыном – отцом семейства. Естественно, поспешаю к ним, с вещами помочь. Заходим в дом, и первое, что отец слышит от дочки: «Папа, а к нам сейчас приходил голый Дядя Король и делал маме всякие фокусы-покусы!». Семейство в хохот, а мне конфуз и наука. Прежде чем с детьми играть-шутить – подумай. Всё, к сожалению, свой конец имеет. Цивилизации рушатся, исчезают с лица земли, в пыль и прах города обращаются. А что две опустевшие деревни, затерянные в лесах! Бабушек стали звать в дом престарелых – были они обузой для новой администрации. Те, конечно, ни в какую, к свободе привыкли. Стали им жилье подыскивать в колхозе. К тому времени всё хозяйство поделили, живи как хочешь. Фермером называйся – не возбраняется. Кто поделенное продал, кто себе приспособил. В общем, люди сами для себя жить стали, кто как сумеет. Деревни не нужны. Телок извели, пасти некого, сеять некому и нечего. Косить стали частники, они же и по домам лазать, ломать и растаскивать, особенно их смышленые детки. Приметы и знамения оправдываться стали. Нежить наступала, пожирала дом за домом. Увезли в центральную усадьбу Нюру, там комнату выделили для переселенцев, тоже брошенный дом, но для жилья пригодный. Рядом с «химиками» т.е. отсидевшими срок без права жить в городах – селянам презент сделан властями еще с 50-х годов. Один «химик» меня как-то увидел, проходившего мимо, выскочил, в дом позвал в шахматы играть. Зашел: правда, шахматы расставлены – играет сам с собой. Противников нет, мастерство пропадает. Я отказался: не умею. «Химик» посетовал, стал почему-то распространяться, что, кому хочет, накостыляет. Кулак перед своим носом крутит-вертит. В доме кроме шахмат, остывший чифирь в замызганной кружке, да печь развалюха. Соседство для бабушек славное, долгожданное. Вскоре «химик» умер, других привезли. Говорю о «химиках» не в осуждение, а в рассуждение. Как судьба сложится, никто не знает. «Химики» могут и помощь оказать, подкормить в случае чего. Один мне бобра привез (шкуру себе забрал). Сварил я его в чугуне, протомил в печке. Бобер таял во рту. Мясо нежнейшее, рекой отдавало. У меня дефицит с едой был. Ел неделю тушеного бобра. Другой раз тоже как-то «химик» выручил. Невтерпеж стало в деревне сидеть, хотя лето, солнце, река. Радуйся, еще много дней отгулов. Нашла тоска откуда-то. С бабушками тоже такое бывало, жаловались. Говорили, уже невмоготу жизнь ихняя. Потом проходило. Лежу, прошу чуда от Святителя Николая – отправить меня в Москву, чтобы завтра уже дома. Думаю об этом, вдруг моторка: слышу – подошла под Машин дом, заглохла. Пошел узнать, откуда. Оказалось: парня привезли на отдых – «химик» над ним шефство взял. Бежал парень из города. В деревню приехал в модном пиджаке и хороших туфлях, из вещей только портфель с книгами научными. Сам, как из дворянского собрания, с тонким лицом и манерами. Говорит: цивилизация надоела! Хочет к народу, к корням. На меня смотрит, как на будущего соседа. А я ему свой мешок картошки отдал, с которым жить собирался, и с «химиком» на отъезд договорился, бутылку обещал. «Химик» меня забрал, а на следующий день я уже в Москве был. Через день жалел об отъезде, и сколько раз так уезжал, преждевременно, до сих пор себя корю. Нелепы городские люди. Уезжаю на лодке. Вокруг синий сосновый лес на высоких берегах, широкая чистейшая река, воду пить можно – холодная и вкусная. Тишина, только «химик» «блинами» замучил: через каждое слово «блин», первый признак городской вони словесной. Приехали, стал хвастаться, что умеет ловко бить по печени. Но мне уже не до его подвигов. Вечером я на станции – и вместо чистейшей воды речной пью из крана в грязнейшем сортире, больше негде. Чего бежал – пойми нашего брата! А «химика» того Николаем звали, и понял я, что помощь получил от Святителя, и так много раз было. Потому и любят его испокон веку на Руси, что сразу помогает. Особенно путникам. Через месяц снова приехал в деревню. Ходока в народ уже не было, «химик» обчистил его, как липку, даже нечем было Маше за постой уплатить, обещал выслать. Картошка моя наполовину гнилая оказалась, но питался ею и молоком от Машиной коровы. Лихие люди реквизировали его пиджак – старую телогрейку выдали, так он и отбыл. Денег у него было много, родители выдали – Маше показывал, всё лето собирался жить. Лицом на молодого Феликса Юсупова похож – к «Распутиным» потянуло, сподобился. Лихими людьми и «химиком» обучался питию водки, учился плохо, но уроки оплачивал аккуратно, учебным пособием обеспечивал. За водкой педагогам не 158 бегал, чем заслужил уважение. Откуда он взялся, так никто и не понял. Не уехал бы я, глядишь, и меня затянула бы эта «распутинская» кувырк-коллегия. Как можно видеть, были на земле этой обетованной разные жители. Местные – коренные от земли, от сохи. Пришлые – лихие, насмотревшиеся в кино про разбойников, некоторые с явно актерскими способностями. Придуривались искренне. Но и тебя, голубчика, видели насквозь. Хорош или плох, всё равно лох. Была еще категория: городские поселяне и поселянки, оживлявшие суровый пейзаж. Местное население с интересом наблюдало за их конфликтами на грани нервного срыва, за вылазками по грибы и ягоды; за появлением гостей, иногда даже незваных, не ко времени приехавших. Устраивали банные действа с выбеганием голышом на реку в темное время суток, чайные церемонии, соревнования в засушке грибов – у кого больше. Бабушек посвящали в планы возрождения деревни, которые были грандиозны. Товарищ мой – Сергей, открывший это Эльдорадо, планировал соорудить подъемник от берега до самого дома для перемещения лодки и багажа, так как берег крут и высок. Моторка должна была по проекту регулярно поставлять поселян туда и обратно. Для улучшения нравов окрестного населения привез на тракторе пианино, закупленное в музыкальной школе райцентра. Оно было несколько расстроено, но звучало вполне сносно. Мужики высказались, что оно сошло бы для засолки огурцов, кое-что доделать – тара хорошая. Озадаченным бабушкам подробно рассказывалось о грядущей перспективе возрождения деревень. Они согласно кивали, но смотрели с недоверием. Предполагалось открыть что-то среднее между изостудией, кружком хорового пения, курсами постижения азов ботаники, ну, и конечно, исторического факультатива, т.к. по образованию почти все были историки, в разное время окончившие истфак МГУ. Перевешивало то одно, то другое. Соседнюю деревню давно освоила женщина крутого нрава и добрейшая душа врач-отоларинголог Рената, смотревшая на забавы новых поселян снисходительно. Врачей трудно удивить причудами – с людьми работают. Товарищ мой мечтал заселить всю деревню друзьями и даже малознакомыми. Хлопотал, проводил агитацию. Привозил даже граждан государств потенциально враждебных. Те граждане и гражданки испуганно озирались. Осваивать «дикий север» никак не хотели. Боялись «органов», т.к. разрешения на такие поездки у них не было. Тогда с этим строго было. Дошли до того, что пошел по окрестностям слух о подрывной деятельности гостеприимного селянина. Добавило перцу, что слушал он BBC на английском языке. Включал приемник громко, деревня слышала речь иностранную. Местные стали волноваться, что товарищ мой напрямую с теми общается, передает: указывали почему-то на небо. Кончилось тем, что приехал из райцентра разъяренный участковый. Понимал, что глупость, но на сигнал надо реагировать. Вот и приехал за тридевять земель. Обошел всю избу, накричал на «шпиона», забрал для чего-то паспорт и отбыл. Жил лето товарищ без паспорта, никто, правда, его не спрашивал, на обратном пути в Москву забрал из райотдела. Участковый вернул, обвинений не предъявляли – был несколько смущен: отбирать паспорт не имел права. За самоуправство он от начальства получил нахлобучку, так как москвич по месту рождения оказался французом с острова Олерон. А тут, глядишь, и международным скандалом пахнет! Морока с этими москвичами. Но и с французами не лучше. Мой друг надумал посетить свою родину, где провел детство. Родственники сказали: надо повременить, есть загвоздка: он числится дезертиром и его разыскивает полиция, при пересечении границы могут и арестовать. Пришлось оформлять бумаги, что он покинул «la belle France» задолго до призывного возраста. Потом все же посетил. Чтобы не раздражать селян, товарищ звук в приемнике убавил, а коллег своих из стран неведомых приглашать не переставал, но поток жиже стал. Хотя окупилось с лихвой. Одна стала его женой. Запоем читала на сеновале Ходасевича. Дети ее осваивали русский фольклор у пастухов. Товарищ поведал мне особенности американского бракосочетания. В мэрии, где его оформляли, внимательная мэм, изучая бумаги, поинтересовалась: «Он у вас кастрирован?». Невеста в недоумении ответила, что даже очень нет. Оказалось, что жениха приняли за кобеля. При более внимательном изучении документов выяснилось, что жених шел в разделе регистрации собак. Вот тебе и Америка, вот тебе и Европа: то в кобели определили, то – в дезертиры! «Я волком бы выгрыз бюрократизм!» – как же, кто его выгрызет! Он сам, кого хочешь, загрызет. Приехав в деревню с новой американской женой, мой друг был неузнаваем. Выбрит, чисто вымыт, модно одет: куртенка, джинсы – пропал человек. Никогда в деревне таким я его не видел. Как женщина меняет! Диво дивное. На следующий день от сердца отлегло. Он снова был в рваном ватнике, кирзовых сапогах, заросший, всклокоченный – с пилой. Рядом шла заморская жена в рва- 159 ном ватнике, резиновых сапогах – с топором. Наша взяла! Шли обучать американку пилить бревно двуручной пилой – пилили резво, только звон стоял, ученица оказалась способная. В краткий период расцвета наша деревня расширялась за счет поселян. Покупались и осваивались брошенные дома, процесс возрождения радовал всех: бабушки не оставались одни; а лихие люди обеспечивали себя продуктами на зиму, освобождая погреба москвичей от съестного, да и вообще от всего, что приглянулось в доме. Вожак наш бросил клич: заселяйте, приглашайте всех. Места много, дома пока еще стоят. Как-то вижу: тащит на спине огромный металлический сейф. Оказалось для ружья, по новым законам. Появилось оружие. С истфаковцами и сыновьями мог выставить с десяток штыков, в случае чего занять круговую оборону. Но переселенцы народ мирный, в Афган не играли. Я поддержал клич товарища. Привез свою крестницу для поправления здоровья, исцеления от депрессии, восстановления сил от изнурительной работы над диссертацией, успокоения нервов, отпаивания молоком коровы тёти Маши, купанием с продолжительными заплывами на реке. Крестница не смогла сразу включиться в бурный процесс восстановления сил – заболела. Начинался процесс акклиматизации, перехода на другой трудовой режим. Крестнице становилось худо. Температура, не ест, мутит. Говорит слабым голосом: «Где я?». Ругаю себя, не знаю, что делать. Слава Богу, есть врач – отоларинголог, но какая разница, опыт огромный. Обеспокоенный, бегу в соседнюю деревню, приглашаю. Поспешаем вместе. Врач входит в избу гневно ее оглядывает: «Окна все открыть! Где корвалол? Капайте 30 капель!». Подходит к крестнице трогает пульс, лоб и – решительный диагноз: не сдохнет! Корвалол отменяется, и вообще никаких лекарств. Болезнь откинута, как блажь, и переходим на более злободневную тему: грибы – где лучше собирать, как лучше сушить: в печке или на воздухе. Крестница оживает на глазах, подает голос, крепнет. На следующий день грибы ставят ее на ноги. Приходит с добычей – хватит на жарку, все грибы благородные. К вечеру отправляется в гости к врачу, к которой почувствовала непреодолимую симпатию. Собственная мама – медик, зов крови. Темнеет, одиннадцатый час. Не город всё-таки, дорога три километра вдоль леса, водятся медведи и волки. Нервничаю, ответственность перед родителями. А тут ещё пальба, не знаем, откуда палят, но ясно, что в деревне. Беру фонарь, надо встречать – что-то неладно. Дверь открывается, входит веселая крестница – под мухой. Пальбу не заметила. Посидели с медиком хорошо: попробовала разведенный спирт, здоровье наладилось. На следующий день узнаю, что опять был Афган, на этот раз с последствиями. Племянник прострелил дядюшке (однорукому) ухо и слегка оцарапал шею. Все были в изрядном подпитии, спор был о судьбах России. Свято место пусто не бывает: весь научный потенциал крестницы-исследователя, увлеченность темой – за отсутствием таковой под рукой! – перекинулись на грибы. От них стало некуда деваться. Крестница по два-три раза в день как лось обегала перелески, приносила их в корзинах и авоськах. Удивляла деревенских жителей невиданным напором. Снискала уважение, как добытчица. В летнюю жару приходилось протапливать огромную печь, чтобы сушить на противнях. Она эти противни собирала в брошенных домах, мыла и загружала грибами, подложив сено, чтобы не липли, не горели. Крестница победоносно притаскивала корзины. Обработка грибов затягивалась до глубокой ночи. Иногда помогала нам Рената, добрый друг и целитель. Заполнив противнями печь, я в изнеможении падал на топчан, засыпая под мерное помешивание ложкой манной каши в кастрюле: ребенок не мог спать без каши, варка начиналась обычно в один-два часа ночи. Порой под эти же звуки я просыпался где-нибудь в одиннадцатом часу. Каша ночная переходила в кашу утреннюю, дневную: ребенок не мог начинать день без каши. Я угорал у печки от жары, ребенок зяб. Залезала спать на печь и как матерая бабка зарывалась в тряпье. Называлось это «сон Каштанки». На следующий день всё повторялось. Грибы, как назло, перли из-под каждого куста и кочки. Конца им не было! Конкуренции никакой. Сушили и раскладывали по мешочкам. Прошло более десяти лет, но сейчас еще едим мы эти грибы. Самое лучшее – сушить в русской печи. Ничего вредного после этой сушки не заводится. Когда-то великий классик изумлялся своей героине: юная графинюшка делает выход и легко танцует народный танец, всем на удивление. Откуда, спрашиваем? Не было тогда понятия гены, генетика. А оно всё оттуда же от генов, графья не с неба свалились, предки мужиками и бабами когда-то были. Вот так же удивлялся и я. Как быстро моя крестница исцелилась от городской хвори! Надевала старый ватник, резиновые сапоги. Подвязывала деревенский шерстяной платок. Брала в руки палку. Ну чем не преображенная графинюшка! Какая-нибудь деревенская Дуняша и всё тут. «Их сиятельство в ссылке». 160 Эти задатки у крестницы проявились в раннем детстве, ее всегда тянуло к народному. Любимая кукла была «персидкой» – персонаж знаменитой песни «Из-за острова на стрежень». Как в каждом интеллигентном московском доме, у них был набор пластинок Шаляпина. Из десятков исполненных великим певцом песен и арий ребенок выбрал Стеньку Разина. Была куплена еще пластинка с этой песней в исполнении Штоколова. Предпочтение отдавалось все же Шаляпину. За хорошее поведение и прилежание крестнице ставили пластинку, как бы на десерт. Иногда разнообразили Штоколовым. Любимые куплеты были: Чтобы не было раздора Между вольными людьми, Волга, Волга, мать родная, На, красавицу прими! Мощным взмахом поднимает Он красавицу-княжну И за борт ее бросает В набежавшую волну! Ребенок отождествлял себя с народным героем и с этими словами – за неимением реки Волги – выбрасывал «персидку» в форточку. Предусмотрительная бабушка привязала на этот случай куклу за ногу к оконной раме – манипуляции можно было повторять бесконечно. В этом конфликте «вольных людей» и Стеньки бабушка была на стороне внучки. Стенька осерчал, что его объявили «бабой», доказал, что – нет: утопил. Дом был сталинской высоткой, так что можно только гадать, что бы осталось от «персидки», если бы не находчивость бабушки. Дух Стеньки Разина еще долго витал в доме. И скажите, что это, как не гены – а иначе как бы ему «витать» в сталинской высотке у Красных ворот. Крестница дружила с местными, увлекалась грибами, интересовалась удоем (была основным покупателем), вникала в ненормативную лексику тети Маши. Иногда делала «выход» руки в боки, два притопа три прихлопа по избе, если в приемнике была музыка народная, что редко бывает. Заучившийся хилый ребенок превращался в ядреную деревенскую девку. Румяную, молоком отпоенную, кашей вскормленную, собиранием грибов и ягод вдохновленную. Эти лечебные процедуры были повторены на следующий год. Ребенка еле довезли. Результат опять был на лицо, восстановление сил состоялось, кризис миновал. И, слава Богу, больше не повторялся. Научные книги, привозимые «для учебы», никогда не открывались – в этом их польза. Ребенок стал известным полонистом и переживает напряженные отношения с ляхами в XIX веке. Ищет причины, обоснования. Как будто в другие времена отношения были лучше! Любит Александра I, не любит Николая I, хотя ее предок был духовником государя. Ощущает свою виновность перед Павлом I, так как другой предок участвовал в заговоре против царя: держал за руки императрицу, не пускал в спальню, где разыгрывалась драма. В общем, с наукой всё в порядке. А сомнения «Дуняши деревенской» остались. Но и к лучшему: не сомневается только дурак. Грибной раж сменялся ягодным – брусничным. Надо было переправляться через реку, углубляться в лес, где делянки были покрыты целым ковром ягод – набирали ведрами. Заслышав посторонние голоса, воровато озирались: боялись упустить добычу. Один раз мне пришлось разыграть роль медведя, спасая нашу делянку. С реки приближались голоса и нахальный лай собачонки, из общего гама выделялся боевой клич тети Маши. В общем, пропал сбор. Я вышел на поляну и заревел медведем. Звуки смолкли, возобновились, но тише. Заревел мощнее, грозно. Смолкла и собака. Всё затихло. Потом говорили, что надо быть осторожнее: в лесу медведь. Мне было совестно. Как побороть алчность? Товарищ мой возрождение деревни начал с покупки трактора и моторной лодки. Трактор лимонного цвета был в тропическом исполнении, чтобы удобнее маневрировать среди пальм и сахарного тростника. Его пригодность для наших северных дорог мы проверили на собственной шкуре. Загрузив в прицеп свои вещи, сами туда определились. Знакомый инспектор-охотовед взялся доставить нас в деревню. Ехали легко, с ветерком. И правда, как будто кругом пальмы, а не ёлки. Увлекся, поддал газу. Прицеп подпрыгнул, перевернулся, а нас выкинуло в лес, вещи на дорогу. Подо мной голова друга, сам лежит спокойно. Водила – бледный, с отвисшей челюстью. Ничего – друг просто пережидал ситуацию. Преимущество лесных дорог: рядом не камни, а мягкие кочки, поросшие мхом, захочешь – не ушибешься, кочки как подушки. В деревне трактор простаивал, работы не было, иногда катали детей. Обзорные экскурсии устраивал американской жене. Потом отдали в аренду охотоведу за несколько мешков картошки – аренда перешла в вечное пользование. 161 Другой символ возрождения – моторка. Оказалась металлическая, тяжелая огромная лодкакатер с хилым игрушечным мотором. Еле тянула по течению, против течения упрямо стояла на месте. Надо было помогать веслами. Так ехать можно целый день, и неизвестно доедем ли. Галеры какие-то, а не моторка. Как-то раз товарищ мой ночевал на берегу – не добрался засветло. Вляпался и я с этой моторкой. Ехал из Москвы, нагрузившись, зная, что меня встретят, и доберемся с ветерком. Спускаюсь к берегу – правда, стоит, и капитан помахивает прутиком. Загрузились, хилый мотор еле тянет. Потом вообще заглох. Хорошо, были веревки – впряглись бурлаками. Тянули по неровному берегу, проваливаясь в ямы. Местами шли по пояс в воде. Для разрядки устроили поединок веслами: кто ловчее огреет по спинозе. Как назло, мимо проходил леспромхозовский катер. Уважаемые лесорубы высыпали на палубу, озадаченно смотрели. Потом говорили: «Академики шалят!». Как-то один дровосек злобно косился на меня, повторяя: «Академики, а березу от осины отличить не могут!». Я имел бороду – явный академик. Академиков в народе не любят – они богатые! В подтверждение зарисовка из далекого детства: в ГУМе когда-то был продуктовый отдел, посреди него под стеклом на постаменте – шоколадная курица огромных размеров. Я ходил ее смотреть, то есть лакомился вприглядку. Рядом стояли две молочницы в телогрейках, с бидонами за спинами и с кружками в карманах. Смотрели во все глаза и монотонно повторяли: «Ну и курица! Всем курицам курица! У нее одна только жопа килограмм весит. Да кто ж ее купит? Разве только академики, лурияты, а больше некому!». Потом курица исчезла, наверно, «лурияты» с академиками сложились, купили. Вернемся к моторке. С нею проблема тоже была решена кардинально: унесло весенним паводком, и больше она не мозолила глаза. Прибило внизу к берегу. Местные ее не брали, знали, что есть хозяин. Товарищ, когда проезжал мимо, делал вид, что не замечает. Потом кому-то ее отдал. Подъемник построен не был. Из-за дырявых крыш дома гнили и разрушались. Интуристов калачом не заманишь. Отечественный гость помогал только в потреблении спирта. Пятилетка явно пробуксовывала. У американки начинался семестр в университете, где она преподавала – семестр явно грозил разводом: он состоялся согласно учебному расписанию. Американка отбыла со своими детьми – писать очередную книгу о русском терроризме, в коем была большая дока. Как накликала нам эту напасть. Говорят же: не будите спящую собаку. Теперь его завались, этого материала о современном терроризме, по всему миру некуда деваться от этой пакости. Бога забыли. «Возлюбите ближнего как самого себя!». Товарищ мой вернулся к одинокому деревенскому житию, порой в ночной тишине раздавались печальные аккорды. Когда-то он учился у Станислава Нейгауза, талантливого пианиста, рано умершего – сына того самого, знаменитого Генриха Нейгауза. Я запомнил его на каком-то концерте. Молодое застенчивое вдохновенное лицо с шапкой седых волос. Куда вы все уходите, люди? Вас так не хватает! Еще зиму прожил мой друг в занесенной снегом избе, питаясь окаменевшей кукурузой, брошенной на колхозном току. Распаривал и ел. Мешка хватило до весны. Сам добрейшей души, лишенный всякой корысти. По гороскопу лев, а у этих людей деньги жгут карман. Тратят и раздают сразу. Приезжаем с одинаковой суммой: я живу весь отпуск, у него на следующий день ничего нет. Не знает, куда девались. Был он островитянин по рождению, а это особые люди, всю жизнь 162 живут, как на острове сами по себе. Деревня стала для него таким островом в море житейском. Пробовал начинать всё с начала: уезжал с геологическими экспедициями; защищал диссертацию в Бостонском университете; переводил на английский бред советских журналов о загнивании Запада, его затяжном кризисе. Потом всё бросал и снова в деревню. Жены, дети – все сыновья. Его любили, он всех любил. Я спрашивал, зачем столько детей? И он как-то виновато повторял: ну, ведь надо оставить, надо оставить. Как будто чувствовал, что век его недолог. Наверное, прав. У его детей – уже свои дети. Помню его в первый день занятий еще в старом здании МГУ. Одинокая фигура в потертом пиджаке и со старым портфелем. Закончивший американскую школу, он получил выговор за плохое знание английского языка – это был его второй язык после русского. Промолчал. Почемуто подошел ко мне и пригласил в гости, сказал, что у них много интересных книг. Добирался я занесенными снегом пустырями, через новостройки. Семья оказалась совершенно необычной. Мать его, Ариадна Викторовна – любимица Марины Цветаевой, подруга ее дочери – тоже Ариадны. Сохранилась фотография: Эфрон, муж Марины Цветаевой, с двумя Ариаднами. Отец Ариадны Викторовны – Чернов, лидер эсеров. Дочка запомнилась чекистам как уникальный ребенок: после разгона учредительного собрания отец был в бегах, их с матерью взяли на Лубянку: какбы в залог. Оставили в неизвестности, время идет, никого нет. Наконец пришло начальство. Ребенок спросил: «Скажите, мы в тюрьме?». «Да!» – был ответ. «Тогда дайте нам обед. Мы хотим есть!» – начальство растерялось, обед был подан. Вскоре их выпустили. Времена были еще сравнительно либеральные. Один раз она даже сидела на коленях у Ильича и он ее за что-то журил. Отец нового друга – Владимир Брониславич Сосинский – был гусаром, героем гражданской войны, с той – белой – стороны. Брал со своей сотней Перекоп, но за неимением поддержки вернул сотню обратно, наделав в красном тылу переполох немалый. Главнокомандующий генерал Врангель наградил его орденом Николая Чудотворца. В эмиграции у Владимира Сосинского раскрылся талант писателя, но не был развит: надо было кормить семью, искать работу, бороться за выживание на чужбине. Он подружился с Ремизовым, Гайто Газдановым, Вадимом Андреевым, Мариной Цветаевой. Однажды вызвал на дуэль оскорбившего Марину Цветаеву хама. После публичного извинения виновного дуэль не состоялась. Но от Цветаевой был получен в благодарность перстень на память. Потом он встретил замечательную женщину, будущую мать моего друга – Сергея Сосинского. Во время войны Владимир Брониславич воевал в составе французской армии, после плена семья перебралась на остров Олерон, где помогала переправлять бежавших советских военнопленных к партизанам, была участником движения Сопротивления, в основании коего, как известно, были русские эмигранты. За боевые заслуги и участие в движении Сопротивления Владимир Сосинский награжден высоким орденом и медалями. После войны Сосинский сменил много профессий. Стесненное материальное положение вынудило их уехать в Америку. Там Владимир Брониславич работал в ООН: возглавлял отдел стенографии. Неоднократно делал запросы на получение гражданства в СССР, наконец, получив гражданство, семья вернулась на историческую Родину. Одной из причин было дать сыновьям образование, что и было успешно завершено. Старший стал математиком, мой друг историком – единственный, у кого после окончания университета дипломная работа стала книгой: «Акция Аргонавт», о Крымской конференции. Я ходил в этот гостеприимный дом, в котором всегда бывало много интересных людей: поэтов, писателей, ветеранов-солдат, спасенных Сосинскими на Олероне. Солдаты отсидели уже положенный срок в советских лагерях, откуда бежать было некуда. В доме были книги, написанные славянской вязью рукой Ремизова; сборники стихов, подаренные М. Цветаевой, другими эмигрантскими писателями и поэтами, на многих стояли авторские надписи Сосинским. В квартире толкались молодые художники-авангардисты. Искусствовед Зильберштейн кричал, что Модильяни вышел из потрета Иды Рубинштейн работы Серова. Каким образом? Миллионер, всемирно известный швейцарский издатель Альберт Скира пил, не просыхая, армянский коньяк «три звездочки». Говорил, что это самый лучший в мире, именно три, а французский просто дерьмо. Все восхищались книгами Скира, в ответ он обещал издать монографии по русской живописи. Грозился издать и по советской. Всё это его красавица жена-итальянка, дочь всемирно известного искусствоведа Лионелло Вентури4, называла «Скироманией» и спешила этот исторический ви- 4 Вентури Лионелло (Venturi) (1885-1961), итальянский историк искусства, художественный критик. Труды по истории искусства и искусствознания сочетают яркость характеристик с апологией «абсолютной свободы самовыражения» художника. 163 зит побыстрее завершить: полиграфическое светило спивалось на глазах. В доме Дружбы народов состоялась выставка его изданий, почти всю сразу разворовали, чему Скира был искренне рад: народ знает, что тащить, дрянь не возьмет. С закрытием выставки отбыл и Скира с чемоданом трехзвездочного коньяка, взяв обещание с хозяев по мере надобности пересылать ему бутылки этого нектара. Грандиозный проект захирел. Гора родила мышь. Скира прислал секретаря – американца, говорившего по-русски, по виду и поведению – совершенно затюканного русского интеллигента: если он пять минут беседовал с дамой-искусствоведом или художницей (с другими не общался), то говорил, что ухаживал, и она находилась в опасности. В Третьяковке его напугал Иван Грозный с выпученными глазами, убивающий сына. Он даже его изображал, откидывался в кресле и таращил глаза, было похоже, но не страшно, а смешно. Немая сцена повторялась на бис. Остальные художники тоже не вызвали доверия, советских посчитал хулиганами. Решил познакомиться с авангардистами. Для этого мы все вместе поехали в поселок Прилуки на Оку, где была их колония. Когда подъезжали к поселку, нас перехватил старичок с седенькой бородкой в шортах – наряд, невиданный в те времена. Он попросил нас познакомиться с его произведениями. Со стеллажей снимались холсты с комментарием автора: «Это портрет Марины Цветаевой» – портрет был матрасом в цветные полоски. Владимир Брониславич смотрел внимательно: «Да, но Мариночка была более оптимистичной!». Секретарь кивал головой: «Да-да, очень интересно!». И так в продолжение получаса просмотрел более десятка портретов-матрасов. Мы сидели, ошарашенные новацией. Секретарь монотонно повторял: «Интересно, очень интересно!», благодарил. Наконец, пришли гонцы от колонистов, чтобы смотреть их работы – о нашем приезде узнали. Матрасных дел мастер отпустил неохотно. Я спросил секретаря: «Неужели это все интересно?!» – «Да дрянь, конечно. Но дрянь ведь тоже может быть интересной». Глубоко копал посланец. Новые барбизонцы – прилукинцы – жили своим миром, писали друг о друге статьи, присылали отзывы. У одного на холсте были игральные карты, у другого славянская вязь с отпечатанной подошвой башмака, у третьего улицы из буханок хлеба и поллитровок с затерявшимися в глубине деревеньками. Автор смотрел в будущее, «авангард» состоялся. Жены художников говорили, что эти вещи должны висеть в Лувре. Мужья – что надо быть скромнее, хватит и д`Орсэ. Мы помалкивали, секретарь кивал головой, повторял: «Интересно, интересно» – кажется искренне. На прощание купил холстик с изображением игральных карт. «Авангардисты», гонимые Советской властью, были весьма вальяжны, а иногда хамоваты. Мне они не понравились. Один только с поллитровками, буханками, селедками на газете и мастерски написанными русскими деревеньками, занесенными снегом (моя слабость и любовь), затерявшимися среди закусок, показался мне человеком тонким, интеллигентным, замечательным живописцем настроения и грусти – Оскар Рабин. Теперь это всё классики. До Лувра вроде не добрались, но в музеях и частных коллекциях осели прочно. А «гонения» пошли им на пользу: делали хорошую рекламу. Пиар, как теперь говорят. Они сами и провоцировали. Мой друг работал тогда в каком-то институте международного рабочего движения (каких только не было!). Рекомендовал директору и месткому устроить их выставку в фойе. Очень современно, в духе новых веяний. Никакой политики, свои люди. Выставку открыли. Публика ходит, смотрит – все чинно, тихо. Авторы разочарованно слоняются, недовольно оглядываются. Реакция – как на любой выставке. Вдруг – корреспонденты иностранные, журналисты, телекамеры, интервью художников, оживление в зале, испуганный директор, разгневанный парторг. Выставку закрыли! Успех налицо. Вечером сообщения по Би Би Си, Голосу Америки. Художники довольны. Друга с работы выгнали. Пострадал за «авангард», никто спасибо не сказал. Русский проект «Скиромании» все же состоялся, но в усеченном варианте. Вышла книга небольшая, прошедшая незаметно – о древнерусском искусстве: немножко иконы, немножко церкви. Архитектуру снимал я, своим стареньким «Любителем». Фотографии вошли в книгу, удачная одна: вид на Ростовский кремль с озера Нерль. Я взял с пристани чью-то лодку, отплыл и снял панораму. Кремль отражался в воде как дворец какого-нибудь царя Салтана, заслуга не моя – воды. К сожалению, семья моего друга была очень доверчива и открыта. Наряду с людьми интересными заглядывали явные проходимцы, книги воровали, многие с уникальными автографами. Некоторые из книг хозяева пытались выкупить, иногда удавалось, но уже без страниц с автографом. Отец сам был добрым, открытым человеком, всех воспринимал такими же. Как-то объезжая Владимирскую область на предмет изучения ее архитектурных памятников, мы к ночи прочно застряли в грязи. У проходивших селян спрашивали, где мы? Они все в ответ: кино было, кино было. Мы им: не надо нам кино, мы не хотим в кино, мы не были в кино. Они опять: кино было. Оказывается, село называлось Кинобыл. В этом Кинобыле нас тут же за164 брала к себе деревенская семья, сытно накормила, напоила чаем. Молодых уложили на печку, а родителей на пуховые кровати. Чтобы не скучно было, телевизор включили пошибче, поискали, что поинтереснее. Дело было в ноябре, мы устали и промерзли, уснули замертво. Утром накормили, привели парня тракториста и он, подцепив машину к трактору, протащил до шоссе. Потом эти добрые люди приезжали в Москву, их с радостью принимали Сосинские. Дети отдыхали на каникулах. Девочка какое-то время жила в семье: куда-то поступала. Владимир Брониславич еще долго переписывался с селянами, поздравлял с праздниками: он был одарен художественно, и его поздравления-виньетки получались маленькими шедеврами. Лучшей визитной карточкой для гостя было обругать, покритиковать существующий режим, его злоупотребления. Этим и пользовались самозваные поэты, подозрительные художники, разные пройдохи. Один раз я случайно оказался в гостях у диссидента, уверявшего, что он из дворян. К своей вполне плебейской фамилии он на французский манер сделал приставку «де», т. е. де Иванов, де Петров и т. д. – просто мушкетеры какие-то! Дворянин интересовался искусством. На столе была гора книг. Водка, стаканы, закуска, разношерстная компания диссидентов, уехавших потом в Америку. Я обратил внимание на прекрасные альбомы Альбера Скира, раскрыл – везде экслибрис семейной библиотеки Сосинских. Откуда у Вас, спрашиваю, эти книги? Да не поймешь, что за история, говорит. Пошел в сберкассу за квартиру платить, там народу полно – одно окошко работает, очередь – не протолкнешься. Стал Советскую власть ругать, старик какой-то подошел, радостный, поддержал. Стал спрашивать, кто я да что. Узнал, что искусствовед, тему ищу. Взял адрес, теперь вот книги присылает. Не знаю, вернулись ли те книги Сосинским. На моей памяти исчезли все: супруга умерла, вдовец переехал на другую квартиру – работал над мемуарами. Двери квартиры всегда были раскрыты настежь, людской поток не иссякал – иссякали книги. На кухне висел портрет Ленина и под ним подпись: «Благодаря этому человеку я прожил 40 счастливых лет» – имелась в виду эмиграция. Во времена гонения на Солженицына я подарил ему фотографию писателя, он оформил ее в раму и повесил в гостиной. Под этим портретом хозяин любил сниматься с пионерами и комсомольцами: делегации эти часто заглядывали к ветерану французского Сопротивления. Бывали и студенты – собирали материалы для своих дипломных работ. Никто не знал, кто этот бородатый человек на фотографии. Лишь при верстке наступала паника. Редакцию «Пионерской правды» после таких визитов лихорадило. Один такой снимок попал на страницы газеты, но он был темный и мутный, решили – портрет Достоевского. Обошлось. Однажды я увидел ветерана по телевизору – на поле Бородинском, в очередную годовщину. Показали его во весь экран, радостно улыбающегося среди любимой им молодежи – на груди французские ордена и медали: представлял как бы две армии, примиренные в одном герое. Столкнулся как-то с ним у Новодевичьего монастыря – встал во фрунт, откозырял: «Salut, mon général!». Веселый, помолодевший, с той же колодкой орденов, Сосинский откозырял в ответ. Шел на метро, после встречи с читателями в районной библиотеке. Жил только с людьми и для людей. В нем была гвардейская, офицерская стать до самых преклонных лет. Всеми любим. В связи с этим хочу добавить и возразить наветам, которые пришлось прочесть и услышать. Совершенно незаслуженные! Один советский классик, которого Владимир Брониславич обожал и считал другом в своем дневнике, который отдал в печать, среди прочей ругани написал: «старику ничего не светит» – отблагодарил за дружбу в лучших советских традициях. Дневник любопытен нескончаемой желчью и злобой. Доставалось всем, кого приглашал в гости на «задушевные» беседы. Своеобразное гостеприимство. Другой раз по телевизору слушаю интервью с неким французским специалистом по истории русской зарубежной интеллигенции (!). Безапелляционно заявляет: «Вот Сосинские вернулись, но ведь они никому здесь были не нужны». Откуда он знает? Я свидетель, что все было с точностью до наоборот. С 1962 года мне часто приходилось бывать в этом гостеприимном доме. Всегда он был полон интересными, талантливыми людьми, от русских солдат-партизан «маки» до знаменитых поэтов, писателей, художников, артистов, имена которых теперь – легенда. Сам Владимир Брониславич был нарасхват, его приглашали с лекциями-воспоминаниями в библиотеки, институты, творческие дома, клубы, дома культуры и т.д. Он всегда был востребован. Умел дружить с открытым сердцем, а это так редко встречается. Друг мой унаследовал эту открытость, общительность. Дома своего так и не заимел, только в деревне. Вагончик-бомжатник приобрел в Америке, когда надумал там пожить с новой женой. Мы всё смотрим фильмы, восторгаясь, какие люди в Голливуде – как славно живут в Америке. А он жил там без электричества, никаких удобств. Вокруг мрачные шведы за глухими заборами, дикие лошади. Долго не протянул: несмотря на защиту диссертации, ра165 боты в университете не было. Взяли в экзаменационную комиссию, принимать экзамены у русистов. Роздал билеты с вопросами, получил ответы: Чехов – чекист, Колчак – поэт, Гоголь – меньшевик и все остальное в том же духе. Поставил двойки. Срочно вызвали к ректору – наорал, тут же рассчитал. Им студенты нужны, а не знания: «Они платят за учебу. Вы что с ума сошли?!». Прислали аспиранта, экзамены принял. Студенты прошли успешно. Друг стал развозить по утрам замороженные пироги. Как-то в пути задержался – была поломка, пироги разморозились, заказчик в ярости, уволили. Потом строил дома из прессованной пластмассы под дерево. Собирался такой дом в один день. Не дай Бог сильный ветер, развалится еще быстрее. Спускают в туалете воду, весь дом ходуном ходит. Да и вообще, в Америке по стенам стучишь – все пустые, невзначай ткнешь где-нибудь – дырка. Сам проверял, обошлось, правда, без дырок. Но не буду ругать, страна мне понравилась, люди еще больше. Приветливые и отзывчивые, всегда помогут. Но друг мой затосковал в американском бомжатнике. О «серости и ограниченности» американцев – еще пример из жизни друга. Как-то сидит в своей глухомани, в пабе пиво пьет. Вокруг фермеры, ковбои. Один узнал, что друг из России, подошел, стесняясь, знакомиться. Фермер живет далеко на отшибе, приехал развеяться, побыть среди людей. Настойчиво стал приглашать в гости. Вам интересно, говорит, будет. Друг отправился. На машине долго ехали. Дом в степи, вокруг кукуруза. В доме подводит к книжным полкам, на них Толстой, Чехов, Достоевский. В переводе, естественно. Все читал. Вот тебе и Дикий Запад! Оказался большой любитель русской литературы. Я мог бы привести много примеров любознательности, интеллигентности американцев, чему сам был свидетелем, но это отдельная тема. Сергей Сосинский, вернулся в Россию и больше уже никуда не выезжал. Деревню, правда, нашу забросил – купил дом в Сусанинском районе той же Костромской области. Вместо пианино завел фисгармонию, на ней по вечерам гудел тоскливо оргáном. Прикупил кур, лошадь, козу, собаку Понтика, а Мурзика я другу впарил, так как у меня он все загадил и исцарапал: для вида садился на горшок, а исподтишка пакостил в кровать. В деревне он умудрился исцарапать морду Понтику, когда ротвейлер был еще щенком – потом вырос в грозного пса размером с теленка. Мурзик слинял. Его встречали в соседней деревне – делал вид, что не узнает. Деревня называлась Козино, Сергей зажил там барином. Дом большой, городского типа, с мезонином. Комнаты просторные, потолки высокие. Во всей деревне только одни соседи – Затеевы. Полностью отвечали своей фамилии: все время что-нибудь затевали – то с треском гоняли на самодельном снегоходе, то обучали малышей езде на лошади, потом осваивали караоке. Доконали многодневным сжиганием изоляции километрового толстого кабеля, который вырыли на территории брошенной военной базы. В кабеле была медь, ее планировалось сдать в пункт приема цветных металлов. Эти пункты рассеяны по всей стране, в любом захолустье – большое подспорье населению. Особо ретивые добытчики оставляют деревни без света, сдирая электропровода. Принимают все, лишь бы металл был цветной – даже надгробия! От этого «красного петуха» вонь стояла пронзительная, весь горизонт заволокло густым дымом. Сами Затеевы были как кочегары – черны от копоти. Но бизнес есть бизнес, надо идти на жертвы. Металл был сдан, гулянка состоялась – с песнями и ездой по деревне на какой-то таратайке с прицепом, где сидели ликующие дети. Затеевы были не лишены интеллигентности. Я решил написать их внучку, девочку лет двенадцати. Она добросовестно позировала в саду. Получилась тетя лет 35 в белом платочке – с поджатыми губами и выражением «Не замай! Я сама по себе!». На следующий день там же в саду писал отрока. Вдруг идет целая делегация Затеевых разных поколений: «Покажите нам портрет Оли!». Мои работы были расставлены в избе, отослал визитеров на просмотр. Пишу отрока, в избе полное молчание и долгое отсутствие. Что бы это могло быть? Но вот выходит вся большая семья в некотором смущении, стараются прошмыгнуть мимо. Мать девочки: «Пейзажи ваши нам понравились, но портрет мы не поняли!» – скажите, всякий ли искусствовед способен так деликатно выразиться, чтобы не обидеть художника? Я лично не встречал. Вот тебе и Затеевы. А сколько их по всей Руси! Могу проиллюстрировать еще несколькими примерами деликатность «простого» русского человека. Давно, эдак во времена цветущего застоя, сижу – пишу заброшенное кладбище и церковь, опять же порушенную. Место называется Цыпина гора – около Ферапонтова Вологодской области. Всегда любил писать Север: цвета насыщенные, воздух ядреный, звенит. Небо яркосинее, озорное: то изнемогаешь от жары, то обдает холодным душем – тучка прошла, потом опять не знаешь, куда спрятаться от солнца. Пока пишешь, промочит тебя раз пять. А уж закаты – таких нет нигде. 166 В такой ясный денек пишу, вокруг никого. Ферапонтово далековато, деревень рядом нет, все же кладбище. Деревенские – не городские, на кладбищах не селятся. Пишу, сзади кто-то шуршит и покашливает. Оборачиваюсь: местный житель, инвалид на костылях. Сапоги и защитные брюки перепачканы глиной, картуз, линялая гимнастерка, простое русское лицо. Можно, говорит, посмотреть? Я рад компании, хоть живого человека увидел. Спрашивает: откуда, что больше любите – портреты или пейзажи? Я жирным голосом со значением что-то вякаю – вроде как снизошел, словом: «Здравствуй, мой добрый народ!» Инвалид внимательно слушает – и вопрос: «А как вы относитесь к Ван Гогу?». Я опешил: глухомань! Тогда асфальтовой дороги не было в эти места. Когда-то патриарха Никона сослали в Ферапонтов монастырь, он жаловался, что игумен напускает ему в келию чертей через замочную скважину. А тут – Ван Гог! Я сказал, что это мой любимый художник, и что недавно была в Москве большая его выставка. «А как вам Ренуар?» – другой вопрос. Потом перешел на русских художниковпередвижников, которых хорошо знал. Я в недоумении: кто он? Спрашиваю, какой он профессии? Оказалось – печник. Сам из этих мест, кладет по деревням печи. «Откуда вы все знаете?» – не удержался я. «Хожу в местную библиотеку, в «Огоньках» читаю». Тогда в популярном журнале всегда были цветные вкладки с произведениями художника, о котором была искусствоведческая статья, написанная увлекательно, доступным языком. Журнал распространялся по всем городам и весям вплоть до Чукотки. Вот так сеяли разумное, доброе, вечное. Нехитрый способ, было бы желание. Мы еще поговорили с печником, он прекрасно ориентировался в истории русской и зарубежной живописи. Был поистине интеллигентен, знал хорошо литературу. «Ну, не буду вам мешать, до свидания!» – пошел в сторону Ферапонтова. Мне стало грустно. Сколько бездельников, халтурщиков учатся в университетах, институтах, им открыты все дороги, потому что родились в городе. А тут явно умный, одаренный человек, а все пути к образованию закрыты. Его художественная натура проявилась в доступной для села профессии печника. Сложить печь правильно, изящно – тоже искусство. Это своего рода архитектура – ведь каких только «русских печей» не бывает: с полочками, пещерками, вмазанным зеркальцем, с фигурной кладкой кирпича. В печи можно приготовить еду, испечь пироги, высушить грибы, истомить молоко, кашу, картошку и, наконец, помыться, прогрев все косточки! Словом, не печь, а благодетельница и спасительница в долгие суровые зимы. Хвала вам и слава, печники! Настоящая русская печь уходит в прошлое, а жаль – она ведь и лечит. А вот еще зарисовки о «дикости» русской деревни. Ничего не выдумано, всему сам свидетель. И место конкретное: деревня Овцино Судогодского района Владимирской области. Живу у дядюшки в деревенском доме. Напротив живописно занесенная снегом изба, сугробы, забор, вётлы. Дай, думаю, напишу – идти никуда не надо! Устроился у дороги и приступил. Как нарочно, мальчишки деревенские увидели художника и давай кататься на санях перед носом, гонять мячик клюшкой. Не нахально, а для знакомства. Краснощёкие, глазёнки горят, пышут здоровьем: «Дядя, нарисуйте нас с санками!». Изобразили: одни сидят в вольных позах, двое как бы везут – тянут за веревку. Немая сцена, готовы ждать, пока не нарисую! Я, к сожалению, не могу сразу написать группу, нет сноровки. У многих получается в два-три приема. Объяснил, что мне для этого надо много времени, и вообще я пейзажист, сюжеты не по моей части. Мальчишки поняли, группа ожила и распалась. Один подошел посмотреть, что я пишу и подытожил: «Да, это не «Черный квадрат», это, скорее, импрессионизм!». Я смотрю: деревенский мальчонка лет тринадцати, в телогрейке и валенках, смотрит весело. Что это? Вундеркинд в ссылке?! «Откуда ты это знаешь?» – спрашиваю. «А мама покупает книги, я читаю!». Живут сами во Владимире, но родом все отсюда, деревенские. 167 Приехали на каникулы к дедушкам-бабушкам. Потом помогали мне носить мольберт, этюдник, табуретку. Приходили смотреть работы, проявляли неподдельный интерес. Вот откуда растет новая интеллигенция! Одним словом – «эту песню не задушишь, не убьешь!». В другой раз пошел в лес – приметил просеку, занесенную снегом, с елями и березками по 5 бокам. Красота! Что-то знакомое в просеке… Вспомнил картину Переплётчикова : точно такая же просека, но в центре лошадка, сани, извозчик – держат всю композицию. Вот мне бы так – подумал. И что же? Из-за поворота появляются точно такие же сани с мужичком. Я беспомощно пытаюсь что-то набросать. Сани приблизились, мужик остановил лошадь. «Пишите нас!» – говорит. Я стал мямлить, что быстро не получится это делать, не умею. «А ты наброски делай, научишься!» – огорошил мужик. Я согласился, совет был вполне профессиональный. Поговорили еще немного: откуда, да кто? Поехал дальше. Оказалось, местный лесник. Встретил его потом в деревне – смотрел на меня хитро: «Знай наших!». Откуда он знал про наброски, надо было спросить. Эта деревня не переставала меня удивлять. Как-то писал деревенскую улицу. Мужики столпились, смотрели, одобряли. Когда закончил, один пришел в возбуждение: как же, было пусто – голый холст, и вдруг улица! Всех пригласил в гости – зарежет теленка, устроит пир! Еле отговорили! Я не на шутку испугался за жизнь теленка. Обошлось. Население деревни было очень внимательно к искусству, сочувственно к художнику: как можно сидеть и рисовать на морозе?! Выносили горячего пирожка, приглашали согреться, поесть супа, попить чаю. Я объяснял, что каждая минута дорога – день короткий, я не успею написать! Неохотно соглашались. Как-то идет старенькая бабушка. Морозец, солнышко. Пишу домик-теремок. Бабушка прошла мимо к стогу сена, что стоял у дороги. Надергала охапку сена и с нею ко мне – подсовывает под ноги, чтобы не замерзли. Натолкала сена и так же молча ушла. Местные мужики приносили мне свои рисунки и акварели, весьма недурно выполненные. В местном Доме культуры было что-то вроде музея. Жаль, но мужское население покидало деревню, работа – скотник да тракторист. Потом с развалом колхоза все пошло на самотёк: кто-то разорился, кто-то обогатился. Остались старики. А по земле этой когда-то прошел сам Господь Бог – не в переносном, а в буквальном смысле. В этом твердо были уверены местные жители, подтверждая это старинными названиями церквей: Спас Беседа, Спас Купалище. Я спрашивал, что за названия такие, оказалось: «Шел Господь Бог, устал, присел, побеседовал с народом, в память о том церковь построили. Дальше пошел, искупался в реке, освежился – отсюда Спас Купалище». Река и поныне чистая с холодной водой. Искупался – как заново родился. Теперь церкви возрождаются, много новых открылось. Жизнь началась другая. Народ талантливый не пропадет. Говорят, в капле воды можно увидеть целый океан. Может, и в одной деревне – всю страну. Надо только захотеть. Правда, где они – деревни эти?.. Когда пишешь в городе, зрители часто болтают за спиной, мешают. Кто-нибудь хрюкнет: «Мазня!». Вопросы, в основном: «На продажу или себе? Сколько стоит, продаете? Вы учились или так?». «А вы еврей?» – был даже такой вопросец «продвинутой» хмельной компании. «А почему – еврей?» – спросил. «Ну, ведь все художники евреи!» – это открытие меня порадовало. Что-то меняется в сознании «простого» человека. Совсем другое дело – дети, я им крашу носы, они с готовностью подставляют. В Амстердаме покрасил носы негритятам в красный цвет, их мамы весело хохотали, благодарили кивком головы. Как-то пишу этюд в Кусковском парке. Меня окружили старшеклассники и шумели. Я пригрозил, что выкрашу носы, несколько отроков подставили для окраса, на радость девчонкам. Класс удалился с цветными носами. Поспешно возвращается озабоченный юноша: «А мне покрасьте тоже, пожалуйста!». Я ему прикрепил хороший сочный мазок – «Спасибо большое! Извините!» – и убежал. Кто говорит, что молодежь плохая?! Другой раз опять же в Кусково школьники бегали перед носом, мешали работать. Пристали с вопросом: «А вы известный художник?». Я, чтобы отделаться, сказал: – Да! – А как ваша фамилия? – Левитан. – Тот самый?! Дети с восхищением вытаращили на меня глаза и с благоговением удалились, подтверждая, что имя великого художника – бессмертно. 5 Переплётчиков Василий Васильевич (1863–1918) – русский живописец, пейзажист, график. Работал в традициях поздних передвижников. Развивал в пейзажах национальный, типический мотив русской природы. 168 В деревне – никакой дикости. Пишешь мазню (манера такая), подходят: «Можно посмотреть? А мы узнаем наши места, вон там за лесом клюкву собираем, а тут грибы. Спасибо вам большое, красоту нашу пишете!». Работаю я чаще всего мастихином. Спрашивают: «А вы лопаточкой рисуете? Мы знаем, это самое трудное, у нас таких художников нет!». Приходит пастух посмотреть работы: «Николаич мой луг написал, я здесь коров пасу!». Пейзаж ночной, с луной – все равно узнал! Жизнь наша сделала очередную «загогулину», как образно и мудро выразился очередной колоритный правитель. Разоряли крестьян, загоняли в колхозы. Мурыжили их там десятилетиями, отучая работать на себя. Угробили окончательно частную инициативу. Решили колхозы упразднить, а сноровки уже нет, да и условий земледельцу не создано – выплывай, как знаешь. Молодежь разбежалась, остались старики доживать. Наша деревня «приказала долго жить». С отъездом Маши и Нюры никакого пригляда не было: лезь, куда хочешь, тащи все подряд. У меня все растащили в доме – и даже крышу! У других разломали печи и выдрали полы. Обходными путями мне сообщили, что добро мое сплавляли на плотах с песнями – не затейливо, споро, вниз по течению. Не знаю, принесли ли удачу мои пожитки «Стенькам Разиным», вряд ли – говорят, спились. Тетя Нюра умерла – царство ей небесное, великой труженице. Маша, слава Богу, жива, хотя года тоже берут свое, да и жить ей на новом месте не в радость. Привыкла к реке, просторам, большой кошачьей семье, корову держала. А тут ни коровы, ни кошек. Другую деревню сжег ее житель Витя-быстрые-ножки. Их соседку Шуру сын уговорил уехать к нему в город. Мама Вити умерла, сын очень ее любил, без нее деревня стала не нужна. Чтобы хорошие, крепкие северные дома никому не достались, поджег их – остались от красавицы-деревни одни головешки. Вокруг заросли и мерзость запустения. Недоброе там поселилось. А какая была жизнь! И деревня Козино недолго просуществовала. Казалось бы, складывалось все хорошо. Затеевы с детьми и внуками, с разнообразными затеями. Рядом сосед Веня, вдовец – сам из местных, наезжал летом, зимой жил в городе. Раньше работал на заводе. Человек воспитанный, умный, я бы сказал – культурный. Одна беда – умирали жены, никак не мог понять, почему. Вторая жена пошла полоскать белье на деревенский прудик. Веня пошел попрощаться, поцеловал – был трогательно нежен. Поехал по делам в районный центр. Приехал – дома никого нет, спрашивал у соседей: где? Не знают. Пошел на прудик, а она лежит остывшая на мостках. Похоронил и на всю жизнь загрустил. Ему сватали новую хозяйку, побоялся: а вдруг опять? Когда я приезжал на майские праздники, он горько пил и жаловался: «Алексей Николаевич, не праздники, а одна болезнь!». Смотрит обреченно. Помог бы – а как поможешь? Болезни этой вся Русь подвержена. Иногда с Затеевыми бывали у него схватки, как и положено между соседями – изза клока земли между хозяйствами. Вокруг травы – девать некуда, коси, сколько хочешь. Но крик поднимался из-за межи. Соседи выдергивали из ограды колья, угрожающе размахивали ими, выкрикивали всякие словеса, но до рукоприкладства никогда не доходило. Потом не разговаривали годами. Я останавливался у Вени, это был предельный чистюля, хозяин и вообще благородная душа. Домик был холодный, продуваемый. Зимой натопишь до 30 градусов, утром – 5! Завел Веня свинок, был с ними добр, мой планшет для рисования приспособил под кормушку. Я его искал, нашел в свинарнике – свинки улыбались, весело хрюкали. Вообще ничего не предвещало угасания деревни. Округа как бы ожила. Недалеко конезавод, через поле – сельмаг. Рядом Сусанино – возродилось смекалкой местных жителей: бабы нашили мужикам польские кафтаны, они вооружились самодельными саблями, алебардами. Мужик поздоровей, косая сажень, стал Иваном Сусаниным. Шить ничего не надо было, надел свой овчинный тулуп. Срезал суковатую палку. Маршрут, тропа известны. С холма видно, как Сусанин ведет поляков в болото, а с ними и зрителей – от них по выходным отбою не было. Сусанин приводил басурман к месту их погибели, они почему-то на старорусском наречии вопрошали его: «Ты пошто завел нас, куды?». Действо заканчивалось порубанием народного героя саблями. Потом Сусанин вставал и все шли обратно: на очереди следующая группа. На холме выстроена часовенка, в ней можно поставить свечи. Рядом дерево, на нем сотни белых ленточек – традиция буддийская, никак не православная. Почему прижилась? Все действо трогательное и вполне благообразное, а главное – настоящее, то есть: места былинные, мужики – не ряженые артисты, а потомки еще тех, всамделишных. Я не был разочарован. В Большом театре меня больше обманули – в детстве. Иван Сусанин что-то грозно гудел. Потом выскочил отрок и звонко прокричал: «Добрый конь в поле пал, я пешком добежал!». Отрок был с женским задом и большими грудями. Я тогда ничего не знал о системе Станиславского, но сказал себе: «Не верю!». Дальше в содержание не вникал. Поляки тоже не вызвали доверия. И лес – вместо снега лежала вата клочьми. Товарищ мой, наконец, встретил хорошую женщину и собрался с ней стариться. Она обустроила дом, налаживала хозяйство. Была местным кутюрье – прелестные девушки-костромички 169 демонстрировали ее наряды, в основном на них были купола и кресты. Спонсор был немец преклонных лет, как его занесло в Кострому, никто не знал. Еще у друга живал американец – он тоже стал костромичом. Большой поклонник костромской женской красоты. Свидетельствую – действительно быль. Всегда удивлялся: мужики обычные, как везде, а женский пол очарователен и со вкусом одет. Еще во время моего жития в костромской деревне всегда с недоумением наблюдал картину: уезжаю в Москву, по дороге среди зимних полей и лесов – уже под вечер – автобус останавливается на пустыре, в него заходят красавицы, модно одетые, по виду просто аристократки. В каких-то вязаных шапочках, платках, шубках – о чем-то весело щебечут и через полчаса выходят в такие же поля и леса. Куда они ехали, так и не понял. Кругом была Русь изначальная. Но девушки явно были знакомы с глянцевыми журналами, а своей природной костромской красотой далеко превосходили дежурных манекенщиц. Американец, чтобы не терять форму, закупил тренажеры, канадский топор – рубить дрова – и агрегат для капучино. Как-то решили колоть дрова, вытащили роскошный канадский топор. Янки начал дубасить по чурбану: пара полен и перерыв с чашечкой капучино, еще пара – опять капучино. Американец устал. Топор на длинной ручке простаивает. Заморский дровосек говорит: «Хватит, в следующий раз!». Рядом пенсионер Веня – возмутился: «Как же так?! Дайте-ка я сам!». Принес свой бывалый топоришко и без перерыва всю кучу переколотил. Еще, говорит, есть? Нетути, в следующий раз. Правильно говорят в народе: «Дело было не в бобине – рас….й сидел в кабине!». Жизнь моего друга наладилась. Новая заботливая хозяйка, работа в газете – не покидая деревни, по электронной почте пересылал статьи-эссе «Письма из провинции» в «Moscow News» – пользовались успехом. Материала было вокруг – непочатый край, на всю жизнь хватит. В округе и районном центре стал весьма заметной фигурой. Статьи были талантливы, колоритны, передавали всю специфику переживаемой постперестроечной эпохи. По статьям можно изучать это время, которое теперь благополучно кануло в Лету. Как говорил мой друг: «Все когда-то кончается». Никто не предвидел, что закончится Козино. Дом был – полная чаша: живи-радуйся. Стали приезжать повзрослевшие сыновья, родственники. Впереди маячил юбилей – 60 лет. Подруга собиралась сшить гусарский мундир, в нем юбиляр должен был выехать к гостям на лошади, в полной амуниции. А почему бы и нет? Настоящий мужчина до старости остается мальчишкой – тем и славен. Кто любит брюзжащих старичков? Словом, ничто не предвещало беды. Но стал друг себя неважно чувствовать, что-то с желудком. В Костроме ничего не нашли. Приехал в Москву – уже поздно, не операбельно. Трудно поверить, всегда считался самым здоровым, нес самую тяжелую поклажу, забирал у спутника. Встречал, провожал, помогал друзьям, подругам, детям. Довольствовался малым: одежды никакой, еда самая простая. Жил по Пушкину: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Покоя, правда, было маловато. Говорят, все болезни от нервов, скорее всего, они и сыграли свою роль. Было ему напоследок много переживаний и стрессов – не по его вине. Болезнь съела в три недели. Накануне только в костромском ресторане планировал с подругой разыскать и посетить прародину в Белорусских землях. Но человек предполагает – Бог располагает. С уходом моего университетского товарища жизнь в деревне Козино стала стремительно катиться к закату. Возникла нелепая идея отметить юбилей без самого юбиляра. Из этого ничего хорошего не вышло. Когда уезжал из деревни после неудавшегося юбилея, Понтик выл и пытался разорвать цепь. Хозяйство некому было держать: продали лошадь с жеребенком, отдали в дурные руки Понтика, калеку-кота – на скотный двор, все же молоко рядом. Несчастная хозяйка потерянно ходила по избе и причитала: «Как же так? Занавески, занавески повесили!». Все обещало хорошую, дружную жизнь. Почему? Дом осиротел, его продали за гроши. Беда пришла и к соседям – умер здоровяк Затеев, потом Веня. Запомнился: сидит на кухне, один, остановившийся взгляд – «Не праздники, одна болезнь…». Из всей деревни осталась только Затеева, не знаю, жива ли? Все же девять лет прошло. Уезжать никуда не захотела. Опустело и Овцино, о котором речь шла выше. Остались одни старики, пришли городские ворюги, которые кормятся старушечьими огородами. Деревни, с которыми я связывал большие надежды, перестали существовать. И так везде. В лучшем случае их заселяют «новые русские». «Загогулина» загнулась окончательно. Но свято место пусто не бывает. Есть предание: Россия – удел Пресвятой Богородицы, Москва – ее дом. Не оскудеет никогда. В день отречения государя императора Николая II 15 марта 1917 года в селе Коломенском (теперь уже Москва) была обретена икона Божьей матери «Державной». Она на престоле с младенцем на коленях. В её правой руке скипетр, в левой – держава – символы царской власти. Сама Богородица уберегла их от поругания. С тех пор мы все под ее спасительным омофором – в надежде на возрождение. Ново-Раково, 2012–2013 170 ПРИЛОЖЕНИЕ Из стихов деревенского поэта Платонова Георгия Петровича, чьё детство выпало на военные годы и оккупацию в Истринском районе Подмосковья. Через эти деревни проходил рубеж боев за Москву. В настоящее время пенсионер, милиционер в отставке. О РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ На земле есть много всяких Городов и деревень, Но своим родным местечком Я горжуся каждый день. Это место есть под Истрой, Деревню Ново-Раково зовут, Сколько радости в приволье Не окончил в детстве тут. А сейчас живу в столице, Сей державы великой, И столица та зовётся Ой, красавицей Москвой. Но я люблю свою деревню, Нет пределу моему, В ней начал я своё детство, Возраст пенсии приму. Доживу до дней последних В деревушке дорогой. Самый лучший и красивый Край чудесный мой родной. Всем бокалы наливайте, Веселитесь, не зевайте, А то весны солнышко придёт И Мороза уведёт. 24 декабря 1972 НОВЫЙ ГОД Новогодний праздник близок, Надо ёлку наряжать, Детворе купить подарки, Дед Мороза ожидать. А Мороз придёт, закружит, Хороводы поведет, Ребятишек всех потешит, Им подарки поднесёт. Всем раздаст и сам приляжет, Чтоб на завтра сил сберечь. Время мало, а потехи До весны надо сберечь. 24 декабря 1972 ВЕСЕННЕЙ ЗАРЁЙ 17 августа 1972 НОВОГОДНИЙ МОРОЗ Русь Мороз идет по лесу, По полям и по лугам. В деревушки смело входит, Без преград по городам. Детворе несёт подарки: Ворох снегу, гору льдов: Забавляйтесь ребятишки, Мне пора до стариков. Всем работаи забота, Ладят санки старики, А старушки накрывают Новогодние столы. Новогодний день подходит, Едут гости, веселись! И Мороза поздравляйте! Запоздалый, не тянись. Как много бодрых ощущений Зарёй весеннею идти, Спешить с двустволкой за плечами Туда, где нет совсем пути. А под ногами грязь и лужи И нет дороги в той глуши, Зато привольные просторы России очень хороши. В краю родном за косогором До первых солнечных лучей Не нарушай покоя только, Увидишь свадьбу косачей. И вот гулянье разыгралось, Пеструшки рады косачей, И бой начался тетеревиный С восходом солнечных лучей. А я охотник им свидетель Ружьё своёне поднимал. Пускай решают судьбу сами, Я лишь с восторгом наблюдал. 15 мая 1973 171 РАЗГОВОР С СЕРДЦЕМ Тучи бродят по просторам, Мелкий дождичек идёт. Моё сердце ретивое Меня в Раково зовёт. Ох, ты сердце – моя гордость – С тобой вместе я кружусь. Я с племянником познался, В нём никак не разберусь. Ну, а Раково конечно Я люблю душою всей. Да и много в жизни нашей Я обязан вместе с ней. Мать родную там оставил, Во сырой земле лежит, И сестрёнка дорогая Мёртвым сном с ней там спит. Наш отец на, фронт отправлен С тех родных краёв, родной, Как же мне забыть такое, Подожди, мой дорогой. Мы оставим свою память О селе родном своём. Помни сердце, дорогое, Я на век с тобой вдвоём. 25 августа 1973 ВЕРНОСТЬ ЖИЗНИ Забрезжил утренний рассвет, А Жоры с Катею всё нет. Они на лодочке вдвоём Держали свой совет. И так решилась их судьба На веки вместе быть, И в те октябрьские дни Собрали близких, чтобы жить. В застолье пару дней прошли, Гуляли, веселились. Много всяких слов было, Чтоб жизнью не томились. Но жизнь своё давала знать, Пожав, родным мы руки, У бабки Фроси угол сняли На счастье, а не муки. Зима прошла, весна за ней, Лето наступило. Август месяц Свету дал И счастье наше оживилось. 172 Заботы, хлопоты пошли, Мы с ней много маялись. Ей возраст девичий сейчас, А мы уже состарились. Желаем радости для всех, Кто честно жить стремиться. Любовь награда высших чувств И ей надо гордиться. 27 сентября 1973 ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЖЕНЕ За много прожитых лет, Нашей мамой Катей оставлен хороший след. Дорогой тернистой в жизни идет, Мужа и дочь за собою ведет. Правит в хозяйстве умелой рукой, Копейки не бросит на ветер пустой, Модницы моды чужды для ней. Самая лучшая всех скромней. Мамочку нашу мы поздравляем, Счастья, здоровья желаем ей. Ласки своей для людей не жалеет Мы для неё не жалеем своей. Хочется больше о ней написать, Но строчки не могут о всём рассказать. Нет в ней обиды и нету в ней зла Сердцем богата, душою добра. В кратцах сообщаем вам люди о ней. Будьте и вы к ней поскромней, А мы обещаем маме своей Быть ещё лучше, любить горячей. 09 октября 1973 *** Куда бы ни был я заброшен Судьбою в дальние края, Ты мне везде родная Катя, В дорогах близкая, своя. Тобой горжусь я в белом свете, Ты радость в жизни мне дала, Я отдохну и подлечуся И вместе нам вести дела. Разлука наша на исходе, В дорогу есть уже билет, И скоро в дружеских объятьях Воскрикнем радостно: «Привет!». Ты там одна в заботах тяжких Всё это время провела. Своей любви я не истратил Давно ты это поняла. Себя в здоровье я поправил, Чтоб нам подольше век прожить, И не забыть во веки нашей дружбы, Ведь я серьёзный человек. Февраль 1974 НЕ РАСКРЫЛ ДУШИ Вас встретил, как обычно Значения не придал, Но время показало Я с грустью замечтал. Мы по одной тропинке Спешим на встречу дням. Любовь, как видно ваша Мне не по плечам. Расходятся дорожки Не раскрыв души. Вами горжусь я Саша, Помни, но только не спеши. В любви не признавайся Я от себя бегу, Но дружбу по Мелассу Всем сердцем сберегу. Вы будьте той на свете, Какой я вас узнал, В семье нужны вы детям, Я только помечтал. 17 февраля 1974 О МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ Вы, Наташа, жизнь науки, Больным тепло несёте в руки, Вам все спасибо говорят, Сердечно Вас благодарят. Вы ведь сестрица медицины С любовью, чуткостью в труде, Нужны больным такие руки. Чтобы помочь им всем в беде. Своей рукой и добрым сердцем Мою тревогу отвели, Меня больного свалил приступ. Вы от всего сердца помогли. В моём понятии такие, Вы ангел в хлопотах своих. Встаёте рано, ложитесь поздно, Ваше внимание о больных. Таких людей на свете мало, Я эти строки Вам пишу, Большой любви в жизни желаю И поберечь себя прошу. Мне счастье Ваше не известно, Но от души желаю Вам, Чтобы для Вас Восьмое Марта Свело Вас с милым по рукам. 24 февраля 1974 ТОСКА ПО СЕВЕРУ НА БЕРЕГУ О, юг чудесный, берег Крыма В твоих просторах рай земной, Но лучше нету Подмосковья, Где я живу с своей женой. Разыгралась ты волна И про всё забыла. Сжалось сердце, у меня И слегка заныло. Думал радостью тепла Сердце мне согреешь, Но ты, холодная волна, Только холод веешь. С шумом к берегу стремясь, Волна разбивалась, А я памятью своей По дому разрываюсь. Там нету лжи, любовь хрустальна, С зарёю утренней встаёт, И ненаглядная, родная, Катюша счастьем обдаёт. Такою лаской одарена, Без преувеличения скажу, Другой такой на свете нету, Я всех счастливее хожу. А вы, приезжие, с любовью Домой привет везите свой. В Крыму распутье недозвольно Езжайте лучше вы домой; Вас дети ждутмужья хлопочут, Хозяйство вам вести дано. Берите с лучших вы пример Вас дома вдут уже давно. 24 февраля, 1974 5 февраля 1976 ДОГУЛЯЛСЯ Подруг любил ты мимолётных, Друзьям об этом басню мёртвых, А сам доволен был собой Какой же парень я мировой. Потерян счастью счёт огромный, К семье пришёл совсем голодный. 10 февраля 1976 173 РАЗНЫЕ ПРОГУЛКА В ГОРЫ Ты другом был короткое мгновенье И помыслы твои одно лишь рвенье. О друге помнишь не всегда, А вспоминаешь, когда придёт беда. В таких друзей я верить не могу: «Всего тебе, а я себе пойду». С полудня в горы мы пошли Неведомой тропою, Я у седых могучих гор Беседовалс тобою. 10 февраля 1976 Казалась дикою ты мне. На многих не похожа. Онет, ошибся я в тебе, Ты лучше многих тоже. ПОТЕРЯННАЯ ЖИЗНЬ Вам жизнь улыбалась в рассвете лет, Успех окрылял ваше счастье. К любви не серьёзно вы отнеслись, Расплата за это настанет проклятьем. Себя ты не помнишь в потоке людском, Не задумываясь о потомке, А как сложится жизнь у малютки родной, Не станут ли ей угрозой Жизни твоей обломки. 10 февраля 1976 УТЕРЯННЫЕ СТИХИ В любви ты даришь Пыл свой даром И нужен будешь Лишь татарам. В базарный день За грош сойдёшь, С годами лишь Потом поймёшь. Что даром жизнь Прожил на свете, Чужим всем стал, А были дети. И жизнь нелёгкую свою В судьбе не проклинаешь, За счастье борешься своё И тем себя питаешь. С тобой легко встретил утёс, Дорогу преградивший, А виноград его обвил На век соединившись. На память в строках нет любви, Но помни тот утёс, В пылу прогулочной ходьбы Он холод наш унёс. 15 февраля 1976 УШЕДШЕЕ ВРЕМЯ Шагает время по планете В бураны, зной и ураган. Меня на пенсию послали. Настало время сдать наган. Вот так секунды исчисляя, Уходят в прошлое года, Но боевой той службы чёткой Я не забуду никогда. 10 февраля 1976 ОПОМНИСЬ Если в любви ты признался случайно, И обманул её, И радость твою опечалит судьба. В дороге своей утомит вас ходьба. Потеряно время - вам станет ярмом И радость не в радость за лживым холмом. Иди ты тропою народа своего Чёрного не надо брать ничего. 11 февраля 1976 174 Безотказно шёл на схватку Обезоруживать врага, Смертельный свист враждебной пули Я не забуду никогда. Тот год сорок девятый звался В календаре жизни моей, Терял друзей в схватке с врагами, Лучших друзей в жизни моей. март 1983 РАЗРЕШИТЕ ПРЕДСТАВИТЬ Бородин Максим – украинский поэт (пишет преимущественно на русском языке). Сооснователь и соредактор днепропетровского самиздат-альманаха «СТЫХ». Инженер-строитель, кандидат технических наук (2002). Живёт и работает в Днепропетровске. Стихи и малая проза публиковались в многочисленных литературных журналах, в том числе в альманахе «Белый ворон». Автор стихотворных сборников «Правила ближнего боя» (2005), «Никакой анестезии» (2007), «Париж» (2007), «Свободный стих как ошибочная доктрина западной демократии» (2010), «2013» (2014). Переводился на украинский, итальянский, болгарский и польский языки. Участник международных фестивалей. Лауреат литературной премии «Международная отметина имени Давида Бурлюка» (2007). Будницкий Илья, поэт. Родился в 1960 году. Окончил Уральский Политехнический Институт. Стихи пишет с 17 лет. Печатался в ряде периодических изданий, автор 9 книг стихотворений и двухтомника избранного. Приверженец классической традиции. Гройсман Вадим родился в Киеве в 1963 г. С 1990 г. живет в Израиле. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме по специальностям «русская литература» и «библиотечное дело». Автор пяти поэтических сборников. Стихи В. Гройсмана публиковались в «Новом журнале», «Вестнике РХД», «Литературной газете». Вадим – финалист поэтического конкурса "Заблудившийся трамвай" 2014 г. (четвертое место). Книга «Vita» вошла в лонг-лист Волошинской премии (2014). Живет в городе Петах-Тиква. Гройсман Наталия, поэт. Живет в Нью-Йорке. Печатается в интернет-изданиях. Недавно издательство журнала Seagull Press выпустило сборник стихов «Одним файлом». Груздева Катерина родилась в Москве (в районе трёх вокзалов) в 1981 году. Параллельно взращивалась в польско-литовском городе Друскининкай. По образованию историк архитектуры. Краткая литературная биография такая: с 2001 года публиковала стихи – в различных периодических изданиях, в некоторых сборниках, в интернете (несколько подборок опубликовано в интернет-альманахе «45-я параллель». Рассказы также публиковались в периодических изданиях («Введенская сторона», «Зинзивер»), в сборниках и в сети (а именно на сайте Проза.ру). Наибольшее воздействие на мои мозги оказали бабушка (физик-астроном) и отец (сюрреалист-художник). Гуляева Елена. Поэт, литературный псевдоним Моревна. Родилась в Хаапсалу (Эстония), с 1985 г живёт и работает в Лиепае. В 1984 окончила Рижский Медицинский Институт. Врач (в русской литературе это, пожалуй, традиция). Победитель в одной из номинаций литературного конкурса «Бекар» (2002), лауреат сетевых конкурсов «Серебро слова» (2003), «Заблудившийся трамвай» (2004). «Балтийский чемпионат поэзии»(2012) Стихи публиковались в журналах «Чайка» (США), «Сетевая поэзия», «Арион», «Контрабанда», в различных поэтических альманахах. Автор книг стихов «Я собираю воду», «Нательный серебряный нолик». Член СП России с 2011 года. Драгунская Ксения, драматург, сценарист, детский писатель, искусствовед. Автор многочисленных публикация в литературных журнал, в том числе в альманахе «Белый ворон». Кабир Максим – русскоязычный украинский писатель, поэт. Учитель истории по образованию. Работает на телевидении. Стихи и рассказы печатались в различных сборниках в СНГ и зарубежом. Лауреат Волошинского фестиваля в 2007 году. Автор поэтических книг «Письма из бутылки», «Татуировщик», «Культ», «Книжка», проза выходила в антологиях «Пазл», «Альфа-Самка», «Тёмная Сторона Дороги», «Неадекват». Кольчужкин Евгений, поэт, издатель. Родился в 1963 году в Томске. Создатель почти легендарного томского издательства «Водолей», выпустившего более сотни книг по культурологии, философии и литературоведению, не считая собственно художественных произведений, извлеченных из забвения. С 2002 года «Водолей» работает в Москве, а число изданных книг превысило 400. Автор четырех поэтических сборников и многочисленных публикаций в литературных журналах, в том числе, в альманахе «Белый ворон». Королев Алексей родился в Сергиевом Посаде( тогда Загорск) в 1965 году. Живёт и работает в Москве. Закончил Московский Энергетический институт. Руководит рекламно-издательским агентством «Ателье Вентура». Написал 10 книг стихов, 4 опубликованы. Издатель более 15 книг других авторов. Шорт-лист «Заблудившегося трамвая» в 2006 г. Стихи публиковались в «Новом Береге», «Новой Реальности», «Сетевой Словесности». 176 Крамер Александр, поэт и прозаик. Родился на Украине, в Харькове. Окончил политехнический институт, заводской инженер. Участвовал в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Начал писать еще в Харькове, там же появились и несколько первых (поэтических) публикаций. В 1998 году переехал в Германию, где начал писать прозу и публиковаться в литературных изданиях разных стран, в том числе в Германии, России, Украине, Болгарии и Канаде. В 2010 году несколько рассказов вошло в московскую «Антологию русских писателей Европы». Есть еще несколько небольших книжных публикаций. Краснова Татьяна родилась в 1967 году в городе Тольятти Куйбышевской области, и почти сразу начала выпускать газеты, журналы, книги и учебники для своих кукол и друзей. Затем продолжила эту работу в районной газете и научно-производственном журнале (побывав на всех ступеньках, от корректора до главного редактора) и в книжных издательствах. Член Союза журналистов России. Окончила Литературный институт. В 1989 году участвовала в последнем, 9-м Всесоюзном совещании молодых писателей. Автор книг «Миражи счастья в маленьком городе», «Белая панамка» («Евдокия», Екатеринбург, 2011). Публикации: в сборнике прозы «Свобода совести» (издательство «Советский писатель», Москва, 1991 г.), в журналах «Мы», «Бумеранг», «Край городов», «Открытая мысль», в семейной серии «Дорога домой» издательства «Амадеус». Живет в Подмосковье. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон». Ланге Сергей родился в Гамбурге, живёт в Москве. Физик-энтомолог. Работает дешифратором дружеских голосов. Имеет крупнейшую коллекцию мирового джаза в России. Написал сотни великолепных стихов и песен, бард, ветеран фестивалей КСП. Стихи публиковались в «Новой Реальности» и др. сетевых ресурсах. Ливинский Станислав родился в Ставрополе в 1972 году, проживает там и ныне. Армейская служба, работа фотокорреспондентом в газете, видеооператором и звукорежиссёром. Стихи публиковались в «Литературной газете», журналах «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Волга», «День и ночь». Лауреат Международного Волошинского конкурса в 2012 году. Любельская Ирина родилась в 1986 году, по образованию инженер-химик (РХГУ им. Д.И. Менделеева), училась также в Институте философии, теологии и истории святого Фомы (Москва) и Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург). Стихи неоднократно публиковались в альманахе «Белый ворон». Живет в Московской области. Максимова Наталья родилась в Уфе в 1973 году. Закончила МАРХИ и Оксфорд Брукс Университи (Англия). Архитектор, живет и работает в Манчестере. Лауреат одного из ежегодных конкурсов русской поэзии «Пушкин в Британии». Стихи публиковались в журналах «Бельские Просторы», «Новая Реальность» и других. Менделева Светлана, Израиль, Петах-Тиква. Москвичка, математик. С 1991 живёт в Израиле. Лауреат национальной премии "Олива Иерусалима». Автор книги стихов и нескольких дисков песен. Постоянный автор «Иерусалимского Журнала». Публиковалась в интернет-журналах «Кругозор», «Текстура», «Артикль» и других изданиях.Член жюри и лауреат различных поэтических и песенных фестивалей. Молóдый Вадим – поэт, эссеист, родился, жил и работал в Москве. По образованию врачпсихиатр. Совмещал лечебную, научную и литературную деятельность, занимался психопатологией художественного творчества. Печатался в СССР и на Западе. С 1990 года живет в Чикаго. Член Парламента сайта «Век перевода» (vekperevoda.com), ответственный за связи с авторами Западного полушария. Публикуется в американской и европейской периодике (альманах «Побережье», журнал «Время и место», журнал «Чайка», журнал «Плавучий мост», журнал «Белый ворон», еженедельник «Reklama»), ведет на чикагском радио «Народная Волна» (http://www.radionvc.com/) еженедельную авторскую программу. Главный редактор и издатель альманаха «Слова, слова, слова» (Чикаго-Москва). В 2010 году в чикагском издательстве «Art 40» вышла книга стихов Вадима Молóдого с иллюстрациями Бориса Заборова. В 2013 году в московском издательстве «Водолей» вышла его книга «Споры с Мнемозиной». В настоящее время в издательстве «Водолей» готовится к выходу новая книга Молóдого «Посвящения». Огаркова Мария, эссеист, родилась в 1967 г. в Свердловске, закончила филологический факультет УрГУ. Автор двух книг эссе, написанных совместно с Сергеем Слепухиным. 177 Павлов Александр родился в Первоуральске Свердловской области в 1961 году. Закончил Нижегородский лингвистический университет. Переводчик, работал также в газете и в коммерческих компаниях. Автор книги стихов «Осенивесны» (М. «Ателье Вентура», 2012). Стихи публиковались в журналах «Белый ворон», «Волга», «Урал», «Бельские просторы», «Артикль» и других. Лауреат Международного конкурса «Муравей на глобусе», 2006 г. Пальшина Маргарита, поэт и прозаик. Родилась в Архангельске, живет в Москве. Окончила Современный Гуманитарный Университет. Прошла переподготовку в режиссерской мастерской при Первой школе телевидения (мастерская ВГиК). Работала креатором в крупных рекламных агентствах. Публиковалась в литературных журналах «Новая литература», «Пролог», «Отражение», «Органон», «Снежный Ком», альманахах «Белый ворон», «Поэзия», «Золотая строфа». Полищук Дмитрий – московский поэт поэт, автор книг стихов «Петушка» (М., 1995), «Страннику городскому. Семисложники. Четырнадцать страниц из дневника путешествий по странному нашему городу да пять песенок старинными семисложными стихами с прибавлением книжицы из трех стихотворений, сочиненных на том пути иными силлабическими же размерами» (М., 1999), «Гиппогриф и сборно/изборно все предыдущие, последующие и сопутешествующие химеры» (М., 2002), «Мастер пения» (М., 2014) и публикаций в периодике. Полякова Марина родилась в 1973 году в г. Кривой Рог (Украина), поэт, журналист, редактор, работала в ряде московских периодических изданий, в т.ч. газете «Россия», еженедельнике «Москва-Центр». Живет и работает в Кривом Роге. По образованию культуролог ( закончила Институт европейских культур РГГУ и Криворожский Государственный пединститут). Автор и редактор путеводителей по Парижу и Украине. Модератор Интернет-проекта «Наследники Славы». Ребер Николай, поэт, живёт в Цюрихе (Швейцария), врач-психотерапевт. Стихи публиковались в журналах «Крещатик», «Новый берег», «Новая Реальность», и других изданиях. Книга стихотворений «Weekend в Вавилоне» (СПб, «Геликон Плюс», 2006) и подборка в сборнике «Выход в город» (М., «ИПЦ Маска», 2006). Седов Вадим родился в Москве в 1961 году, где проживает и работает поныне. Инженер-физик, закончил МИФИ. Бард, активный участник слетов КСП, продолжает концертную деятельность. Финалист конкурса поэзии «Заблудившийся трамвай» в Санкт-Петербурге в 2014 году. Седов Илья, прозаик. Родился в 1985 году в Дзержинске. Окончил журфак ННГУ имени Лобачевского. Авторболее сотни рассказов, нескольких повестей и пьес. Публикуется редко. Слепухин Сергей, екатеринбургский художник, поэт и эссеист, родился в 1961 г. в городе Асбесте Свердловской области. После окончания Свердловского медицинского института и аспирантуры преподавал на кафедре физиологии человека, работал практическим врачом. Автор семи сборников стихов и двух книг эссе, написанных совместно с Марией Огарковой. Главный редактор альманаха «Белый Ворон». Слепухина Евдокия, художник. Родилась и живет в Екатеринбурге. Иллюстрировала стихи Даниила Андреева, Александра Левина, Владимира Гандельсмана, Алексея Цветкова, Сергея Комлева, Михаила Квадратова, Игоря Рымарука, Ива Мазагра, прозу Элисео Диего, Татьяны Красновой. Член редколлегии альманаха «Белый Ворон». Победитель Третьего Берлинского Международного литературного конкурса «Лучшая книга года 2012» в номинации «Лучший художник-иллюстратор». Смирнов Юрий – киносценарист, поэт, журналист и писатель. Родился в 1973 году в Кировограде (Украина), где живет и теперь. Финалист конкурса поэзии «Заблудившийся трамвай». Автор сценариев нескольких фильмов. в т.ч. и телесериала российско-украинского производства. К выходу в нынешнем году готовится книга избранных стихов поэта «Песни Спонсоров». Соломаха Алексей, 52 года, родился и проживает в г. Минске. Пишет с начала 1980-х гг. Публиковался в белорусской периодике и в сетевых изданиях. В 2013 г. выпустил сборник стихов «Караколь». Стихи пишет на русском, белорусском и английском языках. Спарбер Александр – московский поэт, участник коллективных поэтических сборников. Публиковался в журналах «Новая реальность» и «Белый ворон». Стешик Константин родился в 1979 году в г. Солигорске, Беларусь. Автор нескольких пьес, коротких рассказов и стихов. Неоднократный участник фестивалей современной драматургии. Несколько раз публиковался в сборниках и журнале «Современная драматургия» 178 Сузинь Андрей, поэт. Родился в 1987 году в Витебске. С 2004 года живет в Минске, где в 2009 закончил Географический факультет Белорусского Государственного Университета. Работаю на стыке IT и туризма. дебют в печати состоялся в журнале «Маладосць» (2007). Тарковский Владимир родился и живет в Челябинске. Публиковался в журналах «Транзит Урал», «Новая Реальность», «Другое Небо», «День и ночь», альманахах «11:33», «На глубине», «Город поэтов», в сборнике «На достаточных основаниях». Лауреат программы «Новые Имена», лауреат фестиваля «Новый Транзит», шорт-листер фестиваля «Глубина». Участник поэтического клуба «Подводная лодка», участник проекта «Молодые-молодым». Торопов Андрей, поэт. Родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил исторический факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реальность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор трех поэтических книжек. Живет в Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области. Трифанова Анна – поэт, живет в Череповце. Стихи и прозаические миниатюры публиковались в альманахе «Белый ворон». Автор детской книжки «Акварельки. Зарисовки из старого альбома». Филиппов Сергей, поэт. Родился 19 августа 1953г. в Москве. Окончил в 1976г. Московский институт химического машиностроения. По специальности инженер-механик. Член литературной студии «Вешняки». Руководитель – поэт и журналист В. А. Синельников. Печатался в журналах «Новый Енисейский литератор», «Вольный лист», «Зарубежные задворки» и газетах. Номинант Национальной литературной премии «Поэт года 2014» Российского союза писателей. Хетагуров Алексей родился в Москве в 1940-м году. Закончил истфак МГУ, почти сорок лет проработал в Историческом музее реставратором темперной живописи. Художник-пейзажист, участник персональных и коллективных выставок. Многие его работы находятся в частных коллекциях в разных странах. Сайт Алексея Хетагурова - http://khetagurov.narod.ru/ Чернышев Сергей родился в 1964 году на Камчатке, окончил Дальневосточный Государственный Университет. Финалист поэтической «Премии П» 2013 года. Публиковался в сборнике стихов «Выход в город» (М., 2006), в сетевых изданиях «Полутона», «Новая реальность» и других. Живёт и работает в Санкт-Петербурге. Шварцман Майя, поэт. Родилась в Екатеринбурге, закончила консерваторию, скрипач, работала в театре Оперы и балета. Из России уехала в 1990 году. Живёт и работает в Генте. Никакие свои премии, звания и тиражи перечислять не любит. Шерб Михаэль родился в Одессе, окончил физфак ОГУ. С 1994 года живёт в Германии, окончил Дортмундский технический университет, публиковался в альманахах «Белый ворон», «Побережье», в журналах «Крещатик», «Интерпоэия» и других. Сборник стихотворений "река" (Бохум, 2012). Шлосберг Изя. Американский художник, писатель, философ. Родился в 1950 году в Пинске, Беларусь. Переехал в Соединенные Штаты в 1994 году, быстро добился известности в художественных кругах Нью-Йорка и Балтимора. Автор концепции объединения искусства и литературы в единое целое. Основатель творческого союза «Shiva-club». Выставлялся в Белоруссии, России, Украине, Польше, Германии, Испании, Венгрии, Израиле и США. Более 300 картин художника находятся в частных коллекциях и музеях. Родился в 1950 г. в Пинске (Беларусь), с 1994 г. проживает в США. Юхименко Анатолий родился в Каневе, окончил биофак Киевского университета, кандидат с.-х. наук, работает в Мироновском институте пшеницы. Стихи публиковались в поэтических альманахах, сборниках и антологиях, журналах «Ренессанс», «Радуга», «Соты». В 2007 году вышла книга стихотворений и поэм «Притчи и другое». 179 Третий Берлинский Международный литературный конкурс «Лучшая книга года 2012» В номинации «Литературные альманахи» 1 место – «Белый Ворон». Ред. С. Слепухин (Россия) Специальным дипломом и почетным кубком «За верность традициям русской культуры и высокое мастерство собственных произведений» награждается: Главный редактор альманаха «Белый ворон» Сергей Слепухин (Россия)