память и идентичность российской эмиграции 1920 – 1930
реклама
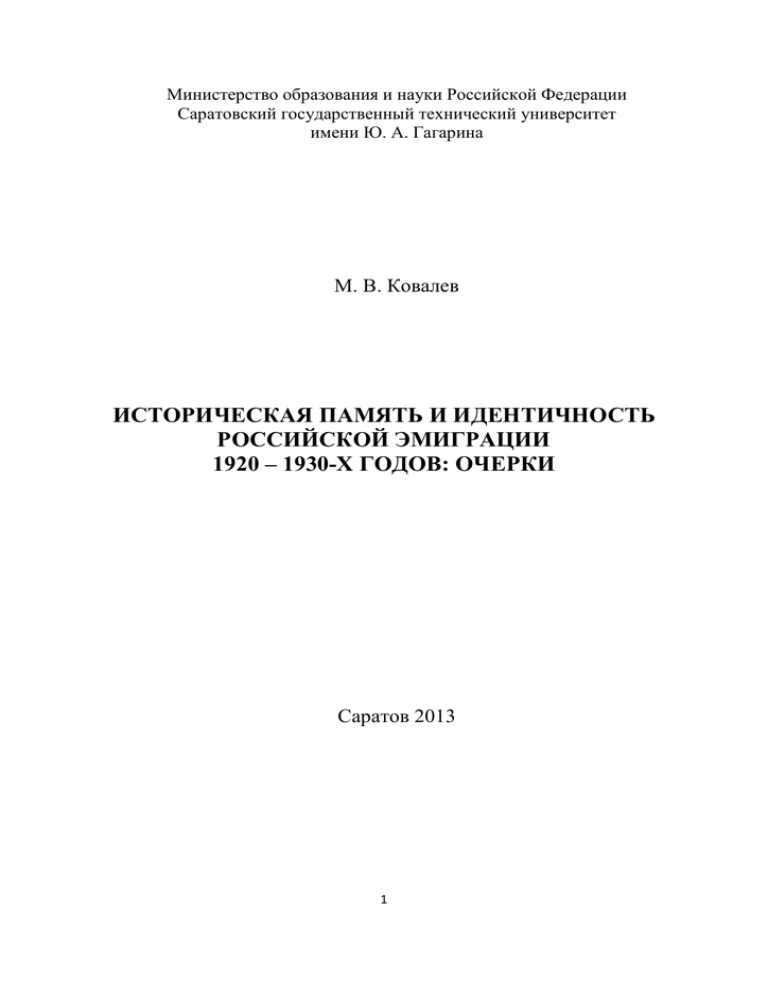
Министерство образования и науки Российской Федерации Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина М. В. Ковалев ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ 1920 – 1930-Х ГОДОВ: ОЧЕРКИ Саратов 2013 1 УДК 947:901 ББК63.3 (2) К 56 Исследование подготовлено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, Проект № 13-41-93017к (2013). Рецензенты: Доктор исторических наук, профессор Г. В. Лобачева Кандидат исторических наук, доцент О. Ю. Абакумов K 56 Ковалев М. В. Историческая память и идентичность российской эмиграции 1920 – 1930-х годов: очерки: [научно-популярное издание] / М. В. Ковалев. – Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т имени Ю. А. Гагарина, 2013. 204 с. ISBN ……. Книга посвящена феномену исторической памяти русской эмиграции 1920 – 1930х гг. Она написана в жанре научно-популярных очерков, каждый из которых представляет отдельный, законченный сюжет. В книге раскрываются особенности мемориальной культуры русской эмиграции, рассказывается о роли ученых-историков в формировании исторической памяти, о феномене исторических праздников и памятных церемоний, о роли школы и учебников в конструировании памяти о прошлом и т.д. Книга предназначена научным работникам, аспирантам, студентам вузов и всем, кто интересуется историей российской эмиграции 1920 – 1940-х гг. УДК 947:901 ББК63.3 (2) © Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина, 2013. © М. В. Ковалев, 2013. ISBN ……. 2 ОГЛАВЛЕНИЕ Вместо предисловия: ВРЕМЯ, ПАМЯТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 4 Глава 1. В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО ПРОШЛОГО: ДРЕВНЯЯ РУСЬ И МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ЭМИГРАЦИИ 19 Глава 2. ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЭМИГРАНТОВ: ЦИКЛИЧНОСТЬ ИЛИ АПОКАЛИПТИЧНОСТЬ? 51 Глава 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ КАК ФЕНОМЕН МЕМОРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 84 Глава 4. «ЗОДЧИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» 133 Глава 5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И УЧЕБНЫЕ НАРРАТИВЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 1920 – 1930-Х ГОДОВ 154 Заключение 201 3 Вместо предисловия: ВРЕМЯ, ПАМЯТЬ, ИДЕНТИЧНОСТЬ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ За последние десятилетия мировая гуманитарная наука пережила настоящий всплеск интереса к феномену исторической памяти. Сама историческая память прочно вошла в жизнь современного человека, находя отражение и в массовой, и в элитарной культуре, она вторглась в самые разнообразные области человеческой жизни, «пронизывая культуру часто весьма неожиданными способами»1. В разных странах мира появилось множество исследований о том, как общество конструирует свое прошлое. Пожалуй, самой известной из них стала пятитомная монография «Места памяти», в которой коллектив историков под руководством академика Пьера Нора предпринял беспрецедентную попытку изучения коллективной памяти французов2. Невзирая на некоторые критические замечания, эта работа получила широкий отклик в мире, сделавшись настольной книгой всех исследователей феномена памяти, а сам П. Нора превратился в одного из признанных авторитетов в этой области. Следует согласиться с утверждением, что ни одна другая работа последних лет не повлияла столь сильно на современное понимание феномена коллективной памяти3. П. Нора продолжил линию французского социолога Мориса Хальбвакса, направленную на противопоставление истории и памяти. Он исходил из идеи, что вместе с угасанием живой традиции в обществе сохраняются лишь ее реликты, 1 Megill A. History, memory, identity // History of the human sciences. 1998. Vol. 11. № 3. P. 38. Les Lieux de memoire. Paris, 1986 – 1993. 3 Weissberg L. Introduction // Cultural Memory and the Construction of Identity. Detroit, 1999. P. 17. 2 4 «архивные формы» памяти, которые находят выражение в «местах памяти», представляющих собой останки мемориального сознания. К этим «местам» прикрепляется память сообщества, вокруг них формируется национальная идентичность4. «Места памяти» в понимании П. Нора представляют собой «всякое значимое единство материального или идеального порядка, которые воля людей или работа времени превратила в символический элемент наследия памяти некоторой общности»5. Символическими объектами памяти у П. Нора выступают архивы и библиотеки, Жанна д’Арк и Марсельеза, Триумфальная арка и Стена коммунаров, то есть те символы, которые свидетельствуют о других эпохах и пробуждают ностальгические переживания6. В таких «местах» память кристаллизуется и находит себе убежище, а образы прошлого объединяются, чтобы служить различным политическим, социальным или личным целям в настоящем. Причем символическое значение этих образов может меняться в зависимости от контекста употребления7. Идеи П. Нора были подхвачены во многих европейских странах. Параллельно французским историкам в рамках этой исследовательской парадигмы работали немецкие ученые. Египтолог Ян Ассман ввел в научный 4 См.: Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Ab Imperio: Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2004. № 3. С. 76; Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263 – 2000). М., 2006. С. 12. Вместе с тем, нельзя безоговорочно принять идею М. Хальбвакса и П. Нора о жестком противопоставлении истории и памяти как двух разных форм репрезентации прошлого. Более взвешеным представляется подход американского историка и методолога Алана Мегилла, который говорит о многочисленных точках пересечения памяти и истории и принципиальной невозможности их взаимоисключения. А. Мегилл остроумно замечает: «Память – это область мрака; ей нельзя доверять. Но в то же самое время нельзя думать, что история, по этой причине, – область света, поскольку наряду с относительным светом истории и относительной темнотой памяти необходимо признать существование обширной области исторического непознанного» (Megill A. Op. cit. P. 57). 5 Нора П. Как писать историю Франции? // Франция – память. СПб., 1999. С. 78 – 79. 6 Нора П. Между памятью и историей: проблематика мест памяти // Франция – память. СПб., 1999. С. 17, 26; Шенк Ф. Б. Концепция «Lieux de Mémoire» // www.main.vsu.ru/~cdh/Arti cles/02-11a.htm [Доступ 12 марта 2009 г. 10:20]. 7 См.: Cohen A. J. Oh, That! Myth, Memory, and World War I in the Russian Emigration and the Soviet Union // Slavic Review. 2003. Vol. 62. № 1. Р. 70; Шенк Ф. Б. Александр Невский. С. 13. 5 обиход термин «культурная память». Он трактует ее как одну из областей внешней памяти человека, как сложный, многослойный феномен, «особую символическую форму передачи и актуализации культурных смыслов, выходящую за рамки опыта отдельных людей или групп» 8. Такая память удерживает наиболее значимые элементы прошлого и находит свое выражение в разнообразных мемориальных знаках – книгах, картинах, монументальных памятниках, юбилейных датах и церемониях. По убеждения Я. Ассмана само прошлое возникает лишь в силу того, что к нему обращаются, что общество нуждается в нем9. Я. Ассман также развивал идею М. Хальбвакса о социальной природе памяти. В его концепции содержание памяти также определяется не столько внутренними, сколько внешними рамками. Любая социальная общность строится на основе помнящей культуры. Вырабатывая культуру памяти о прошлом, она «продуцируют собственные воображаемые образы и проносят свою идентичность сквозь смену поколений…»10 В теории Я. Ассмана культурная память связана с «символическим кодированием». Она не ограничивается рамками нескольких поколений и ее временной горизонт способен простираться «вплоть до мифической предыстории сообщества». Такая память «наводит мост между прошлым, настоящим и будущим и передает ценности, определяющие специфику идентификации и поведенческие нормы». Она опирается на «институты воспоминания» – дискурс, символ и церемонию11. В настоящее время литература о феномене индивидуального и коллективного исторического сознания, о соотношении памяти и истории, о воссозданиях образов прошлого многообразна. Предлагаемая книга, однако, не является простой 8 См.: Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). М., 2003. С. 11. 9 Ассман Я. Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004. С. 31. 10 Там же. С. 17. 11 Шенк Ф. Б. Александр Невский. С. 17. 6 данью научной моде. Она основана на некоторых размышлениях об особенностях интеллектуальной культуры русской эмиграции, о тех факторах, которые влияли на формирование в среде диаспоры представлений о прошлом. Эта работа является всего лишь скромной попыткой взглянуть на то, как общество, оказавшееся в условиях глобальных потрясений, которые сопровождаются еще и кризисом исторической идентичности, пытается проанализировать свой исторический опыт. Задача эта остается актуальной и для нашего непростого времени. Российская история ХХ в. оказалась наполненной множеством драматических, переломных событий, одним из которых, безусловно, является исход за рубеж сотен тысяч человек после революции и Гражданской войны. Всякое изгнание за пределы Отечества лишь обостряет незримую духовную связь с ним, которая усиливается по мере осознания невозможности возвращения. Когда речь идет об исходе десятков, а то и тысяч людей, то раздумья о Родине приобретают уже не только индивидуальный, но и коллективный характер. Так же как память о ее прошлом. Но что и как формировало историческую культуру русской эмиграции? Каким образом осуществлялось взаимодействие политики, идеологии и исторической памяти в ее жизненных практиках? Необходимо признать, что идеологический фактор играл в истории Зарубежной России значительную роль. Отличительной чертой русского исхода стал его политическая основа: свое Отечество покинули те, кто так или иначе не принимал большевизм. Понятно, что степень вовлеченности в политическую жизнь сильно различалась как у разных эмигрантских групп, так и у отдельных их представителей. Но споры о путях развития России, вызванные желанием понять пережитые исторические события и оценить грядущие перспективы, неизменно связывали науку и идеологию, историю и политику. Это связь не всегда была явной и легко уловимой. Следует согласиться с мнением Г. С. Кнабе, что «каждая эпоха открывает в прошлом прежде всего то, что 7 резонирует в тон с ее общественным и культурным опытом и потому было скрыто от прежних поколений – у них был другой опыт, и они задавали прошлому другие вопросы»12. Для многих русских изгнание актуализировало споры об исторических путях России и породило новые формы памяти о прошлом. Как уже говорилось, французский социолог М. Хальбвакс отстаивал идею социальной обусловленности коллективной и индивидуальной памяти. Он говорил о существовании социальных рамок, без которых невозможно складывание и сохранение представлений о прошлом. И эти рамки нельзя просто свести к датам и именам, ибо они представляют «течения мысли и опыта», в котором человек находит свое прошлое13. Историческая память русской эмиграции могла выстраиваться как вокруг отдельного человека, так и вокруг социальной группы. Таким образом формировались индивидуальные и коллективные представления о прошлом, которые в реальности были неразрывно связаны. Но во всех случаях эти представления складывалась под воздействием социальных рамок. Поэтому даже память о прошлом одного конкретного человека определялась его вовлеченностью в социальные группы, начиная от семьи, и заканчивая национальной общностью. В случае Зарубежной России можно говорить как о памяти диаспоры в целом, так и о памяти военных и ученых, либералов и консерваторов, детей и взрослых и др. Помимо общих представлений, характерных для всей диаспоры, у каждой из этих групп была своя память о России и ее истории. Это вполне отвечает высказанной М. Хальбваксом идее о том, что каждая социальная группа по-своему конструирует прошлое в соответствии со своим собственным опытом. В результате этого «внутри каждого сообщества развиваются оригинальные коллективные памяти, хранящие в течение некоторого времени воспоминания о 12 Кнабе Г. С. Диалектика повседневности // Вопросы философии. 1989. № 5. С. 31. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память // Память о войне 60 лет спустя: Россия, Германия, Европа. М., 2005. С. 29. 13 8 событиях, имеющих значение только для них, но тем более касающихся их членов, чем их меньше»14. Еще Эрнст Ренан увидел духовный принцип нации в общем овладении наследством памяти и в желании сохранить целостность полученного наследства. Вероятно, сама нация представляет собой духовное сообщество, для которого идея коллективного прошлого имеет огромное значение, поскольку она, с точки зрения современных ученых, является центральной составляющей концепта национальной общности15. Бенедикт Андерсон, ставший ныне признанным классиком гуманитарной науки ХХ в., ввел когда-то в оборот термин «воображаемые сообщества» (imagined communities). Он использовал его для описания феномена нации, которая представлялась ему как неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное политическое сообщество. Оно воображаемо потому, что его члены никогда не будут знать большинство своих собратьев, встречаться или видеться с ними. В то же время в умах каждого из них живет образ их общности16. Даже вольное заимствование термина английского историка позволяет использовать его для описания российской эмиграции 1920 – 1930-х гг. Зарубежная Россия не имела своих границ, поскольку эмигранты были рассеяны по всем странам и континентам. Состав ее населения был необычайно пестрым и социально (от неграмотных казаков до академиков), и политически (от социалистов до фашистов). Элементами единства для эмигрантов, позволявшими вообразить себя единым сообществом, служили русский язык, религия и вера в особую культурно-историческую миссию. Не меньшее значение для русской диаспоры, как для любого духовного объединения, имела идея общего прошлого. 14 Там же. С. 41. См.: Шенк Ф. Б. Александр Невский. С. 12. 16 Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001. С. 30 – 31. 15 9 Исследования современных психологов показывают, что память формирует основу для наиболее прочных представлений человека о самом себе17. К этому можно добавить неоспоримое утверждение, что индивидуальность субъектов выражается посредством истории. С точки зрения немецкого историка Йорна Рюзена, воспроизведение прошлого является для человека необходимой культурной рамкой, поскольку оно открывает будущую перспективу, основываясь на опыте прошлого18. Такая история, разделяемая представителями той или иной общности людей как часть коллективного прошлого, составляет основу групповой идентичности19. Вполне закономерно, что в такой ситуации культурная память, охватывающая разнообразные формы обращения к истории, создает образ коллективного прошлого и начинает выполнять объединительные функции. Состав коллективной памяти эмигрантов зависел от многих, в том числе субъективных и эмоциональных аспектов. Историками уже замечено, что в прошлом человек ищет подтверждение собственных ожиданий и предпочтений, что нередко стирает границу между реальной и вымышленной картиной событий20. Диаспору, как и любую социальную группу, волновал вопрос о том, что нельзя забывать. Сбережение памяти о прошлом было связано с необходимостью сохранения национальной идентичности в условиях жизни в чужой культурной среде. Толкование термина «идентичность» в современной науке чрезвычайно разнообразно. Но здесь ее можно определить как историческую индивидуальность, 17 Schacter D. L. Searching for Memory: The Brain, the Mind and the Past. N. Y., 1996. Р. 7. Рюзен Й. Утрачивая последовательность истории // Диалог со временем. М., 2001. Вып. 7. С. 12. 19 См.: Люббе Г. Историческая идентичность // Вопросы философии. 1994. № 4. С. 111; Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания (историографические заметки). М., 2003. С. 22; Ассман Я. Указ. соч. С. 17 и др. 20 Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания. М., 2004. С. 19. 18 10 отмеченную принадлежностью к группе и определенной системе ценностей21. Прав немецкий философ Г. Люббе, заметивший в 1977 г., что идентичность принадлежит истории, то есть она является «результатом самосохранения и развития субъекта в условиях, которые случайным образом связаны с основанием его сиюминутного стремления»22. Эмигрантская идентичность представляла собой изменчивую, динамическую систему, выстроенную из реальных и придуманных образов, в которой сочетались преемственность и новации. Речь идет о принадлежности к диаспоре и эмигрантскому самосознанию, которое опиралось на общую систему символов и вырастало из общего прошлого. Для русской диаспоры преемственность заключалась в ориентации на код дореволюционной культуры, а новации были вызваны переосмыслением исторического пути России под воздействием Первой мировой войны, революции, Гражданской войны и изгнания. Эти переломные события раскололи русское общество, видоизменили жизнь каждого его представителя, нарушили привычный ход жизни. Они отразились и на культуре памяти о прошлом. В частности, эмигранты пытались переосмыслить исторический опыт Запада в свете Первой мировой войны, воспринимавшейся как кризис европейской цивилизации. Показательно мнение одного из евразийских вождей князя Н. С. Трубецкого, отметившего, что «война смыла белила и румяна гуманной романо-германской цивилизации, и теперь потомки древних галлов и германцев показали миру свой истинный лик – лик хищного зверя, жадно лязгающего зубами»23. Революция 1917 г. осознавалась немалым числом эмигрантов как явление внешнее и чуждое русскому духу. Поэтому важно было найти в прошлом убедительные доказательства того, что Россия не Европа и доказать ошибочность и гибельность западного пути. В своих работах М. Хальбвакс упоминал об исторических событиях, которые видоизменяют 21 Мирзеханов В. С. Мерцания идентичности // Индивидуальное и коллективное в истории. Саратов, 2004. С. 52. 22 Люббе Г. Указ. соч. С. 112. 23 Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М., 2000. С. 330. 11 жизнь каждого члена общества. Как уже говорилось выше, такими событиями для представителей русской диаспоры были Первая мировая война, революция, Гражданская война и само изгнание. Они раскололи русское общество и, по замечанию М. Раева, «драматическим образом изменили привычный ход общественной жизни, … раскрыли такую бездну жестокости, зверства, страданий, лишений, леденящего душу ужаса, о существовании которых прежде не догадывались»24. Само изгнание привело к созданию нового, часто идеализированного образа России, ее народа и культуры и переосмыслению их исторического пути. Как отметила болгарская исследовательница Г. Петкова, «вектор русской эмигрантской культуры первой волны [был] направлен на повышенную рефлексию по поводу природы национального и судеб собственной русскости»25. Но одновременно эмигрантская среда стала благодатной почвой для зарождения и развития разнообразных политических мифов, базовой основой которых почти всегда становилась российская история. Эти мифы наглядно отражали в себе состояние политической культуры русской диаспоры и ее исторического сознания. Уже давно замечено, что человек отбирает в прошлом те сюжеты, которые связаны с его настоящим. Поэтому историческое сознание формируется под влиянием представлений, актуальных для современности. Тот же М. Хальбвакс полагал, что воспоминания человека представляют собой реконструкцию прошлого на основе данных, полученных в настоящем26. Идея французского социолога сопоставима с предположением Э. Гуссерля о том, что наука «осуществляет свои построения на само собой разумеющейся почве жизненного мира, извлекая из него то, что когда-либо 24 Раев М. Россия за рубежом: История культуры русской эмиграции. 1919 – 1939. М., 1994. С. 198. 25 Петкова Г. Металитературный проект П. М. Бицилли: между Салимбене и Пушкиным (опыт реконструкции) // Rossica: Научные исследования по русистике, украинистике и белорусистсике. 2007. Praha, 2007. С. 116. 26 Там же. С. 33. 12 бывает потребно для тех или иных преследуемых ими целей»27. Неслучайно израильская исследовательница Я. Зерубаевль сравнила историческую память с маятником, который находится в бесконечном движении от исторических источников к современным проблемам, и от современности обратно к свидетельствам прошлого, стремясь при этом объединить их между собой. При этом память постоянно меняет свою трактовку событий прошлого, «выборочно подчеркивая одни эпизоды, затушевывая другие, принося какие-то новые штрихи»28. Важно понять, что и как влияло на конструирование памяти о прошлом в среде русской диаспоры. Знаменитый американский историк М. Раев как никто другой ярко охарактеризовал особенности эмигрантского исторического сознания. Многим изгнанникам казалось, будто на их глазах рушится не просто русская государственность, но все устоявшиеся обычаи и традиции, разрушается сама душа русского народа. Поэтому каждый образованный человек в эмиграции стремился создать новый, удовлетворяющий его, образ России: «Естественным в таких условиях было обращение к прошлому поиск там таких тенденций, которые, казалось бы, обещали другой вариант развития событий29. Для русской диаспоры образы прошлого служили социальными, пространственными и временными ориентирами, ведь они содержали в себе представление о потерянной Родине. Бегство в прошлое должно было не только излечивать душу, но пробуждать чувство национальной гордости. На первый план выходил культ выдающихся исторических деятелей, «великих строителей России», «зодчих русской культуры», как называли их сами эмигранты. Их образы становились своего рода «идеальными типами», призванными служить моральным примером для современников. Петр Великий выступал символом 27 Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология. СПб., 2004. С. 172. 28 Зерубавель Я. Указ. соч. С. 76. 29 Раев М. Указ. соч. С. 198. 13 государственности, Сергий Радонежский – духовности, а А. С. Пушкин – символом всей российской культурной традиции. На заседании Русского научного института в Белграде 12 февраля 1930 г. историк Е. Ф. Шмурло заявил перед собравшейся аудиторией: «В чествовании памяти великих людей … затаен некий глубокий смысл … Смерть может вырвать большого человека из нашей среды, лишить тех благ, какие связаны были с его существованием; но смерть не в силах отнять у нас память о таком человеке, и чем больше он поработал на своем веку, чем благотворнее его духовное наследие, тем эта память ярче, проникновеннее и … благодарнее»30. Это изречение демонстрирует, что культ великих исторических деятелей прошлого был призван вселить надежду в возрождение России, найти в прошлом идеальные типы, достойные подражания современников. Чаяния эмигрантов наглядно подтверждают слова П. Б. Струве о том, что «Россию спасут и воскресят Дмитрий Донской и Сергий Радонежский, Петр Великий и Пушкин»31. Современные российские ученые вслед за своими западными коллегами рассматривают историческую память как сложный социокультурный феномен. По словам Л. П. Репиной, историческая память как осмысленное отношение к прошлому представляет собой один из каналов передачи исторического опыта и в то же время является важнейшей составляющей самоидентификации индивида, социальной группы и общества в целом, источником самосознания и самоопределения. Если индивидуальная память основана на лично прочувствованном и пережитом человеком жизненном опыте, то коллективная память – на сохранение и осмыслении исторического опыта всего общества32. В эмигрантской среде история должна была служить инструментом связи поколений. Эту ее функцию особо подчеркивали представители старшего 30 Шмурло Е. Ф. С. М. Соловьев // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1930. Вып. 1. С. 279. 31 Струве П. Б. Дневник политика (1925 – 1935). М.; Париж, 2004. С. 78. 32 Репина Л. П. Культурная память и проблемы историописания. С. 10; Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. Указ. соч. С. 11. 14 поколения, боявшиеся быстрой денационализации русской молодежи за рубежом. Они были убеждены, что с потерей своего языка и своей истории терялась не просто эмигрантская идентичность, но сама вера на возрождение России и возвращение в нее. Поэтому столь важное значение придавалось преподаванию истории детям и молодежи в эмигрантских средних и высших школах. Профессиональные историки активно участвовали в формировании исторического сознания диаспоры, в создании нового образа России и конструировании памяти о ее прошлом. Некоторые из них написали специальные учебники, учебные пособия и лекционные курсы (Г. В. Вернадский, Е. Ф. Шмурло, Л. М. Сухотин, А. К. Елачич, Н. П. Оттокар, П. М. Бицилли и др.). Эти работы, как, впрочем, и научно-исторические сочинения вообще, не были достоянием лишь узкой научной корпорации. Несмотря на то, что научные работы всегда ориентированы на узкий круг читателей, исторические труды встречали живой отклик в эмигрантской среде. Это можно объяснить не просто высоким интеллектуальным уровнем русской диаспоры, но и стремлением к популяризации научных знаний. Достаточно взглянуть на многочисленные статьи А. А. Кизеветтера в русских зарубежных газетах, чтобы понять, как велико было количество работ, ориентированных на широкую публику. Русские историки следовали устоявшейся еще до революции традиции публиковать свои исследования в «толстых журналах». Парижские «Современные записки» или берлинский «Голос минувшего на чужой стороне», изобиловали историческими материалами. Круг читателей у таких изданий был широк и интерес к публикациям огромен. Поэтому среди эмигрантов можно найти не так много людей, писавших для «чистой» науки. Даже столь академичные авторы, как В. А. Францев, И. И. Лаппо, Е. Ф. Шмурло, периодически печатали свои статьи в газетах и журналах. Положение ученых в интеллектуальном пространстве Зарубежной России было отмечено несколькими характерными чертами. Проработка прошлого была, несомненно, 15 их профессиональным делом. Но над ней довлели пережитые учеными переломные события Первой мировой войны, революции и братоубийственной гражданской бойни. То есть сама история ворвалась в судьбы интеллектуалов, изменила их профессиональный и социальный статус, лишив Родины и привычного жизненного уклада. Она отложила неизгладимый отпечаток на их творчество и заставила многих переосмыслить прежний личный и коллективный исторический опыт. Эмигрантская наука представляла собой культурную систему со своими ценностями и закономерностями развития. Ее статус определялся осознанием некой эмигрантской миссии, направленной на сохранение культурных и интеллектуальных традиций вплоть до возвращения на Родину. Эта особенность придавала эмигрантской науке идеологизированный характер. Он выражался, к примеру, в желании противопоставить свободное интеллектуальное творчество, возможное лишь в условиях эмиграции, рабскому и приниженному положению науки и ученых в Советской России. В то же самое время эмигранты стремилась понять трагический опыт своих коллег, оставшихся в России, но духовно не принявших большевизм. Они пытались не просто реконструировать и осмыслить взаимоотношения советских властей и ученого сообщества, но проанализировать сам феномен развития науки в тоталитарном государстве. Поэтому оказавшиеся за рубежом российские интеллектуалы с таким вниманием следили за внутренней жизнью научного сообщества в СССР, обращали внимание на тематику и методологию исследований, научные структуры, изменение интеллектуального климата, положение высших школ и др. Еще Клиффорд Гирц в 1973 г. в своей знаменитой работе «Интерпретация культур» обосновал различия между идеологией и наукой как двумя культурными системами. Первая, по его мнению, основывается на эмпирическом опыте, вторая же представляет собой «диагностическое, критическое измерение культуры». Задача науки поэтому состоит в том, чтобы оценить состояние и развитие общества и «заставить 16 идеологию не отрываться от реальности», предотвратить политический экстремизм и мифотворчество. В представлении К. Гирца, науку отличает аналитичность, интеллектуальная ясность и сдержанность. Идеологию же характеризует намеренное воздействие на окружающих, склонность к ярким и живым формам. Знаменитый антрополог усматривал тенденцию к их столкновению, ибо они нередко «заняты интерпретацией одного набора ситуаций», но в то же время не считал эти столкновения неизбежными33. Эти рассуждения вполне применимы и феномену русской зарубежной науки 1920 – 1930-х гг. Нельзя сбрасывать со счетов и роль эмигрантской литературы, которая также выражала в себе определенное понимание российской истории. Спрос на такие произведения был достаточно велик, и у всех них был свой читатель. Это легко объясняет популярность в эмигрантской среде романов либерала М. А. Алданова и монархиста П. Н. Краснова одновременно. В сознании эмигрантов 1920 – 1930-х гг., формировался идеализированный образ потерянной Родины. Налицо была переживаемая ими ностальгия, которая усиливалась по мере осознания невозможности вернуться назад34. Идеализация прошлого вовсе не означала примирения с дореволюционным политическим строем, критиками которого в той или иной мере было немало русских эмигрантов. Они лишь стремились найти в прошлом те идеальные или материальные объекты, которые могли напомнить о России и внушить гордость за нее. Поэтому, например, рождалось желание заполнить свое жизненное пространство символическими предметами: русскими книгами, иконами, фотографиями. Правда иногда такое стремление носило явно показной характер. 33 Гирц К. Идеология как культурная система // Новое литературное обозрение. 1998. № 29. С. 33 – 34. 34 Под ностальгией здесь понимается влечение к реальному или предполагаемому прошлому. Американский историк А. Мегилл выделил различия между ностальгией и памятью: «Ностальгия внешне ориентирована от предмета (от субъекта, индивидуума, группы), сосредотачивая внимание на реальное или предполагаемое прошлое, память ориентирована к предмету и касается реального или предполагаемого прошлого только потому, что прошлое расценивается как важное для предмета…» (Megill A. Op. cit. P. 45). 17 Так П. Б. Струве, который проделал удивительную эволюцию от марксизма к монархизму, демонстративно разместил на видном месте в своей пражской квартире портрет Николая II и трехцветный национальный флаг35. Задумываю эту книгу, я ставил своей главной целью изучить разнообразные элементы исторической памяти русской эмиграции 1920 – 1930-х гг. За основу повествования был взят жанр очерков, которые позволяет всесторонне изучить отдельные значимые явления. Разумеется, я отдавал себе отчет в том, что моей скромной работой тема эмигрантской исторической памяти далеко не исчерпывается, и что в стороне осталось немало иных интересных сюжетов. Однако мера эта вынужденная, вызванная в первую очередь необходимостью более глубокого совершенствования их осмысления, расширения методологического источниковой инструментария. Поэтому базы и данное собрание очерков скорее вводит в тему, ставит вопросы, обозначает дальнейшие исследовательские перспективы. Я специально вынес на суд читателя сюжеты, связанные с широким интеллектуальным и культурным контекстом истории русской эмиграции. Он найдет здесь рассказы об эмигрантских исторических праздниках, о культе выдающихся деятелей русской культуры, особенно литературы, о школьных учебниках по истории, о мемориальных спорах вокруг знаковых фигур российского прошлого, В основу книги были положены итоги нескольких исследовательских проектов по истории Зарубежной России, которые реализовывались в течение пяти последних лет. Накопленная за это время источниковая база, включающая в себя как опубликованные, так и неопубликованные материалы, дала возможность впервые познакомиться с разнообразными проявлениями мемориальной культуры русской эмиграции. 35 Лосский Б. Н. В русской Праге (1922 – 1927) // Минувшее: Исторический альманах. М.; СПб., 1994. Т. 16. С. 12. 18 Я выражаю благодарность моим коллегам, следившим за этой работой, помогавшим советами. Особую благодарность я адресую моей московской коллега Марии Анатольевне Васильевой, которая взяла на себя нелегкий труд научного редактирования отдельных фрагментов книги. 19 Глава 1. В ПОИСКАХ ИДЕАЛЬНОГО ПРОШЛОГО: ДРЕВНЯЯ РУСЬ И МОСКОВСКОЕ ЦАРСТВО В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ЭМИГРАЦИИ Марк Раев обратил внимание на особый психологический настрой русских эмигрантов. На их глазах произошли столь глобальные потрясения, что осмыслить их, даже профессиональным историкам, было очень и очень трудно. Еще сложнее было понять истоки этой катастрофы, осознать ее глубинные причины36. Неудивительно, что в своих размышлениях о прошлом России эмигранты стали все больше уходить от современности. Воспитанные в эпоху «постромантического национализма», они стремились «отмечать в прошлом прежде всего те черты, которые всегда были характерны для русского народа, его культуры, объясняли его историческое развитие»37. Иначе говоря, они искали особые «места памяти», символические образы прошлого. Одним из них стало Древнерусское государство. В его истории некоторые пытались найти доказательства своих политических взглядов, другие на его примере пытались разглядеть характерные черты российской цивилизации. Образы древнерусских князей часто романтизировались и героизировались, их считали первыми российскими патриотами и государственниками. Если в Ольге традиционно видели образец благоверной княгини, первой христианки, то Святослава стали называть одним из первых «домостроителей» Российского государства. Особенно привлекательной стала фигура Владимира Святого. Во многом этому способствовало празднование в 1938 г. 950-летия крещения Руси. 36 37 Раев М. Указ. соч. С. 202. Там же. С. 198. 20 Специально к этой дате в Белграде вышел юбилейный сборник, среди авторов которого было немало крупных ученых (В. А. Мошин, Г. А. Острогорский, А. В. Карташев, Г. П. Федотов, И. И. Лаппо, А. В. Соловьев, Л. М. Сухотин, А. Н. Грабар и др.)38. Естественно, что главной заслугой князя считали принятие им православия в качестве государственной религии, поскольку именно православие осознавалось как фундамент русской культуры. Внести ясность в некоторые традиционные представления об этом историческом событии попытался Е. Ф. Шмурло. На заседании Русского исторического общества в Праге он выступил с опровержением высказанной в 1908 г. А. А. Шахматовым гипотезы, согласно которой летописный рассказ о крещении Владимира в Корсуне – не более чем легенда39. Е. Ф. Шмурло назвал методологической ошибкой своего предшественника изначально предвзятый подход к летописному повествованию, стремление видеть в нем вымысел. Он отталкивался от обратного, предположив, что к реальным историческим фактам, изложенным в летописи, в дальнейшем могла наслоиться легенда. Следовательно, рассуждал Е. Ф. Шмурло, Владимир принял крещение именно в Корсуне в 989 г., а на следующий год состоялось крещение киевлян и закладка Десятинной церкви. Не обошел историк вниманием и саму личность древнерусского князя. Е. Ф. Шмурло отдавал должное его мудрости, благодаря которой он решил принять новую веру. Но при этом справедливо замечал, что мудрость эта была скорее не духовной, а политической. Князь своим острым умом ощутил все выгоды, которые может извлечь Русь, приняв христианство. Владимир «не был Савлом, превратившимся в Павла», «личного удовлетворения он не искал», а в действиях его «гораздо ярче выступает политик, чем верующий»40. 38 Владимирский сборник в память 950-летия крещения Руси. Белград, 1938. Шмурло Е. Ф. Когда и где крестился Владимир Святой? // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Т. 1. 120 – 148. 40 Там же. С. 139. 39 21 Не меньшее восхищение вызывал Владимир Мономах. М. В. Шахматов в своем докладе на заседании Русского исторического общества 1 апреля 1926 г. сравнивал его значение в русской истории со значением Петра Великого и возводил личность князя в «политический идеал»41. И если царь-реформатор был идеалом только для части народа и только на протяжении двух веков, то Мономах – для всего народа и на протяжении многих веков42. Для Е. Ф. Шмурло древнерусский князь являлся не только образцом христианской морали, но одним из первых выразителей «идеи Родины» и «блага общественного». Едва ли не главной заслугой Мономаха он назвал решительную борьбу со Степью, иначе говоря, с азиатским началом. Не случайно, что историк сравнил его с крестоносцем Готфридом Бульонским: «Под стенами Иерусалима, на безымянных равнинах, что упираются в Черное и Азовское моря, там и тут, цель одна и та же: защита европейской, христианской культуры и цивилизации, отпор азиатскому мусульманству»43. В этих словах Е. Ф. Шмурло выражается его явное несогласие с евразийской концепцией русской истории, превозносившей восточный фактор и восточное влияние. Попытку создания идеального образа Древней Руси предпринял в своих работах М. В. Шахматов44. В центре его внимания находилась история древнерусских политических учений. Еще до революции, будучи студентом Петроград41 ГА РФ. Ф. 5891. Оп. 1. Д. 254. Л. 6. Шахматов М. В. Владимир Мономах, как идея // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Т. 1. С. 38. 43 Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Т. 1. СПб., 2000. С. 123. Однако Е. Ф. Шмурло не брал в расчет, что кочевые народы южнорусских степей, в отличие от арабов, мусульманами в тот момент не были, а исповедовали язычество. 44 Шахматов М. В. Подвиг власти (опыт по истории государственных идеалов России) // Евразийский временник. Париж, 1923. Кн. 3. С. 55 – 80; Он же. Государство правды (опыт по истории древнерусских политических идей) // Евразийский временник. Париж, 1925. Кн. 4. С. 268 – 304; Он же. Владимир Мономах как идея. С. 38; Он же. Политические идеи древнерусского сборника «Пчела» // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Кн. 1. С. 38 – 40; Он же. Отношение древнерусских книжников к татарам // Труды IV Съезда Русских академических организаций за границей. Белград, 1929. Ч. 1. С. 165 – 173; Он же. Платон в Древней Руси // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1930. Кн. 2. С. 49 – 70 и др. 42 22 ского университета, он увлекся этой темой и был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию в роковом для России 1917 г. Его научная карьера прервалась. Вместо нее было участие в белом движении, эвакуация, эмигрантские скитания, пока молодой историк не оказался в Праге, благодаря стипендии чехословацкого правительства. Здесь он состоялся как профессиональный исследователь, защитив магистерскую и докторскую диссертации. На протяжении 1920 – 1930-х гг. и вплоть до преждевременной смерти от тяжелой болезни в 1943 г. было опубликовано несколько десятков его работ по истории политических идей в Древней и Средневековой Руси. Пережитый М. В. Шахматовым исторический опыт отразился и на его историко-политических взглядах. Не случайно в одном из отзывов на его магистерскую диссертацию о древнерусских политических идеях говорилось, что работа его «дает огромный документальный материал, который, несмотря на всю свою “архаичность”, в наших условиях после потрясений, понесенных Россией, неожиданно приобретает какое-то актуальное значение: древняя Русь знала уже борьбу “демократического” начала с началом единодержавия и политические распри давно минувших веков не кажутся уже такими далекими…»45 М. В. Шахматов исходил из того, что представления древнерусских авторов о национально-государственном строе не были застывшими и неподвижными, а, наоборот, постепенно эволюционировали. Летописцы разных эпох стремились оправдать ту или иную форму правления ссылками на традиции старины. Но всегда их действиями руководило стремление соблюсти «изначальную истину», т.е. во всем следовать Божьей воле, «религиозно-государственной правде». Для древнерусских книжников «вся вселенная казалась … особой системой правды, … где каждое явление природы и каждое действие человеческое должно быть оправдано перед людьми и Божеством»46. Поэтому в сфере политических учений 45 В[аршавск]ий С. Новый магистр истории русского права // Возрождение. Париж, 1927. 4 июля. 46 Шахматов М. В. Государство правды. С. 274. 23 религиозные и морально-нравственные идеалы превалировали над государственно-правовыми. Чисто юридическое понятие «закона» на Руси заменялось более широкими понятиями правды и истины, которые воспринимались как высшие ценности в политических и социальных отношениях. М. В. Шахматов писал, что практически все летописи проявляли русский патриотизм, русское национальное самосознание, часто отстаивали русское самобытничество. Княжескую власть древнерусские авторы считали необходимым условием благополучия народа. Летописцы понимали «власть» не как отвлеченный принцип, а как «властвование связанное с реальным образом властодержателя, – князя, царя, веча и т.д.»47. В летописных текстах любовь к земле Русской преобладает над всеми национальными тенденциями. Как злободневно звучали эти слова на фоне пережитого эмигрантами распада империи и необычайного, хотя и вполне ожидаемого, взлета окраинного сепаратизма! С идеей власти перекликалась и идея подданства, которая заключала отказ от собственной воли в пользу государя, «слабость, сиротство, худость в сравнении с властвующими», «покорение и послушание, рабство, подручничество», «иерархическую приниженность», терпение, смирение, кротость, миролюбие и любовь48. М. В. Шахматов доказывал, что система власти на Руси находилась в тесной связи с христианскими ценностями. Поэтому оправдание власти ставило своей целью утверждение христианского миропонимания: «Власть есть воля, т.е. духовная сила. Главной мощью ее является воля Божья, а не военная, физиче- 47 Шахматов М. В. Учения русских летописей домонгольского периода о государственной власти: Опыт по истории древнерусских политических идей. Прага, 1926. Т. 1: Начало соборности. С. 42; Он же. Учения русских летописей домонгольского периода о государственной власти: Опыт по истории древнерусских политических идей. Прага, 1926. Т. 2: Начало единоличной власти. С. 565. 48 Там же. Т. 2. С. 568. 24 ская сила. Поэтому оправдание власти в летописных учениях является оправданием духа и его господства над миром»49. В религиозно-теократической концепции М. В. Шахматова присутствует безграничная идеализация политического строя Древней Руси и особо подчеркивается сакральный характер власти. Правда у большинства эмигрантов его идеи вызывали критику и даже насмешки. Острый на язык искусствовед Б. Н. Лосский писал, что для доказательства своих идей М. В. Шахматов все время ссылался на авторитет своего дяди, академика А. А. Шахматова, в форме «а дядя Ляля говорил…»50. Все тот же Б. Н. Лосский вспоминал пафосный доклад М. В. Шахматова, прочтенный на одном из заседаний «Збраславских пятниц», о «Священной русской истории, осененной знамениями и чудесами», само название которого свидетельствовало о его ультрапатриотическом содержании51. Менее резкой, но столь же критичной была оценка идей М. В. Шахматова, данная в воспоминаниях Н. Е. Андреева и Т. Рейзер-Бем52. В личных бумагах С. Г. Пушкарев сохранились его замечания по поводу одного из выступлений М. В. Шахматова в Русском историческом обществе. Он скептически отнесся к докладу своего коллеги и признал сомнительным само право говорить о «системе политических учений» древнерусских книжников. С. Г. Пушкарев полагал, что их взгляды были неоригинальными и были заимствованы из Библии: «Поскольку же древнерусские книжники высказывали свои политические взгляды в рассказах о тех или иных современных им событиях на Руси – взгляды эти едва ли представляли собою какую-либо “систему политических учений”»53. 49 Там же. С. 574. Лосский Б. Н. Указ. соч. С. 42 – 43. 51 Там же. 52 См.: Андреев Н. Е. То, что вспоминается: Из семейной хроники Николая Ефремовича Андреева (1908 – 1982). Таллинн, 1996. Т. I. С. 333; Бем-Рейзер Т. А. Украденное счастье // Новый журнал. Нью-Йорк, 2008. Кн. 251. С. 268 – 270. 53 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 5891. Оп. 1. Д. 254. Л. 5. 50 25 Но не стоит думать, что в эмигрантской интеллектуальной среде бытовало столь однозначное восприятие Древнерусского государства. Показательно противоречивое отношение к нему евразийцев, в котором отражалось не только различие историографических подходов, но особые цивилизационные установки и политические воззрения. Г. В. Вернадский подчеркивал евразийский облик Киевской Руси, акцентируя внимание на тесных контактах между славянами и кочевниками. Он хотел придать ей восточные черты, видя их в динамике взаимоотношений Леса и Степи, называя походы Святослава и Владимира попытками объединения евразийского пространства, и даже подчеркивая, что древнерусские правители носили титул кагана. В то же время другие евразийцы считали Киевскую Русь европейским государством, сущность которого противоречила евразийской логике. Марлен Ларюэль увидела в их желании доказать европейский характер Киевской Руси и внутренние причины ее падения стремление евразийцев датировать рождение подлинной России временем монгольского владычества54. Она сделала интересно наблюдение, что восточные древности были «первейшим элементом евразийского универсализма». Евразийцы обращались к романтической историографии, которая искала в славянских древностях предвестника славного будущего. Тем самым они словно устанавливали мифическую преемственность между славянами и великими восточными цивилизациями55. В этом смысле примечательна брошюра П. Н. Савицкого «О задачах кочевниковеденья (Почему скифы и гунны должны быть интересны для русского?)», увидевшая свет в Праге в 1928 г.56 Как показывает заглавие этой работы, автор стремился вписать в общей контекст русского прошлого историю древних кочевых народов Евразии. П. Н. Савицкий предлагал начинать изучение 54 Ларюэль М. Идеология русского евразийства или мысли о величии империи. М.2004. С. 196. Там же. С. 197. 56 Савицкий П. Н. О задачах кочевниковеденья (Почему скифы и гунны должны быть интересны для русского?). Прага, 1928. 55 26 проблемы Россия – Запад с истории кочевого мира и постановки вопроса о «срединных и периферических укладах», т.е. о взаимоотношении суши и моря как двух основных геополитических категорий. Евразийцы отрицали абсолют европейской культуры. Западу они вынесли суровый приговор: «Общество, которое поддастся исключительной заботе о земных благах, рано или поздно лишится и их…»57 Ему они противопоставили «признание относительности многих, и в особенности идеологических и нравственных достижений и установок европейского сознания»58. Евразийцы отрицали не просто европейские ценности, духовные и нравственные основ европейского сознания, но и саму теорию универсального прогресса. Любая унификация вела, по их мнению, к идеологическому и религиозному оскудению. Этим они обозначили переход к релятивизму и отказу от культурных универсалий европоцентризма59. Евразийцы провозглашали дифференцированное изучение культур. В доказательство этого П. Н. Савицкий остроумно писал: «Нет никакого сомнения, что древние жители острова Пасхи в Великом океане отставали от современных англичан по весьма многим отраслям эмпирического знания и техники; это не помешало им в своей скульптуре проявить такую меру оригинальности и творчества, которая недоступна ваянью современной Англии»60. Осмысление монгольского фактора в отечественной истории сделалось предметом острых споров. Большинство эмигрантов, в противовес евразийцам, продолжало стоять на традиционных позициях, видя в монгольском завоевании прерывание естественного, эволюционного пути развития русской государственности, объясняя им дальнейшие изломы российской истории. Но не совсем верно считать, что евразийцы идеализировали само монгольское нашествие. 57 Савицкий П. Н. Евразийство // Классика геополитики, ХХ век. М., 2003. С. С. 670. Там же. С. 662. 59 Игнатов А. «Евразийство» и поиск новой русской культурной идентичности // Вопросы философии. 1995. № 6. С. 51. Пономарева Л. Евразийство: его место в русской и западноевропейской историко-философской традиции // Европейский альманах: История, традиции, культура. М., 1995. С. 31 – 32. 60 Савицкий П. Н. Евразийство. С. 663 – 664. 58 27 Ключевым в их концепции было понятие системного кризиса Древнерусского государства накануне вторжения завоевателей61. Отсталость Руси от Запада возникла не вследствие, но до ордынского ига. П. Н. Савицкий полагал, что к началу XIII в. политическое и культурное измельчание стало для нее очевидным фактом. Этот процесс был взаимосвязан с политической раздробленностью, упадком материальной культуры, деградацией некоторых сторон художественного творчества и т.д.: «В бытии дотатарской Руси был элемент неустойчивости, склонность к деградации, которая ни к чему иному, как к чужеземному игу, привести не могла»62. Таким образом, Киевская Русь была обречена на вмешательство в ее внутреннюю жизнь внешних сил. Признавая эту закономерность, евразийцы полагали, что счастьем для Руси было то, что ее захватили татары, а ни кто-либо другой, поскольку татары были нейтральной культурной средой и не могли поколебать основ русского национального самосознания и православия, на котором основывалась русская культура. П. Н. Савицкий констатировал: «Если бы Русь досталась туркам, заразившимся иранским фанатизмом и экзальтацией, ее испытание было бы многажды труднее и доля – горше. Если бы ее взял Запад, он вынул бы из нее душу… Татары не изменили духовного существа России, но в отличительном для них в эту эпоху качестве создателей государств, милитарно-организующейся силы, они, несомненно, повлияли на Русь»63. Погрязшая в усобицах Русь не могла бы противостоять вторжениям ни западноевропейских крестоносцев, ни монгольских кочевников и была обречена 61 Аналогичный системный кризис, по их мнению, переживала и Российская империя накануне 1917 г. Одной из причин его было отступление политических элит от евразийских начал. Поэтому в глазах евразийцев опыт падения Киевской Руси должен быть поучительным. 62 Савицкий П. Н. Степь и оседлость // Классика геополитики, ХХ век. М., 2003. С. 690. 63 Там же. Эти слова опять же звучали для евразийцев политически и исторически актуально. Аналогичным образом они критически воспринимали большевиков, но признавали, что их приход к власти был неизбежен. При этом евразийцы верили, что большевикам удастся сохранить основы российской государственности. А поскольку эволюция большевизма неизбежна, то неизбежно и восстановление подлинного Евразийского государства. 28 на завоевание. Г. В. Вернадский подчеркивал, что Русь «могла погибнуть между двух огней в героической борьбе, но устоять и спастись в борьбе одновременно на два фронта она не могла. Предстояло выбирать между Востоком и Западом»64. Даниил Галицкий выбрал Запад, а Александр Невский – Восток. Образы этих князей привлекли внимание историков-эмигрантов, которые путем постижения их политического опыта, пытались осмыслить закономерности развития русских земель в период монгольского владычества, понять, какую роль их внешнеполитическая стратегия сыграла в последующих судьбах русского народа. В своей известной статье «Два подвига Святого Александра Невского», появившейся в 1925 г. в «Евразийском временнике», Г. В. Вернадский сравнил жизнь и поступки этих двух знаковых фигур древнерусской истории. Историк последовательно противопоставляет Александра и Даниила. Ошибкой Даниила он считал даже не столько желание бороться с монголами, сколько заключение союза с Западом и принятие королевской короны из рук Папы65. Г. В. Вернадский исходил из того, что основой русской культуры является православие, следовательно, угроза для православия есть угроза и для русской самобытности. Поскольку монголы никогда с церковью не боролись, то и гибель русской культуре они принести не могли. Иное дело Запад, который в начале XIII в. усилил экспансию на Восток: «Монгольство несло рабство телу, но не душе», а «латинство грозило исказить самую душу»66. Александр Невский первым осознал эту угрозу. Его главной целью стала защита православия и сохранение национального самосознания. В монголах Александр Невский видел силу, которая способна помочь ему в борьбе с Западом. Поэтому выбор князя был не случайным, а глубоко продуманным и дальновидным политическим ходом. Александр Невский совершил два крупных подвига: «подвиг брани на Западе и 64 Вернадский Г. В. Два подвига Святого Александра Невского // истории Евразии. Звенья русской культуры. М., 2005. С. 244. 65 Там же. С. 247. 66 Там же. С. 247 – 248. 29 Вернадский Г. В. Опыт подвиг смирения на Востоке, которые имели своей конечной целью «сохранение Православия как нравственно-политической силы русского народа»67. Немецкий историй Фритьоф Беньямин Шенк тонко уловил истоки подобного отношения к Александру Невскому в русской эмигрантской среде. Оно объяснялось не только устоявшимся обликом православного благоверного князя. Но тем, что Александр Невский подходил евразийцам в качестве «формы идентификации». В его мифологизированном образе отражались все главные программные установки евразийского учения. Отсюда следовал закономерный вывод, что «Александр с его милитаристской западной и дипломатичной восточной политикой, кажется, уже предвосхитил в XIII в. евразийскую политическую программу»68. Вопрос о роли монгольского ига в судьбах России является ключевым в евразийском историческом дискурсе. Монгольская империя воспринималась евразийцами как ключевой элемент русской и всеобщей истории, как государство, раскрывающее глубокую суть Евразии. Она «воплощала центральность Старого Света, которую в дальнейшем будет оспаривать Российская империя»69. В ней, а затем и в Золотой Орде евразийцы видели ту же роль, которую сыграла империя Каролингов в судьбах Западной Европы70. Она способствовала кристаллизации русской идентичности и преобразованию ее в идентичность евразийскую, «являющуюся внешним, географическим проявлением самосознания и творческим элементом историчности для России-Евразии»71. Монгольская империя, таким образом, представляла собой модель идеального политического устройства. Евразийцы, не отрицая тяжести иноземного владычества, видели в иге положительные последствия. Оно способствовало пробуждению сил российской государственной организации: «Своей ролью наказания Божья татары очистили 67 Там же. С. 253. Шенк Ф. Б. Александр Невский. С. 259. 69 Ларюэль М. Указ. соч. С. 203, 208. 70 Савицкий П. Н. Геополитические заметки по русской истории // Вернадский Г. В. Начертание русской истории. СПб., 2000. С. 308. 71 Ларюэль М. Указ. соч. С. 206. 68 30 и освятили Русь, своим примером привили ей навыки могущества»72. Россия стала наследницей монголов в деле объединения Евразии. Г. В. Вернадский не скрывает, что монгольское иго сыграло свою роль в отрыве Руси от Европы, но в то же время оно поставило ее в тесную связь с миром Востока. Русь была включена в орбиту мировой Монгольской империи, но духовно и культурно попрежнему принадлежала к христианскому миру. Можно констатировать, что евразийцы не только реабилитировали монгольское иго, «но и считали его памятным событием в русской истории – иго приветствуется и одобряется, потому что в результате Россия обрела прочную основу своей идентичности в противостоянии Западу»73. Многие русские эмигранты проявляли живой интерес к истории Московского царства и пытались осмыслить его исторический опыт. С одной стороны, это объяснялось прочной научной традицией, заложенной еще до революции работами С. М. Соловьева, В. О. Ключевского, М. А. Дьяконова, Н. П. ПавловаСильванского, М. Ф. Владимирского-Буданова и др. Свою роль сыграло и особое место Москвы в русской культурной памяти, ведь даже в императорский петербургский период она воспринималась как колыбель российской государственности. С другой стороны, для многих историков, переживших трагедию революции и Гражданской войны, с новой силой встала проблема поиска политического идеала, оптимальной идеи власти. Некоторые из них как раз и попытались найти ее, обратившись к историческим судьбам Московского государства. Показательно конструирование московского мифа на страницах эмигрантской прессы. В 1928 г. историк И. И. Лаппо по предложению консервативного философа И. А. Ильина подготовил для журнала «Русский колокол» цикл статей под общим названием «Великие строители России». Героями своих очерков он сделал видных деятелей православной церкви. Но в один ряд с ними поставил и 72 73 Савицкий П. Н. Степь и оседлость. С. 691. Ларюэль М. Указ. соч. С. 224. 31 московских князей, многие из которых, как известно, святостью не отличались. Героизация власти была предпринята И. И. Лаппо осознанно. Перед читателем предстала картина того, как, благодаря «кровному труду» и «ценою лишений и жизненной борьбы», вотчина московских князей превратилась в православное царство, а сами московские правители – в преемников Константина Великого и византийских императоров. Средства достижения политических целей московскими князьями историка не интересовали, ибо результат их деятельности – создание сильного централизованного государства – для него оправдан изначально74. Идеализация Московского царства ставила своей целью в очередной раз доказать самобытность пути развития России. Важно было найти в прошлом убедительные доказательства того, что Россия не Европа и доказать ошибочность и гибельность западного пути. Эти чаяния отразил в своих интеллектуальных построениях историк М. В. Шахматов. Он выдвинул религиозно-политическую концепцию «государства правды». Историку оно виделось «одним из самых ярких выражений стремлений построить отношения между царем и народом на христианских нравственных основаниях»75. В этом государстве и правитель, и народ отказываются от своей собственной воли, подчиняясь воле Божьей, а, значит, началам вечности. Само «государство правды», по словам академика Ю. С. Пивоварова, становится в концепции М. В. Шахматова имманентным русской истории – это и «Москва – Третий Рим», и учение Иосифа Волоцкого, и славянофилы, и Ф. М. Достоевский, и П. И. Новгородцев76. Высшей точкой развития «государства правды», с точки зрения М. В. Шахматова, было как раз Московское царство. Сама Москва для него «освящена сиянием высших идеалов», ибо в ней «всегда существовал высокий государственный идеал, который давал власти силу и достоинство в глазах 74 Лаппо И. И. Московские князья-собиратели // Русский колокол. Берлин, 1928. Кн. 3. С. 40. Шахматов М. В. Государство правды. С. 293. 76 Пивоваров Ю. С. Два века русской мысли. М., 2006. С. 433. 75 32 народа и сопрягался с исторической действительностью в поворотные узловые моменты русской истории»77. М. В. Шахматов создавал героический образ власти, который воплощали для него русские «князья-подвигоположники». Он устанавливал прямую зависимость между деяниями князей и величием Москвы. Только благодаря благочестивым правителям захолустное Московское княжество смогло превратиться в Православное царство. Заслугу московских правителей он видел в уничтожении удельной системы, прекращении усобиц, свержении новгородской олигархии и т.д. Но эпоха подъема «государства правды» сменилась его постепенной деградацией в ходе опричнины. Причиной М. В. Шахматов считал кризис политического мировоззрения Ивана Грозного и некоторых его современников. По мысли историка, основной составляющей «государства правды» было подчинение народа воле правителя, а воли правителя воле Бога. Иван Грозный неправильно понял эти идеи и вывел на первый план свое эгоистическое понимание власти, положив начало разрушению основ «государства правды». Апофеозом кризиса стала Смута, выход из которой стал возможен только при восстановлении воли Божьей. Своей концепцией М. В. Шахматов всеми силами пытался доказать идею русской самобытности и ошибочность западного пути. В его представлении, политические нормы на Западе требовали ограничения власти во имя гражданских свобод и порождали нескончаемую борьбу между властью и обществом. В противовес этому, русский политический идеал был основан на симфонии власти и общества: от власти требовались подвиги, а от народа – готовность борьбы за веру, царя и Отечество. Поэтому смысл такой системы состоял в духовном противопоставляется 77 спасении правовому народа. государству. Шахматов М. В. Подвиг власти. С. 62. 33 «Государство Первое было правды» наполнено религиозным пафосом, «мистикой мученического подвига» и представляло собой правление духовно сильных личностей, подвижников. Второе же воплощалось во власти «серых людей». На основе этого противопоставления М. В. Шахматова сделал вывод, что русский политический идеал шире европейского, «подвиг власти», воплощенный в Московском царстве, является крайним проявлением стремления к самосовершенствованию78. Однако идеализация Московского государства имела под собой не только политическую, но и религиозную основу. Русская эмиграция 1920 – 1930-х гг. пережила религиозный подъем, особенно заметный на фоне предреволюционного атеизма русской интеллигенции, распространении сектантства и мистицизма. Религиозный ренессанс выражался в расцвете богословской мысли, о чем наглядно свидетельствуют жизнь и труды В. В. Зеньковского, С. Н. Булгакова, Н. М. Зернова и др. В своих размышлениях эмигранты не могли обойти вниманием наследие знаменитого инока Филофея, с именем которого будет ассоциироваться обоснование особого пути России и ее отход от «“европейских” традиций Киевской Руси»79. Идеи псковского монаха, как известно, определили мессианский дух русской идеи80.Одной из причин внимания к его концепции была перекличка ее мессианского пафоса с идеей об особой миссии русской эмиграции. В представлениях русских за рубежом прежняя Россия ушла в небытие, у власти в ней утвердился богоборческий антихристианский режим. И только в эмиграции сохранялась истинная культурная и религиозная жизнь. Поэтому Зарубежная Россия осознается как истинная Россия, и задача ее состоит в том, чтобы сберечь духовное наследие. Здесь в эмигрантском 78 Шахматов М. В. Подвиг власти. С. 79. Příhoda M. Mnich Filofej a Třetí Řím // Kulturní, duchovní a etnické kořeny Ruska: portréty. Praha, 2009. S. 172. 80 Ю. С. Пивоваров не случайно связал ее с двумя другими известными концептами русской мысли – уваровской теорией официальной народности и марксизмом-ленинизмом (См.: Пивоваров Ю. С. Основные идеологемы русской истории // Место России в Азии и Европе: Сборник научных трудов. Будапешт – М., 2010. С. 183 – 191). 79 34 сознании возникала связь и с другим мифическим концептом – невидимым градом Китежем, воплощавшим в себе бегство от зла мира и устремление в идеальный и потусторонний мир. Образ Третьего Рима был неразрывно связан с религиозным концептом Святой Руси, который получил чрезвычайно широкое распространение в русской зарубежной среде. В 1927 г. живший в Югославии историк А. В. Соловьев посвятил специальную статью осмыслению этого культурного символа, в которой, однако, не смог избежать религиозно-политического соблазна. Идеал Святой Руси для него заключался в мечте о царстве, «которое в несовершенство форм земного государства влагает наибольшую полноту религиозного содержания, руководясь началом истинной веры и благочестия»81. Падение Третьего Рима в 1917 г. и замена его Третьим Интернационалом виделось автору как временное явление. Он верил в религиозное преображение России, в то, что в «искупительной жертве» создается истинное христианское сознание и духовная свобода, а, значит, растет «истинная Святая Русь»82. Вместе с ним в это же хотели поверить тысячи русских изгнанников, разбросанных по всем странам и континентам. Эти идеи получили свое концентрированное выражение в книге А. В. Карташева «Воссоздание Святой Руси», изданной в Париже в 1956 г. и ставшей итогом его многолетних размышлений. Святая Русь для него – это «синтез абсолютной правды Православия и гуманистического достояния античной и западной культуры, Святой Руси и Петровской Великой России»83. Тем самым он пытался примирить западников и славянофилов, споры которых имели свое продолжение и в эмиграции. А. В. Карташев был сторонником соловьевского всеединства и поэтому не противопоставлял народ и власть. Образцом 81 Соловьев А. В. Святая Русь (очерк развития религиозно-общественных идей) // Сборник Русского археологического общества. Белград, 1927. Кн. 1. С. 93. 82 Там же. С. 111. 83 Карташев А. В. Воссоздание Святой Руси. Париж, 1956. С. 45 – 46. 35 всеединого и гармоничного государства служило для него как раз Московская Русь. Его книгу пронизывает пафос религиозного возрождения России, через которое, как он считал, возможен и политический ренессанс. Однако далеко не все эмигранты разделяли подобный пафос. Например Г. П. Федотов давал крайне негативную оценку Филофею, который, по его мнению, «отравил русское религиозное сознание хмелем национальной гордыни»: «Поколение Филофея, гордое даровым, не заработанным наследием Византии, подменило идею русской Церкви (“Святой Руси”) идеей православного царства. Оно задушило ростки свободной мистической жизни (традицию – преп. Сергия – Нила Сорского) и на крови и обломках (опричнина) старой, свободной Руси построило могучее восточное царство, в котором было больше татарского, чем греческого»84. В политической мифологии русской эмиграции судьбы Московской Руси были неотделимы от судеб империи. Эти представления нашли яркое выражение в воззрениях евразийцев. В их любви к Москве было много славянофильского, ибо Москва также воплощала для них русскую самобытность. Именно в Московский период определился имперский характер России, выразившийся в стремительном движении на Восток. Их привлекала сильная, авторитарная власть московских князей, ибо она соответствовала их собственным политическим идеалам. Только империя смогла реализовать духовные чаяния русского народа, а московские князья как раз и стояли у ее истоков. Московское царство, которое стало преемником Монгольской империи в деле собирания Евразии, в полной мере реализовало в себе идеалы евразийцев. М. Ларюэль заметила, что евразийцы активно защищали допетровскую культуру. Они признавали высшей ценностью художественную культуру Московской Руси, ее архитектуру, иконопись и народное творчество, они 84 Федотов Г. П. О национальном покаянии // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 386. 36 называли Аввакума классиком русского языка, единственным, кто сделал попытку синтеза между церковным языком и московским наречием85. Евразийцы пытались придать Москве, а не Киеву первостепенную роль в формировании российского государство. Это стремление было связано с их взглядами на украинской вопрос. Пожалуй, среди всех эмигрантских течений проблема сепаратизма и национальных движений тревожила их в наибольшей степени86. Евразийцы негативно относились к проявлениям украинской и, в меньшей степени, белорусской самостийности. Для них разделение восточных славян на три самостоятельных ветви было всего лишь фикцией. Так Г. В. Вернадский доказывал, что и украинцы, и белорусы являются «ветвями единого русского народа»87. Сепаратизм есть преступление против общего исторического пути, основной задачей которого как раз и было объединение восточных славян в рамках одного государства. Украинцы никогда не были в отрыве от великороссов. Они всегда принимали активное участие в общерусской культурной жизни, иногда даже находясь во главе общего культурного движения (вторая половина XVII в.). Русский литературный язык, по мнению Г. В. Вернадского, также не является в узком смысле великорусским языком, но является общерусским88. В 1920-х гг. историк активно протестовал против 85 Ларюэль М. Указ. соч.С. 227. См.: Замойский Я. Отношение «белой» русской эмиграции к украинским вопросам // Славяноведение. 1993. № 4. С. 39 – 49; Potulnytskyi V. A The Image of Ukraine and the Ukrainians in Russian Political Thought (1860-1945) // Acta Slavica Iaponica. 1998. Vol. 16. Р. 1 – 29. 87 Вернадский Г. В. Начертание русской истории. СПб., 2000. С. 280. 88 При этом историк признавал необходимым употребление украинцами и белорусами собственных языков в повседневной и культурной жизни. Никто из евразийцев никогда не заявлял о необходимости русификации украинцев и белорусов, более того, они считали необходимым сохранение ими национальной идентичности, но только в рамках единого с русскими государства. Поэтому вряд ли убедительны выводы Ч. Гальперина, назвавшего взгляды Г. В. Вернадского по украинскому вопросу «русским националистическим предрассудком». См.: Halperin C. Russia and the steppe: George Vernadsky and Eurasianism // Forschungen zur Osteuropäischen Geschichte. Berlin, 1985. Bd. 36. P. 159. Справедливости ради стоит сказать, что в Центральной и Восточной Европе появление евразийства встретило довольно критичное отношение. Польские, чешские, украинские и белорусские интеллектуалы увидели в нем «агрессивное русификаторское православие и ксенофобию», «мистическое антидемократическое течение, развивавшее воинствующий русский 86 37 орфографической реформы в СССР, не затронувшей украинский язык, и против попытки образовать автокефальную украинскую православную церковь, в чем он видел начало религиозного раскола89. Г. В. Вернадский пришел к выводу, что «русский народ един во многообразии; жил в течение веков, может жить и дальше»90. Вполне объяснимо, что историк всегда с чувством глубокой симпатии относился к деятельности Б. Хмельницкого за его пророссийские и антикатолические убеждения и сравнивал его историческое значение с ролью Кромвеля и Ришелье91. Но оценки московского периода русской истории порой вызывали острую полемику среди эмигрантов. Показательна в этом смысле история статьи А. А. Кизеветтера «Общие построения русской истории в современной литературе», опубликованной в 1928 г. в парижском журнале «Современные записки». Толчком к ее написанию послужило появление работ Б. Э. Нольде и И. И. Бунакова (Фондаминского) о Московском царстве92. Правовед и международник Б. Э. Нольде видел единственной созидающей силой в российской истории верховную власть. Народ же был лишь пассивной серой массой. Характеризуя государственный строй Московского царства, он отмечал, что вся политическая жизнь строилась в нем не снизу, а сверху. Неограниченная власть монарха была результатом политической бездеятельности населения. В противовес Б. Э. Нольде А. А. Кизеветтер, вслед за своим учителем В. О. Ключевским, отстаивал значительную заслугу широких народных масс в государственном строительстве, подчеркнув, что на всем национализм» (См.: Шнирельман В. А. Русские, нерусские и евразийский федерализм: евразийцы и их оппоненты в 1920-е годы // Славяноведение. 2002. № 4. С. 13). 89 Halperin C. Op. cit. P. 160. 90 Вернадский Г. В. Начертание русской истории. С. 281. 91 Популярную биографию Б. Хмельницкого, вызвавшую немало споров, Г. В. Вернадский написал уже в США. См.: Vernadsky G. Bohdan. Hetman of Ukraine. New Haven, 1941. 92 Полемика вокруг этих работы была удачно рассмотрена В. И. Цепиловой (Цепилова В. И. Историческая наука русского зарубежья: проблемы историографии (1920 – 2004 гг.). Екатеринбург, 2005. С. 103 – 109), поэтому мы остановимся лишь на основных ее моментах. 38 протяжении истории Московского царства от Ивана III вплоть до XVII в. руководящая роль в политической жизни страны принадлежала провинциальному служилому дворянству и посадским торгово-промышленным жителям. А. А. Кизеветтер писал в ответ Б. Э. Нольде: «Нет уже возможности представлять себе общество Московского государства скопищем безгласных рабов, беспрекословно следовавших мановениям указующего перста верховной власти. Не с высоты престола, а из недр общественной массы сплошь да рядом исходили директивы, ложившиеся в основу государственных мероприятий»93. А. А. Кизеветтеру¸ как убежденному либералу и противнику государственного произвола, важно было показать, что сам народ способен решать свою судьбу. Это было важно для всей эмиграции, которая до последнего верила, что российский народ в конце концов сбросит с себя оковы большевизма. К сожалению, никто из историков русской Праги этого момента при жизни так и не дождался. Еще большую критику со стороны А. А. Кизеветтера вызвала концепция И. И. Бунакова (Фондаминского), построившего очень спорную, но не лишенную глубокой оригинальности, концепцию русской истории. Видный эсер считал, что Московское царство представляло собой образец «великой восточной теократии», поэтому сравнивать его нужно не с европейскими державами, а с деспотиями Востока94. Государство это базировалось не на силе, а не преданности и любви народа к носителю власти. Таким образом, государственное сознание изначально было присуще русским, а образы государства и правителя сливались воедино95. 93 Кизеветтер А. А. Общие построения русской истории в современной литературе // Современные записки. Париж, 1928. Кн. 37. С. 316. 94 Бунаков И. И. Пути России // Современные записки. Париж, 1927. Кн. 32. С. 230. 95 Подобные представления отнюдь не были уникальными для Европы 1920 – 1930-х гг. Кризис европейского сознания, порожденный Первой мировой войной, обострение национальных проблем, мировой экономический кризис привели к усилению этатистских настроений, породили веру в то, что только сильное государство и сильная власть смогут решить все проблемы общества. Одним из крайних выражений таких ожиданий стало 39 Население Московского царства было сверху донизу закрепощенным, а государь возвышался над всеми подданными. При этом оно являлось воплощением идеалов русского народа, т. к. было построено на глубокой религиозной основе. Уклад жизни в этом государстве вытекал из внутренних потребностей русской души, которая была родственна душе древнего египетского феллаха или обитателей иных азиатских деспотий. Московское царство было тиранией, но тиранией всех уравнивающей. Причем цена этой несвободы для И. И. Бунаков (Фондаминского) выглядит вполне оправданной: «Подданные фараона, служа своему государю, создали пирамиды. Московские люди – величайшую империю нового времени»96. И вновь мы видим, как пафос построения сильного государства, внезапно пробудившийся в эмигрантских кругах, готов был заслонить собой даже идеи свободы. Вернемся к критике этой концепции А. А. Кизеветтером. Его неприятие вызывал тезис И. И. Бунакова (Фондаминского) об идиллии народа и власти в Московском царстве, который не вписывался в исторические факты массовых побегов и социальных бунтов. Но главное, А. А. Кизеветтер отказывался признавать решающую роль восточного влияния на формирование российской государственности, о чем он заявлял еще в полемике с евразийцами. И вновь для него, как для либерала и западника, оказалась абсолютно неприемлема концепция сильного государства, которое для своего процветания готово на диктатуру. зарождение фашизма. По злой иронии, И. И. Бунаков (Фондаминский), столь живо ратовавший за сильную власть, стал жертвой нацистов. В 1940 г. он отказался покинуть Францию, хотя имел возможность сделать это. И. И. Бунаков (Фондаминский) вернулся из Ниццы в Париж, желая разделить судьбу со своими соотечественниками, оставшимися во французской столице. Там он и был схвачен немцами, а затем отправлен в концлагерь. В заключении И. И. Бунаков (Фондаминский) принял православие. Он окончил свои дни в Освенциме, «по-христиански смиренно разделив трагическую участь большого числа своих соотечественников» (Ковалев М. В. Русская эмиграция во Франции в годы войны // Новый журнал. Нью-Йорк, 2006. Кн. 245. С. 213). 96 Бунаков И. И. Указ. соч. С. 330 – 331. 40 Осмысление собирания русских земель вокруг Москвы поставило вопрос об альтернативности этого процесса и заставило задуматься об исторических судьбах Литовско-Русского государства. Этот взгляд емко выразил Е. Ф. Шмурло, отметивший, что централизация, вершившаяся Калитой и его преемниками, «совершалась одновременно с другим аналогичным процессом – объединением Западной и Юго-Западной Руси вокруг литовской Вильны». Причем каждый центр обладал моральным правом быть таким объединителем97. Вопрос этот был чрезвычайно важен, ибо после распада Российской империи и Польша, и Литва обрели государственную независимость и начали выстраивать свои собственные национальные исторические нарративы. Обращение к прошлому Великого княжества Литовского неминуемо заставляло задуматься об альтернативах русской истории и цивилизационном выборе, размышления о котором были неразрывно связаны с политическими дискуссиями и идейным противостоянием. В польской исторической памяти Литва воспринималась как неотъемлемая часть Речи Посполитой98. Традиционно считалось, что оба государства со времен Ягайло находились в состоянии унии, которая была официально закреплена в 1569 г. в Люблине. Эта точка зрения активно проводилась в жизнь представителями польской эмиграции 1830-х гг., особенно знаменитым историком И. Лелевелем. Однако еще до революции это взгляд нашел последовательного критика в лице профессора И. И. Лаппо99. Оказавшись в начале 1920-х гг. в Чехословакии, он написал чрезвычайно важные исследования 97 Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Т. 2: Русь и Литва. СПб., 1999. С. 10. См.: Лаппо И. И. Западная Россия и ее соединение с Польшею в их историческом прошлом: Исторические очерки. Прага, 1924. С. 21; Он же. Витовт и литовско-русское государство // Труды V Съезда Русских академических организаций за границей. София, 1930. Ч. 1. С. 372 и др. 99 См.: Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория (1569 – 1586): Опыт исследования политического и общественного строя. СПб., 1901; Он же. Великое княжество Литовское во второй половине XVI столетия: Литовско-русский повет и его сеймик. Юрьев, 1911 и др. 98 41 по истории Великого княжества Литовского, которые по сей день не потеряли научной значимости. И. И. Лаппо был блестящим источниковедом, что позволяло ему делать новые выводы даже на основе казалось бы широко известных и глубоко изученных источников. И. И. Лаппо продолжал начатое еще до революции исследование государственно-правовых отношений Польши и Литвы. Он подчеркивал, что русский культурный элемент всегда играл в жизни Литвы очень существенную роль. Литовско-Русское государство нельзя считать «органическою частью Польши, ни по ее культуре, ни по ее государственно-правовому положению»100. В составе Речи Посполитой оно пользовалось весьма широкими привилегиями и фактически сохраняло свою независимость. Историк полагал, что Люблинская уния 1569 г. была своего рода компромиссом польских и литовско-русских требований и заключала в себе начала унитаризма и федерализма101. Даже после ее заключения Литовско-Русское государство сохранило свою казну, бюрократическую систему, независимые от поляков сеймы и т.д. Следовательно, Речь Посполитая была федеративным государством, и ни о какой инкорпорации Литвы речи быть не может. Этот статус был подтвержден Литовским статутом 1588 г. и «Coaequatio jurium» 1697 г.102 Поэтому уважение ученого вызывали те исторические персонажи, которые боролись за самостоятельность Литвы. Такой фигурой для него был Витовт, чье историческое наследие он видел в идее самостоятельности Великого Княжества Литовского и его защите от польских притязаний: «Без дела и заветов Витовта восторжествовали бы в жизни дело Ягайла и Польская программа полного и 100 Лаппо И. И. Литовско-Русское государство в составе Речи Посполитой // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1929. Т. II. С. 65. 101 Лаппо И. И. Литовско-Русское государство и Польша в XVII столетии // Труды IV съезда Русских академических организаций за границей. Белград, 1929. Ч. 1. С. 143. 102 Лаппо И. И. К вопросу о первом издании Литовского статута 1588 года. Каунас, 1928; Он же. Уравнение прав Великого Княжества Литовского и Короны Польской в 1697 г. // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1930. Вып. 1. С. 53 – 67; Он же. Литовский статут 1588 года. Каунас, 1936. Т. 1: Исследование; 1938. Т. 2: Текст. 42 бесповоротного слияния Великого Княжества Литовского с Польшею. От этой, нависшей уже над Литовско-Русским государством судьбы его спас Витовт»103. Своими работами И. И. Лаппо разрушал устойчивые национальные мифы. Например он научно доказывал необоснованность польских притязаний на Вильнюс, который поляки считали своей исконной территорией. Точка зрения И. И. Лаппо, не польская и не московская, а литовская104. Он с большим воодушевлением относился к становлению и развитию независимой Литвы в 1920 – 1930-е гг., верил в ее будущее. В марте 1938 г. И. И. Лаппо, к тому времени уже перебравшийся из Праги в Каунас, рассказывая о текущих делах, писал В. А. Францеву: «С Польшею у нас восстанавливаются диплом[атические] сношения. Но при ознакомлении и более или менее широких кругов Польских с теперешнею Литвою их, конечно, ждет разочарование. Привычной им Litwy уже не существует»105. Иное отношение к Литве было дано у евразийцев. Г. В. Вернадский считал противостояние Москвы и Литвы важнейшей частью русской истории. В нем они видели конкуренцию западных и евразийских начал. Ключевым событием в борьбе стала битва на Ворскле 1399 г. между литовскими и ордынскими войсками, закончившаяся для Витовта сокрушительным разгромом. Поражение литовцев произвел «заминку в деятельности Витовта и его попытке овладеть Москвой… Русские православные воины Витовта усеяли костьми своими поле сражения; тем не менее поражение Витовта оказалось спасением для православной Руси»106. Для евразийцев это было еще одно доказательство несостоятельности западного пути. 103 Лаппо И. И. Витовт и литовско-русское государство // Труды V Съезда Русских академических организаций за границей. София, 1930. Ч. 1. С. 404. 104 См.: Мякишев В. П. И. И. Лаппо – ученый с живым чувством исторической действительности // Вестник Воронежского государственного университета. 2004. № 1. С. 170. 105 Письмо И. И. Лаппо В. А. Францеву от 19 марта 1938 г. // Literární archiv Památníku národního písemnictví. F. Francev V. A. 2/E/4. 106 Вернадский Г. В. Начертание русской истории. С. 133. 43 Как видим из всего сказанного, оценки московского периода русской истории были двойственными. Московское царство с его твердой государственной платформой принимало в глазах многих историков характер государственного идеала и стабильной политической системы. Его прошлое приобретало налет идеализации и романтического героизма. В то же время, с точки зрения М. Раева, бытовала его негативная оценка, поскольку в представлении эмигрантов Московское царство ассоциировалось с господством церкви в области культуры и зарождением самодержавия. Воплощением этих негативных элементов была личность Ивана Грозного, чье правление было отмечено жестоким разгромом вольнолюбивых Новгорода и Пскова, произволом и жестокостью, выразившимися в опричнине, которая столь живо напоминала о большевиках и красном терроре107. Это негативное отношение к эпохе Ивана Грозного выразил в своей книге «Святой Филипп митрополит московский» Г. П. Федотов. В ней он сделал наблюдение, важное для понимания всех политических процессов в русской истории. Г. П. Федотов не был склонен представлять народ жертвой Ивана Грозного, но считал его в определенной мере соучастником царских преступлений. Потворство злу не ограничивалось робким молчанием и страхом, но выражалось во всеобщей деморализации: «На ложных доносах люди строили свое благополучие, обогащались имуществом казненных и опальных. Выгоды опричной службы были соблазнительны не только для проходимцев, но и для представителей старого дворянств, даже княжат…»108 Обратим внимание на дату выхода книги – 1928 г. В то время как в Париже печатался труд выдающегося русского мыслителя, на его Родине начинался «великий перелом» с коллективизацией, большим террором, культом личности, выдвижением новой номенклатуры, проходившей тем же путем, какой описал Г. П. Федотов. 107 108 Раев М. Указ. соч. С. 216. Федотов Г. П. Святой Филипп митрополит московский. М., 1992. С. 84. 44 Получалось, что говорил он не столько о XVI в., сколько о ХХ в. К сравнению Московского царства и большевистской России философ вернется еще не раз. В его статьях можно найти сравнение сталинской коллективизации, рассматриваемой им как классический вариант русской революции сверху, со временами Ивана IV109. В формах и методах опричнины он усматривал родство со сталинским террором, а самого диктатора вполне ожидаемо уравнивал с Иваном Грозным. В русской революции победили не В. И. Ленин и не М. А. Бакунин, а Иван Грозный. «Сталин и есть перевод его на современность», – заключал Г. П. Федотов110. Это же сходство отметил в 1930 г. П. Б. Струве, который воспринял коллективизацию как «выкорчевывание крестьянства теми же самыми методами, которыми Иван III и Иван IV “выводили” неугодные им социальные элементы», как «повсеместное истребление русской “земщины”» и насаждение «новой опричнины»111. Поэтому эмиграция пресекала попытки исторической реабилитации Ивана Грозного. Показательная история с книгой Р. Ю. Виппера, увидевшей свет в 1922 г., в которой делалась попытка оправдать действия царя сложной внешнеполитической ситуацией112. Несмотря на то, что сам Р. Ю. Виппер покинул Россию, среди коллег-эмигрантов появление его книги вызвало острую критику. Например А. А. Кизеветтер отметил в качестве ее несомненного достоинства попытку изобразить политику Ивана Грозного на фоне европейской истории. Но в то же время он не принял главной идеи, которая определяла связь между опричниной и неудачами в Ливонской войне. Военные поражения А.А. Кизеветтер объяснял тем, что действия армии не были подкреплены колонизационными процессами, иначе говоря, оседанием русского населения в Прибалтике113. В своей оценке Ивана Грозного сам А. А. Кизеветтер 109 Федотов Г. П. Проблемы будущей России. Сегодняшний день // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 229. 110 Федотов Г. П. Завтрашний день // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 518. 111 Струве П. Б. Дневник политика (1925 – 1935). М. – Париж, 2004. С. 530. 112 См.: Виппер Р. Ю. Иван Грозный. М., 1922. 113 Цепилова В. И. Указ. соч. С. 118. 45 явно ближе к В. О. Ключевскому, чем к С. Ф. Платонову. Он отмечал, что невозможно понять царя и его эпоху, если представлять его «тираном с могучей, несокрушимой волей, спокойно уверенным в своих силах во вкусе его деда Ивана III, тоже прозванного в свое время Грозным; но все становится понятным, если посмотреть на Ивана IV как на тирана-упадочника, истерика, подчинявшего свой несомненный ум порывам воспаленного чувства, губившего этим собственные государственные начинания и приведшего своим неистовым “людодерством” Московскую Русь к самому краю бездны, которая развернулась перед ней в Смутное время»114. А. А. Кизеветтер трактовал правление Ивана Грозного с позиций исторического психологизма, в противовес «социальной» концепции С. Ф. Платонова и «внешнеполитической» Р. Ю. Виппера. А. А. Кизеветтер отрицательно относился к Ивану Грозному и его эпохе, отмеченной «сочетанием величия и низких падений, государственного глазомера и рокового затмения ума под силою слепой ярости»115. Не удивительно, что концепция Р. Ю. Виппера встретила с его стороны резкую критику, которую, впрочем, не разделяли многие из его коллег116. Но было бы упрощенным связывать неприязнь к Московскому царству исключительно с фигурой Ивана Грозного. Немалому числу эмигрантов ошибочным казался сам исторический путь Москвы. Одним из них был Н. А. Бердяев. Для него московский период был «самым плохим периодом в русской истории, самым душным, наиболее азиатско-татарским по своему типу, и по недоразумению его идеализировали свободолюбивые славянофилы». В Московском царстве не было места свободе, поэтому в его «удушливой атмосфере … угасла даже святость» 117 . Его политический режим философ характеризовал как тоталитарный, видя в гипертрофии государства роковую 114 Там же. С. 119. Кизеветтер А. А. Опричнина Ивана Грозного в русской историографии // Сборник Русского института в Праге. Прага, 1931. Т. II. С. 28. 116 См.: Андреев Н. Е. Указ. соч. Т. II. С. 323 – 324. 117 Бердяев Н. А. Русская идея // О России и русской философской культуре. М., 1990. С. 45. 115 46 ошибку русской истории118. Но в Московском царстве не было внутренней целостности, оно не обладало способностью к перерождению. Это заложило основы конфликта между обществом и государством, который и привел в конечном счете к революции. Еще более жесткая критика Москвы содержалась в работах Г. П. Федотова. Во-первых, он отказывал ей в праве быть колыбелью Российского государства: «…не с Москвы началась Россия. Где же среди нас русский человек Киево-Новгородской Руси?»119. Во-вторых, для него московские князья представали бездушными самодержцами, в которых «дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа» скрывался под «византийскотатарской тяжестью золотых одежд»120. В-третьих, сам процесс собирания осуществлялся жесткими и деспотичными методами. Последствием этого стало подавление национального самосознания. Г. П. Федотов задавался актуальным вопрос: «Кто из тверичей, рязанцев, нижегородцев в XIX веке помнил имена древних князей, погребенных в местных соборах, слышал об их подвигах, о которых мог бы прочитать на страницах Карамзина… Малые родины потеряли всякий исторический колорит, который так красит их везде во Франции, Германии и Англии. Русь становится сплошной Московией, однообразной территорией централизованной власти: естественная предпосылка для деспотизма»121. Но Г. П. Федотов поставил вопрос еще глубже: а не следует ли искать корни культурного раскола, приведшего к революции, в средневековой эпохе: «…Разве наше поколение не расплачивается сейчас за грехи древней Москвы? Разве деспотизм преемников Калиты, уничтоживший и самоуправление уделов, и вольных городов, подавивший независимость боярства и Церкви, – не привел к склерозу социального тела империи, к 118 Там же. С. 46, 50. Федотов Г. П. Письма о русской культуре // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 504 – 505. 120 Федотов Г. П. Три столицы // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 47. 121 Федотов Г. П. Россия и свобода // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 602 – 603. 119 47 бессилию средних классов и к “черносотенному” стилю на родной “большевистской” революции?»122 Вопрос этот по сей день остается без ответа! Один из главных упреков Москве был брошен за то, что она подчинила себе церковь и искоренила духовную свободу. И здесь в сознании критиков Москвы всплывал образ Нила Сорского, которого Н. А. Бердяев назвал «предшественником вольнолюбивого течения русской интеллигенции»123. В противовес фигуру его оппонента Иосифа Волоцкого называли «роковой фигурой» в истории русского православия и русской государственности вообще, ибо его идеи обосновали деспотическую власть московских князей. В борьбе иосфлян и нестяжаталей Г. П. Федотов был явно на стороне последних. XV век для него представляется «веком свободы» и «духовной легкости», на смену которым стремительно пришел деспотизм. Поэтому и победа иосифлян стала возможной благодаря созвучию их идей устремлениям московских князей, замене духовной свободы подчинением124. Размышления о власти и свободе неминуемо выводили эмигрантов к образам первых русских политических беженцев, особенно к образу князя А. М. Курбского. «Мы, кстати, только теперь в изгнании, вполне оценили значение Курбского и Герцена для русской национальной чести. Курбский и митрополит Филипп – эмигрант и святой – одни спасают достоинство России в век Ивана Грозного», – писал в 1936 г. живший в Париже историк и философ Г. П. Федотов125. Л. М. Сухотин в своем учебнике по истории говорил о том, что 122 Федотов Г. П. Правда побежденных // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 362. Бердяев Н. А. Указ. соч. С. 48. 124 Федотов Г. П. Трагедия древнерусской святости // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 310 – 311. 125 Федотов Г. П. Защита России // Федотов Г. П. Избранные труды. М., 2010. С. 456. К аналогичному выводу пришел в 1926 г. живший в Югославии видный знаток русской истории XVI – XVII вв. Л. М. Сухотин. Он написал цикл школьных учебников для эмигрантских детей, которые широко применялись в практике преподавания, в том числе и в Праге. Так в своем учебнике по русской истори он отметил, что на фоне всеобщего молчания и покорности «один только боярин князь Курбский решился выступить с обличением против царя, но выступил, будучи за границей, где Грозный ничего с ним сделать не могу». 123 48 на фоне всеобщего молчания и непокорности «один только боярин князь Курбский решился выступить с обличением против царя, но выступил, будучи за границей, где Грозный ничего с ним сделать не могу»126. В интеллектуальной культуре Зарубежной России произошла смена ориентиров. Если прежде русская наука и общественная мысль видели в А. М. Курбском предателя, то эмиграция усмотрела в нем первого борца с деспотизмом. Князь превратился в нравственный ориентир, в «Герцена XVI столетия», который «спас своим пером, своей культурной работой честь русского имени»127. Но если А. М. Курбский сделался борцом за правду и первым русским изгнанником, то другой видный деятель XVI в. Иван Пересветов стал восприниматься как идеолог политического деспотизма. В его бесхитростных сочинениях с внутренними противоречиями и непоследовательностью разглядели черты позднейших тоталитарных идеологий. А. А. Кизеветтер назвал его «родоначальником многих наиболее роковых наших общественных явлений»: «Когда нам говорили, что достижение политической свободы и конституции может быть вредно для блага народа и что под мечом самовластия скорее может быть осуществлена социальная справедливость; когда нам говорили и продолжают говорить, что путь к самой свободе может лежать через тиранию и что деспотической палкой всего лучше можно вогнать человеческое стадо в земной рай, хотя бы оно и стало при этом упираться – во всех этих случаях в разнообразных модификациях воскрешался основной мотив идеологии Ивана Пересветова» 128. Эмигрантская среда стала благодатной почвой для зарождения и развития разнообразных политических мифов. Значительная часть русских изгнанников вполне осознанно участвовала в их создании, желая обосновать особую 126 Сухотин Л. М. Учебник русской истории. Новый Сад, 1926. Ч. 1. С. 86. Федотов Г. П. Россия и свобода. С. 603. 128 Кизеветтер А. А. Иван Пересветов // Сборник статей, посвященных Петру Бернгардовичу Струве ко дню тридцатипятилетия его научно-публицистической деятельности. 30 января 1890 – 30 января 1925. Прага, 1925. С. 288. 127 49 эмигрантскую идентичность и попытаться сконструировать идеальное прошлое и будущее. Это стремление порождало соединение противоположностей, например совмещение идеи Империи и идеи Православного царства. Противоречивые оценки истории Московского государства стали результатом переноса на эмигрантскую почву старых идейных споров, например дискуссий между консерваторами и либералами. Но споры эти приобрели новое звучание, наполнились новым смыслом. Для политического мифотворчества и конструирования идеального образа Московского царства была характерно героизация образов московских правителей с их подлинными и мнимыми достоинствами. При этом, естественно, все негативные моменты, связанные с их жизнью и политической деятельностью, из мифа вытеснялись. Парадоксальным выглядит то, с какой легкостью многие эмигранты, пострадавшие от большевиков, стали мечтать об авторитарных способах властвования. Но как бы ни было велико желание уйти в утопию для многих эмигрантов, оно, в конечном счете, обернулось разочарованием. Миф о Московском царстве в силу своей изначальной противоречивости так и не смог стать объединительным для всех русских за рубежом. 50 Глава 2. ИМПЕРАТОРСКАЯ РОССИЯ ГЛАЗАМИ ЭМИГРАНТОВ: ЦИКЛИЧНОСТЬ ИЛИ АПОКАЛИПТИЧНОСТЬ? Не менее сложным и противоречивым было восприятие императорского периода российской истории. Как писал все тот же Марк Раев, основным достижением этой эпохи признавалось создание великой культуры, в особенности литературы. В это время Россия встала на путь модернизации, который был резко прерван войной и революцией. Но в то же время эмигранты остро критиковали самодержавие, которое препятствовало реформированию социальной и политической системы и лишало интеллигенцию свободы слова. Таким образом, вина за революцию отчасти возлагалась на Романовых, с их «недальновидной приверженностью бюрократическим и самодержавным методам правления, их искаженным и ограниченным взглядам на культуру»129. Эмигранты стали свидетелями гибели Российской империи и последовавшей за ним новой русской смуты. Перед ними возникал закономерный вопрос о причинах столь стремительного крушения всего того, что казалось незыблемым. Это заставляло еще раз переосмысливать весь исторический путь России в XVIII – начале XX вв. Императорский период воспринимался как время упущенных возможностей. Почему Россия не сумела реализовать свой государственный потенциал? Где следует искать истоки русской революции? Почему империя, создававшаяся на протяжении столетий, столь стремительно рухнула? Представления об императорской России были пропитаны раздумьями о русской смуте. В историческом сознании диаспоры на первый план выходила парадигматическая роль революции. В этом смысле интересным примером служит петровская эпоха, которая всегда была предметом ожесточенных споров историков. В Зару129 Раев М. Указ. соч. С. 216. 51 бежной России полемика вокруг нее не только не затихла, но приобрела новую силу и значимость. Вполне закономерно, что в переломные моменты истории интерес к его персоне, к методам и результатам его деятельности возрастает. Петровская эпоха становится местом особого преломления индивидуальной и коллективной исторической памяти, в ней пытаются отыскать ответы на современные вопросы. Для эмиграции в спорах о петровском наследии тесным образом слились и злободневная проблема взаимоотношений России и Запада, и поиск истоков русской революции. На фоне сложившегося среди русских изгнанников культа великих людей и героизации прошлого Петр занял одно из ведущих мест. На собрании в Праге в июне 1932 г. в честь «Дня русской культуры» А. А. Кизеветтер выразил мысль, что образ Петра «закреплен в нашем сознании на веки и его не смогут выкорчевать из нашего сознания никакие, хотя бы самые зловещие вывихи в ходе нашего исторического существования …»130. Образ Петра стал объектом коллективной коммеморации. Во многом этому способствовала 200-летняя годовщина со дня смерти императора, отмеченная в 1925 г. русскими изгнанниками в разных частях мира. Эта дата послужила толчком к появлению множества юбилейных изданий. Еще в январе 1925 г. в Праге был создан Комитет по чествованию памяти Петра Великого, в который вошли А. А. Кизеветтер, И. И. Лаппо, Е. В. Спекторский, В. А. Францев, Е. Ф. Шмурло, С. Г. Пушкарев и др. Этот комитет, почетным председателем которого был избран академик Н. П. Кондаков, утвердил программу юбилейных мероприятий: торжественное заседание под эгидой Союза Русских академических организаций за границей, специальны собрания Русского исторического общества и Русского института, панихида131. 130 Кизеветтер А. А. Пушкин и Петр Великий: Речь, произнесенная в Праге 7 июня на собрании «Дня русской культуры» // Россия и славянство. Париж, 1932. № 187. 25 июня. 131 ГА РФ. Ф. 5776. Оп. 1. Д. 60. Л. 1 – 2, 4. 52 Памяти императора было посвящено первое заседание Русского исторического общества в Праге 7 апреля 1925 г. Причем инициатива здесь исходила от его председателя Е. Ф. Шмурло. После вступительного слова, произнесенного самим историком, был заслушан доклад бывшего ректора Киевского университета профессора Е. В. Спекторского «Политические заветы Петра Великого»132. Роль царя-реформатора он определял не только его деяниями, но и теми неписаными заветами, которые он после себя оставил: «Великая, национальная, культурная Россия как цель, служение отечеству, общественный подбор и законность, как средства»133. Он обращал особое внимание на произведенный царем переворот в понимании феномена власти. В Европе на протяжении веков она персонифицировалась непосредственно с монархом. Все в государстве должно было служить его фигуре. Петр же поставил выше себя интересы России и благо народа в целом. Обращаясь к образу Петра и его наследию, Е. В. Спекторский писал не столько о прошлом, сколько о настоящем, пытался спроецировать исторический опыт императора на современный мир. Заветы Петра, по его мнению, будут всегда актуальными для России. Примечательно, что в эмиграции многие прежние критики царя переосмыслили свое отношение к нему. Самым ярким примером, пожалуй, служит кадетский лидер и знаменитый историк П. Н. Милюков, некогда выступавший последовательным критиком царя-реформатора134. В 1925 г. он опубликовал в журнале «На чужой стороне» программную статью «Петр Великий и его реформа», в которой отразилась эволюция его взглядов на царя. От развенчания Петра он 132 ГА РФ. Ф. 5891. Оп. 1. Д. 253. Л. 2 об.; Д. 254. Л. 1 об. Вскоре на заседаниях Общества были прочитаны еще два доклада о петровской эпохе: сообщения Е. Ф. Шмурло о неизданной грамоте Петра Великого 1705 г. и С. Г. Пушкарева о принципах торгово-промышленной политики царя-реформатора (См.: Русское историческое общество в Праге за девять лет существования. С. 9). 133 Спекторский Е. В. Заветы Петра Великого // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Т. I. С. 80. 134 См. об этом: Бон Т. Русская историческая наука (1880 г. – 1905 г.): Павел Николаевич Милюков и Московская школа. СПб., 2005. С. 141 – 154. 53 пришел к осознанию его огромной роли. П. Н. Милюков воздал должное гению императора, подчеркнул национальный характер его реформ, их необходимость и органичность 135. В чем же причина этой идейной эволюции? Немецкий исследователь Томас Бон заметил, что революция заставила П. Н. Милюкова признать значительную роль личности в историческом процессе, что отразилось и на его отношении к Петру. К тому же, царь-реформатор «был нужен ему как союзник для укрепления ориентации России на западные демократии, что ставилось под сомнение большевиками и евразийцами», он «мобилизовал русский патриотизм для своих собственных демократических целей» 136. Действительно, упреки в адрес евразийцев то и дело появляются в тексте статьи П. Н. Милюкова. В заключении он особо подчеркивал неизбежность европейского пути развития для России. Историк призывал преклонить голову перед Петром и «поблагодарить его от имени многих поколений русской интеллигенции за то, что своей деятельностью он освободил нас от доказательств, что Россия – не Азия, и за то, что его реформа и теперь продолжает служить живым опровержением и защитой от новоявленного русского обскурантизма»137. Евразийцы попытались проанализировать деятельность Петра с критических позиций. Они обвиняли его в нарушении непрерывности исторического развития России. Их отношение к Петру было довольно неоднозначным, в их взглядах часто не было последовательности. Насильственная европеизация и особенно глумление над православной церковью вызывали негодование со стороны евразийцев. Один из евразийских идеологов князь Н. С. Трубецкой писал, что до петровских реформ Россия была самой даровитой продолжательницей Византии. В ходе преобразований она вступила на путь «романо-германской ориента135 См.: Милюков П. Н. Петр Великий и его реформа // На чужой стороне. Прага, 1925. Кн. X. С. 5 – 28. 136 Бон Т. Указ. соч. С. 154. 137 Милюков П. Н. Петр Великий и его реформа. С. 28. 54 ции» и поэтому «оказалась в хвосте европейской культуры», на задворках цивилизации»138. И все же евразийцы считали Петра глубоко русским человеком, а европеизацию объясняли простой материальной необходимостью в заимствовании научных знаний и технических навыков. Но царь слишком увлекся преобразованиями и позаимствовал много лишнего139. Главную заслугу Петра евразийцы видели в создании могучего государства. Они полагали, что «построенная этим царем по европейским образцам Российская Империя фактически не была ни Европой, ни Азией, а представляла собой образование подлинно “евразийское”»140. Образ Петра Великого, казалось бы призванный стать объединяющей фигурой для эмигрантов, часто служил орудием в идеологическом соперничестве. Та или иная политическая группа пыталась по-своему мобилизовать память об императоре. В Советской России память о Петре также переживала глубокие трансформации. Поначалу большевики уделяли императору крайне малое внимание. Николай Рязановский показал, что марксистский акцент на безликих силах исторического процесса «отвергал личностный фактор, который был доминирующим в изображении Петра Великого со времен Феофана Прокоповича и до М. М. Богословского»141. Советских историков-марксистов в 1920-е гг. интересовало не Великое посольство, ни даже Полтавская битва и Ништадтский мир, но возвышение дворянства и положение крестьян. Поскольку симпатии этих ученых были на стороне «эксплуатируемого народа», то главными элементами 138 Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. С. 127. См.: Вернадский Г. В. Начертание русской истории. С. 232 – 234. 140 Алексеев Н. Н. Духовные предпосылки евразийской культуры // Евразийская хроника. Париж, 1935. Вып. XI. С. 15. 141 Riasanovsky N. The Image of Peter the Great in Russian History and Thought. N.Y. – Oxford, 1985. P. 237. 139 55 оценки Петра Великого в первые годы советской власти стали обвинения, разоблачения и даже ненависть142. На фоне общественно-политического осуждения Петра в начале 1920-х гг. появились литературные опусы А. Н. Толстого и Б. Пильняка, в которых давалась резко отрицательная трактовка образа императора. По отзыву А. А. Кизеветтера оба авторы «намалевали образ Петра в виде какого-то омерзительного чудовища, потопившего в водке и сифилисе и ум, и совесть, зверски жестокого, тупоумного, безобразного и по наружности и по всем своим поступкам». Вместо реального Петра у них получилась «зловещая гримаса»143. Их произведения получили негативную оценку С. Ф. Платонова в биографическом очерке о царе-реформаторе144. Появление этой книги было восторженно встречено русскими эмигрантами, и вскоре труд знаменитого ученого был переиздан в Берлине (1926). А. А. Кизеветтер заметил, что книга С. Ф. Платонова, составленная «с одинаково беспристрастным обозначением доблестей и пороков Преобразователя», должна показать читателям «сколь невежественны попытки беллетристов представить Петра омерзительным чудовищем»145. Восторженный отклик на нее поместил на страницах парижской газеты «Возрождение» и П. Б. Струве, отметивший, что «Петр был воплощением подлинной государственной силы»146. Однако ни А. Н. Толстой, ни Б. Пильняк литературного ответа от эмигрантских писателей и поэтов не получили. Отношение эмигрантов к роману А. Н. Толстого «Петр Первый» было противоречивым. Как известно, писатель работал над ним с конца 1920-х гг. и до конца жизни, хотя сама петровская тема впервые проявилась в его творчестве в 142 Ibid. Кизеветтер А. А. Петр Великий // Сегодня. Рига, 1925. № 3. 4 января; Он же. [Рец.] Платонов С.Ф. Петр Великий. Личность и деятельность. Издательство «Время». Ленинград, 1926. 114 с. // Современные записки. Париж, 1926. № 29. С. 495. 144 См.: Платонов С. Ф. Петр Великий: Личность и деятельность. Л., 1926. 145 Кизеветтер А. А. [Рец.] Платонов С.Ф. Петр Великий. С. 497. 146 Струве П. Б. С.Ф. Платонов о Петре Великом // Возрождение. Париж, 1928. № 19. То же: Записки Русской академической группы в США. 1973. Т. 7. С. 201 – 204. 143 56 1918 г. Роман публиковался по частям. Возможность познакомиться с ним имели и читатели Зарубежной России. В 1930 г. А. А. Кизеветтер откликнулся на публикацию в Берлине первой части романа. Его рецензия была выдержана в спокойном и объективном духе. Он признал несомненной удачей автора изображение реальных исторических лиц, но при этом назвал необъективным воссоздание московской жизни конца XVII в. По убеждению историка, А. Н. Толстой собрал воедино все ее темные стороны и намеренно сгустил краски. Подводя итог, А. А. Кизеветтер отметил: «…Предлагаемая автором картина есть несомненный навет на тогдашнюю Русь… И потому вместо правдивой исторической картины у него получилась отвратительная карикатура»147. Правда историк не уловил политической тенденции, которая, несомненно, способствовала обращению А. Н. Толстого к образу Петра. Образ Петра перекликался с популярным в эмигрантских кругах образом А. С. Пушкиным. Многие авторы отмечали, что император направил Россию на путь преобразований, которые способствовали возникновению могучей культуры. Великий поэт же был ее самым ярким символом. На торжественном собрании в Праге по случаю «Дня русской культуры» в июне 1932 г. А. А. Кизеветтер подчеркивал тесную духовную связь между Петром Великим и А. С. Пушкиным, назвав его плодом слияния творческой гениальности русского народа и европейских ценностей148. Вместе с тем отдельные авторы пытались вообще дистанцироваться от политических оценок императора. Примечательна личность Е. Ф. Шмурло, который еще до революции опубликовал ряд работ о Петре Великом, до сих пор не потерявших научного значения149. Историк впервые обратился к петровской эпохе еще в 1880-х гг. В то время он читал общий курс истории России в Павловском 147 Кизеветтер А. А. [Рец.] Алексей Толстой. Петр I. Т. I. Издание 1-е. «Петрополис». Берлин, 1930 г., стр. 193 // Руль. Берлин, 1930. 26 марта. № 2837. 148 См.: Кизеветтер А. А. Пушкин и Петр Великий. 149 Ковалев М. В. Петровская эпоха в научном наследии Е. Ф. Шмурло // Новый век: история глазами молодых. Вып. 5. Саратов, 2006. С. 39 – 53. 57 институте. В 1884 г. совместно с С. Ф. Платоновым разработал специальный курс лекций по отечественной истории XVIII в.150 В это время появились его первые исследования, затрагивавшие петровскую тематику. В 1889 г. Е. Ф. Шмурло прочел специальный курс по истории Петра Великого в СанктПетербургском университете, в котором он «стремился не только обрисовать петровскую реформу, но и заставить своих слушателей почувствовать эпоху как жизнь, представить ее жизненною и живою, проходящею перед ними в развертывающейся ленте образов и быта»151. В 1893 г. в Юрьевском университете в рамках семинарских занятий по истории России Е.Ф. Шмурло вел «Практические занятия по эпохе Петра Великого», а в 1899 г. прочитал цикл лекций «Законодательные памятники Петровского царствования»152. В начале ХХ в. он обобщил результаты своих исследований в цикле статей «Критические заметки по истории Петра Великого»153. На рубеже XIX – XX вв. Е. Ф. Шмурло заинтересовался слабоизученными сюжетами дипломатических сношений петровской России с Германией, Венецией, Польшей и Святым Престолом. Он извлек множество документов из ватиканских, парижских, венских, гаагских, падуанских, венецианских архивов и библиотек, которые проливали свет на практически неизвестные сюжеты истории международных отношений в конце XVII – начале XVIII вв., на место России в них, содержали ценнейший материал о взаимоотношениях православной и 150 Шмурло Е. Ф. Лекции по истории, читанные в Павловском Институте в 1884 – 1885 г. Литографированное издание. СПб., 1886; Он же. Русская история. XVIII. Лекции на Высших Женских Курсах в Санкт-Петербурге, 1885 – 1886 гг. Литографированный курс. СПб., 1886. 151 Лаппо И. И. Памяти Б. А. Евреинова, А. А. Кизеветтера и Е. Ф. Шмурло // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага Чешская – Нарва, 1937. Кн. 3. С. 21. 152 Дубьева Л. В. Евгений Францевич Шмурло – профессор Тартуского (Дерптского / Юрьевского) университета в 1891 – 1903 гг. // Российские университеты в XVIII – XX веках. Воронеж, 2004. Вып. 7. С. 109. 153 Шмурло Е. Ф. Критические заметки по истории Петра Великого // Журнал Министерства народного просвещения. 1900. № 5. С. 54 – 98; № 8. С. 193 – 234; № 10. С. 335 – 366; 1901. № 12. С. 238 – 249; 1902. № 4. С. 421 – 439; № 6. С. 232 – 256. К этим же статья логически примыкает опубликованная ранее работа «Падение царевны Софьи» (Шмурло Е. Ф. Падение царевны Софьи // Журнал Министерства народного просвещения. 1896. № 1). 58 католической церкви. Результаты этого поистине титанического труда легли в основу фундаментального сборника документов, изданного в Юрьеве в 1903 г. и не имеющего аналогов по сей день154. Всю свою жизнь Е. Ф. Шмурло мечтал написать большое монографическое исследование о Петре и его времени. Им была подготовлена книга «Петр Великий: От колыбели до Великой Северной войны», рукопись которой осталась в Петрограде во время последнего посещения историком России в 1916 г. и так и не была никогда опубликована155. В эмиграции Е.Ф. Шмурло по памяти пытался восстановить свой труд. В 1931 г. в Праге была опубликована одна из его глав, посвященная первым годам петровского правления156. Е. Ф. Шмурло, как в свое время С. М. Соловьев, полагал, что необходимость реформ назрела в русском обществе задолго до Петра, первостепенные задачи этого пути уже были сформулированы предшествующими поколениями. Признавая гениальность царя-реформатора, историк вовсе не был склонен рассматривать его появление на троне, его реформаторский курс как нечто необычное, случайное. Личность для него отражала эпоху, и сама оказывала на нее влияние. При этом, «индивидуальность человеческой воли, человеческого понимания вносят бесконечные вариации, бесчисленные оттенки в жизнь общества…»157 Е. Ф. Шмурло не противопоставлял Петра и его время всему предшествующему развитию России. Титаническая фигура царя не заслоняла дореформенного прошлого, как это было, например, у М. П. Погодина. 154 Шмурло Е. Ф. Сборник документов относящихся к истории царствования императора Петра Великого. Т. 1. 1693 – 1700. Юрьев, 1903. 155 Исключение составила только одна глава «Детство Петра I», опубликованная С.В. Ефимовым: Ефимов С. В. Российский историк Евгений Францевич Шмурло и его неизданная монография «Петр Великий: от колыбели до Великой Северной войны» // Ораниенбаумские чтения. Вып. I (Эпоха Петра Великого). СПб., 2001. С. 245 – 279. 156 Но и вновь подготовленная к изданию рукопись не вышла в свет. Шмурло Е. Ф. Государствование Петра Великого в первые годы по воцарении // Сборник Русского института в Праге. Прага, 1931. Т. 2. С. 29 – 58. 157 Цит. по: Саханев В. В. Евгений Францевич Шмурло. С. 63. 59 Петровская эпоха была закономерным итогом предшествующего развития России. В 1929 г. в Праге вышла книга Е.Ф. Шмурло о взглядах Вольтера на Петра и его время158. Историк тщательно проследил обстоятельства создания французским просветителем его знаменитой книги о царе-реформаторе, источники знаний автора о Петре, реакцию современников на появление его труда. Детальное знание темы и глубина ее раскрытия были соединены с блестящим литературным изложением, что превратило работу Е.Ф. Шмурло в увлекательное научное произведение. По сей день книга русского историка дает «наиболее развернутую характеристику и оценку главного сочинения Вольтера о Петре I»159. В Праге Е.Ф. Шмурло неоднократно выступал как популяризатор знаний о Петре и его эпохе. В 1925 г. он выступил с лекцией «Петр Великий и его наследие»160, а вскоре опубликовал серию небольших научно-популярных статей, посвященных отдельным сюжетам истории военно-морского флота России в начале XVIII в. и роли царя-реформатора в ней161. Историк был горячим поклонником Петра. Вместе с тем он никогда не закрывал глаза на недостатки самодержца, не стремился затушевать их. Для Е. Ф. Шмурло, как и для большинства эмигрантов, образ Петра вселял надежду на возрождение России. Уже упомянутую популярную лекцию 1925 г. историк закончил следующими словами: «Нет, Петр еще не умер! Его дух еще живет и веет среди нас! Его великие заветы слу- 158 Шмурло Е. Ф. Вольтер и его книга о Петре Великом. Прага, 1929. Мезин С. А. Взгляд из Европы: французские авторы XVIII века о Петре I. Саратов, 2003. С. 73. 160 ГА РФ. Ф. Р-5965. Оп. 1. Д. 46; Шмурло Е. Ф. Петр Великий и его наследие. Прага, 1925. 161 Шмурло Е. Ф. Петр Великий – основатель русского военного флота // Морской журнал. Прага, 1928. № 1. С. 7 – 9; Он же. Месяц январь в жизни Петра Великого // Там же. С. 9 – 10; Он же. Кто был первым адмиралом русского флота // Там же. № 3. С. 6 – 9; Он же. Первое появление Петра Великого на Балтийском море (май 1703 года) // Там же. № 5. С. 5 – 9; Он же. Первые этапы Петра Великого на пути к морю (июнь 1688 г.) // Там же. № 6 – 7. С. 10 – 16; Он же. Отзыв итальянца о русском флоте 1706 года // Там же. С. 16 – 17; Он же. Петр Великий на Белом море // Там же. №. 9. С . 9 – 11 и др. 159 60 жения родине продолжают звучать набатным колоколом! Его мысль еще горит для нас ярким светочем! А с таким вождем-светочем нам не погибнуть!»162 Примеру Е. Ф. Шмурло следовали и молодые историки. Предметом пристального внимания С. Г. Пушкарева стали экономические преобразования Петра163. Историк ставил в заслугу императору признание частных интересов главным двигателем промышленного развития и осознание им необходимости свободной конкуренции. С. Г. Пушкарев доказывал, что петровскую экономическую политику нельзя рассматривать как политику меркантилизма, и что сам этот термин толкуется по-разному и не является научной догмой. С его точки зрения, элементы меркантилизма всегда присутствуют в экономике любого государства. Примечательно, что работа получила высокую оценку В. И. Пичеты, который мог познакомиться с ними, находясь в научной командировке в Праге в 1920-х гг. Он отметил тщательное изучение своим эмигрантским коллегой источников и литературы и согласился с его доводами. В подтверждение выводов С. Г. Пушкарева В. И. Пичета заключал, что «меркантилистические следы можно найти в политике Петра, но считать последнего след за Брикнером и Ключевским представителем так называемого чистого меркантилизма не приходится»164. Таким образом, можно засвидетельствовать, что интерес к петровской эпохе объяснялся не только прочной научной традицией, но и желанием эмигрантов ответить на злободневные вопросы современности, в том числе и на вопрос об истоках русской революции. Иногда это желание приобретало необычный исследовательский ракурс. Многие разделяли идею о «запаздывании» русской истории, имея в виду слишком позднее освобождение дворян, отмену крепостничества, создание парламента, искусственное торможение верховной властью ре162 Шмурло Е. Ф. Петр Великий и его наследие. С. 6. Puškarev S. Zásady obchodni a průmyslové politiky Petra Velikého // Sborník věd právních a státních. Praha, 1926. T. XXVI. № 3. S. 271 – 318. 164 Архив РАН. Ф. 1548. Оп. 1. Д. 424. Л. 1. 163 61 форм. Эмигранты искали в прошлом такие упущенные возможности. Они пытались понять, что нужно было сделать, или чего не нужно было делать, чтобы избежать революции. Примечательна полемическая статья А. А. Кизеветтера о «затейке верховников» в 1730 г.165 Историк продолжил линию изучения дворянского политического движения в 1730 г., начатую еще до революции Д. А. Корсаковым, П. Н. Милюковым и др. Именно со взглядами последнего полемизировал в эмиграции А. А. Кизеветтер. П. Н. Милюков считал, что группа русских дворян во главе с Д. М. Голицыным предполагала осуществить многообещающие реформаторские планы и ограничить самодержавную власть по примеру Польши и Швеции. П. Н. Милюков идеализировал Д. М. Голицына и переоценивал его политическую программу. Для него главным было доказать, что еще в XVIII в. в России обнаруживается стремление к демократии и парламентаризму. В противовес П. Н. Милюкову, А. А. Кизеветтер усомнился в конституционных планах Д. М. Голицына. Он отрицательно оценивал шляхетское движение и сделал вывод, что его участники выступали отнюдь не конституционалистами, а как устроители союза между самодержавной властью и частью дворянства. Союз этот, по мнению историка, в конечном счете превратился в оплот реакции и встал в оппозицию к истинному конституционному движению. История императорской России представлялась как волна реформ и реакции. Но даже к реформаторам, как было показано на примере Петра, отношение было противоречивым. Это правило касалось и Екатерины II. В среде пражской эмиграции появилось немало работ о ее царствовании. А. В. Флоровский начал заниматься историей Екатерины II еще до революции, работаю в Новороссийском университете. В первые годы эмиграции, сначала в Болгарии, а затем и в Чехословакии, он продолжал заниматься избранной 165 Кизеветтер А. А. Дворянские политические проекты 1730 г. // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1929. Т. II. С. 77 – 88. 62 темой. Очевидно, историку удалось вывезти с собой за рубеж некоторые материалы и наработки, сделанные за время работы в Новороссийском университете. Однако, в отсутствии возможности работы с российскими архивами и при нехватке нужной научной литературы, которая не всегда была представлена в зарубежных библиотеках, А.В. Флоровский постепенно отошел от екатерининской тематики. И если в первой половине 1920-х гг. он опубликовал ряд ценных статей по этой теме, то уже в 1930-х гг. появилась всего лишь одна его работа166. А. В. Флоровского интересовали экономические взгляды Екатерины167, работа Уложенной комиссии168, контакты с просветителями169, европейские отклики на «Наказ»170 и др. Он высоко ценил императрицу и показал ее деятельное участие во многих начинаниях, будь то написание ей комментариев к докладной записке о развитии в России промышленного производства 1767 г., составление документов, определяющих характер работы Уложенной комиссии, или ее споры с Дени Дидро. Иную оценку императрице давал А. А. Кизеветтер. Он несколько принизил ее роль в модернизационных процессах. Для него историческая роль Екатерины II была предопределена ее предшественниками. Она лишь пожинала плоды их трудов. Удача Екатерины заключалась в том, что она оказалась в нужное время в нужном месте: «по условиям исторического момента», она была «не ниже и не выше своей задачи, а как раз вровень с нею»171. Фигура 166 Florovskij A. Rusko, Polsko a východní otázka v 2. polovině 18. věku // Dějiny lidstva od pravěku k dnešku. Praha, 1939. T. VI. S. 421 – 464. 167 Флоровский А. В. К истории экономических идей в России в XVIII веке // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1928. Т. I. С. 81 – 93. 168 Флоровский А. В. К характеристике императрицы Екатерины II – законодательницы // Сборник Русского института в Праге. Прага, 1929. Т. 1. С. 261 – 278. 169 Флоровский А. В. Две политические доктрины («Наказ» и Дидро) // Труды IV съезда Русских академических организаций за границей. Белград, 1929. Ч. 1. С. 113 – 119. 170 Флоровский А. В. Шведский перевод «Наказа» императрицы Екатерины II // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Т. 1. С. 149 – 159. 171 Кизеветтер А. А. Екатерина Вторая: личность императрицы в свете новых изысканий // Сегодня. Рига, 1925. № 223. 4 октября; Он же. Екатерина II // Кизеветтер А. А. Исторические силуэты. Ростов-на-Дону, 1997. С. 120. 63 Екатерины на русском троне – случайна, но вот действия ее вполне закономерны. При Екатерине завершилось оформление сословно-дворянской империи, которой она смогла сообщить тот «культурный лоск и блеск, которого вообще можно было достигнуть при тогдашнем уровне русской монархии»172. А. А. Кизеветтер не считал Екатерину творческой натурой. Более того, он многократно подчеркивал, что ее начинания были проникнуты духом дилетантизма и посредственности. Во всех своих действиях она руководствовалась только эгоистическими интересами, желая, однако, всегда представить их как заботу о народном благе. Эгоизм сливался в ней с сознанием того, что только она способна на истинные добродетели, что только она сможет обеспечить процветание своих подданных. Екатерина ни на минуту не сомневалась в правоте своих действий, в своем мессианизме. Приговор А. А. Кизеветтера Екатерине выглядит строгим и суровым. Императрица была наполнена противоречиями: провозглашала свободу совести, но покарала московских масонов, заявляла о необходимости свободы слова, но расправилась с А. Н. Радищевым173. Историк признавал в ней бодрую, яркую, незаурядную натуру, «жадную до впечатлений бытия», но направленную при этом на «вбирание в себя всей полноты этих впечатлений и гораздо менее – на борьбу с окружающей действительностью»174. Эта непоследовательность власти в своих собственных поступках не давала возможности провести законченную модернизацию, что в конечном счете породило кризис, приведший к крушению империи. Екатерину II остро критиковали за церковную политику. Особо в этом преуспели историки-евразийцы. Г. В. Вернадский назвал ее церковные преобразования «сокрушительным ударом по всей исторической системе 172 Кизеветтер А. А. Екатерина II. С. 136. Кизеветтер А. А. Критически заметки по истории политических идей в России // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1928. Т. I. С. 77. 174 Кизеветтер А. А. Потемкин // Кизеветтер А.А. Исторические силуэты. Ростов-на-Дону, С. 135 – 136. 173 64 религиозно-нравственного воспитания русского народа»175. В этих условиях масонство стало выполнять роль «суррогата» церкви, привлекая множество сторонников, особенно среди интеллектуальной и политической элиты. Масоны группировались вокруг цесаревича Павла, что вызвало резкое недовольство Екатерины176. Свои взгляды Г. В. Вернадский изложил в популярной лекции «Десница и шуйца императорского периода», прочитанной в начале 1920-х гг. в популярном в Праге русском ресторане «Огонек». Историк доказывал, что «основные явления, которые вызвали к жизни … злые силы, приведшие в конце концов к революции, и есть отмена патриаршества и вообще отношение государства к церкви»177. В декабре 1925 г. русская диаспора за рубежом отмечала сразу два знаковых исторических события – столетие со дня смерти императора Александра I и восстания декабристов. Обе даты, неразрывно связанные между собой, способствовали появлению обширного круга научной и популярной литературы. Юбилеи способствовали пробуждению интереса к истории Александровского царствования и к личности самого императора. Во-первых, его эпоха всегда была и без сомнения будет оставаться одной из самых притягательных для российских и зарубежных историков. И дело не только в том, что на первую четверть XIX в. пришлись столь колоссальные подвижки на европейской внешнеполитической арене. Сама личность российского императора, по словам А. Н. Фатеева, была достойна «сюжета шекспировской трагедии»178. Интерес к ней всегда был неизменно высок как среди историков, так и среди литераторов. 175 Вернадский Г. В. Начертание русской истории. С. 243. Verandskij G. Le césarévitch Paul et les franc-maçons de Moscou // Revue des Études Slaves. 176 Paris, 1923. T. III. Fasc. 3 – 4. P. 80 – 121. 177 Козляков В. Н. Обзор коллекции документов Г. В. Вернадского в Бахметевском архиве Библиотеки Колумбийского университета в Нью-Йорке // Вернадский Г. В. Русская историография. М., 2000. С. 442. 178 Fatéev A. La problème de l’individu et de l’homme d’étate dans la personalité historique d’Alexandre I, empereur de touts les Russes // Записки Научно-исследовательского объединения при Русском свободном университете. 1936. T. III (VIII). № 16. P. 139 65 Не стоит также забывать, что Александровская эпоха была временем упущенных возможностей для России: отмены крепостного права, широких государственных реформ, введения конституции и народного представительства и т.д. Она была ярким примером того, как задуманные широкие реформаторские планы постепенно измельчали и обернулись реакцией. В одной из юбилейных статей А. А. Кизеветтер писал, что долгое время об Александре неверно судили как о слабовольном правителе, который легко попадал под чужое влияние. На самом деле император был уступчив лишь по отношению к тому, что его не интересовало. Он лишь разыгрывал из себя уступчивого человека, чтобы заставить окружающих людей служить его целям. Ключ к этому двуличию следует искать в душе императора, который всегда жил «миром мечты и миром действительности», и поэтому одновременно нуждался и в М. М. Сперанском, и в А. А. Аракчееве. Историк пришел к заключению, что «Александр I был одним из тех исторических деятелей, которые не поддаются изображению немногими крупными мазками». Поэтому следует долго и пристально вглядываться в «многообразные и порой противоречивые проявления его сложной психики, чтобы найти подход к тайне его личности»179. Этот призыв нашел отражение в работах А. Н. Фатеева. Свои исследования он, будучи чрезвычайно разносторонним и эрудированным человеком, строил на стыке истории, правоведения, психологии, философии, социологии и т.д. Он обращал внимание на «политический темперамент», идеалы, интересы исторических деятелей и ввел понятие «политического профиля», под которым понималась совокупность общественно-политических взглядов, формирующихся под влиянием внешних и внутренних жизненных обстоятельств. На протяжении 1936 – 1939 гг. в Праге на французском языке выходила его большая монографическая статья об Александре I180. Работе был присущ 179 Кизеветтер А. А. Александр Первый // Сегодня. 1925. № 271. 2 декабря. Fatéev A. La problème de l’individu et de l’homme d’étate dans la personalité historique d’Alexandre I, empereur de touts les Russes // Записки Научно-исследовательского объединения 180 66 глубокий исторический психологизм. А. Н. Фатеев не случайно уделил главное место фигуре царя как человека с его чувствами и страстями. Мы не найдем в этой статье описаний полей битв или хитросплетений дипломатической игры, зато увидим моральный облик ведущих представителей эпохи, бессознательные впечатления детства, отложившиеся в душе Александра, его привычки, манеры и т.д. Судьба императора и его деяния рассматривались с точки зрения противоречия в нем индивидуума и «государственного человека». Перед нами даже не биография, а историко-психологический портрет человека на фоне эпохи, пусть даже увенчанного царской короной. Историк в своих построениях исходил из того, что в душе Александра развивался конфликт между человеческой государственным предназначением. Этот натурой раскол и только его высоким усиливало его понимание собственного предназначения. Взойдя на престол, он вывел для себя правило, будто монарх не может следовать путем, которое чертит ему сердце. Он убеждал себя в несовместимости трона и широкой политической деятельности с человеческими чувствами. У Александра не было личной жизни, а была жизнь двора. «Государственный человек» подавлял в нем индивида181. Психологический разлад в душе императора проявлялся на политической арене на всем протяжении его царствования. История царствования Александра I не раз становилась сюжетом обсуждения на заседаниях Русского исторического общества. 4 декабря 1925 г., как вспоминал Б. Н. Лосский, состоялся вечер, посвященный «“прекрасному” началу и печальному концу царствования “Александра Благословенного” – со вступительной речью председателя вечера Е. Ф. Шмурло, обстоятельной лекцией Г. В. Вернадского и, должно быть, художественным при Русском свободном университете. 1936. T. III (VIII). № 16. P. 139 – 178; 1937. T. V (X). № 26. P. 1 – 36; 1938. T. VII (XII). № 40. P. 1 – 42; 1939. T. IX (XIV). № 65. P. 1 – 47. 181 Fatéev A. La problème de l’individu et de l’homme d’étate. T. III (VIII). № 16. P. 159, 164; T. V (X). № 26. Р. 5 etc. 67 дивертисментом»182. В своем докладе «Об императоре Александре I» Е. Ф. Шмурло дал критическую оценку императору. Он признавал его одной из самых сложных и противоречивых фигур в российской истории. Ключ к пониманию этих противоречий он искал в самой личности царя, в характере его окружения и воспитания, в косвенном участии в убийстве отца. На первый план у Е. Ф. Шмурло вышел не государь, а личность. Историк отметил, что у Александра не было никакой определенной ни внутри-, ни внешнеполитической программы. Он не смог реформировать государственной системы, не извлек нужных для страны выгод от падения Наполеона и дал воспользоваться ими другим. Е. Ф. Шмурло огласил суровый приговор: «Как государь, Александр, быть может, не заслуживает снисхождения, но, как человека, его нельзя не жалеть»183. Г. В. Вернадский посвятил свой доклад славянскому вопросу в первую половину царствования Александра I. В своем докладе историк осветил движущие мотивы русской дипломатии в решении славянского вопроса, выявил источники, повлиявшие на славянскую политику Александра. Он исследовал попытки реализации этих внешнеполитических планов в разгар наполеоновских войн184. Г. В. Вернадскому принадлежало весьма ценное исследование о Государственной уставной грамоте 1820 г.185 в своей книге он затронул 182 ГАРФ. Ф. 5891. Оп. 1. Д. 254. Л. 4 – 4 об.; Лосский Б. Н. Указ. соч. С. 56 – 57; Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. Praha, 2000. T. I. S. 217. 183 Шмурло Е. Ф. Император Александр I (К характеристике его личности) // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Т. 1. С. 42. 184 ГА РФ. Ф. 5891. Оп. 1. Д. 254. Л. 4 – 4 об.; Вернадский Г. В. Славянский вопрос в политике императора Александра I в первую половину его царствования // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Кн. 1. С. 10 – 11. В 1927 г. во французском журнале «Revue des Études Slaves» появилась статья Г. В. Вернадского «Александр I и славянская проблема в первую половину его царствования», которая была подготовлена не основе его доклада в Русском историческом обществе. См.: Vernadskij G. Alexandre I et le problème Slave pendant la première moitié de son règne // Revue des Études Slaves. Paris, 1927. T. VII. Fasc. 1 – 2. P. 94 – 111. Русский перевод статьи: Вернадский Г. В. Александр I и славянская проблема в первую половину его царствования // Славянский сборник: Межвузовский сборник научных трудов. Саратов, 2009. Вып. 7. С. 145 – 159. 185 Вернадский Г. В. Государственная уставная грамота Российской империи 1820 г. Прага, 1925. 68 ключевой вопрос Александровского царствования – преобразование государственного строя. Г. В. Вернадский не был склонен делить правление императора на две части: реформаторскую и реакционную. Наоборот, он доказывал его логическое единство186. Историк был убежден, что Государственная уставная грамота, составлявшаяся в 1817 – 1820 гг. по личному распоряжению Александра I, представляет большое значение для исследования государственно-правовых идей в России. Это был проект, сочетавший федеративное устройство с монархической властью. Грамота не была «случайным или малообдуманным наброском политической реформы», а наоборот, занимала важное место в политической системе Александра I, задачей которой было «приспособить начала западной (французской, английской, американской) политической теории к основам русской исторической жизни»187. Государственная уставная грамота так и осталась проектом. И все же Г. В. Вернадский полагал что, «если бы не безвременная кончина Александра I, то вероятно Уставная грамота так или иначе перешла бы из области предположений в область действительности»188. Взгляды Е. Ф. Шмурло и Г. В. Вернадского оказались противоположными. Если первого из них поражали в императоре «сочетание либерализма с крайним 186 Эту идея Г. В. Вернадский впервые высказал на III съезде Русских академических организаций за границей в октябре 1924 г. В своем докладе он попытался отойти от шаблонного представления о второй половине царствования Александра I как периоде политической реакции. Он доказывал, что именно в это время готовились всеобъемлющие государственные реформы и предположил, что введение военных поселений было шагом на пути к отмене крепостного права (См.: Кизеветтер А. А. Историческая наука на съезде в Праге // Руль. 1924. 16 октября. № 1117). Сообщение историка вызвало многочисленные споры. Его противниками выступили как либералы (А. А. Кизеветтер), так и пражские эсеры, особое негодование которых встретил тезис ученого о целесообразности крепостного права для государственного развития на определенных этапах. Г. В. Вернадский писал отцу: «Меня … продолжают травить за мои выступления на съезде ученых …, мое имя у эсеров и большевиков стало совсем крамольным – им надо было выдумать что-нибудь про съезд и русскую эмигрантскую науку – вот я и явился козлом отпущения» (См.: Сорокина М. Ю. Георгий Вернадский в поисках «русской идеи» // Российская научная эмиграция: Двадцать портретов. М., 2001 С. 340). 187 Вернадский Г. В. Государственная уставная грамота. С. 1. 188 Там же. С. 45. 69 деспотизмом, его неустойчивость, неуравновешенность», то второго привлекали его «широкий государственный ум…, который особенно ярко проявился в постановке славянской проблемы»189. На уже названном заседании Русского исторического общества 4 декабря 1925 г. попытался взять слово профессор Д. Н. Вергун, который пожелал сделать сообщение о Федоре Кузьмиче. Однако Е. Ф. Шмурло слова ему не дал и заявил, что его доклад будет заслушан в следующий раз. Очевидно, что историк не хотел давать слово своему коллеги в силу огромной спорности и мифологизированности его темы. И все же Д. Н. Вергун добился своего и вскоре выступил. По его инициативе 23 декабря 1925 г. прошел еще один вечер, посвященный Александру I. В своем докладе историк пытался доказать, что император и сибирский старец представляют одно и тоже лицо190. Он апеллировал к слухам, будто при вскрытии могила Александра I оказалась пустой. Для окончательного разрешения вопроса он предлагал созвать комиссию, включавшую и историков, оставшихся в России. Этот доклад вызвал очень острую дискуссию. А. А. Кизеветтер, В. В. Саханев, С. В. Завадский убеждали собравшихся, что «Император Всероссийский не иголка, чтобы его могли потерять в стоге сена»191. Археолог А. П. Калитинский занял нейтральную и примиренческую позицию. Он обратил внимание на противоречивость многих свидетельств и фактов и доказывал, что точку в вопросе о Федоре Кузьмиче и Александре ставить пока рано. А. А. Кизеветтер раскритиковал докладчика с позиций историка-реалиста, который видел в отождествлении Александра I и Федора Кузьмича продукт спекулянтского мифотворчества. Доводы своего коллеги он сравнил с рассказом о капитане Копейкине в гоголевских «Мертвых 189 Русское историческое общество // Возрождение. 1925. 16 декабря. № 197; Русское историческое общество // Руль. 1924. № 1239. 190 Вергун Д. Н. Легенда о Федоре Кузьмиче и новейшие данные о гробнице императора Александра I // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Кн. 1. С. 9 – 10. 191 Андреев Н. Е. Указ. соч. Т. I. С. 297 – 298. 70 душах»192. В то же время Д. Н. Вергуна поддержал В. Ф. Булгаков, правда привел в качестве доказательства странный аргумент. Он рассказал о том, что во время своего посещения жилища старца в Сибири обратил внимание на … отхожее место, которое было в XIX в. редкостью в тех краях! Но затем все же заключил, что «как бы то ни было, воспоминание о Кузьмиче дорисовывает моральный портрет Александра I»193. Показательно, что старая легенда о смерти Александра I продолжала жить и неожиданно оживилась в эмигрантской среде, она отражала тягу к историческим сенсациям. История несостоявшихся реформ привлекала внимание и к фигуре М. М. Сперанского, чему также способствовала столетняя годовщина создания Полного свода законов Российской империи. А. Н. Фатеев исследовал жизнь и деятельность М. М. Сперанского. К этой теме он обратился еще до революции, когда работал в Харьковском университете. В конце 1920-х гг. он подготовил к печати большой 500-страничный труд о великом реформаторе, который так и не был издан. Но отрывки из этой книги А. Н. Фатеев выносил на суд читателя в эмигрантской периодике на всем протяжении 1920-х – 1930-х гг. К столетнему юбилею издания Полного свода законов А. Н. Фатеев опубликовал несколько тематических работ194. Историк прибег к сравнительному изучению истории кодификации законодательства во Франции, Германии, Англии и пришел к выводу, что нигде в Европе нельзя найти аналогов грандиозной работе М. М. Сперанского. Значительное место уделялось эмигрантами осмыслению движущих сил, идеологии и последствий общественного движения в России XIX в. Чрезвычайно популярной была декабристская тематика. Эмигранты отмечали современ192 Лосский Б. Н. Указ. соч. С. 57. Там же. С. 57 – 58. 194 Фатеев А. Н. К истории и теории кодификации // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1931. Т. IV. С. 3 – 22; Он же. Академическая и государственная деятельность М. И. Балугьянского (Балудянского) в России // Карпаторусский сборник. Ужгород, 1931. С. 146 – 208; Он же. Свод законов и его творец // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1932. Вып. 7. С. 27 – 92 и др. 193 71 ность декабристов. А. А. Кизеветтер писал: «Не археологический интерес связан для нас со столетним юбилеем их выступления. Чествуя их память, мы чувствуем дрожание многих струн собственного сердца»195. Восстание декабристов он относил к событиям, которые не просто вызывают волнение современников, но сохранят «электризующую силу» и для последующих поколений. В этом событии все поражало исключительностью: и отвага молодых офицеров, бросивших вызов всемогущей власти, и их самоотверженность, и сами их политические идеалы196. Эмигранты стремились противопоставить памятные мероприятия за рубежом аналогичным действам в СССР. Большевики попытались монопольно присвоить себе память о декабристах. Они подрывали основы либерального мифа о декабристах и провозглашали новую легенду. Большевики порождали не просто новую парадигму революционного движения, но и новую память, что вызвало возмущение среди граждан Зарубежной России. Поэтому статьи эмигрантских авторов были проникнуты полемикой с историками-марксистами, провозглашавшими новый, классовый подход к изучению декабристского движения. Парижские «Последние новости» в редакционной передовице, написанной, вероятно, П. Н. Милюковым, писали, что большевики не имеют ни морального, ни исторического правительство права отмечать насильников, юбилей тщетно декабристов: пытающееся «Не может погасить идеи провозвестников свободы среди дыма и грязи, на мрачном пепелище неоконченной борьбы – не может это правительство начинать свою историю с декабристов и объявить их своими героями»197. Примечательны работы А. А. Кизеветтера, написанные в полемике как с советскими историками, так и правыми кругами русской эмиграции198. В отличие 195 Кизеветтер А. А. Столетие декабристов // Руль. 1925. № 1541. 25 декабря. Кизеветтер А. А. Декабристы // Сегодня. 1925. № 25 декабря. 291. 197 Годовщина восстания декабристов // Последние новости. 1925. 27 декабря. № 1742. 198 Цепилова В. И. Указ. соч. С. 130 – 133. 196 72 от М. Н. Покровского и Н. А. Рожкова, он считал идеологию декабристов надклассвой и полагал, что им удалось перешагнуть через сословные интересы. Декабристы стояли за уничтожение сословий и крепостничества, поэтому «все попытки большевистских историков изобразить декабристов защитниками узко сословных дворянских интересов лишены … всякого основания и стоят в полном противоречии с историческими данными»199. Тем же полемическим пафосом проникнута статья А. А. Кизеветтера о книге Казимира Валишевского. В 1923 – 1925 гг. в Париже увидел свет последний большой труд польского историка о царствовании Александра I200. Он принижал уровень духовного развития российского общества в начале XIX в. и полагал, что все оно было пронизано стихией большевизма, а декабристы были его предшественниками. А. А. Кизеветтер увидел в ней карикатурно изображение эпохи201. Он оценивал декабристов как обреченных жертв, которые не рассчитывали на успех своего выступления и даже предвидели его печальный конец, но все же прибегли к демонстрации протеста против самодержавия. Историк назвал их действия «политическим харакири» и «добровольным самозакланием, рассчитанным на психологическое воздействие, если не на современников, то на потомство»202. Он подчеркивал самоотверженность, которой, очевидно, не хватило противникам большевиков: «Элемент самоотвержения пронизывал все миросозерцание этих политических идеалистов… Можно, сколько угодно, критиковать те или иные их положения. Можно признавать за некоторыми из них не малые личные слабости. Но все это отступает на задний план перед нравственным блеском их самопожертвования»203. 199 Кизеветтер А. А. Декабристы // Сегодня. 1925. № 291. 25 декабря. Waliszewsky K. La Russie il y a cent ans. La règne d’Alexandre I. Paris. 1923 – 1925. Vol. I – III. 201 Кизеветтер А. А. Валишевский об Александре I // На чужой стороне. Берлин – Прага, 1925. № 13. С. 228 – 244. 202 Кизеветтер А. А. Заметки о декабристах // Современные записки. Париж, 1923. Кн. 16. С. 400. 203 Кизеветтер А. А. Столетие декабристов // Руль. Берлин, 1925. 25 декабря. № 1541. 200 73 Все авторы отмечали современность и актуальность декабристского наследия. Выйдя на Сенатскую площадь, декабристы опередили свое время. Лишь сегодня история подготовила условия для осуществления их идеалов. Социально-политическое главными лозунгами равенство, республика, современности. Споря с федерализм оказались историками-марксистами, А. А. Кизеветтер подчеркивал, что в отличие от большевиков декабристы руководствовались не классовыми интересами, а общенациональным благом, что они были не интернационалистами, а патриотами, и что они были сторонниками укрепления государственности: «Каковы бы ни были недостатки личного характера отдельных декабристов, – образ этих баловней фортуны, добровольно разбивших привилегированных свои дворян, жизни поднявших во имя блага восстание родины, против этих сословных привилегий, этих рабовладельцев, требовавших уничтожения крепостного права и народного рабства, – никогда не померкнут в памяти потомства»204. Гораздо сложнее было объяснить развитие революционного движения во второй половине XIX – начале ХХ вв. Как уже говорилось выше, провозглашенный евразийцами «конструктивный подход» к революции вызвал ожесточенную критику среди интеллектуалов старшего поколения. Налицо было стремление противопоставить русских революционеров XIX в. большевикам. В этом плане примечательно отношение к фигуре Н. Г. Чернышевского. Его фигура была предметом противоречивых оценок в среде русской эмиграции205. После событий революции 1917 г. многие стали видеть в нем предтечу русской смуты, идейного вдохновителя и одного из учителей В. И. Ленина. Тем более что он сам восторженно отзывался о Н. Г. Чернышевском, хорошо знал и почитал его работы. 204 Кизеветтер А. А. Декабристы // Сегодня. Рига, 1925. 25 декабря. № 291; Цепилова В. И. Указ. соч. С. 131. 205 Широкую известность получил роман В. В. Набокова «Дар», в котором устами главного героя писатель выражает негативную оценку наследия Н. Г. Чернышевского. 74 Еще до революции широкое распространение получил апологетический взгляд на писателя, «его человеческие слабости, наивные и решительные суждения об искусстве, художественная беспомощность романа – все не замечалось или оправдывалось в свете образа подвижника-революционера»206. Продолжателем этой линии в кругу эмигрантов был историк и литературовед Е. А. Ляцкий, который еще до революции славился как крупнейший специалист по творчеству Н. Г. Чернышевского. К столетнему юбилею русского революционера Е. А. Ляцкий напечатал в Праге небольшую статью, в которой пытался реабилитировать своего героя в глазах тех, кто видел в нем предвестника русской революции. Он специально обратил внимание, что именно Н. Г. Чернышевский одним из первых в Европе опровергал постулаты социального дарвинизма, иначе говоря, доказал, что классовая борьба вовсе не является обязательным условием прогресса и достижения социальной справедливости. В глазах читающей публики Зарубежной России которая на себе успела ощутить, что такое классовая борьба по-большевистски, такое замечание могло бы быть принципиально важным. Иная позиция была отражена в известном романе В. В. Набокова «Дар» (1937), в котором устами главного героя писатель выразил негативную оценку Н. Г. Чернышевского. В. В. Набоков обращался к нему как к самой крупной фигуре в революционном движении второй половины XIX в. и через призму его судьбы пытался понять истоки революционных потрясений ХХ в. Приговор молодого русского литератора звучал столь сурово, что редакция журнал «Современные записки» при первой публикации романа опустила четвертую главу, которая как раз была посвящена творчеству Н. Г. Чернышевского. Показательно А. И. Герцену. и Правда уважительное здесь их отношение роднил, 206 в русской первую эмиграции очередь, к общий Качурин М. Чернышевский в романе Набокова «Дар» // Новый журнал. Нью-Йорк, 2003. Кн. 233. С. 258. 75 изгнаннический статус. Одной из форм сохранения памяти об А. И. Герцене, его общественной и журналистской деятельности стало собирание его архивных материалов, инициаторами которого выступили историки-архивисты из Русского заграничного исторического архива. Судьба этих бумаг напоминала настоящую приключенческую историю, настолько необычную, что она заслуживает подробного изложения. После смерти А. И. Герцена его личного архива стал сын Александр (1839 – 1906), профессор физиологии, работавший во Флоренции, а затем в Лозанне, и перевезший туда бумаги отца. После смерти Н. П. Огарева в 1877 г. его документы также осели в Швейцарии, куда их вывезла из Англии дочь А. И. Герцена Наталья. Но целостность коллекции была вскоре нарушена. Наследникам П.-Ж. Прудона, Л. Блана и А. Саффи в ответ на настойчивые просьбы была возвращена переписка их революционных предков с А. И. Герценом, было утеряно собрание писем А. И. Герцену известных современников: Л. Кошута, К. Шурца, Т. Карлейля, Д. Клапки и др. Сам А. А. Герцен считал все материалы своего отца национальным достоянием. И поэтому в середине 1890-х гг. он начал частично передавать его бумаги в Москву в Румянцевский музей. Почти все они касались литературной деятельности А. И. Герцена и не затрагивали истории освободительного движения. По-видимому, А. А. Герцен побоялся передавать такие материалы в Россию, оправданно полагая, что они будут использованы полицией. В то же самое время в начале 1880-х гг. живой интерес к герценовским материалам проявил М. П. Драгоманов, живший в ту пору в Женеве. Видный украинский историк с большим уважением относился к фигуре А. И. Герцена, несмотря на некоторые теоретические расхождения с ним. По сути, А. И. Герцен был единственным человеком в русском революционном движении, к гуманизму и либерализму которого М. П. Драгоманов относился с полным доверием. Он обратился к А. А. Герцену с предложением издать бумаги его 76 отца. Эта идея нашла поддержку, и вскоре значительная часть герценовского архива была передана историку. М. П. Драгоманов поставил своей задачей публикацию эпистолярного наследия А. И. Герцена и Н. П. Огарева207. В 1881 – 1883 гг. он издал в женевском журнале «Вольное слово» письма И. С. Аксакова, Б. Н. Чичерина и подготовил к печати серию писем К. Д. Кавелина, И. С. Тургенева и М. А. Бакунина к А. И. Герцену. Но М. П. Драгоманов скоропостижно скончался в 1895 г. в Болгарии, не успев завершить свою работу. Часть документов вернулась к А. А. Герцену и была им впоследствии передана в Румянцевский музей. Большая же часть архива осталась в Софии в руках Л. М. Драгомановой, дочери украинского ученого, вышедшей замуж за болгарского историка И. Шишманова. В 1918 г. она ездила в Киев в качестве болгарского посланника при гетмане П. П. Скоропадском и, вероятно, увезла с собой некоторые бумаги А. И. Герцена, которые затем безвозвратно пропали. В 1932 г. Л. М. Драгоманова-Шишманова передала личные документы своего отца в Варшаву, куда, очевидно, попала и часть рукописей А. И. Герцена и Н. П. Огарева208. Судьба этих бумаг также неизвестна, но, можно предположить, что они безвозвратно погибли во время Второй мировой войны209. 207 М. П. Драгоманов писал 22 февраля 1888 г. И. Я. Франко: «Никак нельзя отложить работу над корреспонденцией старого Герцена, которую передал мне его сын. На первую долю пошли письма Огарева с 1833 до 1848, страшно интересный материал… Дни и ночи проводим мы с женой над этими письмами…» (Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. Львів, 2006. С. 275). 208 От редакции // Литературное наследство. Т. 61: Герцен и Огарев. I. М., 1953. С. 1 – 2. 209 В конце 1930-х гг. Украинский научный институт в Варшаве предпринял публикацию части архива М. П. Драгоманова. Предполагалось издать несколько томов, но до начала Второй мировой войны успел выйти в свет только один из них. См.: Архiв Михайла Драгоманова. Т. 1: Листування Киiвськоi староi громади з М. Драгомановим (1870 – 1895 р.р.). Варшава, 1938. Он включал в себя публикацию переписки М. П. Драгоманова с Б. В. и В. И. Антоновичами, Т. Г. Лебединцевым, О. Ф. Кистяковским, М. В. Лисенко и др. украинскими национальными деятелями. Герценовские материалы в этот том не вошли, хотя в самих письмах имя русского революционера упоминается не раз (С. 168, 268, 271, 272, 305, 383, 402). Имя А. И. Герцена многократно встречается и в недавно опубликованной переписке М. П. Драгоманова с И. Я. Франко, что еще раз свидетельствует о его внимании к личностям и идеям русского революционера (Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. С. 9, 17, 31, 32, 42, 275, 312, 349, 449, 508). 77 Герценовские материалы попали во внимание представителей Русского заграничного исторического архива еще в конце 1920-х гг. Но только в конце 1932 г. его сотрудники при посредничестве профессора В. А. Мякотина и чехословацкого посла в Болгарии П. Максы приобрели у Л. М. ДрагомановойШишмановой архив ее отца за 24.000 крон210. Герценовская коллекция Русского заграничного исторического архива пополнилась весной 1937 г., когда после смерти старшей дочери А. И. Герцена – Н. А. Герцен, – хранившиеся у нее документы были переданы в Прагу211. Таким образом, к концу 1930-х гг. в чешской столице была собрана внушительная коллекция герценовских материалов. Но пражское собрание никогда не было всеобъемлющим. Оно включало в себя остатки личного архива самого А. И. Герцена, собранную после его смерти коллекцию писем к детям, комплекс писем 1860-х гг. А. И. Герцена к Н. П. Огареву, бумаги Н. А. Герцен, архив М. К. Рейхель, рукописи М. А. Бакунина и других лиц из окружения А. И. Герцена и Н. П. Огарева, коллекцию портретов, фотографий, семейных реликвий212. Самой ценной частью были рукописи А. И. Герцена и огромный массив его корреспонденции, содержавший часть редакционной переписки «Колокола», письма в связи с изданием романа Н. Г. Чернышевского «Пролог», письма И. С. Тургенева, М. А. Бакунина, Л. И. Мечникова, П. Л. Лаврова, А. С. Серно-Соловьевича, Н. И. Утина, В. И. Кельсиева, Ф. И. Родичева и других видных российских и зарубежных общественных деятелей. Однако понастоящему изучить герценовские документы никто из историков-эмигрантов не 210 Однако в Прагу были переданы не все материалы. Часть из них оставалась в Софии в собрании И. Шишманова, которое после его смерти было передано на хранение в Болгарскую академию наук и долгое время оставалось научно невостребованным. Только в 1953 г. после публикации первого тома материалов А. И. Герцена и Н. П. Огарева в сборнике «Литературное наследство» (М., 1953. Т. 61) болгарский ученый П. Миятев подготовил статью с описанием герценовской коллекции. Президиум Болгарской академии наук решил подарить эти материалы СССР, и в начале 1954 г. они были перевезены в Москву. 211 Výroční zpráva slovanských archivů Ministerstva věcí zahraničníh // Ročenka Slovanského Ústavu. Sv. X za rok 1937. Praha, 1938. S. 245. 212 От редакции // Литературное наследство. Т. 61: Герцен и Огарев. Ч. I. М., 1953. С. 2. 78 успел. Этому помешала сначала начавшаяся Вторая мировая война, а затем передача всего собрания Русского заграничного исторического архива в СССР. Но одновременно с уважительным отношением ко многим деятелям освободительного движения среди историков-эмигрантов распространилась и позитивная оценка отдельных официальных политических деятелей второй половины XIX – начала ХХ вв. То есть речь шла о представителях власти, которые еще недавно подвергались жесткой критике как со стороны либералов, так и со стороны традиционалистов. Переоценка затронула, в частности, императора Александра II. Император стал восприниматься если не как образцовый государь, то по крайней мере как мудрый политик, осознавший кризисное положение России, и сумевший путем реформ предовратить революцию. Показательны слова А. А. Кизеветтера, произнесенные им во время публичной лекции об отмене крепостного права в России: «…Ал[ександр] II, можно сказать, поднялся на высшую ступень политич[еской] мудрости. Ибо истинная задача мудрой власти в том и состоит, чтобы уметь предубеждать внутренние потрясения, своевременно беря в свои руки проведение крупных и смелых реформ, отвечающих назревшим потребностям народной жизни. И как раз именно то обстоятельство, что для принятия такого решения Ал[ександр] II д[олжен] был отрешиться от своих прежних предубеждений к[ак] бы сказать – переломить сам себя, – увеличивает его историч[ескую] заслугу (подчеркнуто в тексте – М.К.)»213. М. Хальбвакс писал об особом восприятии человеком новейшей истории, которая даже специалиста интересует иным образом, чем история других веков: «Эта эпоха, в отличие от других, живет в моей памяти, поскольку я был в нее погружен, и многие мои воспоминания о том времени попросту являются ее отражением»214. Отношение историков-эмигрантов к недавнему прошлому было 213 Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 566. Карт. 6. Д. 10. Л. 5 – 5об. 214 Хальбвакс М. Указ. соч. С. 22. 79 неоднозначным. И эту неоднозначность можно объяснить тяжестью воспоминаний, которые навевали им мысли о потерянной Родине, и о тех трагических событиях, которые им пришлось пережить. С одной стороны, налицо было желание интеллектуалов понять корни произошедшей исторической катастрофы, но, с другой стороны, воспоминания о недавних событиях травмировали душу и поэтому о них желали забыть. Не поэтому ли и А. А. Кизеветтер, и Н. П. Кондаков обошли стороной в своих мемуарах тему революции и Гражданской войны? Свою книгу воспоминаний «На рубеже двух столетий» А. А. Кизеветтер заканчивал рассказом о том, как летом 1914 г. на даче близ Можайска он встретил извести о начале Первой мировой войны: «Но для описания того, что пришлось пережить за время войны и революции, потребовалась бы книга много больше той, которую я решаюсь предложить теперь вниманию читателей. Да и трудно было бы писать сейчас такую книгу. Тяжело бередить незакрывшиеся раны»215. И все же образованные круги эмиграции не могли обойти стороной вопрос о причинах революции. Помимо критики власти, доведшей страну до кризиса, не менее распространенным было представление о моральной ответственности интеллигенции. Так П. Б. Струве писал по этому поводу: «Мы слишком безоглядно критиковали и порочили перед иностранцами свою страну. Мы более чем недостаточно бережно относились к ее достоинству, ее историческому прошлому»216. Для него само явление революции объяснялось «совпадением того извращенного идейного воспитания русской интеллигенции, которое она получила в течение почти всего XIX века, с воздействием великой мировой войны на народные массы…»217 Русский экономист и историк в своей концепции пришел к выводу, что трагедия интеллигенции, с одной стороны, заключалась в отчуждении ее от государственной власти (притом по вине последней), а с другой, в том, что она 215 Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий: Воспоминания 1881 – 1914. Прага, 1929. С. 523 – 524. 216 Струве П. Б. Размышления о русской революции. София, 1921. С. 6. 217 Струве П. Б. Исторический смысл русской революции и национальные задачи // Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьба России. М., 1992. С. 274. 80 не сумела увидеть «противокультурные и зверские силы, дремавшие в народных массах». По мнению П. Б. Струве «Россию погубила безнациональность интеллигенции»218. Таким образом, передам нами предстает попытка объяснить события недавнего прошлого в русле веховской традиции. Идея культурного разрыва между народом, интеллигенцией и властью была не нова и разделялась многими учеными, причем самых разнообразных политических взглядов: от крайне левых до закоренелых монархистов. Однако причины существования этой идейной пропасти уже виделись по-разному. Лидер кадетов П. Н. Милюков, размышляя о предпосылках революции, пришел к выводу о катастрофичности разрыва народных масс и интеллигенции, постоянно заимствовавшей идейные установки, что, в конце концов, привело к расколу и неспаянности общества. Таким образом, в лице русской интеллигенции монархия приобрела себе «внутреннего врага», волей-неволей расшатывавшего государство219. С ним солидаризировался А. А. Кизеветтер, отмечавший «проникновение оппозиционного духа в среду умеренных элементов общества»220. Подобная позиция П. Н. Милюкова поразительным образом совпадала со взглядами его политических оппонентов. Монархист С. С. Ольденбург в своей работе о Николае II также выводит тезис о «корне зла», таившемся в глубокой розни между властью и значительной частью образованного общества221. Интеллигенция, по мнению историка, беспочвенна, т.к. постоянно заимствовала на западе «самые крайние учения». Все попытки власти привлечь ее на свою сторону заканчивались лишь всплеском радикальных настроений (убийство Александра II, студенческие волнения в начале ХХ в. и т.д.)222. О расколе российского общества накануне 1917 г. писали и другие эмигранты218 Струве П. Б. Размышления о русской революции. С. 17. Милюков П. Н. Россия на переломе. Большевистский период русской революции. Т. 1. Происхождение и укрепление большевистской диктатуры. Париж, 1927. С. 11. 220 Кизеветтер А. А. На рубеже двух столетий. С. 516. 221 Ольденбург С. С. Царствование Николая II. М., 2003. С. 33. 222 Там же. С. 35 – 36. 219 81 интеллектуалы. Г. В. Вернадский, рассматривая интеллигенцию как сугубо российский феномен с «собственным мышлением и теоретическими интересами», отмечал, что долгое отсутствие в России политических свобод привело к тому, что образованная часть общества занималась лишь теоретизированием, сосредоточившись «на умозрительных рассуждениях об идеальной системе будущего социального порядка»223. Эта мысль историка в свете современных исследований кажется очень убедительной; действительно, политическая демагогия вместо решения насущных проблем привела и к краху Временного правительства, и к поражению белого движения, сыграв на руку большевикам. Профессор П. М. Бицилли ко всему прочему добавлял мысль о расколе и внутри самой интеллигенции, которая не сумела организовать единого культурного сообщества224. политическими идеями Увлечение было крайне ее крайними опасным, а и радикальными особенно увлечение марксизмом, «злополучной, нелепой, в своем существе бессмысленной теорией «бытия определяющего сознание»225. Беспомощность интеллигенции в противодействии большевикам вызывала жесткую, хотя, конечно, запоздалую критику со стороны многих эмигрантов. П. Н. Милюков, еще в начале ХХ в. искренне веривший в возможность объединения всей мыслящей части общества, мобилизации всех ее ресурсов на благо государства, в эмиграции вывел тезис о беспомощности интеллигенции, утопичности ее стремлений, растрате сил на внутреннюю борьбу и игнорировании возможности большевистской угрозы226. Можно легко заметить, сколь сильными внутренними противоречиями было наполнено восприятие эмигрантами императорского периода российской истории. Пожалуй, именно он, более всех других эпох, был наполнен оживленными спорам и острыми дискуссиями, которые, как уже говорилось в 223 Вернадский Г. В. Ленин – красный диктатор. М., 2000. С. 13. Бицилли П. М. Трагедия русской культуры // Бицилли П. М. Трагедия русской культуры. М., 2000. С. 366 – 367. 225 Бицилли П. М. Параллели // Бицилли П. М. Трагедия русской культуры. М., 2000. С. 407. 226 Милюков П. Н. История второй русской революции. Минск, 2002. С. 11 – 12. 224 82 параграфе о Древней Руси и Московском царстве, были вызваны переносом на зарубежную почву старых идейных споров. Одновременно с этим, именно императорский период встречал наибольший интерес в эмигрантской среде. Это явление опять же легко объяснимо, ведь в истории России XVIII – XIX вв. большая часть русских изгнанников пыталась найти ответы на злободневные для них вопросы. 83 Глава 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ КАК ФЕНОМЕН МЕМОРИАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ С самого утра 8 февраля 1925 г. Общественный дом в Праге был заполнен русскими гостями. Среди них были представители, пожалуй, всех слоев российской эмиграции, оказавшиеся в Чехословацкой республике после революции и Гражданской войны. Собрание было довольно традиционным по форме: в начале концерт популярного в Праге Русского хора имени А. А. Архангельского, затем приветственные слова эмигрантских деятелей и в завершении – публичная лекция. Подобные русские встречи были неотъемлемой частью повседневной жизни Праги 1920 – 1930-х гг., ставшей на время интеллектуальной столицей Зарубежной России. Но в этот раз повод для встречи был особой, побудивший встретиться вместе представителей разных социальных групп и разных политических взглядов. Русская диаспора и в Праге, и за пределами Чехословакии отмечала важную историческую дату, нашедшую широкий отклик в эмигрантской среде, – 200-летие со дня смерти императора Петр Великого. Перед русской аудиторией в зале Общественного дома с публичной лекцией «Петр Великий и его наследие» выступил старейший эмигрантский историк Евгений Францевич Шмурло: «…Уже двести лет стоит Петр Великий, во весь гигантский свой рост, перед судом истории, двести лет ждет себе приговор, а суд истории, даже теперь, через двести лет, оказывается не на высоте положения и все еще не в силах, как следует, разобраться в великом деянии великого императора, – так велика и разностороння была работа Петра I, такой глубокий след оставила она по себе! Так взволнованно и неспокойно ощущаем мы и по сию еще пору полет и величавый размах его 84 творческого гения!»227 Эти слова хорошо отражали эмоциональный и интеллектуальный настрой собравшейся в зале публики и российской диаспоры в целом. Петровский юбилей 1925 г. служит ярким примером того, как эмиграция конструировала свою историческую память, как оценивала она прошлое своей страны. Одним из решений проблемы сохранения национальной идентичности и исторической памяти в условиях эмиграции стали церемонии памяти, выразившиеся в праздновании многочисленных знаменательных дат. Исторические праздники должны были способствовать сохранению эмигрантами целостной культурной традиции и их единению вокруг нее. Коллективная культурная память выступала одним из главных способов сохранения национальной самобытности на чужбине, выполняла объединительные функции. Для эмиграции она служила важным механизмом этнической и культурной самоидентификации228. Для российской диаспоры воссоздание прошлого было ответом на большевистскую денационализацию, который был сопряжен с представлениями об особой культурной и исторической миссии эмиграции. Немалую роль играли в этом празднования многочисленных юбилейных и памятных дат, в процессе которых ярко проявлялись особенности коллективного сознания русских изгнанников. Нам представляется важным рассмотреть феномен исторических праздников Зарубежной России не столько с сугубо церемониальной стороны, сколько с позиции их идейного содержания. В дореволюционной России регулярные национальные празднества, в основе которых лежали бы исторические события, подобно Дню взятия Бастилии во Франции или Дню независимости в США, не получили распространения. При227 Шмурло Е. Ф. Петр Великий и его наследие. С. 1. Ковалев М. В. Исторические праздники русской эмиграции как способ сохранения коллективной культурной памяти // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. М., 2008. Кн. 25/2. С. 119 – 120; Kovalev M. V. Les fêtes historiques de l’émigration russe comme moyen de preservation de la mémoire culturelle collective // Patrimoine Russe/Russische Patrimonium. Bruxelles, 2008. № 3. P. 35 – 36. 228 85 меры массовых общегосударственных исторических торжеств имели место лишь в последние годы российской монархии: в 1912 г., когда праздновалось 100-летие Отечественной войны, и в 1913 г., когда помпезно было отмечено 300летие дома Романовых. Большевики, полностью отвергая историческое прошлое России, попытались установить традицию историко-революционных празднеств, введя в пантеон народных героев всевозможных революционеров, создав новую иерархию исторических ценностей229. Перед эмиграцией стояла сложная задача, не имевшая аналогов в отечественной истории. Диаспора нуждалась не просто в памятных мероприятиях, но в символическом выражении того, что даже на чужбине российская культура, национальные традиции и язык продолжают жить. В обращении к своим соотечественникам за рубежом в 1926 г. историк Е. Ф. Шмурло отмечал, что подобные торжества должны стать для эмигрантов напоминанием о великом прошлом, о великих духовных ценностях, созданных творческой работой предшествовавших поколений и ставших неотъемлемым достоянием российского народа230. В более широком смысле, они должны были служить важным механизмом сохранения и передачи исторической памяти, которую П. Б. Струве назвал «основой и зиждущей силой всякой национальной культуры»231. Феномен исторических праздников в среде российской диаспоры начинает проявляться с середины 1920-х гг. Примерно с этого времени в сознание эмигрантов закрадывается мысль о том, что их пребывание на чужбине затягивается на неопределенное время. Период «сидения на чемоданах», ожидание возвращения, поиск дороги домой сменялся ощущением безнадежного расставания с Родиной. Угроза денационализации в условиях отрыва от России ставила перед эмигрантами задачу сохранения национальной и культурной самобытности. В 229 См. об этом: Рольф М. Советские массовые праздники. М., 2009. См.: Шмурло Е. Ф. Что такое День русской культуры? // Зодчие русской культуры. Прага, 1926. С. 7. 231 Струве П. Б. Национальная культура и историческая память // День Русской Культуры: Краткий отчет о праздновании в 1928 году. Прага, 1928. С. 18. 230 86 особенности эта задача должна была распространяться на молодое поколение, представители которого покинули Родину в юном возрасте и теперь росли без нее. Изгнание и жизнь на чужбине наносили ощутимый удар по «живому чувству Родины». Е. Ф. Шмурло констатировал: «Новая чужая обстановка малопомалу вытесняет образы раннего детства; последние становятся все бледней и бледнее; воспоминания о русском прошло, русском быте, русском пейзаже незаметно вытравляются, а с ними и духовная связь с Россией…»232 Историкокультурные празднества должны были помочь молодому поколению сохранить память о России, язык, культурное своеобразие в условиях инонационального окружения. Разумеется, что эмиграция сохраняла привычные праздничные ритуалы, связанные, в первую очередь, с религиозными праздниками. Правда и они претерпевали некоторые изменения. Жившая в Китае Н. В. Райан вспоминала, что первым в году стали отмечать Новый год, обычно в ресторанах, клубах или больших домашних компаниях. И только затем уже начиналась подготовка к Рождеству: «В сочельник, 6 января, люди шли в церковь. После вечерни дети, в основном мальчики, ходили по домам и славили, то есть пели рождественские молитвы, за что обычно получали какие-нибудь гостинцы. В домах устанавливали и украшали рождественские елки. Приятный свежий запах принесенной с мороза ели заполнял весь дом. Дед Мороз разносил по домам подарки детям. На православное Рождество, 7 января, в семьях, где были дети, день начинался еще до восхода солнца, дети спешили поскорее узнать, что Дед Мороз оставил им в носке, который каждый из них вешал себе на кровать. Во всех домах были накрыты столы и ждали гостей, или, как их тогда называли, визитеров <…> В ночь на 14 января некоторые, особенно большие охотники погулять, встречали старый Новый год»233. Конечно, в пантеон подобных празднеств входили и Крещение, сопровождавшееся, по возможности, ритуальным купанием, и Пасха, и 232 Шмурло Е. Ф. Что такое День русской культуры? С. 9. Райан Н. В. Россия – Харбин – Австралия: Сохранение и утрата языка на примере русской диаспоры, прожившей ХХ век вне России. М., 2005. С. 83 – 84. 233 87 Троица, и Успение Пресвятой Богородицы. Религиозные праздники приобрели особое значение, ибо православная церковь стала для эмиграции важной объединительной силой, помогавшей сохранить культурную идентичность за рубежом. Но, безусловно, большой список праздников русской эмиграции ими одними не ограничивался. Формы организации памятных церемоний в Зарубежной России были разнообразны. Как правило, это были торжественные собрания, литературноисторические вечера, тематические лекции, концерты, иногда балы. Популярностью пользовались вечера, «в программу которых входили лотерея и танцы»234. Все они предполагали широкое участие эмигрантских кругов. Тем не менее, некоторые торжественные мероприятия были ориентированы лишь на определенные слои диаспоры. Так, в многочисленной военной среде было распространено празднование памятных дат, связанных с победами русского оружия, или с памятью о великих полководцах. Не менее многочисленные академические круги вспоминали о ярких достижениях отечественной научной мысли и чествовали великих ученых. В организации празднеств обычно участвовало сразу несколько эмигрантских научных и культурных организаций. Ими могли быть Академические группы, русские гимназии, высшие учебные заведения, творческие союзы писателей, музыкантов, журналистов и т. д. Масштабные празднества сопровождались одновременно научно-популярными лекциями, театральными постановками, музыкальными концертами, молебнами и т.д. Особой популярностью пользовались оперы Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, иначе говоря, тех композиторов, которые в своем творчестве с наибольшей силой выражали национальные традиции, русский колорит, силу и мощь отечественного музыкального искусства. Оперные спектакли или же ис- 234 Невалайнен П. Изгои: российские беженцы в Финляндии (1917 – 1939). СПб., 2003. С. 295. 88 полнение отдельных арий практически всегда сопровождали массовые празднества во всех центрах Зарубежной России. Специально к памятным датам был приурочен выпуск юбилейных изданий: книг, статей, буклетов, брошюр, однодневных газет, листовок. Часто на их страницах публиковались календари исторических дат. Все эти издания являются сегодня бесценным историческим источниками. Зачастую лишь они могут дать представление о масштабах, формах проведения, идейном содержании торжеств. Празднование памятных дат, чествование великих людей приобрело в Зарубежной России широкий размах. Бегство в прошлое не только излечивало душу, но пробуждало чувство национальной гордости. Само же прошлое постепенно закреплялось в виде культурно-исторического наследия. Вернемся теперь к началу нашего повествования и еще раз вслед за русскими эмигрантами вспомним о Петре Великом. На фоне сложившегося в Зарубежной России культа великих людей Петр Великий занял одно из ведущих мест. Двухсотлетие со дня его смерти, отмеченное в 1925 г., послужила толчком к появлению множества юбилейных изданий. Но внимание это было вызвано не только юбилейным настроем, но давней и прочной интеллектуальной традицией, ведь фигура Петра всегда занимала и, очевидно, будет занимать особое и ни с чем не сравнимое место в российской исторической памяти. Образ царя-реформатора на протяжении трехсот лет является одним из главных в русской культуре, историографии и общественной мысли. В то же время возникает немало вопросов. Можно ли говорить о трансформации образа Петра и его эпохи в эмигрантской среде? Какое место занимал он в исторической памяти русской диаспоры? Почему вообще русским изгнанникам, разбросанным по всему свету, понадобилось обращение к памяти об императоре? Ответить на эти вопросы нелегко. Но здесь на помощь приходят многочисленные газетные и журнальные статьи, научные исследования, философские и политические работы, учебные издания и даже карикатуры и шаржи. Легко заметить, что петровский дискурс был широк. И это 89 тоже неудивительно. Значительную часть эмиграции составляли высокообразованные люди, для которых размышления об истории, политики, искусстве и литературе были частью повседневной жизни. Анонимный автор на страницах пражского журнала «Студенческие годы» метко выразил причину глубокого внимания к памяти императора: «Особенно сейчас, в наши дни унижения Нации, разорения и ограбления страны, в дни действия разрушающих сил, – ярок образ Петра»235. На волне большевистского нигилизма, обесценивания исторического прошлого России и денационализации многие эмигранты увидели в Петре символ сильной государственной власти и патриотизма. В чествовании Петра ярко проявилась извечная противоречивость оценок его царствования. Различные политические круги пытались по-своему мобилизовать память об императоре. Уже в начале 1920-х гг. некоторые эмигрантские мыслители стали уподоблять петровские реформы революции, а в самом царереформаторе видеть чуть ли не предтечу большевизма. Так, профессор Е. В. Спекторский, полемизируя с Л. П. Карсавиным, в юбилейной статье, посвященной Петру, настаивал, что царь был твердым государственником, а, следовательно, не мог быть революционером, ибо всякий переворот влечет за собой лишь анархию236. У либералов не вызывала сомнения правильность выбранного Петром пути сближения России и Запада. Но в то же время многие из них признавали едва ли не главным отрицательным последствием петровских реформ глубинный культурный раскол российского общества. Правые круги эмиграции увидели в Петре один из символов сильной монархической власти. Даже в идеологических представлениях фашистских и профашистских организаций император наделялся чертами идеального национального вождя. 235 236 Петр Великий // Студенческие годы. Прага, 1925. № 1 (18). С. 16. См.: Спекторский Е. В. Петр Великий и мы // Благовест. Новый Сад, 1925. Сб. 1. С. 53. 90 Память о Петре была множественной, наполненной различными интерпретациями. Она слишком сильно выражала конфликт идей, разность политических взглядов и оценок и не могла выполнить объединительных функций. Возможно именно поэтому двухсотлетие смерти Петра не получило широкого отклика среди эмигрантов. Не менее острую полемику вызвал и 100-летний юбилей декабристов в 1925 г. Примечателен случай, произошедший в Русском историческом обществе в Праге. В декабре 1925 г. профессор Д. Н. Вергун на одном из заседаний предложил почтить память декабристов, как борцов с самодержавием, вставанием. По воспоминаниям Б. Н. Лосского, озадаченный Е. Ф. Шмурло заметил, «что это событие к теме вечера никак не относится, но поскольку эти слова произнесены, … встал»237. Но его примеру последовали не все. С. Г. Пушкарев, например, отказался и впоследствии отправил письмо на имя председателя с заявлением «о недопустимости, по его мнению, для научного О[бщест]ва, каковым является Русское историческое общество в Праге, торжественного почитания памяти декабристов, приуроченного ко дню вооруженного восстании 14 декабря…»238. Он заявил о невозможности проведения специального заседания в память декабристов. Это предложение Е. Ф. Шмурло отверг. Свою позицию он обосновал в письме к С. Г. Пушкареву 27 декабря 1925 г.: «Д. Н. Вергун, конечно, формально был неправ, предварительно не сговорившись с Правлением… Что же касается “недопустимости” Вергуновского заявления по существу (подчеркнутов в тексте – М.К.), тот тут я, к сожалению, должен разойтись с Вами. Я считал и продолжаю думать, что декабристы для нашего времени есть явление уже исключительно историческое (подчеркнутов в тексте – М.К.), сданное в архив, и что одиум политичности уже отпал от них. Вот почему сравнение их с убийцами 1-го марта едва ли правильно. Тот плюс, какой внесли в русскую жизнь декаб- 237 238 Лосский Б. Н. Указ. соч. С. 58. ГАРФ. Ф. 5891. Оп. 1. Д. 253. Л. 10 об. – 11. 91 ристы, … на мой взгляд, искупает их минусы, и вот почему “по существу” я ничего не имел бы против того, чтобы почтить их память вставанием. Этого отнюдь нельзя сказать про Желябова и Перовскую: эти разрушали, к тому же во имя идеалов, духовно роднящих их с нынешними большевиками…»239 Несмотря на возникшие разногласия, специалильное заседание в память декабристов все же состоялось240. Но и на нем не обошлось без дискуссий. Острые споры вызвал доклад А. А. Кизеветтера «Спорные вопросы в истории декабристов», сделанный 11 января 1926 г. в Русском историческом обществе. Тот же С. Г. Пушкарев так отозвался о нем: «Я не отрицаю личной доблести большинства декабристов и благородства их побуждений, однако политическая (подчеркнуто в оригинале – М. К) роль вождей вооруженного восстания 14 декабря представляется мне отрицательной»241. Их идеалы он называл утопическими и доказывал, что для введения конституционных и парламентских начал, в России начала XIX в. еще не созрели необходимые условия. По его представлениям, декабристы выступили первыми «жрецами идола революции», который привел страну к кровавой катастрофе 1917 г. Этот пример ярко демонстрирует конфликт идей внутри эмигрантского сообщества и показывает, что даже неполитические эмигрантские организации так или иначе были вовлечены в острые идейно-политические споры. Значительная часть эмигрантов все же с воодушевлением восприняла юбилей декабристов. В зале Сорбонны в декабре 1925 г. под председательством П. Н. Милюкова прошел памятный вечер, на котором, помимо русских докладчиков, выступил знаменитый французский историк А. Олар. В молчании прослушали собравшиеся «Похоронный марш» Ф. Шопена, исполненный в память о декабристах242. 239 Там же. Д. 223. Л. 2. См.: Цепилова В. И. Указ. соч. С. 77. 241 ГАРФ. Ф. 5891. Оп. 1. Д. 254. Л. 6. 242 См.: Леонтьев Я. Может ли подвиг быть напрасным? Юбилейные заметки о декабристах // «Мы дышали свободой…» Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 20. 240 92 М. Алданов, именитый писатель, тонко чувствовавший глубину исторических событий, верно заметил: «Декабристы ничего не разрушили и ничего не создали. Ценность того, что они сделали, заключается всецело в их легенде»243. Действительно, юбилей событий 1825 г. способствовал ее укреплению. Не случайно, что в эмигрантской среде появились десятки научных и публицистических работ, осмыслявших феномен декабристов. В глазах либералов они были образцом самопожертвования во имя народного блага и борцами с произволом власти. Однако монархические круги эмиграции, вполне естественно, по-иному восприняли столетие событий на Сенатской площади. Они расценивали подавление декабрьского выступления как победу здравого абсолютизма и законной власти над революционным безумием. Не удивительно, что во многих православных храмах в декабре 1925 г. служились молебны в честь Николая I. Консервативная парижская газета «Возрождение», редактируемая П. Б. Струве, называла декабристов предтечами революции 1917 г. Поэтому памятные торжества парижских и пражских либералов были названы «кощунственным словоблудием». Автор редакционной статьи полагал, что если бы декабристы могли прозреть сквозь время, то перед ними непременно встал бы трагический вопрос: «Не повинны ли они в русской катастрофе», не являются ли они «соучастниками, вдохновителями и подстрекателями губительной русской смуты»244? Автор, правда, считал, что декабристы не виноваты в том героическом ореоле, в той легенде, которую вокруг них создали потомки. Но она вошла в историю русской интеллигенции и в неразрывно связанную с ней историю русской революции «как некая светлая путеводная звезда на фоне “темного царства” Императорской России». Автор отмечал, что эта идея жива и сегодня и что ее поддерживают те люди, для которых Российская Империя является злом, а русская революция – добром. 243 Алданов М. Памяти декабристов // «Мы дышали свободой…» Историки Русского Зарубежья о декабристах. М., 2001. С. 26. 244 Столетие декабрьского мятежа // Возрождение. Париж, 1925. 27 декабря. № 208. 93 Противоречивые оценки вызывала и личность Л. Н. Толстого, столетие которого было широко отмечено во всем мире в 1928 г. В Праге в течение всего юбилейного года проводились разнообразные мероприятия. Был разработан специальный курс лекций о Л. Н. Толстом для слушателей историкофилософского отделения Русского народного университета. 18 января 1928 г. Университет совместно с Чешско-русской еднотой провел памятный вечер в честь великого писателя245. Несмотря на огромную популярность творчества Л. Н. Толстого в эмигрантской среде, отношение к нему было двойственным. М. Раев обоснованно полагает, что все эмигранты признавали литературное наследие писателя, «его стиль, его абсолютно правдивое описание чувств и поступков огромного числа русских типажей и отдельных личностей», многим симпатизировали его историософские взгляды, отводившие решающую роль случаю и стечению обстоятельств, в противовес историческому материализму. Но, с другой стороны, для большинства эмигрантов, как для людей, переживших ужасы революции и гражданской войны, была абсолютно неприемлема толстовская «проповедь анархизма и непротивления», которая некогда «внесла разлад в умы многих интеллектуалов и привела к бессилию интеллигенции перед лицом войны, насилия, макиавеллиевской жажды власти, характерной для Ленина и большевиков»246. Неудивительно, что в дни толстовского юбилея эмигранты пытались говорить лишь о литературном гении писателя и старались совершенно не затрагивать его общественно-политических взглядов. Память об упомянутых выше исторических персонажах и событиях ярко выражали конфликт идей внутри самого эмигрантского сообщества. Данные исторические фигуры, как правило, служили объектом коммеморации лишь для определенного круга лиц. Связанные с ними мемориальные торжества привлекали внимание главным образом интеллектуальной элиты. Ни Петр Великий, ни де245 См.: Общий обзор деятельности Русского народного университета за 1928 – 1929 учебный год // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1929. Т. II. С. 400. 246 Раев М. Указ. соч. С. 127 – 128. 94 кабристы, ни Л. Н. Толстой не могли стать объединительными фигурами для российской диаспоры. Даже чествования знаменитых особ, не окрашенных политической аурой, порой не находили отклика среди значительного числа эмигрантов. В частности, в 1928 г. в связи с печальным известием о смерти в Москве М. Н. Ермоловой группой русских эмигрантов в Праге было принято решение организовать памятный вечер. Инициатива исходила от московских профессоров, которые прежде имели счастье видеть великую русскую актрису на сцене Малого театра, и в памяти которых она навсегда осталась живым символом реалистических традиций русского сценического искусства. Задача организации памятного вечера легла на А. А. Кизеветтера. Но, как с прискорбием вспоминал М. М. Новиков, многочисленная «южнорусская беженская публика отнеслась к нашему призыву совершенно равнодушно», и на лекцию в честь М. Н. Ермоловой пришло всего 6 слушателей (при средней посещаемости прочих лекций – 40 человек)247. Важно заметить, что культурная память эмиграции была многослойна, она не была полностью закрыта от внешних влияний. Помимо персонажей российского прошлого в пантеон памяти входили, правда в меньшей степени, и представители других народов, в особенности те из них, которые были тесно связаны с российской историей и культурой. Ритуалы памятных мероприятий соответствовали местным условиям и были во многом связаны с особенностями истории и культуры страны пребывания эмигрантов. Большое место занимало празднование памятных дат славянской истории, что легко объяснить как высокой концентрацией русских именно в славянских странах, так и многовековой традицией межкультурных контактов. В конце 1920х гг. широко отмечалось 50-летие русско-турецкой войны за освобождение балканских народов от османского ига. Этот юбилей имел чрезвычайно широкий 247 Новиков М. М. От Москвы до Нью-Йорка: Моя жизнь в науке и политике. Нью-Йорк, 1952. С. 346. 95 отклик и особое идейное содержание. Поэтому попробуем остановиться на нем подробнее. География торжеств вышла далеко за пределы Балкан. Активно включились в них и русские эмигранты. Разумеется, главным центром празднеств была Болгария. Русская диаспора там с особым чувством восприняла юбилей, неразрывно связавший судьбы Родины и приютившей их страны. Особый статус ему придавали престарелые ветераны-эмигранты, принесенные в Болгарию волной революции и Гражданской войны; они «участвовали в торжествах 3 марта и делились своими воспоминаниями на встречах с учащейся молодежью…, они были почетными гостями на местных и национальных торжествах во многих городах страны»248. В 1923 г. в Софии группа русских ветеранов в составе генералов А. А. Смагина, Г. Э. Берхмана, М. Р. Ерофеева и майора И. Н. Николаев выступила с инициативой образовать специальную общественную организацию. Так было положено начало Союзу русских ветеранов Русско-турецкой войны в Болгарии, Устав которого был официально утвержден 1 декабря 1923 г. Министерством внутренних дел и народного здравоохранения249. Союз этот просуществовал до 1950 г. В феврале 1922 г. согласно специальному постановлению Совета Министров Болгарии была образована Центральная комиссия по оказанию помощи прожи248 Рупчева Г. Освободителната Руско-турска война 1877 – 1878 г. в спомените на руски ветерани-емигранти в България 20-те – 40-те години на ХХ век // «Погасло дневное светило…»: Руската литературна емиграция в България 1919 – 1944. София, 2010. С. 233. О русских ветеранах-эмигрантах в Болгарии см. подробнее: Кьосева Ц. Ветераните от Рускотурската Освободителната война 1877 – 1878 г. – эмигранты в България // Славянски летописи. София, 2001. Т. 7. С. 312 – 318; Рупчева Г. Руските ветерани от ОсвободителнатаРуско-турска война 1877 – 1878 г. – емигранти в България през 20-те – 40-те години на ХХ век // България и Русия между признателността и прагматизма. София, 2008; Владева П. Генарал-лейтенант Александър Викторович Фок и неговата втора родина България // http://cl.bas.bg/about-central-library/bulletin-of-central-library-of-bas/volume-46/46_4.pdf [Режим доступа: 14 апреля 2013 г., 2:09] 249 См.: Пчелинцева Т. «Союз русских ветеранов Русско-турецкой войны в Болгарии» // Русская газета. София, 2005. 7 июля. № 26 (97). 96 вающим в Болгарии русским и болгарским участникам Освободительной войны 1877 – 1878 гг. при Министерстве иностранных дел и вероисповеданий. Г. Рупчева установила, что эта комиссия уже в первые годы существования собрала для поддержки ветеранов значительные денежные суммы. Только в 1923 г. они превысила 800.000 левов, четверть из которых была передана болгарским ополченцам, а остальное – русским эмигрантам250. Как пишет Т. Пчелинцева, с 1924 по 1927 гг. постановлениями Народного собрания и соответствующими царским указами участниками Освободительной войны было признано 59 человек: 5 генералов, 8 генерал-лейтенантов, 11 генерал-майоров, 2 гражданских генералов, 12 полковников, 4 гражданских полковника, 4 подполковника, 3 подпоручика, 7 обер-офицеров и солдат и 2 медицинских сестры251. По решению Народного собрания от 2 июля 1924 г. 52 русским ветеранам было пожизненно предоставлено пособие в 1.000 левов, вскоре увеличенное вдвое. Некоторые из них в канун пятидесятилетия Освободительной войны были удостоены высшего болгарского ордена «За храбрость» (С. В. Жуков, Л. С. Крестовский, В. К. Манштейн, А. Ф. Селецкий, А. А. Смагин, А. В. Фок и другие)252. Юбилейные торжества растянулись на год и нашли выражение в различных ритуалах и церемониях. Места боевой славы у Шипки и Плевны стали объектами паломничеств и экскурсий. В православных храмах служили панихиды в память павших воинов. В русской эмигрантской и зарубежной славянской прессе появились десятки мемориальных статей и заметок, публиковались юбилейные брошюры и книги. Эмигранты организовывали памятные вечера, собрания, публичные лекции. Порой эти мероприятия растягивались на длительное время. К примеру, в Париже в Институте славяноведения (Institut d`Etudes Slaves) на про250 Рупчева Г. Деятельность Центральной комиссии по оказанию помощи русским ветеранам русско-турецкой войны 1877 – 1878 годов. 2005. № 5. С. 67 – 77 251 Пчелинцева Т. Указ. соч. 252 Рупчева Г. Освободителната Руско-турска война 1877 – 1878 г. в спомените на руски ветерани-емигранти в България 20-те – 40-те години на ХХ век. С. 232. 97 тяжении 1927 – 1928 гг. генерал-лейтенант Арсений Анатольевич Гулевич (1866 – 1947) прочел серию лекций о Восточном вопросе и русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг. До революции он был не просто высокопоставленным офицером, но также крупным военным теоретиком, профессором Николаевской академии Генерального штаба. Свой статус он сохранил и в эмиграции, став преподавателем Зарубежных высших военно-научных курсов генерала Н. Н. Головина. Первую лекцию, посвященную расстановке сил накануне русско-турецкой войны, А. А. Гулевич прочел 11 февраля 1927 г. Затем 25 февраля последовала лекция об общем ходе военной кампании, 2 декабря 1927 г. – о боях у Горного Дубняка и Томина, 20 января 1928 г. – о сражении под Филиппополем, 2 марта – о войне на Кавказском театре военных действий253. В Праге, которая в межвоенный период была интеллектуальным центром Зарубежной России, празднества приобрели широкий размах. Их отличительной чертой было широкое участие как русских, так и чешских общественных организаций, например Союза русских соколов, Русского союза инвалидов, Общества славянской взаимности, Чешско-русской Едноты, Чешско-польского клуба, Чехословацко-югославской Лиги, Чехословацко-болгарской взаимности и Чешско-Лужицкого Общества. Интересно, что с чешской стороны одним из главных участников юбилейных торжеств был писатель Йозеф Голечек (1853 – 1929), который в 1870-х гг. освещал события на Балканах в качестве корреспондента газеты «Národní listy»254. 24 апреля 1927 г. в Храме Святого Николая, служившего главным приходом для православной общины, было многолюдно. В день 50-летия начала войны представители русской диаспоры в Праге собрались на панихиду в память погибших. Она положила начало мемориальным мероприятиям, продлившимся до 253 См.: Историческая наука российской эмиграции 20-30-х гг. XX века (Хроника) / Сост. С. А. Александров. М., 1998. С. 75, 77, 88, 92, 97 254 Holeček J. Úvod k Rusko-turecké válce roky 1877 // Российский государственный архив литературы и искусств (РГАЛИ). Ф. 2447. Оп. 1. Д.103. Л. 6 – 6 об. 98 весны 1928 г. На следующий день центр торжеств переместился в Национальный музей на Вацлавской площади, где при участии представителей правительства Чехословакии, а также деятелей науки и культуры состоялось специальное собрание255. По случаю годовщины начала войны, 3 мая 1927 г. было организовано торжественное заседание Русского исторического общества, на котором со вступительным словом «Общая характеристика русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.» выступил его председатель Е. Ф. Шмурло. Кроме него доклады прочли А. В. Флоровский («Об общественном движении в эпоху освободительной войны»), М. А. Иностранцев («Об отношении политики и стратегии к тактике в русско-турецкую войну 1877 – 1878 гг.»), Е. Ф. Максимович («Международное положение ко времени начала русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг.»)256. Другим центром памятных мероприятий был Русский народный университет. В его стенах состоялся тематический вечер, который открыл вступительным словом ректор профессор М. М. Новиков. Затем с большим докладом «Русскотурецкая война 1877 – 1878 гг.» выступил генерал М. А. Иностранцев. Завершили вечер воспоминания В. И. Немировича-Данченко. Профессор А. В. Флоровский 1 марта 1928 г. выступил с докладом «Война 1877 – 1878 гг. и Ф. М. Достоевский» в Семинарии по изучению Ф. М. Достоевского. Вслед за ним, 11 марта, профессор И. И. Лаппо прочел для 60 слушателей выездную лекцию «Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.» в городе Писеке257. 255 См.: Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. T. I. Praha, 2000. S. 267 256 Отчет о деятельности Русского Исторического Общества в Праге за время с 7-го апреля 1927 года по 28-ое апреля 1930 года // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага Чешская, 1930. Кн. 2. С. 188; Русское историческое общество в Праге за девять лет существования. 1925 – 1934. Прага, 1934. С. 6, 11; Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. S. 268; Ковалев М. В. Русское историческое общество в Праге (1925 – 1945) // Российская история. 2011. № 5. С. 151. 257 Bažant Z. O významu a činnosti Ruské lidové university v Praze // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1929. Т. II. С. 388; Русский Народный университет в Праге. Отчет о деятельности за 1926 – 1927 учебный год. Прага, б. г. С. 15; Русский Народный уни99 Непременным участником пражских торжеств был уже упомянутый Василий Иванович Немирович-Данченко (1848 – 1936), один из первых русских военных корреспондентов, непосредственный участник далекой войны. Он пользовался довольно большим авторитетом, в том числе и со стороны президента Т. Масарика, который регулярно оказывал ему материальную помощь. Благодаря высочайшей поддержке, его книги в 1920 – 1930-х гг. многократно переиздавались на русском и чешских языках, например романы о русско-турецкой войне: «Гроза» (1879), «Вперед» (1883), «Семья богатырей» (1888), «Боевая голгофа» (1911) и др.258 Выступление В. И. Немировича-Данченко перед пражской аудиторией в апреле 1927 г. было наполнено патриотическим пафосом, который хорошо подчеркивали упоминания в его речи «северных богатырей», «священных теней старых бойцов», «чутких душ» с их «жаждой жертвенного подвига», могил русских героев, ставштх «колыбелями свободы, равенства, братства и культуры»259. Войну 1877 – 1878 гг. он считал событием величайшей нравственной силы, ибо ее целью было бескорыстное освобождение братских народов от турецкого ига. Теперь же сама Россия находилась под игом. Но писатель верил, что эту Голгофу она сможет перестрадать: «Крестный ход ее не вечен, и мы верим, что уже не далек тот час, когда торжественный гул московских колоколов возвестит миру ее светлое воскресение. И в эти счастливые дни встанут перед нею гигантские тени ее балканских витязей – Бессмертные богатыри и вожди Скобелев, Гурко, верситет в Праге. Отчет о деятельности за 1927 – 1928 учебный год. Прага, б. г. С. 27, 35; Kronika kulturního, vědeckého a společenského života ruské emigrace v Československé republice. S. 301. 258 Nemirovič-Dančenko V. I. Kupředu: Historický roman z rusko-turecké války 1877 – 1878 / Autorisovaný překlad O. Vančury. Praha, 1923; Eadem. Válečna golgota / Autorisovaný překlad O. Vančury. Sv. 1 – 5. Praha, 1926 – 1928; Eadem. Rodina hrdinů / Autorisovaný překlad E. Čecha. Praha, 1929; Eadem. Stražne ohně: Historický roman z rusko-turecké války. Sv. 1 – 3 / Překlad O. Vančury. Praha, 1937; Eadem. Kupředu: Historický roman z rusko-turecké války 1877 – 1878 / Autorisovaný překlad O. Vančury. Praha, 1937. Sv. 1 – 4 etc. 259 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 2474. Оп. 1. Д. 103. Л. 4 – 5 об. 100 Радецкий, Драгомиров, Черняев и сотни тысяч Горталовых, Калитиных и других безвестных героев…»260 Схожим настроением были проникнуты и небольшие по объему воспоминания В. И. Немировича-Данченко, опубликованные в болгарском журнале «Славянский голос». В них он описывал посещение старых боевых позиций под Шипкой, которое навеяло ему ностальгические чувства. Перед глазами читателя – поле прежних сражений, «мирная идиллия трагического прошлого». «Да, были герои, – восклицает писатель. – Не придуманные военными писателями, герои были на Шипке, Шейново, в Баязиде, умиравшие за своих славянских братьев, за их независимость и свободу. Все это было, было, и я, как сегодня, вижу их грозные и милые, но простые лица, седых бойцов Великой России. Были храбрецы… <…> Мое Отечество еще вернется к славным преданиям недавнего прошлого… К легендам самоотверженных и бесстрашных отцов. Их внуки …, воистину, ее еще воскресят»261. Так образы прошлого получали современное звучание и наделялись объединительными функциями. Не случайно В. И. Немирович-Данченко говорил о необходимости передачи потомкам «благородной памяти» и о сохранении реликвий, которые должны были напоминать о героическом прошлом российского народа и вселять надежды на его скорое возрождение. Закономерно, что после смерти писателя в 1936 г. его племянница графиня Е. С. Тизенгаузен передала все бумаги покойного Русскому заграничному историческому архиву. Среди них были и материалы об участии В. И. Немировича-Данченко в войне 1877 – 1878 гг., включая собрание писем генерала М. Д. Скобелева262. Правда, юбилей балканской войны не обошелся без идейных противоречий и мемориальных конфликтов. На собрании в Пражском магистрате чешский про260 Там же. Л. 5 об. Немирович-Данченко В. И. Вечная память (За навечерието на Освободителната война 1877 – 78 г.) // Славянски глас. 1927. Кн. 1. С. 32 – 33. 262 Русский заграничный исторический архив в Праге – документация: каталог собраний документов, хранящихся в пражской Славянской библиотеке и в Государственном архиве Российской Федерации / Сост. Л. Бабка, А. Копршивова, Л. Петрушева. Прага, 2011. С. 149, 247. 261 101 фессор Иржи Горак заявил, что, несмотря на героизм русских солдат, война с Турцией оказалась бы проигранной из-за бездарности русских генералов, если бы на помощь им не пришли болгарские ополченцы. Южные славяне находились под влиянием чешских «будителей», которые своим идейным влиянием воспитали поколение болгарских патриотов. Русские эмигранты болезненно восприняли выступление чешского коллеги. Профессор М. М. Новиков вспоминал, что они уходили с собрания уязвленными, подавленными и глубоко потрясенными263. Интересно, что в то же время русские ученые в своих работах доказывали, что чешское общество во второй половине XIX в. восторженно встретило весть об освобождении русскими балканских славян264. Академик В. А. Францев, опираясь на представления о вечной вражде между славянским и романо-германским миром, отмечал, что «для трезвого и меркантильно расчетливого Запада порыв русского народа мог быть, пожалуй, проявлением донкихотства, но для всего славянства Россия была великим идеалистом, проявившим высочайшую степень христианского альтруизма и подлинного рыцарства, положившим душу своя за други своя …» Поэтому освободительная миссия России виделась ему не просто «евангельски-бескорыстным проявлением любви и братства», но самым ярким выражением подлинной русской души265. Для В. А. Францева было важно показать, что чешские общественные круги восторженно встретили весть о начале войне и сочувственно оценивали действия России, в противовес «западным врагам славянства». Это воодушевление он связывал с веками жившей чешском народе вере в особое призвание России и ее всеславянский мессианизм. 263 Новиков М. М. Русские эмигранты в Праге // Новый журнал. Нью-Йорк, 1957. Кн. XLIX. С. 251 – 252. 264 Францев В. А. Война за освобождение славян и чешское общество // Возрождение. Париж, 1927. 16 июля; Евреинов Б. А. Война за освобождение балканских славян (1877–1878 гг.) и чешское общество // Труды V съезда Русских Академических организаций за границей. София, 1931. Ч. 1. С. 353 – 368. 265 Францев В. А. Война за освобождение славян и чешское общество. 102 Война, вызвавшая некогда небывалый патриотический подъем в обществе, попрежнему волновала умы множества россиян. Образы героев Шипки и Плевны, генерала М. Д. Скобелева, мечты о славянской взаимности продолжали жить в исторической памяти. «Мы, ближайшие потомки оросивших кровью своею нивы и горы Балкан героев, гордимся их великим подвигом, благодарно чтим их священную память…» – провозглашал академик В. А. Францев266. «Теперь, по прошествии полвека от этих великих для истории славянства событий, обязанностью каждого славянина является вспомнить имена, связанные с этими днями. Как имена Плевны, Шипки и Карса дороги не только русским, так и имя царя Освободителя, имена Гурко, Скобелева, Радецкого, Лорис-Меликова и Тергукасова являются дорогими для всех славян», – вторил ему гене- рал М. А. Иностранцев267. Таким образом, война воспринималась как общеславянское «место памяти». Эти настроения, к примеру, хорошо отражает статья профессора М. Г. Попруженко 1928 г., в которой он охарактеризовал основные этапы российско-болгарских отношений от Средневековья до ХХ века. Освободительная война 1877 – 1878 гг. служит для него высшей точкой в развитии этих связей, закономерным итогом всего предшествующего исторического пути двух стран. Она продемонстрировала, как «братская любовь» и сочувствие русского народа вместе с русским оружием «отвоевали историческое право на свободу и возрождение национального самосознания болгар»268. Героическое прошлое должно было утвердить эмигрантов в мысли, что переживаемые в настоящий момент их Родиной испытания не вечны, и что она, как и прежде, сможет возродиться. Ярким проявлением этих чаяний стало выступление профессора Евгения Васильевича Спекторского (1870 – 1951) на торжественном заседании Русского института в Праге в честь 50-летия русско266 Там же. Inostrancev M. A. Vojna // Rusko v boji za osvobození balkánských slovanů roku 1877 – 1878. Praha: Nakladetelství J. Otto, 1927. S. 123 – 124. 268 Попруженко М. Г. Русия и Българсктого възражадне // Българска историческа библиотека. 1928. Т. 3. С. 147. 267 103 турецкой войны. Свою лекцию он назвал «Освобождающая Россия» и посвятил ее не столько прошлому, сколько настоящему и будущему своей страны. Историю императорской России он представлял на фоне непрерывного освободительного движения, которое имело одной из своих главных целей постепенное «раскрепощение населения». Оно было начато в 1762 г., продолжено в 1861 г. и могло бы завершиться при Николае II, если бы его царствование не прервалось столь трагически. Но если бы освобождение в России ограничивалось только внутренними задачами, то ее философия истории легко укладывалась бы в европейские рамки. У нее же было другое призвание, которое состояло в освобождении других народов ценою самопожертвования. Истоки этого мессианства Е. В. Спекторский находил еще в эпоху Средневековья, когда русские сдерживала «азиатский напор» монголов, спасая тем самым Европу. Но одновременно такой же напор сдерживали и балканские славяне, остановившие турок. Именно тогда, по его мнению, «зарождалось невидимое духовное братство, возлагавшее на сильного брата святой долг помощи славным братьям»269. Петр Великий был первым русским правителем, пытавшимся на практике воплотить идею освобождения славян. Однако Прутское поражение отодвинуло эту задачу на много десятилетий. Запад же никогда не доверял и всегда противодействовал «освобождающей и миротворческой России». Завет Петра спасать братские славянские народы был воспринят им как попытка покорить всю Европу. Несмотря на это противодействие, в 1877 – 1878 гг. Россия показала, что «славянское призвание она понимает как жертвенный подвиг…»270 Продолжение этого освободительного дела Е. В. Спекторский усмотрел в Первой мировой войне, когда Россия вновь вступилась за балканских славян. 269 270 Спекторский Е. В. Освобождающая Россия // Возрождение. Париж, 1927. 13 июля. Там же. 104 Таким образом, на первый план выступали мессианизм и освободительный пафос, связанные с идеей славянской взаимности271. Празднование пятидесятилетия русско-турецкой войны было отмечено выходом в свет нескольких международных научных сборников, авторами которых были и эмигранты, и их зарубежные коллеги. Первое подобное издание под заглавием «Россия в борьбе за освобождение балканских славян в 1877 – 1878 гг.» было напечатано на чешском языке в Праге летом 1927 г. Его появление было приурочено не только к годовщине освободительной войны, но и к традиционному для эмиграции празднику – «Дню русской культуры». Публикация на чешском языке свидетельствовала о том, что книга изначально была ориентирована на иностранного читателя и именно в расчете на него писались все статьи. Сборник открывался введением, написанным одним из патриархов русской исторической науки Е. Ф. Шмурло. Будучи человеком умеренных общественнополитических взглядов, он, тем не менее, выступил поборником идеи славянского единства. Он писал об осознании русским народом своей священной роли и высоких заветов по защите православного мира272. Для Е. Ф. Шмурло, в отличие от многих его современников-эмигрантов, был важен не столько славянский мессианизм, сколько идея противостояния азиатским началам, которые ассоциировались для него с жестокостью, произволом, угнетением. Отсюда и глубокое сочувствие к исторической жертвенности как русских под монгольским игом, так и болгар и сербов, томившихся под турецким господством. Взгляды Е. Ф. Шмурло вполне укладывались в рамки колониального имперского дискурса. Не случайно историк говорил об огромной цивилизаторской роли России во время покорения Средней Азии и во время 271 О генезисе идеи славянской взаимности в ХХ веке см.: Кацис Л. Ф., Одесский М. П. «Славянская взаимность»: модель и топика. М., 2011. С. 121 – 296. 272 Šmurlo E. F. Úvod // Rusko v boji za osvobození balkánských slovanů roku 1877 – 1878. Praha, 1927. S. IX. 105 «грандиозной борьбы с мусульманским полумесяцем» на Балканах273. Размышляя о «всеславянском братстве», он видел в русско-турецкой войне предвестие к освобождению всех славян, которое стало возможным только после Первой мировой войны274. Е. Ф. Максимович, младший коллега Е. Ф. Шмурло, специально занимавшийся изучением российской военной истории, посвятил свой очерк дипломатической ситуации накануне войны и ее внешнеполитическим последствиям. Он хорошо обрисовал расстановку сил в Европе, показал достижения и просчеты российских дипломатов и покритиковал европейское лицемерие по отношению к России и славянству. Впрочем, для всех русских авторов такая критика стала почти обязательной275. Не будем отрицать, что европейское общественное мнение и политические круги в 1877 – 1878 гг. в самом деле были враждебно настроены к усилению России на Балканах. Но для чего эмигрантам через полвека после Освободительной войны потребовались обязательные обвинения в адрес Запада? Причина, думается, была сложной, она отражала в себе пережитые события недавнего прошлого. Первая мировая война пробудила к жизни эсхатологические настроения, заронила в сознание многих мысль о скорой гибели западной цивилизации. В эмигрантских кругах также происходило определенное переосмысление роли Запада, наблюдалось разочарование в европейских ценностях, породивших не только мировую 273 Ibid. S. III, VI. Ibid. S. XII. 275 Подобную критику мы, в самом деле, легко встретим почти во всех юбилейных публикациях. Разница лишь в том, на что делали акцент авторы: на политическое лицемерие Германии и Австрии или же на происки англичан. Например, живший в Болгарии профессор М. Г. Попруженко в одной из статей 1927 г. особо отмечал вероломство Англии. Она «начала готовиться к войне еще в январе 1878 года, когда только готовы были начаться мирные переговоры между Россией и Турцией, ее флот появился у Принциевых остров, гарнизоны в Гибралтаре и на Мальте были усилены, начали перебрасываться войска из Индии в Малую Азию». Уже в марте 1878 г. Англия открыто заявила о неприятии Сан-Стефанского договора, им выразила недовольство Австрия. Германия отказалась сдерживать последнюю в случае войны с Россией. «Все это заставило уставшую от войны и жертв Россию согласиться на пересмотр Сан-Стефанского договора», – объяснял причины дипломатического поражения профессор-эмигрант (Попруженко М. Г. Сан-Стефанският мир и княз Дондуков-Корсаков // Българска мисъл. 1927. Кн. V. С. 357). 274 106 бойню, но и марксизм, под знаменем которого к власти в России пришли большевики. К тому же, в массовом сознании изгнанников существовала определенного рода озлобленность на западные державы за то, что он не пришли на помощь в борьбе с большевиками276. На этой почве рождались представления об исторически сложившемся западном лицемерии и вероломстве по отношению к России. Отнюдь не нужно было быть евразийцем, чтобы прийти к этим выводам и согласиться с ними. В славянстве же, напротив, попытались найти культурную и политическую опору. Это было связано с верой в будущее славянских государств Европы и с тем, что именно эти страны оказали эмигрантам из России большую поддержку. Поэтому для того же Е. Ф. Максимовича было важно найти в прошлом общеславянские «места памяти». Война 1877 – 1878 гг. как нельзя удачно подходила для этой цели. С точки зрения автора, она наглядно продемонстрировала «растущее чувство славянской солидарности, которые доказали в те грозные годы исторические факторы первостепенной важности, вписав потом и кровью в историю человечества страницу великой духовной красоты»277. Статья профессора А. В. Флоровского рассказывала о русском общественном мнении в преддверии Освободительной войны278. В ней он проанализировал взгляды И. С. Аксакова, О. Ф. Миллера, М. Н. Каткова, П. А. Вяземского, М. П. Драгоманова, Ф. М. Достоевского и других видных интеллектуалов на славянский вопрос. Это позволило ему назвать идеологию русско-турецкой 276 Ковалев М. В. Между политикой и идеологией: метаморфозы исторической памяти русской эмиграции 1920 – 1940-х годов // Россия XXI. 2012. № 3. С. 124 – 125. 277 Maksimovič E. F. Diplomacie // Rusko v boji za osvobození balkánských slovanů roku 1877 – 1878. Praha, 1927. S. 41 278 Сам А. В. Флоровский увлекся историей Освободительной войны еще во время своего недолгого пребывания в Софии в начале 1920-х гг. Первым исследованием в этом русле стала небольшая статья о русском управлении Болгарией в 1877 – 1879 гг. Причем историк выступил одним из первопроходцев в изучении русского оккупационного делопроизводства, что получило высокую оценку со стороны болгарских коллег. См.: Флоровский А. В. Архив на руското гражданского управление в България през 1877 – 1879 гг. // Юридически преглед. 1925. Кн. 2. С. 57 – 61. 107 войны славянофильской. В освобождении Болгарии он видел продолжение укоренившейся традиции, отвечавшей «единодушно царившему в русских общественных кругах сочувствию к “вековым страданиям” болгарского народа»279. Вместе с тем сам А. Ф. Флоровский не был проникнут славянофильскими настроениями, что позволяло ему критически оценивать исторические реалии. Поэтому в своей статье он говорил о том, что идея освободительного похода на Балканы встречала воодушевление отнюдь не у всех современников. Ярким выражением такой позиции он считал известный спор Левина со своим братом Сергеем Ивановичем на страницах толстовской «Анны Каренины»280. Однако сама война выполнила объединительные функции. А. В. Флоровский отмечал, что в 1877 – 1878 гг. русское общество не было охвачено пораженческими мотивами, в отличие от времен Первой мировой. Война во многом направлялась общественным мнением, ее объявление произошло под непосредственным давлением общества и самые разные круги желали победы. Историк приводит пример А. И. Желябова, который создал комитет помощи балканским славянам281. События 1877 – 1878 гг. с точки зрения А. Ф. Флоровского оказались освященными «высокими и альтруистическими целями» и явились ярким проявлением «гуманного славянского служения России»282. К слову сказать, в другой юбилейной статье, опубликованной еще 1927 г., ученый сравнил историческое значение Освободительной войны 1877 – 1878 гг. со значением Отечественной войной 279 Florovskij A. V. Ruské veřejné mínění v předvečer a za osvobozenské války 1877 – 1878 // Rusko v boji za osvobození balkánských slovanů roku 1877 – 1878. Praha, 1927. S. 42 – 43. 280 «– Мне не нужно спрашивать, – сказал Сергей Иванович, – мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все, чтобы послужить правому делу, приходят со всех сторон России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем. Что же это значит? – Значит, по-моему, – сказал начинавший горячиться Левин, – что в восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни, как теперь, а десятки тысяч людей, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, которые всегда готовы – в шайку Пугачева, в Хиву, в Сербию…» (Толстой Л. Н. Сочинения. Т. 9. М., 1889. С. 385). 281 Florovskij A. V. Op. cit. S. 69. 282 Ibid. S. 74 – 75. 108 1812 г., поставив их на одну планку: «Россия обнажила меч не ради себя и своих эгоистических интересов, но ради великого культурного блага – свободы родных ей славянских племен, и у самых стен заветного для многих русских патриотов Царьграда она продиктовала свободу и спасение болгар, а не свое собственное обогащение»283. Генерал М. А. Иностранцев написал для сборника очерк боевых действий русской армии на Балканах. Он отмечал, что русско-турецкие войны прославили целую плеяду русских военачальников: «Великая деятельность этих русских богатырей тесно скреплялась борьбой с кровавыми жертвами, огромными своими итогами и своим беспримерным альтруизмом русского народа, отданного за свободу славянства»284. Он воздал должное талантам И. В. Гурко, М. Д. Скобелева, Э. А. Тотлебена и др., но при этом сдержанно оценивал верховное командование. В заключительной статье приват-доцент Б. А. Евреинов задавался вопросом о последствиях освобождения для внутреннего развития Болгарии. Его внимание привлек вопрос о русской оккупационной администрации и ее вкладе в формирование новых органов управления. Ученый сослался на мнение французского публициста Л. Ламуша, что время российской оккупации было для Болгарии плодотворным, поскольку русские не только освободили страну, но и обучили армию, заложили основы управления285. Другой примечательный сборник «Празднование Освободительной войны 1877 – 1878 гг.» был подготовлен совместными усилиями русских и болгарских интеллектуалов. С болгарской стороны в нем приняли участие столь известные ученые как С. С. Бобчев и В. Н. Златарски. Из числа русских историков свои 283 Флоровский А. В. Россия в борьбе за освобождение славян // Хозяин. Прага, 1927. № 21 – 22. С. 17. 284 Inostrancev M. A. Vojna // Rusko v boji za osvobození balkánských slovanů roku 1877 – 1878. Praha, 1927. S. 87. 285 Evreinov B. A. Ruská správa v osvobozeném Bulharsku // Rusko v boji za osvobození balkánských slovanů roku 1877 – 1878. Praha, 1927. S. 153. 109 исследования опубликовали А. А. Кизеветтер, В. А. Францев, А. В. Флоровский, И. И. Лаппо, П. М. Бицилли, П. М. Богаевский, М. Г. Попруженко, В. П. Никольский. От пражского издания он отличался более широким тематическим охватом. Авторы не ограничивали себя лишь событиями 1870х гг. Для них было важно проанализировать истоки освободительной идеологии и практики, показать основные вехи российско-болгарских отношений. Именно поэтому в сборнике появились статьи А. А. Кизеветтера о взаимоотношениях России с южными славянами в XIV – XVIII вв., П. М. Богаевского о КючукКайнарджийском мире, В. А. Францева об истории российского славяноведения и т.д. Отметим, что если для авторов чешского сборника было важно обрисовать основные вехи самой войны 1877 – 1878 гг., то для авторов болгарского сборника более важным казались проблемы славянской идеологии и истоков русской освободительной политики на Балканах. А. А. Кизеветтер обзорно рассмотрел важнейшие моменты взаимоотношений России с южным славянством в XIV – XVII вв. Историк обратил внимание на южнославянские влияния при формировании мессианской идеи «Москва – Третий Рим», пропитанной мыслью о духовном единстве всех славян. С этого момента, по мнению автора, московское правительство прониклось «сознанием своей нравственной обязанности сделать все для облегчения тяжкой доли тех православных людей, которые томятся под турецким игом»286. Статья профессора И. И. Лаппо касалась славянского вопроса в царствование Петра I. Внимание историка привлекли многочисленные памятники южнославянской литературы, в которых прославлялась Россия и царьреформатор. В первой четверти XVIII в. русские интеллектуалы приняли участие в организации школ в Сербии («славянская школа» М. Т. Суворова) и познакомили южных славян с достижениями русской просветительской мысли. 286 Кизеветтер А. А. Россия и южное славянство в XIV – XVII веках // Прослава на освободителната война 1877 – 1878. Руско-български сборник. София, 1929. С. 6. 110 И. И. Лаппо подчеркивал, что в годы правления Петра Великого Россия стал для южных славян «опорою в деле сохранения ими своей национальности, а также источником их образованности»287. Уже неоднократно упоминавшийся В. А. Францев посвятил свою статью краткому очерку становления российского славяноведения в конце XVIII – начале XIX вв. Он отметил значительную роль путешествий русских исследователей в славянские земли в развитии отечественной науки, а также в завязывании личных контактов между российскими учеными и апостолами славянского возрождения: Й. Добровским, П. Шафариком, Ф. Челаковским, С. Стратимировичем, В. Караджичем. В. А. Францев сделал справедливый вывод, что «долговременные славянские странствования русских славистов и занятия в главных культурных центрах под руководством и при содействии выдающихся ученых и писателей … принесли богатые плоды для нашей молодой науки»288. А. В. Флоровский рассмотрел историю болгарской эмиграции в Россию в царствование Александра I и проанализировал проекты решения южнославянского вопроса (великосербский проект Стефана Стратимировича, балканско-славянское А. Чарторыйского, царство конфедерация В. Н. Каразина, славянских славянская народов федерация В. Б. Броневского). А. В. Флоровский полагал, что южнославянский вопрос во внешней политике Александра I «был лишь одним из слагаемых, часто отступавших на заднее место перед лицом других проблем и заданий времени»289. В этом кроется разгадка того, что ни один из выдвинутых проектов так и не нашел воплощения 287 Лаппо И. И. Петр Великий и южное славянство // Прослава на освободителната война 1877 – 1878. Руско-български сборник. София, 1929. С. 19. 288 Францев В. А. Первые русские труды по изучению славянства, преимущественно южного // Прослава на освободителната война 1877 – 1878. Руско-български сборник. София, 1929. С. 47, 53. 289 Флоровский А. В. Россия и южные славяне в царствование императора Александра I // Прослава на освободителната война 1877 – 1878. Руско-български сборник. София, 1929. С. 64. 111 в жизнь. Вторжение Наполеона ознаменовало конец активной балканской политики, но судьбы южных славян по-прежнему продолжали волновать русское общество. Этот интерес уже вскоре выразился как в деятельности «Общества соединенных славян», так и в активной балканской политике Николая I. Активное участие в праздновании юбилея принимали военные круги эмиграции, для которых события 1877 – 1878 гг. были важной частью корпоративной памяти и идентичности. Именно офицеры-эмигранты нередко выступали организаторами мемориальных мероприятий. В Париже 11 июня 1927 г. со специальной лекцией выступил генерал-майор Константин Иванович Сычев (1870 – 1935), который попытался дать краткий очерк боевых действий на Балканском театре военных действий. В его понимании война носила характер Крестового похода, в основе которого лежала освободительная идея, разделяемая в России абсолютно всеми – и царем, и крестьянином. Поэтому, с точки зрения генерала, на события 1877 – 1878 гг. нельзя смотреть с общепринятой сугубо военной позиции, в них нужно видеть духовную составляющую: «Это явление высшего порядка, ибо здесь была доказана любовь, вышей которой ничего нет, так как нет большей любви, как отдать жизнь свою за ближнего своего»290. В своей речи автор, со свойственной военной педантичностью, четко определял цель и непосредственные задачи войны. Он подробно рассказывал о переправе русских войск через Дунай, о летнем походе генерала И. В. Гурко, о Шипкинском сражении. Но главное место было отведено событиям вокруг Плевны. Следует признать, что генерал стремился дать объективную оценку неудачам русской армии. К их причинам он отнес малочисленность русских войск по сравнению с 290 Сычев К. И. Краткий очерк освободительной (русско-турецкой) войны 1877 – 1878 гг.: Доклад по случаю 50-тилетия войны 1877 – 78 гг., сделанный 11-го июня 1927 года в «День Русской Культуры» в г. Париже, Генерального Штаба Генерал-Майором К. И. Сычевым. Париж, 1927. С. 1. 112 турецкими, разрозненные и преждевременные атаки, непродуманную артиллерийскую подготовку, просчеты командования. И тут автор очень осторожно и взвешенно констатировал, что из «политической вежливости» высшее командование не было единым: при штабе находились румынский князь Карл, великий князь Николай Николаевич и сам император Александр II. И эти обстоятельства негативным образом сказались на последствиях всей операции. В итоге Плевна стала самым тяжелым событием войны, «повлекшим за собою существенное изменение, если не перелом в общем ходе войны, отразившимся весьма неблагоприятно на Армии и на всем народе русском»291. В то же время действия самого императора К. И. Сычев всячески оправдывал. В Ницце главным участником торжеств стал генерал Николай Алексеевич Епанчин (1857 – 1941), живой свидетель русско-турецкой войны, прошедший ее в составе Лейб-гвардии Преображенского полка. Он принимал участие в сражениях при Горном Дубняке, Плевне, Этрополе, Орхание, Ташкисене, Софии, Филиппополе, в походе на Адрианополь и взятии Сан-Стефано. За проявленную храбрость он был награжден Орденом Святой Анны 4-й степени и Орденом Святого Станислава 3-й степени. После войны Н. А. Епанчин нес службу в Генеральном штабе, сочетая ее с активной научной и преподавательской деятельностью. В частности, он был членом Военноисторической комиссии Главного штаба по составлению описания русскотурецкой войны 1877 – 1878 гг. и одним из первых ее историков. Его перу принадлежало несколько серьезных исследований, заслуживших высокую оценку современников и переведенных на английский и немецкие языки292. В центре внимания Н. А. Епанчина находилась фигура И. В. Гурко, которого он считал одним из самых выдающихся русских полководцев. 291 Там же. С. 11. См.: Епанчин Н. А. Очерк действий Западного отряда генерал-адъютанта Гурко». Ч. 1 – 3. СПб., 1891 – 1893; Он же. Война 1877 – 1878 гг. Действия передового отряда генераладъютанта Гурко. СПб., 1895; Он же. Освободительная война 1877 – 1878 гг. СПб., 1902. 292 113 Специально для своего выступления старый генерал подготовил памятную брошюру293. Визуализации образов прошлого на ее страницах способствовали портреты участников войны – Александра II, великих князей Михаила Николаевича и Николая Николаевича, М. Д. Скобелева, М. Т. Лорис-Меликова, Трудно насколько сказать, совпадал Ф. Ф. Радецкого, герцога текст И. В. Гурко, С. М. Лейхтенбергского. брошюры генерала с его выступлением 25 апреля 1927 г. Но, вне всякого сомнения, тональность их была одинаковой. Помимо Н. А. Епанчина, с памятными речами выступили еще два видных представителя русской диаспоры в Ницце: профессор Петр Петрович Мигулин (1870 – 1948), крупный экономист, разработчик проекта аграрной реформы, и дипломат, посланник России в Болгарии в 1911 – 1914 гг., Анатолий Васильевич Неклюдов (1856 – 1934). Сам генерал Н. А. Епанчин с горечью констатировал, что празднование исторического юбилея было омрачено эмигрантскими раздумьями: «Мы молились не в своих полковых храмах, перед полковыми святыми, не под сенью наших родных славных знамен, а в Зарубежье, в рассеянии, на чужбине»294. В своем выступлении Н. А. Епанчин обрисовал Россию как многовековую, бескорыстную защитницу славян. С точки зрения генерала, ее внешняя политика всегда была основана на нравственных и гуманных началах, в противовес современной ему «реальной политике» с эгоистическими интересами во главе. О русских он говорил как о народе с «золотым сердцем», исполнявшим свою вселенскую миссию: «Христиански великий народ не может быть себялюбящим, он должен быть Человеколюбцем, иначе он не христианский и не великий»295. Поэтому, как и генерал К. И. Сычев, он уподоблял Крестовому походу, который продемонстрировал трогательное единение «сердца Царева с сердцем народа, 293 Епанчин Н. А. Памятка крестового похода 1877 – 1878 гг. Париж, 1927. Епанчин Н. А. На службе трех императоров: воспоминания. М., 1996. С. 101. 295 Епанчин Н. А. Памятка крестового похода 1877 – 1878 гг. С. 3 – 4. 294 114 души Царской с душой народной, единение любви и единомыслия»296. Он рассматривал ее как вынужденную меру, отнюдь не желательную для России, ввиду незавершенных до конца реформ. Ответственность за обострение балканского кризиса генерал возлагал не столько на Турцию, сколько на европейские державы, которые опасались роста влияния России. Действительно, весь текст пронизан патриотической риторикой, идиллическими картинами о единении общества и власти и мессианской верой в русский народ. Русская армия рисуется исключительно как дружная семья, а представители высшего командования – как заботливые наставники, готовые плакать от умиления, русский царь исполнен доверия, человеколюбия, кротости и справедливости297. Участники войны изображаются как наследники героических традиций древнерусских воинов, солдат Петра Великого и А. В. Суворова. Генерал даже уподобил перехода через Балканы в 1877 г. походам князя Святослава в IX в. Свою речь Н. А. Епанчин закончил своего рода клятвой «свято и благоговейно чтить светлую личность Великого Царя-Освободителя, ЦаряСтрадальца, Царя-Мученика и сотворить Ему и всем души свои за братьев положивших – вечную память»298. Он не мог обойти стороной убийство императора, назвав его результатом происков «темных сил», которым не нужна была «Великая Россия», а нужны были «великие потрясения»299. Генерал не сделал ссылку на автора этого выражения, но всем, конечно, известно, что им являлся П. А. Столыпин. Оба исторических образа – царь и премьер-министр – возникли тут не случайно. Подобное сопоставление было распространено в эмигрантских кругах. Александр II и П. А. Столыпин уравнивались в глазах русских изгнанников как символы 296 Там же. С. 10. Там же. С. 17, 27. 298 Там же. С. 27. 299 Там же. С. 27. 297 115 несбывшихся надежд на мирную модернизацию, на реформы вместо революции, чьи жизнь и дело были безвременно и трагически прерваны. Фигура самого генерала Н. А. Епанчина довольно примечательна. Он не снискал лавров боевого героя, являясь, по сути, на протяжении всей жизни классическим примерном штабного офицера. Его участие в русско-турецкой войне осталось, пожалуй, самым ярким эпизодом в его военно-полевой биографии. Но именно оно обеспечило ему роль хранителя живой памяти об освобождении Балкан, и именно в этом качестве он выступал в эмигрантских кругах. Очевидно, сам генерал и его близкие осознавали необходимость зафиксировать воспоминания о прошлом. По инициативе своего старшего сына Николая, генерал Н. А. Епанчин в 1932 – 1939 гг. работал над мемуарами «На службе трех императоров». При жизни автора книга не была опубликована. Несколько экземпляров рукописи хранилось в личных архивах детей и внуков генерала. В 1961 г. его сын, Николай, передал имевшиеся у него бумаги отца в Колумбийский университет. Внук генерал, видный коллекционер и меценат Эдуард Александрович Фальц-Фейн, в 1982 г. подарил имевшуюся у него машинописную копию воспоминаний Центральному государственного военному архиву в Ленинграде. Но лишь к середине 1990-х гг. благодаря усилиям журнала «Наше наследие» эти мемуары увидели свет, пополнив ряд интересных и значимых источников по русской истории рубежа XIX – XX вв. Тогда же барон передал другие хранившиеся у него бумаги деда в фонды Российского государственного исторического архива300. Русско-турецкой войне в воспоминаниях отведено особое место. Автор акцентирует внимание на неблагоприятной для России политической обстановке, на интригах западных держав, особенно отмечая вероломство Германии. Он описывает вступление русской армии в Систов, сражение у 300 Кавтарадзе А. Г. Во имя истины // Епанчин Н. А. На службе трех императоров: воспоминания. М., 1996. С. 7 – 42. 116 Горного Дубняка, взятие Этрополя, осаду Плевны, зимний переход через Балканы. При этом основное внимание он уделяет рассказу о действиях командования, давая, в частности, позитивную оценку великим князьям, довольно сильно расходившуюся с историческими реалиями. Но наибольшего внимания он удостоил фигуру И. В. Гурко, которого знал лично, и деятельность которого изучал еще до революции. Представляют несомненный интерес и подробные рассказы о военном быте. Так, например, Н. А. Епанчин пишет, как агенты товарищества «Грегер, Горвиц и Коган», взявшегося снабжать армию, обманывали болгарских крестьян. Чтобы получить продовольствие даром, они вместо денег давали местным жителям золоченый багет, в который вставляли лист какой-нибудь газеты. Печатное слово магически действовало на темное крестьянство, заключал генерал: «Царская грамота и казаки производили на селяков магическое впечатление, и агенты увозили нагруженные подводы в интендантские склады»301. Что побудило Н. А. Епанчина отдать несколько лет работе над своими мемуарами, не имея твердой уверенности опубликовать их? И что заставило его столь много внимания уделить описанию освободительной войны? Прислушаемся к словам самого генерала: «С тех пор прошел шестьдесят один год, из юного подпоручик я стал восьмидесятилетним генералом, на чужбине, потеряв временно Родину, многих близких, все имущество. И вот когда я пишу эти строки [19.12.1938], я живо вспоминаю минувшие времена, моих товарищей, сослуживцев, начальников, и среди них немало знал я достойных, обаятельных лиц…»302 Немецкий историк Я. Ассман определил рубеж сохранения живой памяти о прошлом в сорок лет, после которых она оказываются под угрозой искажения и забвения. Вместо нее начинает складываться новая парадигма воспоминаний, 301 302 Там же. С. 103 – 104. Епанчин Н. А. На службе трех императоров. С. 118. 117 они начинают наполняться новым смыслом, порой совсем не тем, который вкладывали в нее современники303. Постепенный уход из жизни живых свидетелей исторического события приводит к тому, что память о нем начинала определяться уже не внутренними, а внешними рамками. Иначе говоря, индивидуальная память уступает место памяти коллективной, большое влияние на которую оказывают политика, наука, культура. Живые воспоминания начинают уступать место мемориальным мифам, история побеждает память. История возникает тогда, когда слабеет традиция и живая память угасает. Пока же воспоминания сохраняются в сознании людей, нет необходимости фиксировать их письменно304. Для эмиграции было важно сохранять память о знаковых исторических событиях, о тех, которые могли внушить гордость за прошлое, которые можно было противопоставить горестному настоящему. Причем прошлое должно было служить моральным и воспитательным целям для молодого поколения эмигрантов, столкнувшегося с угрозой денационализации. Сохранение памяти могло осуществляться в разных формах и ритуалах, как это уже было показано в статье. Написание мемуаров занимало при этом одно из центральных мест. Культурная среда Зарубежной России породила чрезвычайно широкий пласт источников подобного рода. С точки зрения А. Г. Тартаковского, мемуаристика является «одним из средств духовной преемственности поколений и одним из показателей уровня цивилизованности общества, его сознательного отношения к своему прошлому, а следовательно, и к своему бытию вообще»305. Очевидно, что 303 См.: Ассман Я. Указ. соч. С. 11 – 12. См., например: Нора П. Между памятью и историей. Проблематика места памяти. С. 20, 22, 25 – 29; Зерубавель Я. Указ. соч. С. 73; Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. Указ. соч. С. 11 – 13; Вяземский Е. Е. Историческая память, проблемы фальсификации истории и школьное историческое образование // Культурная память и мемориальные коммуникации в современных учебниках и учебной литературе: опыт России и Западной Европы. Саратов, 2012. С. 51 – 52; Crane S. A. Introduction: Of Museums and Memory // Museums and Memory. Stanford, 2000. Р. 5; Weissberg L. Op. cit. Р. 12 – 14 и др. 305 Тартаковский А. Г. Мемуаристика как феномен культуры // Вопросы литературы. 1999. № 1. С. 35. 304 118 идея духовной преемственности во многом и руководила старым русским генералом Н. А. Епанчиным, когда он писал свои воспоминания. Большой интерес представляет и другой мемориальный проект, реализованный в конце 1920-х гг. в Софии. Под редакцией полковника Андрея Ивановича Золотухина (1854 – 1929) и майора Ивана Николаевича Николаева появился сборник воспоминаний русских ветеранов Освободительной войны 1877 – 1878 гг.306 Публикация на болгарском языке свидетельствовала о желании сделать ее доступной в первую очередь для местного читателя. Кроме того, книге были приданы четко установленные воспитательные, пропагандистские функции, она должна была в очередной раз подчеркнуть традиции русскоболгарской дружбы. Не случайно в письме председателя Союза русских ветеранов премьер-министру Болгарии А. Ляпчеву от 18 февраля 1930 г. говорилось, что сборник был издан по случаю празднования Дня освобождения, в который традиционно проводятся торжественные собрания в городах и селах страны. Он просил политика, чтобы тот помог распространить книгу через местные органы власти – по одному экземпляру на муниципалитет – в качестве напоминания о братской любви и бескорыстном подвиге на благо болгарского народа307. Сборник включал в себя мемуары 21 ветерана Освободительной войны, которые эмигрировали в Болгарию в 1919 – 1920 гг. (А. Ф. Бояринов, М. Н. Васильев, Н. П. Гребеновский, Н. И. Губский, Д. Д. Дженеев, С. В. Жуков, А. И. Золотухин, П. А. Лясковский, М. Н. Никольский, Н. П. Карпов, Н. К. Кононович, В. К. Манштейн, А. С. Мельников, О. Л. Нянковский-Войнилович, Л. В. Крестовский, А. А. Смагин, Р. А. Скальский, В. И. Скоробогатов, В. А. Солнцев, А. В. Фок). Воспоминания каждого автора 306 Спомени на руските ветерани за Освободителната война 1877 – 1878 / Под ред. на А. И. Золотухин и И. Н. Николайев. София, 1929. 307 Рупчева Г. Освободителната Руско-турска война 1877 – 1878 г. в спомените на руски ветерани-емигранти в България 20-те – 40-те години на ХХ век. С. 233. 119 сопровождались портретом и краткими биографическими сведениями. По наблюдениям болгарской исследовательницы Г. Рупчевой, все они родились между 1843 и 1859 гг., 19 из них оказались в армии еще до военной реформы 1874 г. и введения всеобщей воинской повинности. Во время Освободительной войны авторы воспоминаний имели младшие чины (капитан – 1, поручик – 2, подпоручик – 6, младший офицер – 8, солдат – 3, юнкер – 1, доброволец – 4). Впоследствии 12 из них дослужились до генеральского чина, 5 стали полковниками, 1 – подполковником, 1 – вахмистром, 1 – действительным статским советником, 1 – коллежским асессором, 2 – журналистами, 1 – священником, 1 – доктором308. В начале 1920-х гг. все авторы, естественно, уже достигли пенсионного возраста. К моменту выхода в свет книги в 1929 г. 13 человек из их числа уже шли из жизни: трое – в 1925 – 1927 гг., десять – в 1928 – 1929 гг. Таким образом, как установила Г. Рупчева, воспоминания были написаны, в основном, еще до 1928 г. Авторы жили в 11 городах Болгарии: Софии, Шипке, Пловдиве, Варне, Видине, Шиштове, Сливене, Ямболе, Тетевене и Бяле, причем некоторые из них когда-то участвовали в освобождении этих городов от турок309. Та же Г. Рупчева обоснованно отмечает перекличку сборника воспоминаний с «Альбомом русских ветеранов», изданном в 1924 г. при содействии Центральной комиссии по сбору средств для живых участников Освободительной войны 1877 – 1878 гг.310 Воспоминания русских ветеранов выстроены в последовательности, которая отражает ход войны: от рассказов об Апрельском восстании и начале мобилизации русской армии до подписания Сан-Стефанского мира. Все они 308 Там же. С. 231. К моменту эвакуации из России 15 человек достигли высоких чинов и званий: один командовал артиллерийским корпусом, трое – бригадами, двое – дивизиями, трое –полками, один занимал должность начальника Штаба Всевеликого войска Донского, один служил начальником артиллерии Туркестанского военного округа, один являлся начальником округа пограничной охраны, один был медицинским инспектором Донской области, один был казначеем Черноморского флота и один – комендантом Ставрополя. 309 Там же. С. 232. 310 Там же. С. 228. 120 являются ценными, однако не слишком известными, источниками по истории русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Они ярко отражают настроения русского общества, военный быт и повседневность, восприятие Другого и т.д. Разумеется, каждый из мемуарных текстов пронизывает освободительная, героическая риторика, словно призванная объяснить российскую политику на Балканах. Например полковник А. И. Золотухин вспоминал, как его поразили турецкие зверства во время Апрельского восстания: «Я не мог слышать мученические крики братьев и поэтому приехал 2 апреля [1876 г.] в Болгарию, в Пловдив, чтобы принять участие в борьбе за свободу <…> Всякий осознавал, что его смерть принесет свободу Родине. Я прибыл в самый критический момент, в последний решающий день, когда турецкие власти приняли энергичные меры по поголовному истреблению восставших, отправив в те места, где они восстали, сильные военные отряды с приказом не щадить никого <…> Много крови было пролито, много жертв принесено. Но не зря! Наконец, рабы были освобождены от тяжелого ига…»311. Уже упоминавшийся немецкий историк Я. Ассман при описании феномена памяти ввел понятие «коннективная структура», которая включает в себя воспоминание, идентичность и культурную преемственность312. В случае русской эмиграции, в качестве объекта индивидуальных и коллективных воспоминаний выступала сама война 1877 – 1878 гг., символом идентичности была идея освобождения в самом широком смысле этого слова, а культурная преемственность должна была определяться героизмом, понимаемом как готовность отдать свою жизнь во имя высокой идеи. Память о войне не была обезличенной. Налицо была активная персонализация образов прошлого, иначе говоря, культ великих людей – М. Д. Скобелева, И. В. Гурко, Александра II. Французская исследовательница М. Озуф говорила о «внеисторической» 311 312 Спомени на руските ветерани за Освободителната война 1877 – 1878. С. 81 – 83. Ассман Я. Указ. соч. С. 15. 121 природе такого рода памяти, поскольку ее чистым продуктом является даже не сам великий человек, а его моральное значение и наследие313. Подтверждение этого правила мы легко можем найти в отношении эмигрантов в героям русскотурецкой войны. Уместно привести тут слова Н. Н. Кнорринга, одного из первых биографов М. Д. Скобелева: «… Образ “белого генерала”, запечатленный навеки в памяти, в описаниях, в картинах овеян легендой, сотканной из доброго материала: в нем нет места низменным чувствам, он символизирует красоту подвига, талант, личную храбрость и жертвенность, подъем человеческого духа и волю к победе»314. Пятидесятилетний юбилей русско-турецкой войны получил широкий отклик в эмигрантских кругах. Он объединил вокруг себя представителей разных возрастных, социальных и профессиональных групп. Оживление образов прошлого должно было способствовать пробуждению национального сознания, расколотого историческими потрясениями, выражением славных исторических традиций. Юбилейные торжества 1927 – 1928 гг. представляли собой одной из попыток сложить из разорванных революцией частей коллективную историческую память, создать новый образ прошлого России, продемонстрировать многообразные выражения славянской идеи, показать неразрывную историческую связь России со славянским миром. Для русской диаспоры в Чехословакии огромное значение имели юбилеи, связанные с возрождением чешской государственности. Ежегодно в день независимости республики (28 октября) организовывались памятные вечера и собрания. Обычно русские организации устраивали торжественный вечер, в первой части которого произносились официальные речи, а во второй проходил концерт. С особой пышностью было отпраздновано 10-летие Чехословацкой республики в 1928 г. Одним из главных центров торжеств сделался Русский 313 Озуф М. Указ. соч. С. 161 – 162. Кнорринг Н. Н. Генерал Михаил Дмитриевич Скобелев: исторический этюд. Париж, 1939. С. 90. 314 122 народный университет. 20 октября 1928 г. на годичном акте университета с поздравительными речами в честь юбилея выступили М. М. Новиков, А. А. Кизеветтер, Е. А. Ляцкий. Эмигранты также принимали участие в празднествах по случаю 75-летия (1925) и 80-летия (1930) Т. Масарика315. Для большей части русских изгнанников знаменитый мыслитель и государственный деятель был настоящим кумиром. Русская диаспора чествовала не просто основателя Чехословацкой республики, но великого демократа и гуманиста всеевропейского и всемирного масштаба316. В юбилейной речи в честь 80-летия чехословацкого президента в марте 1930 г. А. А. Кизеветтер назвал его смелым борцом «с общественными предрассудками во имя Истины, Правды и Добра, во имя всех самых светлых и прогрессивных начал, которыми живо человечество»317. В июле 1927 г. в Ужгороде по инициативе Культурнопросветительского общества имени А. Духновича, в работе которого участвовало и местное население, и русские эмигранты, был заложен памятник Т. Масарику. Дальневосточная ветвь эмиграции отмечала даты, оставившие след как в российской, так и в китайской истории. Колоритную окраску носили массовые торжества, прошедшие 11 – 12 июня 1923 г. в Харбине по случаю 25-летия основания города и строительства КВЖД318. Юбилей был организован совместными усилиями русских и китайцев. Отдавая дань уважения китайскому народу, было решено открыть в дни торжеств памятник первому председателю КВЖД Сюй Цзинчэну, казненному ихэтуанями в 1900 г. 11 июня состоялся молебен в 315 Общий обзор деятельности Русского народного университета за 1928 – 1929 учебный год // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1929. Т. II. С. 399; Новиков М. М. Русские эмигранты в Праге. С. 253. 316 См.: Фенцик С. А. Юбилей Т. Г. Масарика // Т. Г. Масарик: Юбилейный сборник по поводу восьмидесятилетия со дня его рождения. Ужгород, 1930. С. 10 – 15. В своей статье этот известный карпаторосский деятель писал о чешском президенте как о «стойком труженике на поле человековоспитания», который, «служа своему народу, … служил всему человечеству». В Подкарпатской Руси культ Т. Масарика приобрел особый размах. 317 ОР РГБ. Ф. 566. Карт. 7. Д. 8. Л. 10. 318 См.: Мелихов Г. В. Белый Харбин: Середина 20-х. М., 2003. С. 376 – 383. 123 фойе Железнодорожного собрания, после которого прошло торжественное заседание правления КВЖД. Вечером «был устроен грандиозный раут-спектакль: оперный ансамбль поставил оперу “Паяцы”, был устроен стол а-ля фуршет и, конечно, был фокстрот, который танцевали во всех залах и даже на площадках второго этажа собрания»319. На следующий день состоялось открытие памятника и Юбилейной выставки в Московских торговых рядах, было проведено торжественное заседание Общества изучения Маньчжурского края. Многочисленные представители интеллектуального сообщества, оказавшиеся в эмиграции, отмечали юбилейные даты, связанные с историей российской науки: 200-летие Российской Академии наук, 100-летие со дня рождения Б. Н. Чичерина (1928), А. Н. Пыпина (1933) В. И. Ламанского (1933), Д. И. Менделеева (1934), 100-летие Киевского университета (1934), 15-летие Юридического факультета в Харбине (1936), 10-летие Русского научного института в Белграде и мн. др. Но все эти мероприятия носили узкокорпоративный характер и были выдержаны в классическом академическом духе. Обычно в честь подобных дат устраивались торжественные публичные собрания, на которых заслушивались сообщения о том или ином памятном событии, и которые продолжали традицию дореволюционной российской научной культуры. Широкий размах имело празднование в 1929 г. в странах русского рассеяния 70-летия П. Н. Милюкова. Он был необычайно популярен среди широких кругов русских изгнанников по всему миру. В немалой степени этому способствовал огромный успех редактируемой им газеты «Последние новости»320. Друзья и коллеги именитого историка и политика издали в Париже, Праге и Софии юби- 319 Там же. С. 379. «Последние новости» издавались в Париже в 1920 – 1941 гг. Это была самая многотиражная газета Зарубежной России. Она удовлетворяла интересы разных групп читателей. См. подробнее: Бирман М. А. В одной редакции (О тех, кто создавал газету «Последние новости») // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Иерусалим, 1994. Т. III. С. 147 – 167. 320 124 лейные сборники в честь этого события321. Этот юбилей объединил многих российских интеллектуалов по всему миру. Разве что праворадикальные круги эмиграции восприняли его враждебно. Одним из главных торжеств для всей российской научной эмиграции стал 175-летний юбилей Московского университета, отмеченный в 1930 г. в разных странах. Причиной высокого внимания к этой дате был не только высокоинтеллектуальный состав эмиграции. Университет стал для ее представителей символом прежней России, «в которой знали цену науке, культуре и просвещению»322. В подготовке памятных мероприятий принимали участие русские интеллектуалы, жившие в Праге, Париже и других центрах русского рассеяния. В июле 1929 г. в чешской столице состоялось учредительное собрание юбилейного комитета, в котором приняли участие В. В. Стратонов, Н. И. Астров, А. А. Кизеветтер, П. Д. Долгоруков, А. Ф. Изюмов, А. А. Эйхенвальд, Д. М. Иванцов, С. Н. Прокопович, Н. Е. Осипов, С. И. Варшавский, В. А. Розенберг323. Председателем Пражского комитета по ознаменованию 175летия Московского университета стал выдающийся ученый-зоолог, профессор Михаил Михайлович Новиков (1876 – 1965)324. Кто, как ни он, был достоин этой высокой чести! Ведь именно М. М. Новиков был последним свободно избранным ректором Московского университета, занявшим этот пост весной 1919 г. в самый разгар Гражданской войны. Он всегда был активным борцом за академические свободы. Именно поэтому еще в 1911 г., протестуя против действия министра народного просвещения Л. А. Касссо, он временно покинул Московский 321 См.: Бирман М. А. К истории изучения жизненного и творческого пути П. Н.Милюкова // Отечественная история. 1997. № 1.С. 94. 322 Пивовар Е. О., Вьюницкая Е. В. Питомцы и выпускники Московского университета в изгнании // Российские ученые-гуманитарии в межвоенной Чехословакии. М., 2008. С. 59. 323 Там же. 324 Александров Д. А. Михаил Михайлович Новиков: ученый, общественный деятель, организатор науки // Деятели русской науки XIX – XX веков. СПб., 2000. Вып. 2. С. 89 – 108; Ульянкина Т. И. «Ради русского имени» – научная и общественная деятельность М. М. Новикова в Чехословакии (1923 – 1945 гг.) // Т. Г. Масарик и «Русская акция» Чехословацкого правительства. М., 2005. С. 135 – 161 и др. 125 университет, именно поэтому он не смог ужиться и с большевиками и осенью 1920 г. оставил должность ректора в знак несогласия с их политикой в отношении высшей школы. Естественно, что новые власти враждебно относились к свободолюбивому профессору, да еще члену партии кадетов, бывшему депутату Государственной Думы и председателю Комиссии по реформе высшего образования при Временном правительстве. В 1922 г. он вместе с большой группой русских интеллигентов был выслан за границу на печально известном «Философском пароходе». Оказавшись на чужбине, он некоторое время работал в Берлине и Гейдельберге, пока в 1923 г. не переехал в Чехословакию, правительство которой в ту пору проводило «Русскую акцию» – политику оказания всесторонней помощи русским эмигрантам. Уважение к М. М. Новикову в среде русской диаспоры было высоким, и поэтому в 1923 г. он был избран ректором Русского народного университета в Праге. Благодаря общественному авторитету и неуемной энергии М. М. Новикова, русская диаспора со всей ответственностью и непривычным для нее единством подошла к подготовке юбилея Московского университета. В ходе июльского заседания в Праге было решено подготовить к изданию специальный сборник статей. Но денег на него, видимо, не нашлось. И русские пражане обратились к своим соотечественникам в Париже, которые тоже образовали комитет по подготовке праздника. В итоге было решено вместе провести юбилейные торжества и совместными силами издать книгу, посвященную университету. Обсуждался даже вопрос об учреждении для эмигрантских студентов стипендий имени Московского университета, но денег на реализацию этой идеи не нашлось325. Центром празднеств решено было сделать французскую столицу. 24 января 1930 г. прошел торжественный вечер в парижском зале «Гаво», на котором с речами выступили перед собравшимися В. А. Маклаков и П. Н. Милюков. Завершилось собрание концертом Н. Плевицкой. На следующий день утром прошел 325 Пивовар Е. О., Вьюницкая Е. В. Указ. соч. С. 59. 126 молебен в соборе Александра Невского на улице Дарю, а вечером состоялся банкет в ресторане «Мобер»326. Специально к юбилею группа видных русских ученых и общественных деятелей подготовила мемориальный сборник, который наглядно отразил особое место Московского университета в исторической памяти. Даже в обширный исторический очерк А. А. Кизеветтера внесено много личного, пережитого327. Основу сборника составили воспоминания выдающихся ученых и общественных деятелей, таких как В. В. Стратонов, М. М. Новикова, Н. И. Астров, П. Н. Милюков, В. А. Маклаков, С. В. Завадский, Н. Е. Осипов, Н. Н. Кнорринг и др. Как видим, большинство из них принадлежало к либеральным кругам. И, очевидна, политическая идентичность определили ракурс воспоминаний. Их общей метафорой стала борьба за университетскую автономию и интеллектуальную свободу, в которой авторы принимали непосредственное участие. Профессор М. М. Новиков, знаменитый ученый-биолог, вспоминал о последних годах своего ректорства. До революции он отчаянно боролся с произволом царских бюрократов из Министерства народного просвещения. В годы революции он сделался упорным защитником университета перед лицом большевистского произвола, столь сильно поразившего его. Поэтому он с горечью пишет об «убиении свободной научной мысли», «тяжком пленении русской высшей школы», и о том, что М. Н. Покровский и А. В. Луначарский хуже К. П. Победоносцева и Л. А. Кассо328. Пафос борьбы, причем неравной, и обличение произвола власти – и императорской, и советской – стал лейтмотивом мемуаров. Вне всякого сомнения, он был порожден желанием опровергнуть расхожее мнение, «будто русская, а, в частности, московская профессура свернула 326 См.: Гутнов Д. А. Празднование 175-летия со дня основания Московского университета в Париже 24 – 26 января 1930 г. // Вестник МГУ. Сер. 8: История . 2004 № 3. С. 88 – 101 . 327 Кизеветтер А. А. Московский университет (исторический очерк) // Московский университет. 1755 – 1930. Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 9 – 140. 328 Новиков М. М. Московский университет в первый период большевистского режима // Московский университет. 1755 – 1930. Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 192. 127 перед коммунистами знамена свободной культуры вовсе без борьбы»329, и тем самым реабилитировать русскую интеллигенцию, столь часто, и отнюдь не всегда беспричинно, обвинявшуюся в мягкотелости и нерешительности. Московский университет воспринимался не только как колыбель российской науки; его коммеморация скрывала в себе нечто большее. Он был символом борьбы за интеллектуальную свободу, выходившую далеко за пределы университетских стен. Именно потому А. А. Кизеветтер увидел главную его традицию и его силу в «слиянии и органическом совмещении служения научной истине с служением общественному благу», в умении «вводить свою научную работу в русло кардинальных вопросов, овладевавших общественным вниманием», в тесной связи с судьбами всей России330. Московские профессора воплощали в себе эти идеалы, они были чужды «ремесленной учености», но представляли собой крупную социальную силу и «могучий рычаг прогрессивного общественного движения»331. Воспоминания о Московском университете были проникнуты и болью переживаний за его будущее. Бывшие профессора, приват-доценты и студенты, выброшенные за пределы России, конечно же не могли не волноваться за судьбу своей ученой обители. Недаром А. А. Кизеветтер, размышляя о будущем университете, закончил свою мемориальную брошюру 1928 г. отрывком из «Войны и мира» о встрече Андрея Болконского со старым дубом, преобразившей его и воскресившей тягу к жизни332. Схожую отсылку к толстовскому тексту, пронизанного верой в будущее, содержит и очерк А. А. Кизеветтера, написанный им специально к юбилею 1930 г. В нем он в очередной раз подчеркивал исключительное место Московского университета в русской интеллектуальной жизни и исторической памяти и наполнял свои мысли оптимистическими наде329 Стратонов В. В. Потеря Московским университетом свободы // Московский университет. 1755 – 1930. Юбилейный сборник. Париж, 1930. С. 194. 330 Кизеветтер А. А. Московский университет и его традиции: роль Московского университета в культурной жизни России. Прага, 1927. С. 2; Он же. Московский университет (исторический очерк). С. 140. 331 Кизеветтер А. А. Московский университет и его традиции. С. 2. 332 Там же. С. 18. 128 ждами: «Сейчас университет страждет, потому что страждет и вся Россия. Может ли он безвозвратно погибнуть в этой пучине? Ставить такой вопрос – все равно, что спросить: “Может ли безвозвратно погибнуть Россия”? Когда взойдет над Россией солнце жизненного обновления, тогда и славный старый дуб в Москве на Моховой заблестит яркой свежей зеленью и проявит вновь неиссякаемый запас творческой мощи, которую можно временно приглушить мерами грубого насилия, но истребить которую не в состоянии никакая власть, никакая сила»333. Напрямую связанным с московскими университетскими традициями было ежегодное празднование Татьянина дня, которое восходило к елизаветинским временам. Поначалу он отмечался только в Москве, правда при участии едва ли не всех горожан. Но уже к середине ХIX в. превратился из праздника московских студентов и профессоров в праздник российский интеллигенции вообще. Традиция шумных и веселых торжеств и гуляний были быстро подхвачена в разных городах. Перекочевала она и в эмигрантскую среду. Укреплению сложившегося обычая на эмигрантской почве во многом способствовали московские профессора, оказавшиеся в вынужденном изгнании – А. А. Кизеветтер, М. М. Новиков, В. А. Стратонов и др. Главными центрами Татьянинских празднеств были Прага, Париж, Харбин, поскольку именно в этих городах имелась развитая сеть русских высших учебных заведений, концентрировалась русская профессура и студенчество. В иных центрах русского рассеяния празднование Татьянина дня часто было невелико по масштабу, носило камерный характер. Тем не менее, праздник этот оставался одним из самых любимых в среде русской диаспоры. Живший в Латвии журналист Г. Гроссен писал в своих биографических заметках: «Когда в Ригу прибыл профессор Грибовский…, мы с ним решили открыть общество празднования Татьяниного дня… Многие живо откликнулись. В январе, кажется, 1923 г. состоялось первое собра333 Кизеветтер А. А. Московский университет (исторический очерк). С. 140. 129 ние в Русском клубе, где избрали комитет по празднованию этого значительного для русских студентов дня»334. Формы празднование Татьянина дня в эмиграции в целом повторяли дореволюционные: те же веселые гуляния, застолья профессоров и студентов, шуточные куплеты и песни. Татьянинские дни занимали важное место в передаче университетских традиций от старшего к молодому поколению. Бывшая студентка Северо-Маньчжурского университета в Харбине вспоминала, что празднование Татьянина дня начиналось рано утром 25 января, когда после литургии в кафедральном соборе свершался молебен при большом стечении народа – «студентов в парадной форме, фрачных профессоров, врачей, писателей, старых инженеровпутейцев, выстроивших КВЖД, и всех, кто когда-то окончил свой вуз»335. Затем, после богослужения, торжества продолжались в стенах университета за традиционной чашкой чая. Помимо этого, Татьянин день рассматривался как благотворительная акция. Доходы от продажи входных билетов на праздничный бал использовались для поддержания нуждавшихся студентов, закупки учебной литературы, издания научных трудов и т.д. В Праге «многие из приглашенной чешской интеллектуальной знати по почте присылали, кроме денег за билеты, еще добавочные пожертвования»336. В Харбине устраивался торжественный бал в СевероМаньчжурском университете, как самом большом высшем учебном заведении, бережно хранившим традиции. «Почетные билеты заранее охотно раскупались коммерческим миром, жертвователями и просто хорошей публикой»337, а доходы от их продажи распределялись специальной комиссией в пользу нуждающихся, как говорили тогда «недостаточных», студентов. Причем деньги не выдавались на руки, а вносились в счет уплаты за обучение, необходимые покупки 334 Гроссен Г. Жизнь в Риге // Даугава. Рига, 1994. № 1. С. 175. Медведева Е. С. Татьянин день // Русский Харбин. М., 1998. С. 62. 336 Пушкарев С. Г. Воспоминания историка. 1905 – 1945. М., 1999. С. 96. 337 Медведева Е. С. Указ. соч. С. 63. 335 130 или иные непредвиденные нужды. Немалые средства в копилку праздника давала и организация разнообразных буфетов: «На первом этаже организовывался чайный стол. Кипел огромный самовар, и стояла большая копилка. Пили чай, в копилку, не скупясь, бросали деньги, кто сколько338 мог». Помощь в организации праздника оказывали и меценаты, например владелец китайской цветочной лавки на Пекарной улице, жертвовавший цветочки для бутоньерок, или фабрика «Марс», дарившая пирожные, конфеты и другие сласти. Неофициальная часть праздника готовилась самими студентами, которые организовывали юмористические скетчи, вокальные номера и репризы. Затем все празднество перерастало в танцы, которые порой продолжались до самого утра. Традиция Татьянина дня уходила своими корнями в историю российского университетского образования. В условиях эмиграции она была призвана стать прибежищем памяти об этом славном прошлом. Менее широкими по размаху, но, отнюдь, не менее широкими по своему идейному содержанию было празднование других годовщин из российской университетской истории. К ним можно отнести 50-летие Томского университета в 1938 г. Его бывший выпускник, доктор Н. П. Голубев, опубликовал небольшую мемуарную статью, содержавшую яркие и живые портреты томской профессуры – А. А. Кулябко, В. В. Сапожникова, Н. М. Кащенко, П. П. Авророва и др. Даже о строгих экзаменаторах, бывших некогда грозой студентов, таких как профессор фармации Н. А. Александров и профессор медицинской химии Ф. К. Крюгер, он пишет с глубокой любовью и ностальгией339. «Настоящую краткую заметку, посвященную юбилейной дате, хотелось бы рассматривать как экскурсию в область самых приятных воспоминаний, как венок на могилу памяти ушедших в вечность, как сердечную благодарность и пожелание дальнейших 338 Там же. Голубев Н. П. К пятидесятилетию Императорского Томского Университета // «День Русской Культуры»: сборник, посвященный празднованию «Дня Русской Культуры» в Харбине в 1938 г. Харбин, 1938. С. 21. 339 131 успехов нашим учителям, а также для оживления нашего затаенного желания о приближении срока встречи с дорогою Альма Матер, освобожденной от цепей интернационала», – заключал автор340. Многочисленные юбилейные торжества представляли собой попытку сложить из разорванных революцией частей коллективную культурную память, создать новый образ прошлого России. Они служили мощным моральным стимулом в условиях экзистенциональной трагедии изгнания. 340 Там же. С. 22. 132 Глава 4. «ЗОДЧИЕ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ» «День русской культуры» стал самой удачной попыткой общеэмигрантского культурно-исторического праздника. Впервые его отметили в 1924 г. в Эстонии, а уже в марте 1925 г. эмигрантские организации в Чехословакии обратилась ко всем русским людям за рубежом с предложением ввести празднование «Дня русской культуры» в ежегодную практику и придать ему объединительный характер. В своем обращении эти организации указывали на опасность денационализации молодого поколения, которая не позволит «выполнить мечту огромного большинства русских за рубежом: вернуться в Россию и работать над ее воссозданием»341. Было предложено приурочить торжества ко дню рождения А. С. Пушкина (8 июня) и придать им неполитический характер. Цель «Дня русской культуры» была тройной: «объединить эмиграцию, усилить ее связи с российской культурой, которые неизбежно становились все слабее, и распространить знание российской культуры в ведущих обществах»342. Идея «Дня русской культуры» появилась не на пустом месте и имела свою предысторию. Еще в конце 1920 г. в «Доме литераторов» в Петрограде возникла мысль о проведении всероссийских торжеств в честь А. С. Пушкина. В организационный комитет, занимавшийся их подготовкой, вошли А. А. Ахматова, А. А. Блок, Н. С. Гумилев, М. А. Кузьмин, П. Е. Щеголев, В. Ф. Ходасевич и др. Однако в социальных и политических условиях того времени воплотить в жизнь благородную идею в полной мере не удалось. Но все же в феврале 1921 г. состоялись памятные вечера, приуроченные ко дню гибели поэта. В них участвовали Б. М. Эйхенбаум, А. Ф. Кони, А. А. Блок, Ф. К. Сологуб и др. В 1922 г. 341 342 К русским людям за рубежом // На чужой стороне. 1925. Кн. Х. С. 306. Andreyev C., Savický I. Op. cit. P. 156. 133 торжества прошли уже не только в Петрограде, но в Москве и некоторых провинциальных городах. Тогда же Московское общество любителей русской словесности предложило приурочить пушкинские торжества не ко дню гибели поэта, а ко дню его рождения343. В 1922 г. «Дом литераторов» был закрыт. К этому времени в состоянии духовного опустошения скончался А. А. Блок, был расстрелян как участник «таганцевского дела» Н. С. Гумилев. А некоторые участники петроградского оргкомитета оказались в изгнании. И, так случилось, что именно на чужбине пушкинским торжествам суждено было получить поистине широкий размах и превратиться в праздник русской культуры вообще. Идея общеэмигрантского праздника встретила большую поддержку со стороны российской диаспоры по всему миру. Рижская газета «Сегодня» писала в 1925 г.: «День Русской культуры, прежде всего, чужд не только партийности, но и политики. В этот день русское население, разбросанное в разных странах, стремится почувствовать свое духовное единство, осознать те великие ценности в области литературы и искусства, которые созданы творческим гением русского народа и получили мировое признание»344. Эту же мысль выразил и знаменитый историк А. А. Кизеветтер, который, говоря о значении всеэмигрантского праздника, подчеркнул: «“День русской культуры” нам дорог, потому что в этот день мы чувствуем себя духовно объединенными»345. Ему вторил живший в Болгарии журналист М. Шишкин, словно подытоживая своими словами эмигрантские чаяния: «Не вдаваясь здесь в политическую оценку самого факта отрыва нескольких миллионов русских людей от родной почвы и культуры, мы должны признать, что эти миллионы русских людей не могли и не должны были потерять своего национального облика, или как принято в этом случае говорить – денационализироваться, а должны были всегда чувствовать свою духовную 343 День русской культуры: Краткий отчет о праздновании в 1927 году. Прага, 1928. С. 8 – 9. День Русской культуры // Сегодня. Рига, 1925. 20 сентября. № 211. 345 Кизеветтер А. А. Смысл дня русской культуры // День Русской Культуры: Краткий отчет о праздновании в 1928 году. Прага, 1928. С. 16. 344 134 связь, единство многовековой культуры с прежним целым. Потерять или переменить все свое нравственное существо, потерять национальный облик, обезличится и умереть для духовно-разумной культурной жизни; иначе говоря, потерять именно то, что составляет основу нации, ее силу и высшую ценность. Празднование “Дня русской культуры” имеет своею целью напомнить обеим группам, разделенных территориально русских людей, о той общей культурной связи, которая была, есть и вечно будет между ними, а самый “День русской культуры” является ясным доказательством того, что эта цель не забыта, что она осознается, и что для осуществления ее принимаются и будут приниматься необходимые меры»346. С середины 1920-х гг. празднование «Дня русской культуры» прочно вошло в эмигрантскую традицию, участие в нем принимали тысячи русских изгнанников, разбросанных по разным частям света. «День русской культуры» широко отмечался в 1920 – 1930-х гг. в Париже, Софии, Риге, Харбине и т.д. В Чехословакии, Франции, Германии, Болгарии, Югославии, Польше, Латвии, Бельгии, Китае возникли Комитеты «Дня русской культуры», выступившие в качестве организаторов празднеств. Эти совместные торжества сплачивали диаспору, давали примеры широких общественных и культурных связей между соотечественниками в разных частях света347. Тогда же формировалась единая модель празднования. Например, в июле 1926 г. выходившая в Берлине эмигрантская газета «Руль» поместила информацию, что Русское педагогическое бюро в Чехословакии объявило конкурс на создание торжественной песни для «Дня русской культуры», с которой должны были бы начинаться торжества во всех уголках русского рассеяния. В жюри вошли А. Л. Бем, С. В. Завадский, 346 Шишкин М. День Русской Культуры // День Русской Культуры: однодневная газета. Пловдив, 1929. 8 июня. С. 1. 347 Мелихов Г. В. Российская эмиграция в международных отношениях на Дальнем Востоке. 1925 – 1932. М., 2007. С. 212 – 213. 135 И. И. Лапшин, В. И. Немирович-Данченко, Е. Н. Чириков348. Однако эта идея, видимо, так и не нашла широкой поддержки, и «День русской культуры» так и остался без официального гимна. Участие в празднествах принимали тысячи русских изгнанников, разбросанных по разным частям света, их география постоянно расширялась. Если в 1925 г. «День русской культуры» праздновался в 13 странах, то в 1926 г. – уже в 20 странах. К концу 1920-х гг. его отмечали во всех уголках русского рассеяния. Центрами торжеств были Нью-Йорк, Вена, Белград, Рига, София, Париж, Ницца, Прага, Харбин, Рим, Каир, Дрезден и др.349 В подготовке празднеств обычно участвовало сразу несколько эмигрантских научных и культурных организаций. Ими могли быть Академические группы, русские гимназии, высшие учебные заведения, творческие союзы писателей, музыкантов, журналистов и т.д. Так в Харбине подготовку празднеств координировал Харбинский комитет помощи русским беженцам. Для установления более тесного культурного сотрудничества между русскими диаспора в Европе и на Дальнем Востоке, Комитет обратился через русские газеты в Европе с воззванием к научным и общественным деятелям прислать в Харбин свои статьи для однодневной газеты «День русской культуры». На этот призыв откликнулись К. Д. Бальмонт, Е. Ф. Шмурло, Н. Н. Головин, М. А. Алданов, В. И. Немирович-Данченко и др.350 В Праге подготовкой «Дня русской культуры» первоначально руководило Педагогическое бюро. Вскоре русские эмигрантские организации в Праге взяли на себя координацию торжествами во всей Зарубежной России. Во второй половине 1920-х гг. в Чехословакии, Франции, Германии, Болгарии, Югославии, Польше, Латвии, Бельгии, Ки- 348 Руль. 1926. 7 июля. № 1699. См.: День Русской культуры: Обзор празднования в 1926 году. Прага, 1927. С. 3. 350 День русской культуры: Однодневная газеты, посвященная празднованию «Дня русской культуре» в Харбине в 1931 г. Харбин, 1931. С. 37. 349 136 тае возникли Комитеты «Дня русской культуры», выступившие в качестве организаторов ежегодных празднеств. Во многих странах местные власти оказывали содействие русским эмигрантам в подготовке «Дня русской культуры». Особенно заметной была эта помощь в славянских странах – Югославии, Болгарии и Чехословакии. Русское население там регулярно получали поддержку со стороны местных политических кругов. Приведем несколько ярких примеров. В 1926 г. в Варне торжества прошли при участии представителей местных властей. Русская колония получила приветственную телеграмму болгарского царя Бориса III. В Софии на празднике присутствовали военный министр, товарищ председателя Народного Собрания. В Оргкомитет входили ректор Софийского университета Стефан Петков и председатель Славянского общества известный историк Стефан Бобчев351. В словенской Любляне в 1932 г. в праздновании «Дня русской культуры» участвовали местные научные и культурные деятели. Режиссер Национального театра К. Дебевец прочел по-словенски отрывки из «Братьев Карамазовых». С музыкальными номерами выступили словенские артистки Ц. Шкерль-Медведова, Ф. Голобова-Бернот, Г. Арко. На вечере в «Купеческом доме» 15 июня присутствовали представители русской диаспоры, городских властей, университета во главе с проректором профессором Доленцем, прессы, культурных обществ и почетный член Русской Матицы, известная словенская деятельница Т. М. Енко352. В Чехословакии поддержку эмигрантам оказывали государственные службы (Канцелярия Президента, Министерство иностранных дел и др.) и культурные организации (Чешское радио, Национальный театр, Пражская филармония и др.). Выступая перед эмигрантской аудиторией в 1928 г. в Праге депутат парламента А. Прокупек от лица своей страны заявил: «Мы воздаем сегодня свою благодарность Русской 351 352 День Русской культуры: Обзор празднования в 1926 году. С. 6. День русской культыр в Любляне // Россия и славянство. 1932. 25 июня. № 187. 137 Культуре, гордости русского народа, славянства и всего мира»353. На протяжении 1920 – 1930-х гг. ежегодные праздники русской культуры проходили при активном участии чехов и словаков. Апогеем празднования «Дня русской культуры» в Чехословакии, как отмечают И. Савицкий и Е. Андреева, стали 1928 – 1930 гг. В 1930 г. очаг празднеств переместился из Праги в Братиславу, главным их событием стала постановка оперы «Борис Годунов» с Ф. И. Шаляпиным в заглавной партии354. Разразившийся мировой экономический кризис еще больше ухудшил и без того нелегкое материальное положение русской эмиграции. Поддержка эмиграции чешским правительством была фактически прекращена из-за переориентации внешнеполитического курса Чехословакии и нормализации ее отношений с СССР355. В Финляндии покровителем «Дня русской культуры» был знаменитый генерал К. Г. Маннергейм356. В 1925 г. в организации торжеств в Бельгии участвовали профессор Брюссельской консерватории Клоссон, в Париже – профессор Сорбонны Э. Оман, в Страсбурге – профессора С. Рошеблар, Л. Тернье и Х. Троншон, в Белграде – академик И. Цвич, профессора А. Белич, Д. Попович, С. Йованович и т. д.357 Празднование «Дня русской культуры» продолжалось вплоть до Второй мировой войны, а в некоторых странах и после нее. В Финляндии его последний раз отпраздновали в 1940 г. Запланированные на будущий год торжества не состоялись из-за начавшейся войны358. В Праге «День Русской культуры» в последний раз отмечали уже в годы немецкой оккупации в мае 1941 г., когда торжества были приурочены к столетней годовщине гибели М. Ю. Лермонтова359. 353 Цуриков Н. А. Краткий отчет о праздновании «Дня Русской Культуры» в 1928 году // День Русской Культуры: Краткий отчет о праздновании в 1928 году. Прага, 1928. С. 9. 354 Andreyev C., Savický I. Op. cit. P. 158. 355 Ibid. P. 158. 356 Невалайнен П. Указ. соч. С. 304. 357 См.: День Русской Культуры. Отчет о праздновании «Дня Русской Культуры» за рубежом в 1925 г. Прага, 1926. С. 10 – 11, 31 – 33 и др.; Цуриков Н. А. Указ. соч. С. 7 – 8. 358 Невалайнен П. Указ. соч. С. 304. 359 Veber V. Dny ruské kultury // Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918 – 1945 (Sborník studií - 2). Praha, 1994. S. 92. 138 Торжества «Дня русской культуры» никогда не ограничивались лишь пушкинской тематикой, ведь в пантеон памяти эмиграции включались и другие персонажи русской истории и культуры. Например, 30 мая 1926 г. главным героем торжеств в Ницце, организованных Ниццским педагогическим советом и Ниццским обществом помощи русским учащимся и ученым, стал И. А. Крылов. Школьники украсили портрет великого баснописца цветами, пропели ему «славу». В заключении выступил профессор П. П. Микулин360. В Праге в 1926 г. комитет «День русской культуры» остановился на значении отдельных мест России для развития ее культуры, «дав в докладах литературной и музыкальной части программ полный, цельный и законченный облик отдельных городов России, выявив их историческую роль и значение». Первый праздник был посвящен Москве. А. А. Кизеветтер выступил с речью «Москва и Россия», М. Н. Германова прочла ряд отрывков из произведений Пушкина, о Москве, чешский симфонический оркестр под управлением Ф. Ступки исполнил ряд музыкальных произведений русских композиторов, в том числе «1812». На следующий день московский городской голова Н. И. Астров прочел доклад о Москве, сопровождавшийся иллюстрациями361. В 1928 г. «День русской культуры» в Праге был приурочен к 100-летию Л. Н. Толстого. Торжественное заседание прошло в Пражской городской ратуше прошло при участии видных чешских общественных и политических деятелей: депутата А. Прокупека, писателя Р. Медека, профессоров Й. Поливки и Й. Горака. С ответной речью от лица русской эмиграции выступил М. М. Новиков. В конце заседания был исполнен хорал Б. Сметаны «Ты любимая Родина моя»362. В Финляндии в 1934 г. торжества были посвящены Н. В. Гоголю, в 1935 г. – Н. А. Римскому-Корсакову363. С име360 Возрождение. 1926. 5 июня. № 369. День Русской культуры: Обзор празднования в 1926 году. С. 8. 362 Русской Культуры: Краткий отчет о праздновании в 1928 году. С. 7 – 8; Кишкин Л. С. Русская эмиграция в Праге: празднование «Дня русской культуры» // Славяноведение. 2000. № 4. С. 34 – 35. 363 Невалайнен П. Указ. соч. С. 303. 361 139 нем М. Ю. Лермонтова были связаны эмигрантские торжества в Эстонии в 1939 г. Они были приурочены к 125-летию со дня рождения поэта. Инициатором торжеств выступал тогда Союз Русских просветительных и благотворительных обществ. Одной из главных их задач стала просветительская работа среди русского населения, особенно в сельской местности. Примечательной церемониальной формой стали литературные суды, которые проводились повсеместно. Так, 17 декабря 1939 г. в Тартуском русском просветительном обществе прошел суд над Печериным, которого обвиняли в похищении девушки, краже коня и убийстве на дуэли. Участники собрания после обсуждений вынесли обвинительный приговор по всем трем пунктам364. Кроме того, были проведены творческие конкурсы среди учащихся гимназий, публичные лекции в высших школах, богослужение в Александро-Невском соборе в Таллинне, спектакли и концерты. Намечавшиеся на июль 1941 г. торжества не состоялись из-за начавшейся Великой Отечественной войны365. Почти всегда празднование «Дня русской культуры» начиналось с торжественного богослужения. В Праге оно проходило в соборе Святого Николая, в Париже – в соборе Александра Невского, в Харбине – в СвятоНиколаевском соборе и др. В Эстонии своеобразным центром празднования был Печерский монастырь. Эмигранты стремились подчеркнуть связь русской культуры с православием. Это неудивительно, ведь в условиях жизни в иной культурной среде православие стало одним из способов подчеркнуть свою национальную идентичность. «День русской культуры» сопровождался концертами, школьными выставками, музыкальными вечерами и др. Все они пользовались огромной популярностью и собирали полные залы. Один из зрителей, посетивших в июне 1926 г. концерт в зале Трокадеро, вспоминал: «Я ясно, ясно почувствовал 364 Пономарева Г. М., Шор Т. К. Русская печать и культура в Эстонии во время Второй мировой войны (1939 – 1945). Тарту, 2009. С. 49 – 51. 365 Там же. С. 54. 140 страшную метафизическую власть прошлого, вековых отложений, власть культуры… Я услышал ее грозный и величавый зов»366. Большим интересом пользовались оперы Н. А. Римского-Корсакова, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, иначе говоря, тех композиторов, которые в своем творчестве с наибольшей силой выражали национальные традиции, русский колорит, силу и мощь отечественного музыкального искусства. Например русский эмигрант, скрывшийся под псевдонимом «Меццо», так писал в шанхайской газете о творчестве Н. А. Римского-Корсакова: «Все картины, которые рисует Римский-Корсаков своими звуковыми красками, так ярки, сочны, полны жизни, что невольно видишь их. Порою кажется, что умчался вглубь веков на “машине времени” Уэльса и сам принимаешь участие в псковском вече, а порою вслушиваясь в музыку Римского-Корсакова, чувствуешь, что несешься на современном аэроплане над бескрайними русскими степями, и вот-вот заблестят вдали золотые маковки московских сорока-сороков»367. Оперные спектакли (в особенности «Борис Годунов», «Евгений Онегин», «Псковитянка» и др.) или же исполнение отдельных арий практически всегда сопровождали массовые празднества во всех центрах Зарубежной России. В Праге и Париже, а затем и в Эстонии, практиковались радиотрансляции. Писатель Е. Н. Чириков выступая по чешскому радио 8 июня 1928 г. Он сравнил Россию с градом Китежом, который скрылся от глаз в пору лихолетья: «Национальная Россия пребывает в скрытии… Но на наших глазах свершается великое чудо, свидетельствующее о том, что жив град Китеж, жива Наша Россия»368! Особенно популярны были радиотрансляции концертов русской музыки. Специально ко «Дню русской культуры» был приурочен выпуск юбилейных изданий: книг, статей, буклетов, брошюр, однодневных газет, листовок. На их 366 Днепров Р. Праздник духа // Возрождение. 1926. № 375. Меццо. Н. А. Римский-Корсаков. 1908 – 1933 гг. // День Русской Культуры. Шанхай, 1933. 18 июня. № 1. С. 4. 368 Чириков Е. Н. Незримая Россия // День Русской Культуры: Краткий отчет о праздновании в 1928 году. Прага, 1928. С. 19. 367 141 страницах публиковались календари исторических дат. Все эти издания являются сегодня бесценным историческим источниками. Зачастую лишь они могут дать представление о масштабах, формах проведения, идейном содержании торжеств. В «Дне русской культуры» была заложена идея духовного сплочения русской диаспоры, национального единения на основе общности языка, вероисповедания, культуры и исторического прошлого. В то же время празднование «Дня русской культуры» имело региональные особенности. По словам Н. Е. Андреева, «он преломлялся от города к городу, от района к району, от страны к стране», «кое-где он праздновался с подчеркиванием политического момента, кое-где – религиозного, где-то был просто русский праздник»369. Эти ежегодные торжества были призваны продемонстрировать всему миру силу и мощь классической российской культуры. Они способствовали укреплению связей между эмигрантами и коренным населением в странах русского рассеяния. Часто эмигрантские учебные заведения брали на себя инициативу проведения праздника. В Харбине это было Смешанное реальное училище, в Праге – Русский народный университет и т.д. Именно они являлись очагами русской культуры и образования на чужбине. Не стоит забывать, что «День русской культуры» был изначально ориентирован на молодое поколение эмигрантов, для которого жизнь на чужбине могла обернуться денационализацией. Изгнание и жизнь на чужбине наносили ощутимый удар по «живому чувству Родины». Говоря об этом, историк К. И. Зайцев на страницах популярной русской газеты «Возрождение» заявил об опасности культурного разрыва поколений. Он указывает, что в Зарубежье сложились две «культурные породы»: «Порода старая, сложившаяся и созревшая под сенью мощной культуры Императорской России, и молодой, обреченной на то, чтобы созревать в отрыве от вековой культурно-национальной почвы». К. И. Зайцев подчеркивал 369 Андреев Н. Е. Указ. соч. Т. II. С. 14. 142 огромную обязанность старшего поколения. Преодолеть культурный раскол – вот задача «Дня русской культуры»370. Историко-культурные празднества должны были помочь молодому поколению сохранить память о России, язык, культурное своеобразие в условиях инонационального окружения. Эмигранты сетовали, что историческая политика в СССР направлена на радикальную переоценку прошлого, что она направлена на денационализацию в угоду интернационализму. Все прошлое отрицается, и в одну кучу сваливается и хорошее, и дурное. Молодое поколение намеренно отрывается от исторических корней371. «День русской культуры» был одной из первых в российской истории попыток конструирования поистине национального праздника, опыт которого с успехом может быть использован и в наши дни. Он провозглашал память, освобожденную от идеологических разногласий. Официально провозглашалось, что «День русской культуры» чужд политики и идеологии, но в реальности все празднества, конечно же, были ярко антибольшевистски окрашены. «И чем глубже мы погружаемся в русскую культуру, чем любовнее мы воспринимаем всю богатую радугу ее цветов, – тем с большей остротой и властью должно охватывать нас чувство борьбы с нечестивым злом коммунистического владычества, захватившего “родное пепелище” и осквернившего “отеческие гробы”»372. Организаторы «Дня русской культуры» мыслили его как неполитический общеэмигрантский праздник, который должен был примирить различные противоборствующие группировки. «Празднуя День Русской Культуры …, будем помнить того, чья поэзия заставляет любить родную культуру, чье слово дает возможность мыслью переноситься в родные края. А будем помнить нашего 370 Зайцев К. И. Мысли по поводу «Дня русской культуры» // Возрождение. 1926. 6 июня. № 370. 371 Долгоруков П. Указ. соч. С. 2. 372 Струве П. Б. Культура и борьба // День русской культуры: Однодневная газеты, посвященная празднованию «Дня русской культуре» в Харбине в 1931 г. Харбин, 1931. С. 26. 143 светлого гения – забудем, хоть на праздничный день, все наши разногласия и разномыслия. Это уже первый шаг к духовному объединению»373. Тем не менее, не обходилось без организационных трудностей. П. Невалайнен писал, что критика программы и самой организации «Дней» имела место, нередко слышалось «обычное в таких случаях навязшее на зубах брюзжание», «но “опрокинуть карету” это не могло»374. Нельзя не отметить, что достичь полного организационного единства русским эмигрантам не удалось. Налицо были программные ошибки. Празднование «Дня русской культуры» часто растягивалось почти на полтора месяца! Оно начиналось с середины мая и продолжалось до конца июня. В отдельных местах были случаи перенесения торжеств на осень. Были случаи, когда празднование «Дня русской культуры» устраивался разными организациями отдельно и разновременно (в Лондоне и Нью-Йорке в 1926 г.). Серьезные дискуссии разразились даже вокруг даты празднования. А. С. Пушкин родился 26 мая 1799 г. по старому стилю. По новому стилю это 8 июня. Однако многие эмигрантские группы заявили, что при точном переводе на новый стиль «День русской культуры» нужно праздновать не 8, а 6 июня. Вопрос этот так и не был решен окончательно. Не обходилось и без других курьезов. Так на торжественном чествовании А. С. Пушкина в Свободном театре в Софии психиатр профессор А. Е. Янишевский подверг личность поэта психологическому анализу, «отнюдь не могущему расположить слушателей в пользу Пушкина». Однодневная газета «День русской культуры», напечатанная на средства русской общины в Варне, поместила несколько критических замечаний профессора Б. Пенева о русской культуре. Речь шла о свойственной русским теоретичности, утопичности и максимализме. Немало русских было удивлено и сконфужено375. 373 День Русской Культуры. Шанхай, 1933. 18 июня. № 1. С. 1. Невалайнен П. Указ. соч. С. 303 – 304. 375 День Русской культуры: Обзор празднования в 1926 году. С. 15. 374 144 Иногда в подготовку празднеств вмешивались политические противоречия. Так, горячие споры вокруг «Дня русской культуры» разгорелись в 1926 г. в Париже. П. Н. Милюков и его сторонники заявили, что идея праздника возникла в «определенно-националистической среде»376. Они отказались праздновать его совместно с монархистами. Лишь «благодаря мудрому решению поручить отдельным группам организаций устройство различных частей праздника – эти группы все же приняли в нем участие»377. В результате в Париже все же прошло два вечера – один 6 июня в Сорбонне с участием П. Н. Милюкова и В. А. Маклакова, а другой – 8 июня в зале Трокадеро. Правые круги эмиграции, сконцентрированные главным образом в Белграде, попытались противопоставить празднованию «Дня русской культуры» с символической фигурой А. С. Пушкина во главе «День русского национального сознания» в честь Святого князя Владимира, который следовало праздновать 28 июля. Сторонники этой идеи «утверждали, что Пушкинский день задуман масонами, либералами и безбожниками, которые несут главную ответственность за революцию и поражение Белой армии в гражданской войне»378. Князь Владимир воспринимался в монархической среде как православный идеал государя и духовный отец русского народа. Его почитание должно было призвать эмиграцию к осознанию «великих начал пути русского народа и к подвигу верности им»379. Но демарш белградских монархистов не встретил широкой поддержки, и им так и не удалось, несмотря на усиленные попытки, обосновать особое место князя Владимира в российской исторической памяти. В 1938 г. Зарубежная Россия отметила 950-летие крещения Руси. Торжества прошли в странах. К этой дате в Белграде был выпущен сборник статей в честь князя Владимира со вступительным словом митро- 376 Чуб. Почему «два дня русской культуры» // Возрождение. 1926. 13 июня. День Русской культуры: Обзор празднования в 1926 году. С. 12. 378 Раев М. Указ. соч. С. 122 – 123. 379 Сборник в память Святого Равноапостольного князя Владимира. Белград, 1930. С. 9. 377 145 полита Анастасия380. К участию в издании были привлечены ведущие русские исследователи-эмигранты из разных стран: В. А. Мошин, А. Л. Погодин, Г. А. Острогорский А. В. Карташев, И. И. Лаппо, Е. В. Спекторский, Г. П. Федотов, Д. А. Расовский и др. Примечательно, что статьи сборника были выдержаны в научных тонах и были лишены следов политической пропаганды, хотя сами авторы были представителями различных идеологических течений. Таким образом, пропагандируемый правыми кругами эмиграции культ князя Владимира, который должен был, по их мнению, противостоять либеральным идеям, не смог подменить собой пушкинские торжества. И все же имя А. С. Пушкина, несомненно, служило мощной духовной силой. Образ поэта должен был служить противовесом нескончаемым политическим спорам эмигрантов. Для большой части изгнанников А. С. Пушкины стал «духовным кумиром, олицетворявшем все самое дорогое и светлое, что оставили они на родине»381. Сами они полагали, что только великий поэт, само имя которого превратилось в синоним русской культуры, сможет стать объединительной фигурой для российской диаспоры. Живший в Швейцарии русский эмигрант Б. А. Никольский, выступая перед соотечественниками в зале художественного общества «Атенэ» в Женеве в 1925 г., отметил: «Трудно было выбрать более яркий символ полного слияния всего существа человеческого с Родиной. Ведь Пушкин не мыслим без России, вне ее, как Россия последнего столетия … немыслима без Пушкина»382. А. С. Пушкин воплощал в себе национальное культурное наследие и одновременно открытость внешнему миру, то, что Ф. М. Достоевский называл всечеловечностью русской культуры. Князь П. Долгоруков на страницах шанхайской газеты писал об отраженном в пушкинском гении свойстве русских «воспринимать общечеловеческие идеалы, пе380 Владимирский сборник в память 950-летия крещения Руси. Белград, 1938. Челышев Е. П. А. С. Пушкин в литературе русского зарубежья // Русское зарубежье: история и современность. М., 2004. № 1. С. 3. 382 Цит. по: День Русской Культуры. Отчет о праздновании «Дня Русской Культуры» за рубежом в 1925 г. С. 45. 381 146 ревоплощать свои мысли в чужие образы, не отрываясь в то же время от своей родной почвы, от глубокого чувства родины»383. Однако образ А. С. Пушкина не сводился лишь к литературным и культурным конструктам. Многих интересовала пушкинская идеология, его отношение к узловым проблемам российского прошлого, а особенно к характеру взаимоотношений власти и общества. Отсюда же внимание к имперским мотивам в творчестве поэта, столь актуальным на фоне раздумий о событиях недавнего прошлого. Интерес к ним особенно ярко проявился в оценках «Медного всадника», одного из самых загадочных творений А. С. Пушкина. Еще в 1924 г. с оригинальной и новаторской трактовкой «Медного всадника» выступил Г. В. Вернадский. Для него поэма представлялась воплощением «пушкинской философии тайных судеб России, заключенной в поэтических символах и намеках». Историк исходил из мысли, что к концу 1820-х гг. в мировоззрении А. С. Пушкина произошел коренной перелом. Если в Александровскую эпоху поэт был «вольнодумцем, другом политики конспираторов, масоном», то с середины 1820-х гг. он постепенно превращается в «консерватора, официально почти друга императора Николая I, врага декабрьских идей пестелевского типа»384.Перемены в душе поэта Г. В. Вернадский связывал с переоценкой им современных событий (европейские революции 1820 г., 14 декабря 1825 г. и т.д.). Г. В. Вернадский правильно заметил, что А. С. Пушкин всегда был врагом революций, поэтому выступление декабристов было воспринято им как личная трагедия. «Декабрьское восстание вскрыло для Пушкина бездну под блестящим покровом внешней государственности. Оно послужило для Пушкина, как бы потайным ходом в глубины исторической жизни Русского государства»385. 383 Долгоруков П. День Русской Культуры // День Русской Культуры. Шанхай, 1933. 18 июня. № 1. С. 2. 384 Вернадский Г. В. «Медный всадник» в творчестве Пушкина // Slavia. Praha, 1924. Roč. II. Seš. 4. S. 646. 385 Там же. С. 649 – 650. 147 Исходя из этих положений, Г. В. Вернадский пришел к выводу, что «Медный всадник» является отражением 14 декабря 1825 г. и содержит в себе критику идей декабристов и их предтечи – А. Н. Радищева. В поэме Г. В. Вернадский увидел две стихии: блеск и мощь империи и заговор, заливший Сенатскую площадь, грозивший перевернуть все. Г. В. Вернадский сопоставил образ Евгения с А. Н. Радищевым. Бунт героя поэмы против Всадника является ненужным и, более того, опасным безумием. Совершенно иную трактовку «Медному всаднику» дал П. Н. Милюков, который увидел в образе Евгения черты самого А. С. Пушкина. Он полагал, что в ходе работы над «Историей Петра Великого» поэт пересмотрел прежние взгляды на царя, и вместо реформатора увидел в нем деспота. Не имея возможности высказать свои мысли официально, он заключил их в аллегорической форме в «Медном всаднике», представив себя в образе главного героя, грозившего Петру386. Вряд ли позиция П. Н. Милюкова выглядит обоснованной. Она обусловлена критическим взглядом историка на личность Петра и его реформы, сформулированную им еще в конце XIX в. Конечно, А.С. Пушкин никогда не одобрял жестокости Петра, но он никогда не пытался усомниться в его гениальности. Историк и литературовед Е. А. Ляцкий заметил, что в Петре А. С. Пушкин «создал образ царственного гения, который ничего не потерял бы в своем величии, если бы даже оказался развенчанным самодержцем»387. С иной оценкой выступил Г. П. Федотов. Он увидел в поэме народную разрушающую стихию, которая угрожает и Всаднику, и Евгению Она воплощается в невских волнах и змее, которого топчет Всадник, выходит на первый план поэмы. Г. П. Федотов разглядел в этом не отблески 14 декабря, а зарево пугачевщины, иначе говоря, народного бунта. В этой ситуации, по 386 Милюков П. Н. Живой Пушкин (1837 – 1937). Историко-биографический очерк. М., 1997. С. 176 – 178. 387 Ляцкий Е. А. Пушкин и его историческая мысль // Научные труды Русского народного университета. 1928. Т. 1. С. 35. 148 мнению историка, А. С. Пушкин должен всецело быть на стороне Всадника: «русская жизнь и русская государственность» казались ему «непрерывным и мучительным преодолением хаоса началом разума и воли»388. Евгений же является несчастной жертвой борьбы рационального и иррационального начала русской истории. Для эмигрантских авторов большой интерес представлял вопрос о религиозных воззрениях А. С. Пушкина. Историк и правовед Е. В. Спекторский полемизировал с советскими исследователями, которые основываясь на трактовке шутливой «Гаврилиады», написанной под влиянием французских энциклопедистов и легковесных стихов Парни, пришли к выводу о безбожии поэта. По мнению ученого, мировое значение творчества А. С. Пушкина как раз и состояло в том, что он, «как и все подлинно великие художники, близко подошел к Богу»389. Согласно Е. В. Спекторскому, для А.С. Пушкина было свойственно типичное русское богоискательство, посредством которого он познал безмерную всемирно-историческую роль христианства. Историк отмечал, что в душе и сердце поэта всегда жила тяга к православию, именно поэтому «он был посредником между тем духовным заданием, которое при крещении Руси было поставлено русскому слову, и тем выполнением, которое осуществили Гоголь, Достоевский и Толстой»390. Живой интерес к православию, к героическому прошлому России, делали А.С. Пушкина «глубоко русским человеком, неразрывно связанным не только с вершинами нашей культуры, но и с народною стихиею»391. В 1937 г., в 100-летнюю годовщину трагической гибели А. С. Пушкина, во многих уголках русского рассеяния возникли юбилейные комитеты, в задачу ко388 Федотов Г. П. Певец империи и свободы // Наше наследие. 1991. № 3. С. 92. Спекторский Е. В. Пушкин и христианство // День русской славы. Белград, 1937. № 7. С. 10. 390 Там же. С. 12; Он же. Заветы Пушкина // Пушкинский сборник. Прага, 1929. С. 60. 391 Спекторский Е. В. Заветы Пушкина. С. 57; Шмурло Е. Ф. Пушкин – поэт русского народа // Хозяин. Прага, 1927. № 21 – 22. С. 3 – 6. 389 149 торых входила организация памятных мероприятий. Главным из них стал Парижский Пушкинский комитет во главе с С. М. Лифарем. В православных храмах по всему миру служили панихиды по великому поэту. Например в столице Туниса настоятель русской церкви отец Константин (Михайловский) прочел лекцию о А. С. Пушкине-христианине и отслужил по нему панихиду392. В театрах при участии русских артистов ставили спектакли по пушкинским произведениям. В музыкальных театрах особой популярностью пользовалась опера «Борис Годунов». В разных городах и странах издавались портреты, открытии и календари. Особое внимание было обращено на участие в празднестве детей и молодежи. Пушкинский юбилей 1937 г. в Зарубежной России проводился в противовес пушкинскому юбилею в СССР, которому была придана политическая окраска. Ф. А. Степун писал, что эмиграция «чествовала Пушкина, – впервые увиденного Достоевским, человека всеобъемлющей любви и всепонимающего сердца»393. В Шанхае был открыт первый за пределами России памятник великому поэту. Бронзовый бюст А. С. Пушкина был изготовлен скульптором Подгурским и установлен 11 февраля 1937 г. на территории французской концессии394. Поистине всеэмигрантский характер демонстрирует география празднеств. Русская диаспора отмечала пушкинский юбилей повсеместно. М. А. Панова показала, что в Тунисе главным очагом празднования стала Бизерта – место проживания моряков Русской эскадры, ушедшей из Крыма в эмиграцию вместе с остатками врангелевской армии и сотнями гражданских беженцев. Его организатором стал вице-адмирал Сергей Николаевич Ворожейкин, бывший директор Севастопольского морского корпуса. В театре в присутствии всей русской колонии и приглашенных французов был устроен литературно-музыкальный вечер по произведе392 Панова М. А. Русские в Тунисе: судьба эмиграции «первой волны». М., 2008. С. 195. Степун Ф. А. Духовный облик Пушкина // Пушкин в русской философской критике конца XIX – XX вв. М., 1999. С. 520. 394 Слободчиков В. А. О судьбе изгнанников печальной… Харбин. Шанхай. М., 2005. C. 210 – 211. 393 150 ниям А. С. Пушкина. Перед зрителями выступили оркестр и хор под управлением В. И. Зеленой. 21 февраля 1937 г. торжества продолжились в самой тунисской столице. Их взял под свою опеку Союз русских офицеров и супруга генерального резидента Франции. И опять перед зрителями выступал хор, молодежь организовала театрализованное представление по произведениям А. С. Пушкина, исполнив отрывки из «Бориса Годунова», «Евгения Онегина» и «Цыган». Этот спектакль в марте того же года был с успехом повторен в Бизерте на литературно-музыкальном празднике, проведенном совместными усилиями русской диаспоры и местного отделения «Альянс Франсез». Выступавший перед собравшимися французский лектор говорил о мировом значении творчества А. С. Пушкина и ставил его в один ряд с У. Шекспиром, Ф. Шиллером и И. Гете395. Чрезвычайно большую роль в праздновании юбилея сыграли бывшие выпускники Александровского (Царскосельского) лицея, для которых А. С. Пушкин был частью корпоративной памяти. Столетие со дня гибели поэта в 1937 г. воспринималась ими как «важнейшая дата лицейской истории»396. Бывшие выпускники посвятили этому событию немало поэтических строк, которые ярко отражали эмоциональный настрой эмигрантов и специфику их воспоминаний о прошлом. Эти стихи были частично опубликованы петербургским исследователем С. М. Некрасовым. Главная тема этих произведений – величие Лицея, освященное культом А. С. Пушкина. Эта тема, например, отчетливо видна в стихотворении А. Н. Мясоедова: То было так давно. Едва возник Лицей, Когда в его садах, под клекот лебединый, Он начал песнь свою, свой дивный лет орлиный, И мир заворожил цевницею своей. И современники, дыханье затая, 395 396 Панова М. А. Указ. соч. С. 195 – 196. Некрасов С. М. Лицей после Лицея. М., 1997. С. 43. 151 Ловили каждый звук его волшебных песен.. Но этот мир ему был слишком мал и тесен, И скоро он ушел в нездешние края. С тех пор прошли года… За славною порой, Порой величия, настало лихолетье, И день сегодняшний, печальный день столетья, Для нас сливается с годиной роковой. Оторваны судьбой от отческой земли, В дни безотрадные сомнений и печали, В его творениях опоры мы искали И утешение, и веру обрели. И пусть наш тяжкий крест мы все еще несем, Пускай кругом еще туман и непогода, Он светит ярко нам. И чтим мы свято в нем Бессмертного певца великого народа397. В череде дат, призванных увековечить память о знаменательном историческом событии или великом человеке, трудно было найти ту, которая могла бы объединить всю эмиграцию. Лишь день рождения А. С. Пушкина смог хотя бы в некоторой степени примирить различные группировки русской эмиграции. Память о великом поэте была практически лишена политического налета и заставляла задуматься о вечных ценностях российской культуры398. В своей программной речи на праздновании «Дня русской культуры» в Париже в июне 397 Там же. С. 43 – 44. Литература об образе А. С. Пушкина в культуре Зарубежной России многообразна: Пушкин и культура русского зарубежья: Международная конференция, посвященная 200-летию со дня рождения. М., 2000; Центральный Пушкинский комитет в Париже. 1935 – 1937. М., 2000. Т. 1 – 2; Бирман М. А. П. М. Бицилли – пушкинист (Заметки к библиографии ученого) // После юбилея… Jerusalem, 2000. С. 227 – 234; Челышев Е. П. А. С. Пушкин в литературе русского зарубежья // Русское зарубежье. 2004. № 1. С. 3 – 28; Филин М. Д. Зарубежная Россия и Пушкин. М., 2004; Ковалев М. В. А. С. Пушкин и его творчество в трудах историков русского зарубежья // Изменяющаяся Россия – изменяющаяся литература: художественный опыт ХХ – начала XIX веков. Саратов, 2006. С. 116 – 120 и др. 398 152 1926 г. В. А. Маклаков подытожил эту мысль: «Русская культура оказалась могучей и живучей, чем наша русская государственность … Наш долг поэтому беречь нашу культуру, развивать ее, распространять ее, знакомить с ней мир»399. Оживление образов прошлого в ходе празднования «Дня русской культуры» способствовало пробуждению национального сознания, расколотого историческими потрясениями. Финский историк П. Невалайнен правильно заметил, что эти торжества «привносили разнообразие и новые краски в серую будничную жизнь», «многотысячные массы людей с их шествиями, хорами и спектаклями привлекали к себе внимание <…>, общественность знакомилась с их традициями»400. Праздники давали возможность общения разрозненным представителям диаспоры, они связывали воедино разнообразные символы идентичности: язык, религию, историческую память и т.д. Русская культура и ее творцы превращались для эмигрантов в мощную объединительную духовную силу. 399 Маклаков В. А. Русская культура и А. С. Пушкин (Речь, произнесенная в день празднования «Дня русской культуры» в Париже 6 июня 1926 г.) // Современные записки. Париж, 1926. Кн. 29. С. 236 – 237. 400 Невалайнен П. Указ. соч. С. 304. 153 Глава 5. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И УЧЕБНЫЕ НАРРАТИВЫ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ 1920 – 1930-Х ГОДОВ В 1922 г. на полках книжных магазинов Европы появился напечатанный в Мюнхене учебник «История России. 862 – 1917». Его автором был крупный ученый, член-корреспондент Императорской Санкт-Петербургской Академии наук Евгений Францевич Шмурло. Еще до революции он снискал известность как видный специалист в изучении эпохи Петра Великого, а также русскоитальянских связей и был в числе первооткрывателей ватиканских архивов для мировой науки. Свой учебник Е. Ф. Шмурло закончил в марте 1922 г. в Риме, где жил с 1903 г., занимая пост ученого корреспондента Академии наук. За спиной были годы профессорства в Санкт-Петербурге и Дерпте/Юрьеве, плодотворная работа в европейских архивах, публикация заметных научных работ и сборников документов, а, кроме того, революция, которую историк не принял, и которая вынудила его навсегда остаться на чужбине. В бытность своей активной педагогической деятельности в 1880 – 1890-х гг. Е. Ф. Шмурло подготовил несколько литографированных курсов лекций для студентов401. Однако планов на написание собственного учебника все эти годы он, очевидно, не вынашивал. Что же заставило уже немолодого историка оставить в стороне текущие научные проекты и взяться за перо? Чтобы дать ответ на этот вопрос, обратимся к предисловию учебника: «Эта книга ставит своей задачей посильно удовлетворить одну из насущнейших потребностей нашего времени. Русская учащаяся молодежь, вынужденная покинуть Россию и 401 См.: Шмурло Е. Ф. Лекции по истории, читанные в Павловском Институте в 1884 – 1885 г. Литографированное издание. СПб., 1886; Он же. Русская история. XVIII. Лекции на Высших Женских Курсах в Санкт-Петербурге, 1885 – 1886 гг. Литографированный курс. СПб., 1886. 154 заканчивать свое образование за границей, поставлена в условия совершенно ненормальные. Таких, кто имел бы возможность пользоваться школой, сравнительно немного, громадное же большинство вынуждено завершать свое образование домашними средствами, без преподавателей, и хорошо, если еще с учебником в руках. <…> Дать такое истолкование в области русской истории, посильно заменить отсутствующего преподавателя в роли ее истолкователя – поскольку, разумеется, печатная буква в состоянии заменить устное слово – и является целью настоящей книги»402. Этими словами известный ученый очертил серьезную проблему, с которой пришлось столкнуться его соотечественникам на чужбине в 1920 – 1930-е гг. Речь шла о создании и развитии русской средней и высшей школы за границей, которая бы дала возможность продолжить и завершить образование эмигрантской молодежи. В силу объективных причин в Зарубежной России вряд ли было возможно создать единое образовательное пространство: русские беженцы были распылены по всем частям земного шара, а уровень развития средств связи в то время не мог дать возможности для глобальных коммуникаций и обмена информацией. В довершении ко всему, материальное положение эмигрантов было зачастую плачевным. Поэтому все эмигрантские учебные заведения сталкивалось с неизбежными финансовыми трудностями и им зачастую приходилось рассчитывать лишь на собственные силы. Еще одной серьезной проблемой, на которую Е. Ф. Шмурло обратил особое внимание, была нехватка, а то и полное отсутствие необходимых учебников и учебных пособий. Их нельзя было ни привезти с собой заранее, ни, тем более, получить из Советской России. Дефицит учебников создавал большие трудности и одновременно возлагал на учителя особую ответственность, требовал от него высокого уровня педагогического мастерства. Кроме того, в условиях эмиграции появление новых учебных пособий было возможным лишь при чьей-то 402 Шмурло Е. Ф. История России. 862 – 1917. Мюнхен, 1922. С. V. 155 материальной поддержке, например по инициативе одного из русских заграничных издательств, связанной, впрочем, с большим финансовым риском. Этот недостаток средств нередко сказывался на качестве полиграфии. Учебники нередко печатались на дешевой бумаге, издатели экономили на хорошем переплете и иллюстрациях. Например, тот же учебник Е. Ф. Шмурло был напрочь лишен визуальности: в нем не было ни одной карты, фотографии или рисунка. Между тем, параллельное развитие фотографической техники и полиграфии привело к бурному росту процента иллюстраций в учебниках. Французский исследователь Ален Шопен установил, что в период с 1880 по 1945 гг. количество иллюстративного материала в учебниках по истории утроилось, причем пик роста пришелся как раз на 1920 – 1930-е гг.403 Эмигрантским авторам о подобных вещах приходилось обычно лишь мечтать. Заслуженным авторитетом в эмигрантской среде пользовался «Учебник русской истории для средней школы» С. Ф. Платонова, увидевший свете еще в 1909 г., а затем много раз переиздававшийся. Спрос на него был высок, и поэтому в середине 1920-х гг. пражское издательство «Пламя» выпустило очередное его издание404. Однако, несмотря на высокое качество этой книги, он уже не полностью отвечал требованиям времени и новым историческим реалиям, которые стремительно изменились всего за несколько лет. Нужно было написать новые учебники, которые бы восполнили этот пробел, которые отвечали бы идейным установкам эмиграции, ее мессианскими настроениями и верой в неминуемое и скорое возрождение России. Русские ученые, оказавшиеся в эмиграции, уверенно взялись за это дело. Эмигрантские учебники и учебные пособия по истории дают богатейший материал для исследования. Однако до сих пор они почти не попадали в поле 403 Шопен А. Аспекты иллюстрирования и концепции учебников // Учебник: десять разных мнений. Вильнюс, 2000. С. 135 – 136. 404 Платонов С. Ф. Учебник русской истории для средней школы: курс систематический. Прага, 1924. Ч. 1; 1925. Ч. 2. 156 зрения ни российских, ни зарубежных специалистов. Имеются, конечно, аналитические оценки учебных нарративов конкретных авторов405, но обобщающая картина до сих пор не представлена. Совершенно не исследовано и практическое использование учебников, то есть место, которое они занимали в эмигрантском учебном процессе. Без внимания осталась и тема мемориальных коммуникаций – взаимосвязи между автором учебника, преподавателями и учащимися в свете трансляции представлений о прошлом. Вопрос этот, пожалуй, является одним из самых сложных. К сожалению, на основе имеющихся источников крайне трудно выяснить отношение эмигрантской молодежи к учебникам и особенно к их содержательной части. В то же время следует осознать, как разные эмигрантские группы участвовали в образовательном процессе, какое значение придавали они преподаванию истории. Важность этого подхода ясно продемонстрировал Йорн Рюзен, выделив различия групповых целей в процессе мемориальных коммуникаций. Например, политики ждут от преподавания истории в первую очередь политических целей, таких как «знания о национальных героях (и героинях), хорошие отношения с соседними странами, усиление национальной самосознательности и чувства гражданского долга». Иные группы в большей мере желали бы «получить знания по истории окружающей среды, истории труда, мировой или национальной истории»406. В понимании Й. Рюзена, коммуникативный аспект исторических воспоминаний важен потому, что именно «через рассказ (и слушанье) истории субъекты артикулируют (и, артикулируя, создают) свою собственную идентичность во временном значении 405 Демина Л. И. Евгений Франциевич Шмурло // Шмурло Е. Ф. История России. 862 – 1917. М., 2001. С. 5 – 15 406 Лёев-Рорд Д. ван дер. Учебники истории в Европе. Что такое хороший учебник истории? // Учебник: десять разных мнений. Вильнюс, 2000. С. 14. 157 по отношению к другим»407. Историческое сознание, таким образом, представляет собой духовную деятельность, направленную на воспоминание о прошлом, и под воздействия опыта, полученного в прошлом. Одним из проявлений этого воспоминания является рассказ историй, не просто в смысле голой формы изложения, но в значении универсальной и фундаментальной формы знания и познания. С точки зрения немецкого исследователя, «при помощи этой дидактической формы прошлое, перенесенное в будущее, выполняет ориентировочную функцию для современной жизненной практики. Эта функция реализует себя коммуникативно между производителем истории и реципиентом»408. В этой связи изучение истории выглядит одним из способов формирования исторического сознания и формирования особой культурной идентичности. Не вызывает сомнения, что эмигрантские учебники были призваны служить мощным средством самоидентификации и формировать особое историческое сознание. В терминологии Й. Рюзена подобные задачи объединяются в понятие «дидактические компетенции», которые должны помочь вписать свой собственный жизненный опыт в коллективный опыт и определить связь прошлого, настоящего и будущего. Естественно, что история, преподаваемая в школе, будет отличаться от истории, преподаваемой в университетах. У каждой из них имеются свои специфические задачи. Школьное изучение истории, вероятно, неотделимо от осмысления современного мира и переживаемого настоящего. Оно в большей степени, нежели университетское, связано с формированием идентичности и чувством групповой принадлежности, и большее значение в нем имеют учебные нарративы, которые нередко принимают характер канонических текстов. Поэтому и для автора учебника, и для его издателя, «жизненно важно выработать четкую концепцию относительно 407 Рюзен Й. Идеальный учебник. Размышления о путеводителе и посредники исторического обучения // Учебник: десять разных мнений. Вильнюс, 2000. С. 35. 408 Там же. С. 34 – 35. 158 целей и задач учебника», «они должны сделать выбор содержания, ценностей, взглядов и подходов и должны объяснять по крайней мере учителям, почему был сделан именно такой выбор»409. Й. Рюзен писал: «Во-первых, учебник по истории является одним из важнейших каналов, по которому результаты исторических исследований передаются в историческую культуру общества. Специалисты всегда намерены обращать внимание на то и стремиться [к тому], чтобы ими достигнутый уровень научного исследования как можно быстрее учитывался в учебниках. Другое основание для их участия лежит в ими представляемой концепции практического значения, созданной путем исследования знаний. <…> Историки в этом смысле не равнодушны к тому, как исторические знания будут использованы во время обучения в школе. И, наконец, как политически заинтересованные и очень часто имеющие соответствующие обязанности современники, они заинтересованы в учебнике как таковом, ибо он всегда является и политическим посредником. Ведь урок истории является одним из самых важных средств политического образования»410. Вернемся к книге Е. Ф. Шмурло. Есть все основания предполагать, что это был первый учебный нарратив, созданный в эмигрантской среде. Его автор воплощал в себе «идеальный тип» дореволюционного профессора, чей педагогический опыт был связан с преподаванием как в средней, так и в высшей школе. Не будем забывать, что работа в гимназии была для многих привычным способом подработки и одновременно апробации своих идей. Даже великий В. О. Ключевский не был тут исключением. Обратим теперь внимание на дату выхода работы Е. Ф. Шмурло – 1922 год. Совсем недавно отгремела Гражданская война, еще не был официально оформлен СССР, в памяти русских беженцев еще слишком ярко жили воспоминания о бегстве из России, но в то же 409 410 Лёев-Рорд Д. ван дер. Указ. соч. С. 14. Рюзен Й. Указ. соч. С. 31 – 32. 159 время среди них еще не растаяла вера в скорое возвращение назад. В начале 1920-х гг. эмиграция почти в буквальном смысле еще «сидела на чемоданах», пребывание на чужбине казалось лишь временным испытанием. Тем не менее, старшее поколение изгнанников было озабочено проблемой образования молодого поколения. Многие русские дети обучались в иностранных школах, следовательно, их учебные программы не предусматривали систематического изучения российской истории. Старшее поколение эмигрантов беспокоила их возможная денационализация. Л. М. Сухотин утверждал, что именно для них нужно создать «хорошее учебное руководство по русской истории, способное вызвать интерес к русскому прошлому и любовь к России», и что сам он «был бы счастлив заронить в детскую душу неугасимую искру любви к родной стране»411. Национальная история сделалась для эмиграции важнейшей точкой опоры. Проблема образования, таким образом, в конечном счете, сводилась к задаче сохранения национальной и культурной самобытности за рубежом. Для того же Е. Ф. Шмурло эта задача казалось очевидной. Видимо, это и был главный мотив, который заставил его взяться за работу над учебником. Свою книгу он предназначил для учащихся среднего школьного возраста, которые уже имели возможность познакомиться с родной историей в объеме гимназического преподавания. По мнению автора, они имели и силу, и нравственную обязанность «разобраться и отдать себе отчет в исторических судьбах своей Родины и, возможно, сознательнее отнестись к своему настоящему, которое всегда и везде есть фатальный продукт прошлого»412. Е. Ф. Шмурло хотел показать, какое место занимает Россия в контексте всемирной истории и в чем именно состоит ее историческая миссия. Ответы на эти вопросы были чрезвычайно актуальны в свете переломных исторических событий, пережитых накануне не одними русскими эмигрантами, но и всей Европой, всем миром. 411 412 Сухотин Л. М. Учебник русской истории. Младший курс. Часть I. Новый Сад, 1926. С. 3. Шмурло Е. Ф. История России. С. V – VI. 160 На глазах русских беженцевокружающий мир изменился до неузнаваемости. Первая мировая война, революция в России, последовавшая за ней братоубийственная Гражданская война подорвали веру в прогресс, заставили задуматься о кризисе всей западной цивилизации. Как заметил немецкий историк Николаус Катцер, произошел распад привычных общественных организаций, разрыв социальных связей. Империи подорвали свой авторитет нетерпимой, насильственной внутренней и внешней политикой413. Одним из последствий катастрофических событий стал стремительный распад сразу нескольких империй – Австро-Венгерской, Германской, Османской и Российской. Конечно, Первая мировая война отнюдь не покончила с миром империй. Они по-прежнему продолжали восприниматься большинством как «локомотив прогресса и цивилизации»414. Но кризис их уже был четко обозначен. Это отчетливо чувствовали и некоторые русские эмигранты, ощущавшие углубление центробежных процессов в мире. Все эти события, а особенно их причины и последствия, было нелегко объяснить даже профессиональным ученым. Но как донести их смысл до молодого поколения? Как обрисовать для него новые исторические реалии? Для старшего поколения эмигрантов имперское прошлое, в независимости от отношения к монархии, определяло его идентичность, оно было для него частью живых воспоминаний. Для молодого поколения оно было размытым, отрывочным, являлось сферой не столько памяти, сколько истории. Попытаемся теперь взглянуть, как оценивали авторы эмигрантских учебных нарративов имперское прошлое России и можно ли говорить о существовании единой мемориальной модели? Таким образом, одна из главных задач этой главы сводится не столько к методическому или дидактическому анализу 413 Katzer N. Probleme des Ersten Weltkriegs und des Bürgerkriegs in Russland. Mythen und «Zonen» des Verschweigens // Культурная память и мемориальные коммуникации в современных учебниках и учебной литературе: опыт России и Западной Европы. Саратов, 2012. C. 93 – 94. 414 Ливен Д. Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней. М., 2007. С. 40. 161 эмигрантских учебников, неисследованных пока сколько к попытке сторон эмигрантской проникнуть в исторической одну из памяти, непосредственным образом связанную с наукой и идеологией. Учебные нарративы служат для этого великолепным материалом, ибо они наглядно выражают в себе коллективные исторические представления, имеют своих героев и свои мифы, демонстрируют уровень развития науки своего времени, отражают не только устойчивые идейные конструкции, но и острые мемориальные споры, содержат свои зоны молчания и забвения. Большое внимание к имперскому проекту в эмигрантских учебных нарративах было отнюдь не случайным. Еще в XIX в. начался расцвет национальной истории, конструирование моделей национального прошлого. По словам Н. Е. Копосова, такие концепции истории транслировались в массовое сознание в первую очередь через систему школьного образования и массовую литературу. Учебники превратились в один из жанров «национального романа». Их авторы обосновывали идею об особой роли государства в истории России, выступавшего согласиться в со качестве словами «главного немецкого агента цивилизации»415. историка Карла-Эрнста Следует Йесманна, назвавшего учебники «автобиографией нации»416. Повышенное внимание к роли государства в отечественной истории, свойственное большинству эмигрантских учебных нарративов, было, конечно же, не случайным. Оно базировалось на прочном дореволюционном Министерством народного фундаменте, когда просвещения, учебники, выражали одобренные официально санкционированное прочтение национальной истории и создавали пантеон ее героев417. Обратим внимание и на еще один важный факт, не связанный напрямую с государственной идеологией, но оказывавший едва ли не решающее 415 См.: Копосов Н. Е. Память строгого режима: история и политика в России. М., 2011. С. 33. Цит. по: Радкау В. Подготовка учебника в Германии // Учебник: десять разных мнений. Вильнюс, 2000. С. 108. 417 Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти: святой, правитель, национальный герой (1263 – 2000). М., 2007. С. 198. 416 162 влияние на архитектонику господствовавший в всех учебников. историческом Позитивистский образовании, прививал подход, ученикам монолитную концепцию прошлого, а сам процесс его познания сводился к запоминанию имеющихся в учебнике фактов. Нельзя, конечно, сказать, что эмигрантские учебники порывали полностью с этой традицией. Важно учитывать другое – эмигрантская школа и система образования вообще развивались в особых условиях. Кроме того, сама интеллектуальная культура русской эмиграции формировалась на пересечении разных традиций и под влиянием переломных исторических событий, о чем уже говорилось в предыдущих главах. В этом контексте учебники Е. Ф. Шмурло примечательны как, пожалуй, никакие другие. Уже вскоре после издания в Мюнхене «Истории России» пражское издательство «Пламя» опубликовало «Введение в русскую историю» (1924). Оно не было продолжением предшествующей работы, ибо ставило иные задачи, иной круг проблем и имело новую целевую аудиторию. В предисловии автор уточнял, что его книга выросла из университетских лекций, и что в ней он стремился дать общие представления об особенностях российского исторического процесса, а не излагать всем известные факты и события. Но и эта книга не стала последней. До конца 1920-х гг. Е. Ф. Шмурло упорно работал над обобщающим курсом русской истории, который стал одним из главных трудов историка и своеобразным итогом всей его научной деятельности. Три его тома (второй том состоял из двух частей) выходили в Праге в течение 1931 – 1935 гг. литографированным изданием при мизерном тираже в 100 экземпляров. Если «История России» была ориентирована на читателей школьного возраста, то «Введение в русскую историю» и «Курс русской истории» были рассчитаны на студентов и предназначались для университетского преподавания. Несмотря на эти различия, попробуем оценить содержательную сторону представленных нарративов и их идейный стержень. 163 При чтении всех трех работ бросается в глаза следование автора одной из генеральных линий российского «национального романа» XIX века – повышенному вниманию к исторической роли государства, ярко отражавшего дух создавшего его народа. Для самого Е. Ф. Шмурло кажется очевидным, что таким народом являются русские. Русский народ у него, по сути, тождественен России, а остальные этнические группы исторически находятся на правах «младших братьев». В своем «Введении в русскую историю» (1924) он активно отстаивает эту мысль, говоря, что именно русский народ создал государство, придал ему настоящий вид, «остальные народности играли и играют в ходе этого построения и развития до настоящей минуты лишь второстепенную, служебную роль» 418 . Другой особенностью нарративов является большое влияние на них постулатов географического детерминизма, столь популярного в европейской науке второй половины XIX века. Для Е. Ф. Шмурло географический фактор был одним из определяющих моментов в русской истории. России как стране континентальной, не имевшей перед собой естественных природных границ, было предначертано создать единое обширное государство419. Вслед за В. О. Ключевским он считал колонизацию одним из главных элементов русской истории, именно колонизация становится главной метафорой учебника. Причем колонизационное движение рассматривается как желание найти оптимальные естественные границы и обезопасить себя от враждебных соседей. предопределенной, Поэтому экспансия на Восток видится исторически она объясняется необходимостью защищаться от постоянного натиска «полуварварских племен и степенных кочевников»: «… вечные распри этих азиатов неизбежно втягивали и нас в их дела. Культурная народность не может безучастно смотреть на дрязги и междоусобицы соседних 418 Шмурло Е. Ф. Введение в русскую историю. Прага, 1924. С. 70. Ср.: «На Западе природа, можно сказать, заранее предопределила быть нескольким, даже многим государственным единицам, сравнительно небольших размеров, с точно определенными, ярко очерченными границами» (Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Т. 1: Возникновение и образование русского государства (862 – 1462). СПб., 2000. Т. 1. С. 28). 419 164 полудиких народов, так как они всегда отзовутся неблагоприятно на его собственном развитии. Путем ли покровительства или завоеваний всегда приходится сдерживать эти силы, занимать вражескую землю или устраивать живую изгородь, чтобы заслонить и обеспечить повседневную жизнь мирного человека от возможных нарушений <…> Шире и шире раскрывались перед нами двери Востока, и точно какая неумолимая сила толкала нас туда»420. В учебных нарративах Е. Ф. Шмурло завоевания описываются как средство к мирному существованию и безопасности. Равнинная территория России не позволяла отгородиться от врага естественными границами, поэтому нужно было лишь оттеснять его и занимать его место. И в этом движении, по убеждению Е. Ф. Шмурло, не было империалистических устремлений. Экспансия изначально не ставила целью завоевание новых земель. Она лишь выражала желание отбросить врага как можно дальше от собственных границ421. России пришлось «вынести двух с половиной вековое монгольское иго, вести 300-летнюю борьбу с крымскими татарами; приходилось вынужденно углубляться в Кавказские горы, в заволжские и зауральские степи, дойти до самого Памира, и все это с единственной целью – оградить мирное население от кочевника, который не мог жить иначе, как разбоем. Мы его отгоняли, отодвигали свою границу, но на новом месте повторялась прежняя история…»422 Термин «завоевание» применительно к российской политике заменяется термином «инкорпорация»423. Если не было российского империализма, значит, не было и колоний: «Россия не имела колоний, и сама не была метрополией. Поступательное движение русского народа – это одна сплошная непрерывная лента, целый ковер, разостланный от Вислы и Прута до берегов Камчатки»424. Как видим, в своих учебниках Е. Ф. Шмурло отрицает колониальный характер 420 Шмурло Е. Ф. Введение в русскую историю. С. 131 – 132. Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Т. 1. С. 45. 422 Шмурло Е. Ф. История России. С. 5. 423 Шмурло Е. Ф. Введение в русскую историю. С. 133. 424 Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Т. 1. С. 48. 421 165 Российской империи, признавая при этом ее континентальный характер. Таким образом, движение на Восток воспринималось как поиск естественной природной границы, приведший, в конце концов, к берегам Тихого океана. В доказательство своей позиции Е. Ф. Шмурло отмечал стихийность русской колонизации, ее изначальную независимость от воли государственной власти. Правительство лишь санкционировало присоединение новых земель. В экспансии не было умысла, а лишь воплощение народного духа. В своих учебниках Е. Ф. Шмурло непременно подчеркивал позитивные явления, которые несла русская колонизация: «Русский Drang nach Osten был победою европейской цивилизации над азиатским Востоком»425. Для взглядов ученого характерно хрестоматийное представление об исторической заслуге России, которая заслонила собой Европу от азиатского натиска, словно отсылающее читателя к знаменитым пушкинским словам. Кроме того, Россия принесла присоединенным народам гражданственность, приобщила их к просвещению и христианской культуре. Цивилизаторская миссия в Азии становится в глазах историка одной из главных исторических задач. Россия должна мирным и ненасильственным путем придать Востоку черты европейскохристианской цивилизации. В качестве примера Е. Ф. Шмурло приводил завоевание Средней Азии в XIX в., которое стало финальной точкой в борьбе с азиатским Востоком: «Имп[ератор] Александр II явился и в Средней Азии тем же царем-освободителем, каким он был и в самой России; существовавшее там рабство (невольничество) и постыдный торг людьми были уничтожены; положен предел жестоким наказаниям (смертная казнь, пытки, сажание на кол, отрубание носа, ушей, сажание в клоповник и т.д.); улучшено правосудие; низшие классы, дотоле приниженные и обездоленные, легче вздохнули – для них подчинение русской власти явилось прямым благодеянием и настоящим освобождением. Вообще, обширный край, живший дотоле изолированно, в 425 Шмурло Е. Ф. Введение в русскую историю. С. 138. 166 стороне от просвещенных народов, вступил с ними в общение и получил возможность пользоваться благами культурного мира»426. По мнению Е. Ф. Шмурло, Россия и Азия никогда не могли бы мирно существовать, поскольку «две культурные нации сумеют ужиться на одном поле, культурная и некультурная – никогда»427. Россия исторически находилась между Европой и Азией, но всегда принадлежала именно к европейской цивилизации. С Востоком же она была связано фатально, вынужденно, навязано. Соседство это носило исключительно отрицательный характер, оно было своего рода историческим роком, трагизмом русской истории428. Европейскую идентичность России Е. Ф. Шмурло постоянно подчеркивает в своих текстах. Европа выступает у него символом культуры, развития и движения, а Восток воплощает застой и варварство429. Таким образом, мы видим, что размышления о русской истории и особенно об имперском периоде строились у Е. Ф. Шмурло вокруг идеи противостояния Запада и Востока. России в этом противостоянии отводилась своего рода мессианская роль как «передового бойца за Европу против Азии»430. Утверждение на Востоке, начиная от похода Ермака в Сибирь и заканчивая русско-японской войной, для Е. Ф. Шмурло есть историческая необходимость. Интересно, что практически все войны, которые вела Россия, оценивались им как навязанные, а политика западных держав по отношению к ней как вероломная и лицемерная. Можно, конечно, отнести все эти идеи исключительно на счет автора, воспитанного в имперском консервативном духе. Однако интеллектуальное пространство эмиграции не ограничивалось лишь 426 Шмурло Е. Ф. История России. С. 503. Шмурло Е. Ф. Курс русской истории. Т. 1. С. 123. 428 Шмурло Е. Ф. История России. С. VI; Он же. Введение в русскую историю. С. 146 – 147; Он же. Курс русской истории. Т. 1. С. 43. 429 Шмурло Е. Ф. Введение в русскую историю. С. 110. 430 Там же. С. 139. 427 167 учебными нарративами Е. Ф. Шмурло, и поэтому важно сравнить их с другими аналогичными текстами. В середине 1920-х гг. в образовательном пространстве Зарубежной России появились учебники Льва Михайловича Сухотина (1879 – 1948). Он принадлежал орловско-тульской дворянской фамилии, известной своим родством с И. С. Тургеневым. Кроме того, он был пасынком Татьяны Львовны Толстой, на которой вторым браком был женат его отец Михаил Сергеевич Сухотин431. До революции Л. М. Сухотин был видным земским деятелем, гласным Новосильского уездного и Тульского губернского земств. В годы Первой мировой войны он стал уполномоченным Земгора. Но все же известность ему принесли научные труды по русской истории XVI – XVII вв. и в первую очередь ценные публикации источников432. Революция расколола большую дворянскую семью. Л. М. Сухотин уехал на юг России, откуда эмигрировал в 1920 г. вместе с остатками белой армии, а его младший брат, Алексей (1888 – 1942), остался в Советской России, стал одним из ведущих специалистов в области славянского, индоиранского и тюркского языкознания, членом Орфографической комиссии АН СССР и в этом качестве участвовал в разработке письменности для народов СССР. Л. М. Сухотин после беженских скитаний оказался на Балканах. Он поселился в Белграде, где стал преподавать историю и латинский язык, а с 1929 по 1941 гг. занимал пост директора Русско-сербской женской гимназии. В сербской среде Л. М. Сухотин прослыл выдающимся популяризатором русского языка433. В 1947 г., после 431 См.: Сухотин Л. М. Род дворян Сухотиных. М., 1908. Земельные пожалования в Московском государстве при царе Владиславе 1610 – 1611 гг. / Под ред. и с предисл. Л. М. Сухотина. М., 1911; Сухотин Л. М. Четвертчики Смутного времени (1604 – 1617). М., 1912; Первые месяцы царствования Михаила Федоровича: столбцы Печатного приказа / Под ред. и с предисл. Л. М. Сухотина. М., 1915; Сухотин Л. М. Замечания на исследование П. Г. Любомирова «Очерк истории нижегородского ополчения 1611 – 1613 гг.». М., 1915; 433 Кончаревич К. Вклад представителей русской диаспоры в практику составления учебников по русскому языку для сербской аудитории // Руска диjаспора и изучавање руског jезика и 432 168 утверждения у власти в Югославии коммунистов, он уехал в Бельгию, где и скончался. Л. М. Сухотин был единственным автором, который разработал всю линию школьных учебников, включая и историю России434, и историю зарубежных стран435. Кроме того, в отличие от работ Е. Ф. Шмурло, его учебники прошли официальное утверждение – они были одобрены Советом при Державной комиссии Королевства сербов, хорватов и словенцев по делам русских беженцев в качестве учебного пособия для русских средних школ. В отличие от того же Е. Ф. Шмурло, Л. М. Сухотин не уделял в своих работах большого места методологическим вопросам, интуитивно следую позитивистской научной программе. Однако в своих учебниках он кратко очертил свои взгляды на всемирно-исторический процесс и в соответствии с ними выстроил изложение материала. Обратимся непосредственно к тексту, чтобы уяснить авторскую позицию: «Предмет всеобщей истории – рассмотрение и описание развития человечества. Человечество, не развивающееся или развивающееся чрезвычайно медленно и долго не выходящее из состояния первобытной дикости, не находит места во всеобщей истории. История изучает жизнь народов культурных и притом тех их них, которые приняли участие в общей культурной работе, являющейся основой и современной нам цивилизации. Когда-то все люди были дикими, а многие народы пребывают в дикости и до настоящего времени. Ни теми, ни другими история не занимается»436. В этих словах легко уловить сильное гегелевское влияние, руске културе у инословенском и иностраном окружењу (Београд, 1 – 2 jун. 2011): Реферати. Београд: Славистичко друштво Србије, 2012. С. 257, 263, 264. 434 Сухотин Л. М. Учебник русской истории. Младший курс. Часть I. Новый Сад, 1926; Часть II. Белград, 1927. 435 Сухотин Л. М. История Древнего Мира: учебное руководство для средней школы. Белград, 1925; Он же. История Средних веков: учебное руководство для средней школы. Белград, 1929; Он же. История Нового времени: учебное руководство для средней школы. Белград, 1931. 436 Сухотин Л. М. История Древнего Мира: учебное руководство для средней школы. С. 5. 169 усвоенное романтической историографией XIX в. Развитие национального духа Л. М. Сухотин пытался показать прежде всего через «культурную историю», отдавая ей предпочтение перед внешней политики и вообще перед всеми фактами, которые «представляются излишним балластом для памяти учащегося»437. Учебник Л. М. Сухотина по русской истории, вышедший в двух частях в 1926 – 1927 гг., был ориентирован на начальный курс и предназначался для учеников III – IV классов. Первая часть книги охватывала период от истории восточных славян в древности до Смуты, вторая часть – от первых Романовых до революции 1917 г. Автор сделал уклон в пользу чисто событийной истории, с минимальным числом оценочных суждений. Он был убежден, что именно такую историю школьнику проще всего воспринять и понять в возрасте 12 – 13 лет. Вторая часть ориентирована уже на детей 13 – 15 лет и поэтому налицо в ней было постепенное усложнение материала. Как и для Е. Ф. Шмурло, русская история представляется автору как постепенное освоение и заселения русским народом окружающего пространства, в первую очередь на Востоке438. При этом генеалогию империи он четко возводил к Петру Великому, при котором Россия вошла в «семью цивилизованных стран Европы», овладев балтийским побережьем и начав культурное сближение с Западом439. Петр воплощал для него империю не только своим официальным титулом, но всей своей мощью и духом. Автору было 437 Там же. С. 3. Сухотин Л. М. Учебник русской истории. Младший курс. Часть I. С. 5. 439 Там же. С. 61. Л. М. Сухотин не был тут оригинален. Петровский дискурс имел в среде русской эмиграции особое значение. Образ Петра был наполнен разнообразными интерпретациями. Одни видели в нем «большевика на троне», другие – выдающегося русского западника. Но независимо от оценок, все авторы склонялись к особой роли Петра в строительстве империи. См.: Ковалев М. В. Петровская эпоха в научном наследии Е. Ф. Шмурло // Новый век: история глазами молодых. Вып. 5. Саратов, 2006. С. 39 – 53; Он же. Петр Великий в исторической памяти русской эмиграции // Национальная идентичность в проблемном поле интеллектуальной истории: Материалы Международной научной конференции. Ставрополь – Пятигорск – М., 2008. С. 334 – 342. 438 170 важно подчеркнуть незаурядность Петра как человека и государя, его всестороннюю кипучую деятельность. Он возводил его в идеал правителя, осознававшего себя первым слугой Отечества. В учебнике многократно подчеркивается работоспособность Петра, его скромность, аскетизм в быту: жил в скромном помещении, «довольствовался обыкновенной пищей», «ходил в простом из толстого русского сукна платье, притом поношенном, с заплатами, в заштопанных чулках, стоптанных башмаках». Мы видим царя, который сокращает расходы на содержание двора, занимает парадный экипаж у А. Д. Меншикова за неимением своего440. Такой правитель честен, не терпит лжи и фальши. Именно он способен создать подлинную империю, придать ей могущество и славу. Л. М. Сухотин сожалел, что после смерти Петра Великого к власти пришли мелочные и недальновидные люди, не имевшие конкретных целей. Под влиянием иностранцев русская политика перестала быть национальной, пошла по ложному пути: «Россия вмешалась в дела Западной Европы без всякой пользы для своих интересов»441. Они не заботились о величии страны, не отстаивали ее интересы. Россия вела бесцельные войны, стоившие ей колоссальных людских и финансовых потерь. Ситуация принципиально изменилась в екатерининскую эпоху. Россия вновь ощутила свое могущество, самым ярким выражением которого Л. М. Сухотин называет победоносную внешнюю политику: «Внешняя политика русских правительств в XVIII в., особенно Петра Великого, Елизаветы Петровны и Екатерины II, которой тоже, как и Петру, присваивается наименование Великой, вознесла Россию на степень первостепенной державы Европы и подняла дух русских людей до небывалой высоты. Международная сила России и подъем русского духа проявились 440 441 Сухотин Л. М. Учебник русской истории. Младший курс. Часть I. С. 63. Там же. С. 67. 171 наиболее в царствование Екатерины и сообщили Екатерининской эпохе особенный блеск»442. Размышляя о присоединении и освоении новых территорий, особенно азиатских, Л. М. Сухотин делал упор на «некультурности» коренного населения. Между тем он отнюдь не склонен замалчивать факты многочисленных национальных восстаний и их жестокого подавления, например восстания башкир при Петре Великом или казацких волнений. Но в то же время действия правительства он объяснял государственной необходимостью. Например, разорение города Батурина А. Д. Меншиковым оправдывается в качестве ответной меры на предательство гетмана Ивана Мазепы443. Л. М. Сухотин, как, впрочем, и Е. Ф. Шмурло, отнюдь не идеализирует царский режим, не рисует лубочной картины о единстве народа и власти. Он признает, что в России налицо было социальное неравенство, что управление зачастую было неэффективным, просвещение затрагивало лишь высший слой, что имперский блеск были лишь декорацией, прикрывающей внутренние недостатки. Успехи внешней политики и расцвет культуры не способствовали улучшению общественного строя. Поэтому уже с начала XIX в. начали нарастать оппозиционные настроения. Правительство не оправдывало ожиданий общества, немало представителей высших кругов перестали верить в возможность реформ и прониклись революционными настроениями444. Императорская власть не осознавала необходимости перемен. Особенно отчетливо проявилась Л. М. Сухотин эта характеризует взяточничеством, судебной черта как в царствование «время волокитой, застоя» Николая I, с которое присущим административным ему произволом, полицейским надзором. Образованное общество все более проникалось недовольством и оппозиционным духом, 442 интеллигенция Там же. С. 79. Сухотин Л. М. Учебник русской истории. Младший курс. Часть II. С. 55. 444 Там же. С. 102. 443 172 стала новой общественной силой. Она не находила себе применения в жизни, поэтому уходила с головой в науку, искусство, литературу445. Это подрывало стабильность империи, особенно на фоне обострения международных отношений. Однако Л. М. Сухотин позитивно оценивает имперскую политику на Кавказе и Средней Азии. Он не слишком глубоко вдается в причины экспансии России в этих регионах, а лишь повторяет расхожее мнение современников о необходимости обезопасить границы от набегов воинственных горцев или «беспокойных киргизов». Поэтому он высоко оценивает, например, жесткие действия А. И. Барятинского и Н. И. Евдокимова на Северном Кавказе. Проводимое ими выселение горцев он считает необходимой мерой: «Для замирения края горное племя черкесов выселяли из их горных аулов в равнину северного Кавказа; но очень многие из них (до 200 тысяч) предпочли выселиться в турецкие пределы»446. При этом, разумеется, не говорится о колоссальных жертвах среди мирного населения. Зато автор акцентирует внимание на то, что переселившиеся черкесы влились в отряды башибузуков и зверски подавляли Апрельское восстание в Болгарии в 1876 г.447 Высокую оценку мы видим и применительно к покорителям Средней Азии, особенно по отношению к М. Д. Скобелеву: «Своей безумной храбростью он производил сильное впечатление и на своих солдат, и на неприятеля. На белой лошади, одетый в белый китель, он был всегда впереди, ободряя всех своим личным примером, поразительным спокойствием и полным презрением к смерти. Солдаты боготворили своего начальника и готовы были идти за ним в огонь и воду»448. Одной из главных боевых заслуг генерала Л. М. Сухотин называет умелое взятие Геок-Тепе и покорение воинственных текинцев. О жертвах речь, 445 Там же. С. 105. Там же. С. 118. 447 Там же. С. 121. 448 Там же. С. 120. 446 173 разумеется, не ведется, ибо внешнеполитическая цель оправдывала любые средства. Ведь, с точки зрения Л. М. Сухотина, присоединение и Средней Азии, и Кавказа сопровождалось распространением культуры и развитием экономики. Для Л. М. Сухотина важно показать, что западные державы с недоверием смотрели на усиление России, старались помешать и навредить ей, постоянно вмешивались в ее внутренние дела, провоцировали национальные движения. Это отчетливо видно на примере рассказа о польских восстаниях, именуемых автором не иначе, как «мятежи», а их участники – как «бандиты». Автор вскользь пишет, что имперскими властями были приняты «самые крутые меры», но признается, что другого выбора у них не было449. В этой связи можно говорить и об определенных симпатиях историка к Александру III. Да, «в либеральные учреждения Александра II был внесен ряд изменений, извращавших их смысл и значение», да, новый император пытался вернуть Россию к порядкам николаевского времени, да, это обострило отношения между обществом и правительством450. Но Л. М. Сухотин не думает ставить под сомнение глубоко национальный и мирный характер его политики, что искупало многие ее негативные стороны. Доказывая любовь императора ко всему русскому: музыке, литературе, живописи, архитектуре, быту, истории, – Л. М. Сухотин приводил рассказ, как на приеме депутации от народа царь заметил в задних рядах крестьянина, одетого не в русскую поддевку, а в пиджак: «Он подозвал этого крестьянина и выразил ему сожаление о том, что он променял национальный костюм на костюм иностранного образца»451. Л. М. Сухотин говорит читателю о вынужденном характере русификации, называет ее непопулярной, но единственно возможной мерой. Он лишь констатирует, что в прибалтийских губерниях ликвидировались основы автономии и вводился повсеместно русский язык. О реакции со стороны местного населения не 449 Там же. С. 123. Там же. С. 127. 451 Там же. С. 129. 450 174 говорится ничего, как, впрочем, не говорится и о росте революционных настроений в самой России. Например о рабочем вопросе, о проникновении идей марксизма и формировании социал-демократических кружков Л. М. Сухотин не пишет не слово. Будто бы потом большевики возникли из ниоткуда. К слову сказать, радикальное оппозиционное движение вообще никак не дифференцируется, его представители маркируются как «революционеры», «террористы», «левые деятели», независимо от имевшихся между ними различий и разногласий, в том числе и по тактическим вопросам. В результате и политические убийства начала ХХ в., и участие в Первой русской революции описывается как результат действия неких абстрактных, обезличенных сил. Примечательно, что Л. М. Сухотин не называет ни одного из имен революционеров начала ХХ в., даже самого В. И. Ленина, но зато упоминает их жертв – В. К. Плеве и великого князя Сергея Александровича. Справедливости ради заметим, что Л. М. Сухотин отнюдь не рисовал революционеров кровавыми фанатиками. Порой вообще складывается впечатление, что он уделял большее внимание не внутренним, а внешним силам. Вероломство западных держав у Л. М. Сухотина доказывается постоянными ссылками на попытки втянуть Россию в чуждые ей конфликты. Примечателен в этом смысле рассказ о русско-японской войне. Само проникновение на Дальний Восток объясняется объективной потребностью в выходе к незамерзающим морям. Но поспешность, с которой эта политика осуществлялась, списывается не столько на придворных авантюристов, сколько на … Германию («В эту дальневосточную историю, так плачевно кончившуюся для России, втягивал императора Николая II германский император Вильгельм II, которому было выгодно отвлечь Россию от интересов в Европе»452). Сама война, столь остро пережитая русским обществом, воспринималась Л. М. Сухотиным и как национальная катастрофа, и как место героической памяти. Не случайно, что ей уделено больше места, чем 452 Там же. С. 133. 175 Отечественной войне 1812 г. Цусимское сражение описывается подробнее, чем Полтавская битва и Бородино вместе взятые. Война открыла дорогу потрясениям, втянула ее в роковой водоворот событий, но «император Николай II не внял общему голосу страны, предостерегавшему его о революции, и не изменил курса своей политики»453. Одновременно Л. М. Сухотин подчеркивал роль Германии в организации революции 1917 г. и ее непосредственное участие в доставке в Россию из эмиграции видных революционных деятелей. Итак, в учебных нарративах Л. М. Сухотина, как и у Е. Ф. Шмурло, большое место отводится имперской экспансии, ее идеологическому и практическому обоснованию. Расширение территории, колонизация, цивилизаторская миссия становятся главными метафорами учебника. Правда мотив борьбы с азиатским началом у Л. М. Сухотина выражен менее ярко, чем у его старшего коллеги, но для него также характерно представление о цивилизаторской миссии России на Востоке. Однако были ли эти представления общепринятыми? Или же в эмигрантской среде имели место попытки построения учебных нарративов на совершенно иной идеологической основе. Роберт Юрьевич Виппер (1859 – 1954) был одним из талантливейших ученых своего времени, чья судьба сделала немало причудливых поворотов на виражах истории. Ученик В. И. Герье и В. О. Ключевского, он в 1894 г. был удостоен сразу докторской степени за диссертацию «Церковь и государство в Женеве XVI веке в эпоху кальвинизма». Впоследствии он преподавал в Одессе и Москве. Революцию Р. Ю. Виппер не принял и в 1924 г. уехал в Ригу, где до 1941 г. был профессором Латвийского университета. После присоединения Прибалтики к СССР он получил приглашение вернуться в Москву и в 1943 г. триумфально был избран Академиком АН СССР. Поговаривали, что сам И. В. Сталин ценил его книгу об Иване Грозном, написанную еще в 1922 г., в 453 Там же. С. 141. 176 которой давалась положительная оценка первого русского царя454. Еще до революции Р. Ю. Виппер подготовил серию учебников, затем многократно переиздававшихся, и сделавших его имя известным для преподавателей, учеников гимназий, а также студентов455. Они отразили в себе огромный педагогический опыт ученого и оригинальность его научных построений. Один из биографов Р. Ю. Виппера отметил, что его талант ярче всего проявился именно в лекционных курсах и учебниках456. Исследователь, действительно, был увлечен вопросами теории и практики преподавания истории, опубликовав до революции немало статей об этом в журналах «Историческое обозрение», «Русская школа» и «Вестник воспитания». В годы эмиграции профессор активно включился в строительство русской школы в Латвии. К слову сказать, в 1919 г. национальные меньшинства этой прибалтийской республики, к которым относились русские, получили автономию в вопросах организации школьного дела и право на обучение на родном языке. При Министерстве образования были созданы специальные национальные отделы. Таким образом, русские школы были включены в государственную систему образования и стали получать поддержку властей457. Специально для их учеников Р. Ю. Виппер в 1925 – 1928 гг. создал серию из трех учебников по истории, каждый из которых хронологически охватывал особый период – Древность, Средние века, Новое время458.Их появление было тепло встречено читающей публикой. Рижская газета «Сегодня» писала: «Учебники маститого ученого по всеобщей истории пользуются заслуженной популярностью не только как прекрасное руководство 454 См.: Бурдей Г. Д. Историк и война. 1941 – 1945. Саратов, 1991. С. 46, 187, 189. Виппер Р. Ю. Учебник Древней истории. М., 1900; Он же. Учебник истории Средних веков. М., 1903; Он же. Краткий учебник истории Средних веков. М., 1911; Он же. Краткий учебник Новой истории. М., 1912; Он же. Древняя Европа и Восток: учебник для младших классов гимназий. М., 1914. 456 Володихин Д. М. Критика теории прогресса в трудах Р. Ю. Виппера // Вопросы истории. 1992. № 2. С. 154. 457 Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на пути к интеграции. Рига, 2000. С. 245 – 246. 458 Виппер Р. Ю. Учебник истории: Древность. Рига, 1925; Он же. Учебник истории: Средние века. Рига, 1925; Он же. Учебник истории: Новое время. Рига, 1928. 455 177 при прохождении курса, но и как книга для чтения. В силу этого пользование ими дает учащемуся не только необходимые знания по предмету, но и в значительной степени удовлетворяет его любознательность и стремление к известной детализации предмета»459. Однако эти издания ни в коей мере нельзя считать простым повторением дореволюционных аналогов. Р. Ю. Виппер тщательно переработал свои прежние труды, не только дополнив их свежим материалом, но и приспособив к новым условиям существования русской школы и к новым требованиям, предъявляемым к ее ученикам временем и обстоятельствами. К слову сказать, еще в начале 1920-х гг. учебники Р. Ю. Виппера были переведены на идиш и изданы в Литве и Германии. К сожалению, пока не удалось ничего узнать о практике их использования в еврейских школах Европы. Что же представляли собой учебники Р. Ю. Виппера с содержательной точки зрения, какие методические подходы они отражали? Сам автор подчеркивал, что он стремился избегать условных описаний и отвлеченных характеристик, помещаемых под заголовками «суд», «религия», «военное устройство», «феодализм», «горожане». Отталкиваясь от своего педагогического опыта, он доказывал, что ученики обычно плохо усваивают такой материал, мало интересуются изложенными обобщениями, а, главное, не видят связи с конкретными событиями: «Поэтому казалось более правильным постараться изобразить учреждения, нравы и понятия каждой эпохи в виде действий и столкновений выдающихся или типичных личностей. Так, напр[имер], судебный процесс средневековья хорошо представить на двух, трех реальных случаях: клятве папы Льва III в 800 г., произнесенной вместе с соприсяжниками, судебном поединке, происходившем в присутствии Оттона саксонского и др. Или, напр[имер], нравственные понятия Киевской Руси могут быть отчетливо обрисованы 459 деятельностью Владимира Мономаха; характер восточно- Цит. по: Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на пути к интеграции. С. 318. 178 христианских сект лучше всего изобразить на истории первых вселенских соборов; старинная торговля наилучше выступает в поездках русских в Царьград и т. д. <…> Учебник должен, по мнению составителя, дать не обобщения, а фактический материал для них. Познакомившись с таковым, ученики, под руководством преподавателя, могут с пользой поработать над выделением фактов из цепи развивающихся событий и над сопоставлением их для разных аналогий и сравнений. Тогда, в виде решения некоторых элементарных исторических задач, они сами сделают те выводы и обобщения, которые предлагались им прежде в виде готовых сухих формул»460 Исследователями творчества Р. Ю. Виппера было отмечено, что он был сторонником проблемного обучения, и именно по этому принципу были построены его учебники461. Он использовал дидактический прием сравнений, причем основываясь не только на сопоставлении хронологически близких феноменов, но и обращаясь к примерам отдаленных друг от друга явлений. При помощи этого приема он пытался актуализировать содержание учебников. Например сознательная модернизация античной истории должна была пробудить интерес к прошлому, разрушить привычные представления о гармонии античного мира и сопоставить древность с российской действительностью, лишить ее условности, наполнить историю актуальным оттенком. Р. Ю. Виппер еще до революции при переработке своих учебников усиливал в них современное звучание. Он хотел «приблизить закостеневшее прошлое к реалиям предреволюционной России»462. Критики настороженно относились к вольным аналогиям, например к использованию терминов «сеньоры», «военные вассалы», «индустриальные группы», «крупный капитал», 460 Виппер Р. Ю. Учебник истории: Средние века. Рига, 1925. С. 3. Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Р. Ю. Виппер и историческое образование: вопросы дидактики // Ярославский педагогический вестник. 2007. № 3. http:// vestnik.yspu.org/releases/istoriya/36_1/ 462 Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Р. Ю. Виппер и конструирование «образа» античной истории в учебной литературе 461 179 «торгово-промышленный класс» для описания реалий античного мира. Правда в своих эмигрантских учебниках Р. Ю. Виппер во многом откажется от таких вольностей. Подобные модернистские подходы были характерны для эпохи, в которой жил ученый. Достаточно вспомнить о Роберте Пельмане или Гульельмо Ферреро с их стремлениями осовременить античность. Если же говорить о Р. Ю. Виппере, то он не просто хотел облегчить восприятие материала учащимися, но желал выразить свое отношение к специфике исторического процесса, а именно, сделать акцент на представлении об «историческом круговороте»463. В своих учебниках русский профессор по сути отказывался от линейной трактовки истории. Для Р. Ю. Виппера казалось несомненным, что в истории разных народов и государств существуют периоды возникновения, развития, упадка, гибели, и что аналогичные явления имеют свойство повторяться в разные эпохи. Он ясно слышал, например, современное звучание опыта гражданских войн в Древнем Риме, пытался уловить в античной истории примеры перерастания внешних военных конфликтов во внутренние междоусобия. Еще в 1923 г. Р. Ю. Виппер опубликовал сборник очерков под названием «Круговорот истории», в котором попытался обосновать свои взгляды464. Эти очерки были написаны в период с 1917 по 1920 гг. и отразили стремление автора понять переживаемые события: «Невольно хотелось отвлечься от впечатлений ближайших и непосредственных, в силу которых современность кажется результатом последних катастроф, войны и гражданского междоусобия. Напротив, в самых катастрофах думалось увидеть естественные последствия роковых данных, заложенных в предшествующей культуре, которую мы привыкли звать культурой XIX века. Обозревая свои статьи и лекции в целом, автор чувствует, что как бы ни была специальна тема, 463 Новиков М. В., Перфилова Т. Б. Р. Ю. Виппер и историческое образование: вопросы дидактики. 464 Виппер Р. Ю. Круговорот истории. М. – Берлин, 1923. 180 лежавшая в основе каждой из них, он неизбежно возвращался к критике системы жизни и мировоззрения XIX века»465. Его пугали натиск неумеренного и неконтролируемого технического прогресса, обернувшегося на практике совершенствованием разрушительного оружия, нагнетание нетерпимости между разными народами, лицемерие правящих кругов, социальная неустроенность, жестокость и воинственность, упадок нравов, идейные противоречия и, как следствие всего этого, закат культуры. История еще не знала примеров «столь быстрого распадения едва сложившейся цивилизации», со страхом и горечью писал ученый466. Р. Ю. Виппер отнюдь не был склонен считать причиной кризиса Первую мировую войну. Напротив, сама война была для него лишь «показателем и результатом крушения всей системы европейской жизни», она лишь «обнаружила глухой ужас, клокотавший под спокойной на вид поверхностью Европы»467. Если свести авторскую позицию к одному тезису, то Р. Ю. Виппер выступал критиком «воинствующего империализма», составными частями которого для него являлись колониальные захваты и индустриализация. Представление Р. Ю. Виппера о единстве исторического процесса отразилось на понимании им предмета истории России. Пожалуй, главной особенностью его латвийских учебников было включение ее в контекст всеобщей истории. Например, говоря о Северной войне, профессор подробно излагал материал о внутреннем развитии и внешней политике Швеции в конце XVII в. Такой подход был принципиально новым и не свойственным для дореволюционных учебных нарративов. Не будем забывать здесь о специфике образовательных стандартов. Программы русских школ в Латвии должны были соотноситься с программами национальных школ, а поэтому о выделении истории России в отдельный предмет не было речи. Она должна была изучаться в рамках всеобщей истории. Но причина здесь кроется не только в особенностях развития 465 Там же. С. 5 – 6. Там же. С. 6. 467 Там же. С. 17. 466 181 русской зарубежной школы. Р. Ю. Виппер как талантливый историк и вдумчивый наблюдатель, не мог не осознать глобальность произошедших на его глазах потрясений, сам дух эпохи, который так ясно осветил кризис все западной цивилизации. И, естественно, он пытался осмыслить место России в этих процессах. Учебники Р. Ю. Виппера отражали взгляды человека, пережившего ужасы Первой мировой войны, революции, изгнания, и потерявшего веру в поступательный прогресс человечества. Если в 1908 г. в своем учебнике по Новой истории он писал, что одной из главных черт современности, отличающей ее от всех предшествующих эпох, является «быстрое неостанавливающееся движение вперед во всех сторонах трудовой жизни и особенно возрастающее торжество знания и разума»468, то уже через двадцать лет он не был столь оптимистичен. Первая мировая война пробудила невероятную жестокость, продемонстрировала, как технические достижения могут быть использованы для уничтожения людей. В своем эмигрантском учебнике он не скупился на описание беспощадного характера войны, повергшей «культурную Европу» в глубины варварства: «Еще в 1870 г. Германия объявила, что сражается только с французской армией, но не с народом. В новейшей войне противники безжалостно забрали все запасы у населения захваченных территорий, а само население этих областей свели на положение каторжных невольников, которые сгонялись на самые тяжелые работы по возведению укреплений для победителей. Громадные пространства земли были приведены в полное запустение, лучшие работники во всех профессиях были перебиты или изувечены. Как раз мирным жителям старались нанести возможно больший вред: германские подводные лодки топили атлантические пароходы с тысячами обыкновенных пассажиров, аэронавты сбрасывали 468 469 бомбы над Лондоном и Парижем»469. Виппер Р. Ю. Учебник Новой истории. 3-е издание. М., 1908. С. 2. Виппер Р. Ю. Учебник истории: Новое время. С. 451. 182 Впрочем, схожие апокалипсические настроения были свойственны не одному лишь Р. Ю. Випперу, а многим европейским интеллектуалам. Достаточно вспомнить Освальда Шпенглера и его знаменитый «Закат Европы». Рисуя ужасы войны, явно заставившей его разочароваться в прогрессе, Р. Ю. Виппер, тем не менее, крайне осторожно делал прогнозы на будущее Европы и мира. Трудно сказать, было ли это молчание вызвано особым пониманием истории как науки о прошлом. Очевидно лишь, что свое повествование в учебнике он обрывал констатацией факта о созыве Версальской конференции и образовании Лиги наций, которая должна была упреждать будущие конфликты. Вряд ли сам историк в 1928 г. мог предположить, как скоро, как стремительно изменится ситуация в мире, и какие неожиданные зигзаги сделает его собственная жизнь. Но чтобы понять причины кризиса, следовало внимательно вглядеться в прошлое и попытаться найти в нем ответы на вопросы. Эти размышления привели Р. Ю. Виппера к довольно сдержанному, а то и критичному восприятию российского имперского проекта. Не будем забывать, что, вопреки многим своим предшественникам, он высказывал решительно позитивное отношение к Ивану III и Ивану IV, обосновывал значимость их политических, экономических и военных деяний, и при этом критиковал Романовых, и особенно Петра Великого470. Создание Российской империи воспринималось им, прежде всего, как возврат в европейскую семью народов, как возможность наверстать упущенное в науке, культуре, ремеслах за время вынужденной борьбы с кочевой Азией471. Но одновременно российские правители встали на опасный путь империалистических захватов и вмешательства в международные дела, порой вопреки национальным интересам. Допетровская Россия расценивается Р. Ю. Виппером как государство национальное. Но с момента вхождения в европейскую семью, она занялась вмешательством в чуждые ей дела и тратой 470 Ковальчук С. Историк и его история: Роберт Юрьевич Виппер // Русский мир и Латвия: Альманах. Рига. 2011. Т. XXV. С. 200 – 210. 471 Виппер Р. Ю. Учебник истории: Новое время. С. 451. 183 сил на посторонние народу цели: «Петр положил начало этой опасной политике присоединением балтийских земель и своей системой заграничных брачных союзов; при его преемниках русские войска участвуют в западноевропейских войнах, устраивая интересы Австрии, Франции, Пруссии. При Екатерине II политика расширения достигла высшей степени: государственная власть как нельзя более отклонилась от заботы об основной великорусской народности; России стремительно поглощает новые и новые территории, причем эти захваты не могут быть оправданы ни теснотой жизни русского народа, ни необходимостью для него выселения»472. Но власти не сумели в полной мере извлечь выгоду из этих приращений, более того, они не сумели интегрировать население этих земель в имперскую нацию, примером чего для него служил провал русификации в Польше, Прибалтике и Финляндии. Перед Р. Ю. Виппером стояла сложная задача: как объяснить молодым читателям причины гибели Российской империи? И как сделать так, чтобы объяснение это не отвратило их от собственного прошлого? Действительно, размышления над собственным прошлым нередко пробуждали в детях его негативное восприятие. Говоря о кризисе, Р. Ю. Виппер возлагал вину не на происки революционеров или внешние силы, а на неспособность государственной власти и порожденной ей бюрократии эффективно управлять огромной страной в условиях динамично меняющегося мира. Поэтому Российская империя на рубеже XIX – XX вв. представляется в его учебнике как страна, внешнее могущество которой не отвечало внутреннему состоянию. Стремительное развитие капитализма, ломка традиционного уклада поставили такие задачи, с которыми старая бюрократия была не в состоянии справиться. По убеждению Р. Ю. Виппера, на этом этапе развития России требовалась «гораздо большая самодеятельность общества», в то время как правительство всеми силами пыталось удержать существующее положение, не желало 472 Виппер Р. Ю. Учебник истории: Новое время. С. 251 – 252. 184 двигаться по пути дальнейших реформ, а, наоборот, искусственно тормозило их473. К началу ХХ в. Россия, действительно, включилась в процесс индустриализации, но при этом среди индустриально развитых стран она заняла довольно скромное положение, «имея собственные колонии, отчасти сама превратилась в колонию, из-за которой спорили не только большие капиталисты, Франция, Англия и Германия, но вожделенно “зарились и маленькие, разные бельгийские и шведские компании”»474. Этого не могли понять даже, казалось бы, прогрессивные чиновники. Интересно, что Р. Ю. Виппер рисовал для школьников довольно нелицеприятный портрет С. Ю. Витте, чья фигура нередко воспринималась и воспринимается до сих пор (в том числе и в школьных учебниках) как символ идеи успешной модернизации. Перед читателем же предстает чиновник, который ничего не сделал для бедствующего и отсталого крестьянства, который путем введения винной монополии лишь извлекал доход из народного пьянства, и который разделял реакционные взгляды в вопросе о расширении прав земств475. Из учебника следовало, что рост революционных настроений на рубеже веков был отнюдь не случайным, но вполне закономерным процессом, порожденным неспособностью имперской власти эффективно управлять. Вообще для Р. Ю. Виппера свойственно во многом сочувственное отношение к русским революционерам и необычайно подробное на фоне других учебников описание политических событий в России в начале ХХ в. Он обращал внимание на факты жесточайшего подавления властями любого инакомыслия. Для этого, например, он вставил в текст рассказ о том, как усмирители Декабрьского вооруженного восстания в Москве в 1905 г. сожгли рабочие кварталы Пресни и перевешали персонал станционных служащих на Казанской железной дороге, заподозренных 473 Там же. С. 431 Ковальчук С. Указ. соч. С. 200 – 210. 475 Там же. С. 432. 474 185 ими в симпатии к восставшим476. Справедливости ради надо сказать, что критикует он и оппозицию, из-за разлада в рядах которой Первая русская революция не выполнила своих задач. Если Е. Ф. Шмурло бегло, конспективно излагал этот период, то Р. Ю. Виппер представлял читателям развернутую картину, насыщенную фактами. С наибольшей силой имперские мотивы отражалась в идеологии евразийства. Глобализм притязаний его творцов был направлен, в том числе, на создание собственной историографии. Французская исследовательница Марлен Ларюэль указывает, что именно с ее помощью евразийцы пытались обосновать свои теоретические постулаты477. Особое место принадлежало здесь «Начертанию русской истории» Георгия Владимировича Вернадского, изданному в Праге в 1927 году. Предвидя критику читателей, сразу оговоримся, что эту книгу невозможно однозначно идентифицировать как учебный нарратив. Он никогда не использовался в эмигрантском образовательном процессе478. Но евразийцы придавали книге Г. В. Вернадского важное значение в деле пропаганды своих идей. Для них он был своего рода учебником истории по-евразийски. Сам автор подчеркивал, что «Начертание» выросло на основе его лекций, прочитанных еще до революции петербургским студентам. А. В. Антощенко сделал интересное наблюдение, сравнив эту работу с «Историей государства Российского» Н. М. Карамзина и обнаружив сильное влияние последнего на евразийскую историографию. Обращение к Н. М. Карамзину А. В. Антощенко назвал возвратом к «событийной истории». Главное внимание Г. В. Вернадского было сосредоточено на геополитических аспектах, отражавших процесс установления контроля над новыми территориями; «поэтому ведущими в книге 476 Там же. С. 437 – 438. Ларюэль М. Идеология русского евразийства или мысли о величии империи. М., 2004. С. 192. 478 Любопытно, что первое переиздание книги в России в 2000 г. сопровождалось рекомендацией к использованию в качестве учебного пособия для студентов. См.: Вернадский Г. В. Начертание русской истории. СПб., 2000. 477 186 стали разделы, посвященные внешней политике, главным направлением которой признавалось восточное»479. Своей исторической концепцией евразийцы попытались обосновать новую русско-евразийскую историческую идентичность. Н. В. Рязановский расценивал эту попытку как «решительный разрыв» с предшествующей традицией русской мысли об Азии и Европе480. Евразийцы во многом подрывали основы традиционной историографии. Они отказались от традиционного деления русской истории на киевский, московский и петербургский периоды, а взамен и предложили новую диалектическую периодизацию истории, которая выражалась в понятии «ритм». В основе каждого ритма лежали диалектические взаимоотношения двух пространств – Леса и Степи481. Г. В. Вернадский выделял пять ритмических периодов русской истории: «Попытки объединения Леса и Степи» (до 972 г.), «Борьба Леса и Степи» (972 – 1238 гг.), «Победа Степи над Лесом» (1238 – 1452 гг.), «Победа Леса над Степью» (1452 – 1696 гг.), «Объединение Леса и Степи» (1696 – 1917 гг.). Представление о цикличности истории нашло отражение в анализе прошлого, настоящего и будущего Евразии. Ее история представлялась Г. В. Вернадскому как последовательный ряд попыток по созданию единого государства, которое объединило бы все евразийские территории. Этот процесс был ритмичным и периодическим. Таким образом, Г. В. Вернадский считал закономерными проявления центробежных и центростремительных сил в истории Евразии: I. А) Единая государственность (Скифская держава) Б) Система государств (сарматы, готы) II. А) Единая государственность (Гуннская империя) 479 Антощенко А. В. «Евразия» или «Святая Русь»? (Российские эмигранты в поисках самосознания на путях истории). Петрозаводск, 2003. С. 208 – 210. 480 Рязановский Н. В. Азия глазами русских // В раздумьях о России (XIX век). М., 1996. С. 412. 481 Ларюэль М. Указ. соч. С. 193. 187 Б) Система государств (авары, хазары, камские болгары, русь, печенеги, половцы) III. А) Единая государственность (Монгольская империя) Б) Система государств – первая ступень распадения Монгольской державы (Золотая Орда, Джагатай, Персия, Китай) В) Система государств – вторая ступень распадения Монгольской державы (Литва, Русь, Казань, киргизы, узбеки, ойраты-монголы) IV. Единая государственность (Российская империя – Союз Советских Республик…?)482 Логикой своей схемы Г. В. Вернадский предвидел распад СССР. Но в то же время, исходя из нее, образование нового евразийского государства есть процесс неизбежный. Таким образом, имперская государственность в России-Евразии обосновывается исторически. Но такая империя основана не на подчинении, не на противостоянии Запад-Восток, а на синтезе культур. Движение на Восток, «против солнца», Г. В. Вернадский считал одним из ключевых и одновременно закономерных процессов во всей российской истории. Поэтому и история русского народа воспринималась им как «история постепенного освоения Евразии»483. При этом Г. В. Вернадский отрицательно относился к российской экспансии, которая выходила за пределы естественных границ, и тем мерам, которыми она осуществлялась (русификация Польши и империализм на Дальнем Востоке). В идеологии евразийства имперский и антиколониальный пафос парадоксальным образом соединялись воедино. «Начертание русской истории» Г. В. Вернадского помянуто здесь не случайно, и не только в контексте евразийской пропаганды и назидательности. В год выхода книги ее автор получил предложение о работе в США и навсегда покинул Европу. Начало американского этапа биографии ознаменовалось для 482 483 Вернадский Г. В. Указ. соч. С. 32. Там же. С. 29. 188 Г. В. Вернадского попыткой донести свои научные идеи до читающей публики посредством публикации популярного обзора русской истории на английском языке. В конце 1927 г. он предложил издательству Йельского университета напечатать «Очерк русской истории» («Outline of Russian History»). Идея была воспринята положительно, однако автору предложили изменить название484. В результате ускоренной работы уже весной 1928 г. книга под заглавием «История России» была завершена. Сравнивая ее с пражским «Начертанием», Н. Н. Болховитинов пришел к выводу, что это была все же новая работа, а не простой механический пересказ485. Хотя автор и не отказался от евразийской концепции, он значительно смягчил наиболее спорные посылы. Не случайно, его знаменитый отец, академик В. И. Вернадский, писал сыну в июле 1929 г.: «Эта книга гораздо лучше твоей русской»486. Г. В. Вернадский по-прежнему отводил большое внимание историческим контактам России как с Европой, так и с Азией, своеобразию ее культурного развития, роли монголов в русской истории. Свое повествование историк довел до середины 1920-х гг. и затем по мере перезадания своей книги хронологически расширял его. Первое издание «Истории России», вышедшее в 1928 г., встретило теплый прием со стороны рецензентов и читающей публики и обеспечило книге авторитетный статус в качестве учебного нарратива. О его популярности свидетельствовал тот факт, что уже к осени 1929 г. тираж книги разошелся, и издательство прибегло к допечатке487. Впоследствии, вплоть до смерти Г. В. Вернадского в 1973 г., его книга переиздавалась в США 6 раз и заняла положение одного из главнейших 484 Болховитинов Н. Н. Русские ученые-эмигранты (Г. В. Вернадский, М. М. Карпович, М. Т. Флоринский) и становление русистики в США. М., 2005. С. 70. 485 Болховитинов Н. Н. Русские ученые-эмигранты (Г. В. Вернадский, М. М. Карпович, М. Т. Флоринский) и становление русистики в США. С. 71 – 72. 486 Цит. по: Болховитинов Н. Н. Русские ученые-эмигранты (Г. В. Вернадский, М. М. Карпович, М. Т. Флоринский) и становление русистики в США. С. 73. 487 Болховитинов Н. Н. Русские ученые-эмигранты (Г. В. Вернадский, М. М. Карпович, М. Т. Флоринский) и становление русистики в США. С. 74. 189 учебных пособий по русской истории. В этом же качестве в 1940 – 1950-е гг. она стала в Нидерландах, Аргентине и Японии. Учебник Г. В. Вернадского открывает еще одну малоизвестную страницу. Прежде здесь говорилось об учебниках, созданных для эмигрантских детей и молодежи. Однако существовал значительный пласт учебников, учебных пособий, курсов лекций, написанных русскими учеными для иностранных читателей. Наиболее известные из них были созданы уже после Второй мировой войны, например знаменитый учебник М. Т. Флоринского, по которому училось не одно поколение американских студентов. Однако уже в 1920 – 1930-е гг. некоторые русские ученые начали читать курсы лекций по русской истории в зарубежных университетах488. В США преподавали Г. В. Вернадский и М. М. Карпович, в Болгарии – П. М. Бицилли и В. А. Мякотин, в Королевстве сербов, хорватов и словенцев (Югославии) – А. К. Елачич, в Китае – И. И. Гапанович, в Чехословакии – А. В. Флоровский. Даже специалисты по всеобщей истории, такие как М. И. Ростовцев, П. Г. Виноградов, Н. П. Оттокар, были востребованы в качестве лекторов по русской истории. Выдающемуся антиковеду М. И. Ростовцеву при устройстве на работу в Висконский университет в начале 1920 г. помимо начального курса Древней истории было поручено читать лекции по истории России489. Для самого ученого такое предложение очевидно стало неожиданным и 6 января 1920 г. он писал из Оксфорда, где в тот момент находился, заведующему историческим департаментом профессору Ф. Паксону: «…Я не специалист по истории России. 488 Конечно, о преподавании русской истории как самостоятельной дисциплины в иностранных школах речи идти не могло. Она просто не существовала там в качестве отдельного предмета. Хотя были исключения из правил. Например во Французском муниципальном колледже в Шанхае, предназначавшемся для иностранцев, специально для многочисленных русских учеников в программу были введены курсы русского языка, русской истории, Закона Божьего. Историю России преподавал известный ученыйэмигрант И. И. Гапанович. См.: Ван Чжичэн. История русской эмиграции в Шанхае. М., 2008. С. 426. 489 Бонгард-Левин Г. М. М. И. Ростовцев в Америке. Висконсин и Йель // Скифский роман. М., 1997. С. 147 – 148. 190 Как всякий образованный русский человек и как всякий русский ученый, я знаю историю своей страны и могу передать все, что знаю, аудитории. Но я никогда специально не занимался этой областью истории, кроме самого раннего периода, а именно историей скифов и греков. И поэтому мне бы хотелось знать, какой курс русской истории Вы от меня ожидаете: вводный курс по всей истории России или более детальный по одному из периодов или по какой-либо конкретной тематике (экономика, искусство, религия и т.д.). Я такими оговорками я вполне готов взять на себя преподавание в течение года в Вашем университете»490. Американский коллега в ответ сообщил М. И. Ростовцеву, что курс будет рассчитан на студентов старших курсов и аспирантов, и что слушатели, несмотря на новизну предмета, уже будут иметь некоторую историческую подготовку. Тем не менее предполагалось, что лекции должны носить скорее общеобразовательный, чем узкоспециализированный характер491. М. И. Ростовцев прочел курс русской истории лишь однажды, и уже на второй год работы в США переключился на исключительно профильные для себя предметы. Так или иначе, но во многих странах ученые-эмигранты зачастую стояли у истоков чтения специальных университетских курсов по русской истории. Причем им нужно было донести свои идеи до публики, которая зачастую имела поверхностное представление о России и ее истории, даже если речь шла о зарубежных славянских странах. К примеру, в университетской жизни межвоенной Чехословакии заметный след оставили лекционные курсы А. В. Флоровского. В середине 1920-х гг. он преподавал на Русском юридическом факультете в Праге и в Русском педагогическом институте имени Я. А. Коменского. К этому времени относится, например, издание курса лекций по истории русской педагогики. 490 491 Там же. С. 149. Там же. С. 149 – 150. 191 Еще до революции А. В. Флоровский активно занимался социальной историей России XVIII в., подготовив ряд ценных работ по истории екатерининской эпохи. В первые годы эмиграции, сначала в Болгарии, а затем и в Чехословакии, он продолжал заниматься избранной темой. А. В. Флоровского интересовали экономические взгляды Екатерины, работа Уложенной комиссии, контакты с просветителями, европейские отклики на «Наказ» и др. 492 Он высоко ценил императрицу и показал ее деятельное участие во многих начинаниях, будь то написание ей комментариев к докладной записке о развитии в России промышленного производства 1767 г., составление документов, определяющих характер работы Уложенной комиссии, или ее споры с Дени Дидро. Одновременно в эмиграции А. В. Флоровский увлекся петровской темой, которая стала одной из главных во всем его научном творчестве. В 1934 – 1935 гг. он прочел курс лекций «Петр Великий и его эпоха» в Карловом университете. Их текст никогда не издавался, однако в архиве ученого сохранились черновые наброски, которые и позволяют судить об авторской концепции и трансляции его научных идей. К Петру Великому он возводит генеалогию Российской империи, замену мечтаний о Православном царстве имперской идеологией. Именно при Петре раскрывается истинная имперская сущность России: «Россия П[етра] I = сравнить с Россией предшествующего времени = совершенно новый мир. А не только в организационном и реальнопрактич[еском] смысле. Но и в самом сознании русского населения, особенно в сознании самого П[етра] I и руководящего его окружения. Нельзя забывать, что 492 См.: Флоровский А. В. Шведский перевод «Наказа» императрицы Екатерины II // Записки Русского исторического общества в Праге. Прага, 1927. Т. 1. С. 149 – 159; Он же. К истории экономических идей в России в XVIII веке // Научные труды Русского народного университета. Прага, 1928. Т. I. С. 81 – 93; Он же. К характеристике императрицы Екатерины II – законодательницы // Сборник Русского института в Праге. Прага, 1929. Т. 1. С. 261 – 278; Он же. Две политические доктрины («Наказ» и Дидро) // Труды IV съезда Русских академических организаций за границей. Белград, 1929. Ч. 1. С. 113 – 119 и др. 192 Россия Петра I = есть Россия = Империя. Не только потому, что Петру после Ништадтского мира Сенат поднес титул императора – но по существу»493. Правда А. В. Флоровский, несмотря на свое особое место в чешской историографии, собственного учебника по истории России для иностранных читателей не создал. И, судя по всему, такие попытки им не предпринимались. Иные же коллеги ученого, напротив, преуспели в этом направлении. Свои учебники для иностранных читателей подготовили П. М. Бицилли, Г. В. Вернадский, А. К. Елачич, В. А. Мякотин, Н. П. Оттокар, Д. П. СвятополкМирский. Как соотносились они с нарративами, предназначавшимися для эмигрантских читателей? Следует обратить внимание на одно принципиальное отличие между ними. Учебники для иностранных читателей никогда не применялись в практике школьного преподавания, ибо в иностранных школах история России не составляла отдельного предмета. Следовательно, эти книги были рассчитаны на более взрослую аудиторию, например на студентов, или на читателей, интересовавшихся российской историей и желавших иметь ее краткий и емкий очерк. Перед учеными стояла непростая задача популяризировать знания о России, но при этом сохранить высокий научный уровень повествования. К числу авторов наиболее известных и влиятельных учебников принадлежал Николай Петрович Оттокар (1884 –1957), выдающийся русский медиевист. Еще будучи студентом Петербургского университета, он увлекся историей западноевропейской средневековья, что привело его в круг учеников знаменитого профессора И. М. Гревса. В 1906 г. он впервые побывал во Флоренции, и этот город навсегда запал в его душу. Мог ли он, двадцатидвухлетний начинающий ученый, предположить тогда, что с Флоренцией неразрывно будет связана вся его последующая жизнь, что его имя 493 [Konspekty přednášek na FF Karlovy university] III. Istorija Rossii v epochu Petra I. 1. Petr Velikij i jego epocha (letnij sem. 1934/1935). rkp. // Slovanská knihovna v Praze. Trezor. А. V. Florovskij. T-Flor. Krab. XXXVII. 193 будет вписано в историю этого великого города, и что он станет его почетным гражданином? Думается, что нет. Как не мог предугадать неожиданных изломов своей судьбы, вызванных революцией и Гражданской войной. С началом Первой мировой войны Н. П. Оттокар был вынужден вернуться из Италии, где он с 1911 г. находился в научной командировке. Вместе со своим другом Л. П. Карсавиным он преподавал в стенах своей alma mater, а также в Психоневрологическом институте и на Высших курсах П. Ф. Лесгафта. Летом 1917 г. Н. П. Оттокар был избран профессором недавно созданного Пермского университета. Молодой историк активно включился в научно-педагогическую работу. Об уважении к нему коллег во многом свидетельствовало его избрание деканом историко-филологического факультета, проректором, а в апреле 1920 г. и ректором. Несмотря на суровые условия Гражданской войны, оторванность от библиотек и архивов, Н. П. Оттокар не прекращал научной работы и именно в Перми подготовил свое первое крупное исследование – монографию «Опыты по истории французских городов в Средние века». Однако Италия все сильнее манила его. И осенью 1921 г. Н. П. Оттокар добился у советских властей права выезда в Европу. Он поселился в любимой им Флоренции и поступил на работу в местный университет. Итальянская среда приняла Н. П. Оттокара любезно, и довольно быстро он достиг больших научных успехов и добился заслуженного уважения коллег. Он, русский эмигрант, стал признанным и авторитетным специалистом по истории коммунального движения в средневековой Италии494. Но Н. П. Оттокар оставил след не только в этой области науки. Ему было суждено оказать влияние и на развитие знаний о России в итальянской среде. Еще в середине 1920-х гг. редакция «Итальянской энциклопедии» обратилась к нему с просьбой привлечь коллег-эмигрантов для написания статей по истории и культуре России. Н. П. Оттокар писал в Прагу А. В. Флоровскому: «Личная моя 494 См.: Морозов А. А. Некоторые вопросы методологии истории средневекового города в работах Н. П. Оттокара // Вестник Омского университета. 1999. Вып. 4. С. 77 – 80. 194 роль в Enciclopedia Italiana не официальная и сводится, в сущности, только к тому, что я даю … советы в постановке отдела русской истории. Сам я не русский историк (в флорентийском университете я занимаю кафедру западноевропейского средневековья), и поэтому отклонил всякое официальное руководство отделом русской истории»495. Правда за русскую историю Н. П. Оттокару все же пришлось вскоре взяться. Именно он написал для энциклопедии большую статью о России и СССР. И именно эта статья, как считают его биографы, побудила Н. П. Оттокара написать свой краткий курс истории России496. Так в 1936 г. в Бари на итальянском языке вышла его «Краткая история России: главные линии»497. Сам автор признавался, что, в сущности, этой темой прежде не занимался. Трудно сказать, что побудило его взяться за перо: выгодное предложение издательство Laterza или стремление понять исторический путь России и особенно события недавнего прошлого, которые вынудили его самого жить на чужбине, хоть и в любимой, но все же не родной Флоренции. Так или иначе, но книга Н. П. Оттокара имела большой успех. Очевидно, этому способствовал академический характер изложения материала и стремление автора к политической беспристрастности, что для эмиграции было порой делом нелегким. Его книга охватывала период от древнейших времени и до 1930-х гг. Н. П. Комолова, одна из исследовательниц творчества Н. П. Оттокара, подметила стремление автора понять ход недавних событий. Как и большинство своих коллег-эмигрантов, историк видел пагубность участия России в Первой мировой войне, которая оказалась чужда национальному духу, породила разочарование в правительстве и власти вообще и открыла дорогу большевикам. Н. П. Оттокар заключал, что революция покончила со старой Россией, и что большевики попытались воссоздать страну 495 Цит. по: Клементьев А. К., Клементьева В. А. Три университета Николая Петровича Оттокара: Санкт-Петербург – Петроград – Пермь – Флоренция // Русские в Италии: культурное наследие эмиграции. М., 2006. С. 388. 496 Там же. С. 392 – 393. 497 Ottokar N. Breve storia della Russia: linee generali. Bari, 1936. 195 на совершенно новой материальной и духовной основе. Но созданная ими система была ничем иным, как «государственным капитализмом». И. В. Сталин же укрепил ее, пойдя на окончательный разрыв с ленинским наследием498. Вопрос о том, какое влияние оказал учебник Н. П. Оттокара на итальянских читателей еще нуждается в прояснении, но о его востребованности во многом говорит факт переиздания в 1945 г. 499 Кроме того, уже на склоне лет Н. П. Оттокар вновь вернется к русской истории, когда в начале 1950-х гг. напишет по заказу издательства «Lemonnier» «Краткий очерк истории России»500. Современные исследователи практически обошли стороной еще одну примечательную Михайловича работу – Бицилли, во «Введение написанное всеобщую под историю» влиянием Петра новейших историографических тенденций, и опубликованное на сербском языке в начале 1920-х гг. Имперская проблематика заняла в его учебнике существенное место, причем автор намеренно придал теме компаративный аспект. Он делает упор не столько на различные формы экспансии и эксплуатации, сколько на феномен имперского сознания, межнациональные отношения, представления о подданстве и гражданстве, категории народа и нации. В этом смысле П. М. Бицилли методологически продвинулся дальше всех остальных авторов эмигрантских учебников. национального вопроса Он в также России, более нежели внимателен его к изучению коллеги. Академик Ю. С. Пивоваров заметил, что П. М. Бицилли в своем научном творчестве одним из первых стал использовать «фундаментальные категории западной науки» (такие, например, как nation-state) для описания российских реалий501. 498 Комолова Н. П. Профессор Флорентийского университета Н. П. Оттокар // Россия и Италия. Вып. 5: Русская эмиграция в Италии. М., 2003. С. 163. 499 Ottokar N. Breve storia della Russia: linee generali. Bari: G. Laterza e figli, 1945. 421 p. 500 Клементьев А. К., Клементьева В. А. Указ. соч. С. 396; Ottokar N. Compendio di storia della Russia. Firenze, 1950. 501 Пивоваров Ю. С. Два века русской мысли. М., 2006. С. 440 – 441. 196 В своем учебнике П. М. Бицилли сравнивает исторический опыт России с другими государствами. Важной чертой, отличавшей ее от прочих империй, он называет инкорпорацию национальных элит в имперские социальные и политические структуры. Национальная политика России кажется ему более либеральной, чем, к примеру, британская, ибо она была лишена представлений о национальной исключительности. Русификация, конечно, имела место, но не была всеобщей и распространялась, в первую очередь, на Польшу, Финляндию и Кавказ. Однако сам процесс создания империи протекал хронологически и органически одновременно с процессом создания русской нации502. В итоге сильное национальное ядро так и не было сформировано. Профессор, разумеется, не склонен идеализировать межнациональные отношения в России, а, напротив, пытается осознать причины их обострения. Ведь, по его мнению, именной региональный сепаратизм стал одной из причин стремительного распада государства в 1917 г., который по своей сущности был подобен распаду Римской империи. В итоге П. М. Бицилли обозначает актуальную проблему: «Вопрос о характере кризиса сегодняшней России зависит от того, как мы воспринимаем ее деградацию: как окончательный факт или как явление вероятное»503. Как правило, авторы всех без исключения учебников, а особенно тех, которые были ориентированы на эмигрантскую аудиторию, старались обойти стороной подобные вопросы. Например Л. М. Сухотин прямо говорил, что наиболее кратко в своем учебнике он изложил события двадцати последних лет, ибо этот период «еще не стал достоянием истории, и объективное изложение его весьма затруднительно»504. Размышляя о причинах революции, Е. Ф. Шмурло тоже был осторожен в оценках. На страницах своего учебника 1922 г. он писал, что лишь в будущем можно будет объективно оценить причины переживаемых 502 Бицилли П. Въведение в световната история. София, 2007. С. 88. Там же. С. 89. 504 Сухотин Л. М. Учебник русской истории. Младший курс. Часть II. С. 4. 503 197 ныне событий. Правда, он все же заметил, что одной из них стало отсутствие во всех слоях российского общества истинного патриотизма и сознательной любви к своей стране, готовности отбросить ради общего блага политические противоречия. Самодержавие допустило роковую ошибку, оно создало огромную империю, но при этом не способствовало превращению своих подданных в граждан. Течение общественной жизни усложнялось, а правительство словно не замечало этого. Неразвитость гражданского начала стала одной из причин национальной катастрофы505. Можно сказать, что имперский период оценивался как время упущенных, нереализованных возможностей: постоянные метания от реформ к реакции, поздняя отмена крепостного права, слишком долгое отсутствие гражданских свобод, запоздалое введение парламентаризма. Но при этом сам исторический путь России отнюдь не считался тупиковым, имперский проект оценивался положительно, независимо от взглядов конкретного автора учебного нарратива. Впрочем, это явление легко объяснить, ибо еще до революции русский экспансионизм «формировали конкурирующие философии, каждая из которых представляла определенный взгляд на судьбу России как империи»506. Н. В. Рязановский справедливо подчеркивал, что империалистические настроения широко распространились в России в период между Крымской войной и 1917 г. Они идейно подпитывались колонизацией Средней Азии, строительство Транссибирской магистрали, активными действиями на Дальнем Востоке и в Персии и проникли в умы интеллектуалов. Причем эти взгляды довольно легко смыкались реакционными и либеральными, западническими и антизападническими воззрениями507. Поэтому нет оснований удивляться 505 Шмурло Е. Ф. История России. С. 552. Схиммелпеннинк ванн дер Ойе Д. Идеология империи в России имперского периода // Ab Imperio. 2001. № 1 – 2. С. 215. 507 Рязановский Н. В. Указ. соч. С. 403. 506 198 трансляции имперский идей в эмигрантскую среду вместе с вопросом о том, «что есть Русская Империя наша?»508 Все авторы учебников так или иначе старались вписать историю России в контекст всеобщей, но одновременно желали подчеркнуть историческую исключительность своей страны. Они отрицали колониальный характер Российской империи, однако приветствовали ее продвижение на Восток. Они критиковали эксплуататорские устремления европейцев, но не замечали национальные противоречия в своей стране. В итоге многие из них вставали «на защиту Российской империи в эпоху, когда империи начинали разваливаться»509. Очевидно, что писать о событиях недавнего прошлого авторам учебников было непросто даже с чисто человеческой, личной точки зрения. Слишком болезненными были воспоминания. Они навевали мысли о потерянной Родине и о тех трагических событиях, которые пришлось пережить. С одной стороны, налицо было желание понять корни произошедших исторических потрясений, а, с другой стороны, воспоминания о недавнем прошлом травмировали душу. Еще сложнее было объяснить произошедшее эмигрантским детям и молодежи, но при этом считалось важным вселить в них гордость за свою страну и надежду на ее возрождение. В учебных нарративах присутствовал во многом идеализированный образ российского прошлого. Он тесно переплетался с мессианскими представлениями, уходящими корнями в глубину веков. Однако эта идеализация не означала примирения с дореволюционным политическим строем, оппонентами которого были многие эмигранты. Авторы учебников лишь стремились найти в прошлом идеальные объекты, особые «места памяти». Российская империя с ее могуществом и блеском хорошо подходила для этих целей. 508 509 Белый А. Петербург: роман. Берлин, 1922. С. 9. Рязановский Н. В. Указ. соч. С. 417. 199 200 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Историческое сознание представляло собой важную составляющую часть самосознания русской диаспоры. Сами эмигранты были носителями ментальных стереотипов. Они задавали прошлому те вопросы, которые волновали их сегодня. Данная черта не была специфической особенностью интеллектуальной культуры русской эмиграции. Знаменитый историк А. Я. Гуревич подчеркивал, что «историческое познание есть не что иное, как пытливое, настойчивое и неустанное вопрошание современностью прошлого, то есть постановка вопросов, волнующих нас, ныне живущих людей»510. Это отчетливо видно на примере обращения к истории императорской России, сквозь которую красной нитью протягивалась тема русской революции. Противоречивые оценки прошлого часто являлись результатом переноса на эмигрантскую почву старых идейных споров, например дискуссий между консерваторами и либералами. Но дискуссии эти приобрели новое звучание, наполнились новым смыслом. Переосмысление исторического опыта России было вызвано стремлением осознать переломные события российской и мировой истории. Но не следует забывать, что 1920 – 1930-е гг. ознаменовались в жизни Европы колоссальными идеологическими подвижками. Произошел необычайный рост Н. И. Шестов, в национал-патриотических массовом сознании настроений. европейцев Как отметил распространялись националистические мифы «крови и почвы», происходила героизация насилия и поиски мифических исключительности. предков Иначе для говоря, доказательства произошел 510 взрыв своей этнической «иррациональных Гуревич А. Я. Историческая наука и историческая антропология // Вопросы философии. 1988. № 1. С. 59. 201 мотиваций политического мышления и поведения масс и политической элиты»511. Поэтому эмигрантская среда стала благодатной почвой для зарождения и развития разнообразных политических мифов. Их базовой основой почти всегда становилась отечественная история, в которой пытались найти ответы на злободневные современные вопросы. Значительная часть изгнанников вполне осознанно участвовала в их создании, желая обосновать особую эмигрантскую идентичность и попытаться сконструировать идеальное прошлое и будущее. Таким образом, диаспора создавала новый образ истории своей потерянной Родины и особую культуру памяти о прошлом. Такую культуру, которая могла бы удовлетворить многочисленных изгнанников и объединить их. Разнообразные мемориальные практики, выражавшиеся в праздновании знаменательных дат, школьной трансляции исторических знаний, публикации научных и популярных работ, были призваны выполнить важную культурную функцию. Они служили механизмом связи поколений, сохранения идентичности и интеллектуального наследия. 511 Шестов Н. И. Политический миф теперь и прежде. М., 2005. С. 16. 202 ДЛЯ ЗАМЕТОК 203 Научно-популярное издание КОВАЛЕВ Михаил Владимирович ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ЭМИГРАЦИИ 1920 – 1930-Х ГОДОВ: ОЧЕРКИ Работа подготовлена в авторской редакции. Компьютерная верстка М. В. Ковалева Подписано в печать … Бум. … Тираж … экз. Усл. печ. л. … Заказ … Формат … Уч.-изд л. … С 49 Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина 410054, Саратов, ул. Политехническая, д. 77. Отпечатано в Издательстве СГТУ имени Ю. А. Гагарина. 410054, Саратов, ул. Политехническая, д. 77. Тел.: (8452) 99-87-39. E-mail: [email protected] 204