32 Мб
advertisement
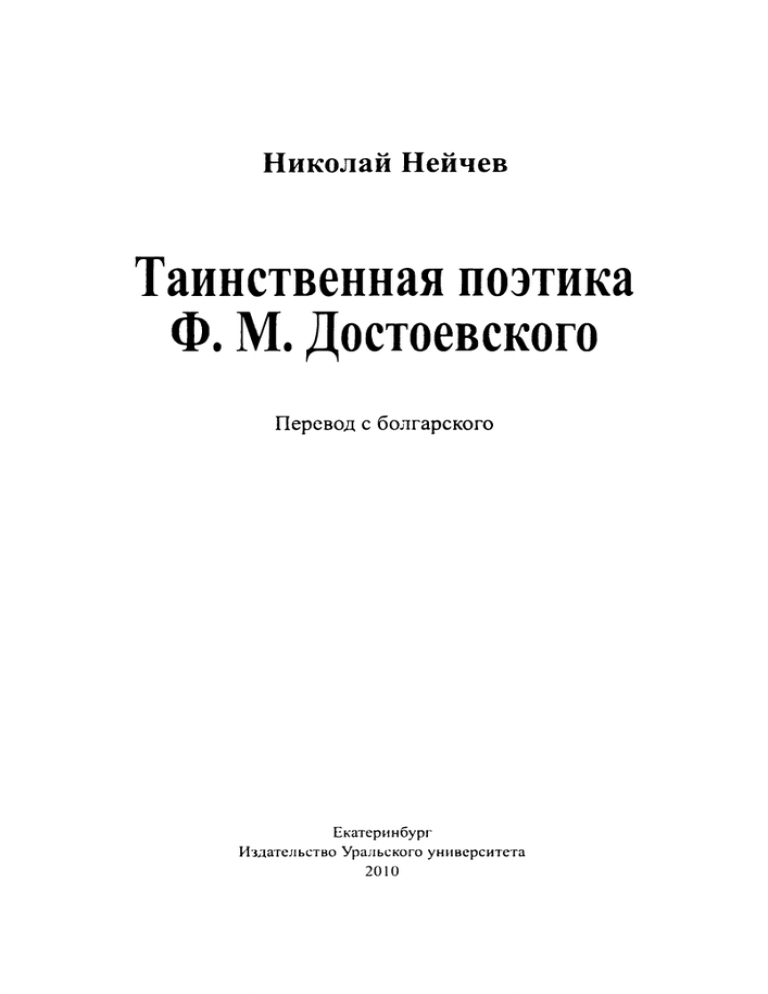
Николай Нейчев
Таинственная поэтика
Ф. М. Достоевского
Перевод с болгарского
Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2010
ББК Ш5(2=р)5-4
Н468
"~"—")
Научный редактор
Подчиненов А. В.
Научный консультант
Летова И. А.
Н 468
Нейчев Н.
Таинственная поэтика Ф. М. Достоевского : [монография] / Н. Нейчев
[пер. с болг. Т. Нейчевой ; предисл. И. Есаулова]. - Екатеринбург: Изд-во Урал,
ун-та, 2010.-316 с.
ISBN 978-5-7996-0561-2
Книга известного болгарского ученого, профессора Пловдивского уни­
верситета Николая Нейчева открывает новые грани художественного мира ро­
манов Ф. М. Достоевского. Автор рассматривает творчество писателя сквозь
призму православного учения, предоставляя читателю возможность осмыс­
лить «тайну» поэтики его Пятикнижия на новом уровне.
Адресована филологам, специалистам по русской классической литера­
туре, а также всем интересующимся творчеством Ф. М. Достоевского.
ББК Ш5(2=р)5-4
Содержание
«Таинственная поэтика» христианского реализма
К русскому читателю
Предисловие
Часть 1. Ф. М. Достоевский и православие
(экзистенциально-мировоззренческие аспекты)
Глава 1. Достоевский и ортодоксальное богослужение
Глава 2. Мировоззрение Ф. М. Достоевского
в свете православного учения
2.1. Антропология Достоевского с точки зрения
категории сновидения
2.2. Мировоззрение Достоевского
и православная аскетика
Часть 2. Роман Достоевского: проблемы поэтики
(типологические аспекты)
Глава 1. В поисках образа храма
Глава 2. Воплощение ортодоксального образа храма
в последних романах Достоевского
Часть 3. Поэтика и герменевтика Пятикнижия
Глава 1. Тайна метаромана
Глава 2. Экзегетические примечания в связи с доминантной
системой романов Пятикнижия
2.1. Роман «Подросток» — агиографические,
храмовые и литургические особенности
2.2. Доминантная линия в романе «Преступление
и наказание» — кризисное житие, наос храма
и таинство покаяния
2.3. Роман «Идиот» как символическое выражение
доминант: обожение человека, купол храма
и таинство евхаристии
2.4. Доминантные акценты в романе «Бесы» —
инфернальное «житие», крипта храма,
таинство елеосвящения
2.5. «Братья Карамазовы» — завершающий
агиографический этап: алтарная храмовость
и таинство священства
Заключение
Примечания
Список литературы
Список принятых сокращений
5
9
13
17
17
51
51
73
94
94
128
179
179
198
198
206
237
248
258
272
276
303
314
3
фД**/**
^gp*^*^
^>*a#l**~r
**#*.
>^7У *********
|ш%1
PIP
.i*»
,0. ^pfet.
«Таинственная поэтика»
христианского реализма
Я очень рад, что русский читатель получил возможность ознако­
миться с книгой талантливого болгарского исследователя Николая Нейчева. Это удивительная книга. Ученый рассматривает Достоевского так,
как его еще никто не рассматривал ни в России, ни в мире. Он не просто
декларирует, что русский писатель укоренен в духовном пространстве
тысячелетней православной христианской традиции, — он пытается до­
казать (я бы сказал, с особой интеллектуальной дерзостью) нечто боль­
шее. Знаменитое Пятикнижие Достоевского в самом буквальном смысле
соборую', не только замысел, но и поэтика его метаромана определяются
догмато-мистической ортодоксией, храмовая архитектоника и литурги­
ческий принцип православного богослужения эстетически проявляют
себя буквально на всех уровнях текста. Должен признаться, что даже для
меня, автора книги о соборности в русской литературе и цикла работ, в
которых сделана попытка выявить художественные принципы неявной
трансляции православной литургии на поэтику русской словесности,
столь тотальное выявление скрытых христианских смыслов в поэтике
Достоевского было своего рода неожиданностью, если не сказать — от­
кровением.
Разумеется, то, что талантливо, увлекательно и в целом убедительно
пытается доказать профессор Пловдивского университета, выросло не на
пустом месте. Он сам указывает на русскую философскую традицию ре­
лигиозного «ренессанса» начала прошлого века, однако Нейчеву явно не
по душе размашистая нестрогость многих построений наших «религиоз­
ных философов» и их гиперкритицизм по отношению к историческому
(т. е. реальному, а не выдуманному) православию. В современном рус­
ском литературоведении также имеется уже целое научное направление,
которое его недоброжелатели слишком неточно и слишком обобщенно
позиционируют как «религиозную филологию».
Однако талантливая книга Николая Нейчева представляет собой и
интереснейший культурный феномен противостояния сегодняшнему
«мейнстриму» в изучении нашей литературы в современной европейс5
кой и — шире — западной русистике. И в ней имеются исследования, в
которых раньше нас, русских ученых, делались попытки выявить то, что
я называю православным кодом русской словесности. Это работы Даяны
Томпсон из Кембриджа, Пер-Арне Будина из Стокгольма, Юстейна Бертнеса из Бергена и некоторых других. Однако именно для православной
Болгарии, как это ни странно на первый взгляд, подход Нейчева является
уникальным. Впрочем, не только для Болгарии, но и для России тоже (не­
смотря на те ростки нового, о которых шла речь выше), как и для других
восточно-европейских стран «победившего социализма». И даже понят­
но, почему...
Нейчев уже в само название книги ввел слово «поэтика». Уже поэ­
тому ему было не обойтись без обращения к знаменитому бахтинскому
труду. Однако правы ли мы сегодня, считая эту книгу своего рода «об­
разцовым» научным трудом? Сравнительно недавно С. Г. Бочаровым
была опубликована запись его разговоров с М. М. Бахтиным. Некоторые
признания Бахтина очень трудно принять его апологетам. Оказывает­
ся, ученый был убежден, что в книге о Достоевском «оторвал форму от
главного... Прямо не мог говорить о главных вопросах... философских,
о том, чем мучился Достоевский всю жизнь — существованием Божиим.
Мне ведь приходилось все время вилять — туда и обратно. Даже Церковь
оговаривал». Теперь невозможно уже ни игнорировать это вынужденное
умолчание, ни — тем более — пытаться превращать недостаток бахтинской работы, написанной «под... несвободным небом» (невозможность
высказаться о «главных (!) вопросах»), в ее достоинство.
В условиях советской несвободы Бахтин, хотя и особо подчеркнул,
что «впервые основную структурную особенность художественного
мира Достоевского нащупал Вячеслав Иванов», однако не смог вос­
пользоваться ивановским определением полифонического мышления
Достоевского как мышления соборного. В итоге его центральная катего­
рия — соборность — на долгие десятилетия оказалась забытой. Бахти­
на трудно винить: появись эта и другая категории, свидетельствующие о
православной традиции, в его работах, — эти труды автоматически были
бы истолкованы в СССР как проявления монархизма и черносотенства.
Именно такие обвинения были предъявлены, например, А. Ф. Лосеву
после выхода его книги «Диалектика мифа». То же было инкриминиро­
вано и П. Флоренскому.
Ключевые моменты суждений о Достоевском крупнейшего русского
символиста не только могут послужить обязательным «комментарием» к
написанным позднее трудам Бахтина, но и реконструируют последующие
6
«фигуры умолчания» и намечают адекватный ценностям самого Достоев­
ского контекст понимания. Бахтинская концепция полифонии оказывает­
ся онтологически родственной идее православной соборности — и вряд
ли поэтому может быть адекватно воспринята без учета этого родства.
Не случайно все-таки для Бахтина «Церковь как общение неслиянных
душ, где сойдутся и грешники, и праведники», является именно таким
образом, «к которому как бы тяготеет весь... мир» Достоевского, мир
принципиально полифонический. Правда, Бахтин был вынужден «огово­
рить» Церковь в следующем же абзаце «Поэтики Достоевского», заявив:
«...но и образ Церкви остается только образом, ничего не объясняющим
в самой структуре романа». Вся книга Нейчева как будто призвана опровергуть этот вынужденный «оговор»...
Именно поэтому представляется корректным и продуктивным вос­
становить в исторической поэтике те фигуры умолчания, те положения,
о которых и хотел бы, но не мог высказаться в свое время М. М. Бахтин,
что мы и видим в представляемой книге.
Мне думается, что описанием «таинственной поэтики» Достоевс­
кого болгарский ученый демонстрирует возможности того творческого
принципа, который можно обозначить как христианский реализм. Как
философский принцип он был осмыслен и именован в последнем тру­
де С. Л. Франка «Свет во тьме», где философ обратился к духовному
опыту русской литературы, однако эта терминология уже использует­
ся и в литературоведении. Понятие христианского реализма — явление
совершенно иного семантического ряда, нежели принятые обозначения
литературных направлений: речь идет о трансисторическом принципе,
который проявляет себя в литературе и искусстве христианского типа
культуры.
В свое время мне уже доводилось критиковать тех своих коллег-нео­
фитов, которые добровольно из мира «большой» академической фило­
логии словно бы ушли в некое «православное гетто», где они для своего
внутреннего пользования выстраивают новую китайскую стену между
светской культурой и православной духовностью. Я бы их назвал фило­
логическими «законниками и фарисеями», поскольку они, как, кстати, и
постсоветские «либералы», крайне узко понимают православную тради­
цию, привычно сводя ее, в сущности, к идеологии, к набору «правил»,
отчужденных от человека.
Казалось бы, поэтому для меня должна быть сомнительной обоз­
наченная в книге научная цель — смысл творчества Достоевского объ­
яснить строгими принципами восточно-православной каноники, когда
7
«догмато-мистическая ортодоксия» представляется универсальной мо­
делью для всех великих романов русского писателя.
Однако — вот же странное дело! — вчитываясь в порой головок­
ружительные интеллектуальные построения Нейчева, который в Пяти­
книжии Достоевского усмотрел сложную систему художественной реп­
резентации храма, жития и таинства, далеко не случайно оказывающей
столь сильное, можно сказать, мистическое воздействие на читателя, я не
ощущаю ровным счетом никакого внутреннего сопротивления. Напро­
тив, я испытываю своего рода интеллектуальное наслаждение. В чем же
тут дело, помимо очевидного таланта самого ученого? Дело в том, что
свои фундаментальные теоретические положения болгарский исследова­
тель доказывает именно на уровне поэтики произведений Достоевского.
Нейчев удачно избегает того, что часто вызывает отторжение — некор­
ректной экстраполяции отдельных элементов православной догматики
на корпус художественных текстов — без понимания значимости эсте­
тической природы этих текстов, без понимания того, что это именно ху­
дожественная литература. Тщательнейшее внимание именно к архитек­
тонике романов Достоевского — вплоть до выявления в их поэтике хра­
мового ансамбля и литургических (а не мистериальных) кодов — одна из
существеннейших особенностей представляемой книги.
Часто цитируя А. Н. Веселовского, основателя исторической поэти­
ки, мы порою как-то забываем вдуматься в то, как сам корифей нашей
отечественной науки понимал задачу этой поэтики: «...определить роли
и границы предания в процессе личного творчества». Исходя из этой че­
канной формулировки, представляется не просто корректным, но и аб­
солютно необходимым определить «роль и границы предания», христи­
анского предания в произведениях отечественной словесности. Именно
поэтому вполне правомерно рассматривать поэтику русской литературы
в контексте православной культуры — с ее собственными категориями,
собственными представлениями о должном и недолжном, собственными
рецептивными установками и собственной архитектоникой. Возможнос­
ти такого подхода, его плодотворность для развития русистики и показал
своей книгой о Достоевском Николай Нейчев.
Доктор филологических наук,
профессор Иван Есаулов
К русскому читателю
У книг иногда весьма странные зачатие, рождение, жизнь, а очень
часто, увы, и смерть. Но бывает иногда у книг (впрочем, как правило,
очень редко) и чудесное воскресение.
Работа над этой книгой началась действительно странно. Я, как те­
перь, припоминаю лето далекого 1988 года. Жара, только что закончилась
сессия, я уже на втором курсе, по-сибаритски развалился на шезлонге у
минерального бассейна какого-то дома отдыха (меня пригласили друзья)
с сигаретой и рюмкой в руках (когда я поступал в университет, мне уже
превалило за двадцать семь, так что в этом нельзя видеть ничего предо­
судительного) и ломал голову, с чего начать курсовую работу по русской
классической литературе. В то время курсовые работы не были обяза­
тельными, но в случае успеха частично освобождали от экзамена по этой
чудовищного объема литературе (а я тогда все еще не мог назвать себя
читающим «атлетом»), так что смысл писать категорически был.
Я остановился на Достоевском: как говорится, помирать — так с му­
зыкой! Полуприлегши в полутревожном состоянии духа, я не переставал
ломать голову: Достоевский — хорошо, но что же, собственно, исследо­
вать? Терзание это продолжалось уже месяц. И тогда неожиданно про­
изошло то странное и необъяснимое, чего и до сих пор не могу забыть.
Что-то молниеносно, невыразимо, но одновременно с тем ярко и отчет­
ливо поразило меня, как бриллиантовая пуля меж бровей, и все встало на
свои места, кристально четкое — цельное, законченное и чистое, словно
только что выкупанный малыш из лохани. И фундаментальная пробле­
матика снов, и их структуроопределяющее расположение в тексте Досто­
евского, и их функция в его художественной системе, и храмовая компо­
зиция его поздней романистики — все сверкнуло в одно мгновение. Вот
над чем должен был я работать...
Я не буду рассказывать ни о банальностях, связанных с медленным
и мучительным трудом, с накоплением и обработкой доказательного ма­
териала, ни о еще более медленном и мучительном процессе написания
исследования — это черная рабская работа, о которой не стоит даже го­
ворить; важно было только то единственное счастливое мговение, без
9
которого не было бы курсовой работы, она не переросла бы в диплом­
ную, а через десяток лет (в 1997 году) и в кандидатскую диссертацию.
Так что в некотором смысле я не вправе даже претендовать на авторство
сочинения, независимо от того, что мое имя единолично «красуется» на
переплете, потому что главное я получил неожиданно, полностью и без
труда, как дорогой подарок в одно единственное мгновение.
Потом рукопись впала в забвение и только в 2001 году увидела белый
свет уже книгой, без каких бы то ни было исправлений в тексте 1997 года.
Постепенно книга копила тихую славу, но только в Болгарии. В 2006 году
в Пловдиве состоялась очередная конференция Международной ассоциа­
ции преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ), на которой
я познакомился с двумя замечательными литературоведами, ставшими
впоследствии моими друзьями, — профессором Татьяной Александров­
ной Снигиревой и доцентом Алексеем Васильевичем Подчиненовым,
преподавателями Уральского университета. На прощание я подарил им
экземпляр книги. Некоторое время спустя Алексей Васильевич попросил
меня написать представительный дайджест сочинения, который вышел в
2007 году в сборнике «Дергачевские чтения - 2006». Прошло еще около
двух лет, и весной 2008 года я получил письмо от моего друга Алексея
с неожиданным предложением издать полный текст книги в России. Я с
радостью дал свое согласие. Вряд ли есть большее счастье для исследо­
вателя, чем перевод его книги на родной язык автора, чем осознание того,
что она становится достоянием народа, создавшего великого писателя.
Началось мучительное таинство, в процессе которого текст обрел свое
«второе дыхание». Эту задачу взяла на себя моя супруга Таня, за пере­
водческий подвиг которой, занявший более полугода, я приношу ей свою
глубокую благодарность.
Необходимо подчеркнуть, что предложенный русскому читателю
текст восходит к 1997 году. Конец 1980-х и начало 1990-х годов были
трудным временем, но самой тяжелой была почти полная невозможность
получить доступ к специализованной критической литературе, которая
в значительной степени способствовала бы моим усилиям. Не буду пе­
речислять все важные литературоведческие и духовные труды, доступ
к которым по той или иной причине был для меня полностью закрыт.
Достаточно упомянуть только концептуальное сочинение И. А. Есаул ова
«Категория соборности в русской литературе» (1995), которое в то время
оставалось для меня совершенно неизвестным и которое, несомненно,
оказало бы благоприятное воздействие на настоящее исследование. Тем
более что духовный (религиозный) подход к творчеству Достоевского
10
(и не только этого писателя) тогда считался откровенной литературовед­
ческой ересью. Поэтому постигнутое и изложенное мною в этой книге
является в бульшей своей части плодом духовного предания и право­
славной интуиции, а то, что осталось непостигнутым, следует отнести на
счет моего невежества.
С тех пор прошло много лет, много воды утекло, многое изменилось.
Изменения наступили и в моем восприятии Достоевского. Важно отме­
тить, однако, что эти изменения не были в состоянии радикально моди­
фицировать глобальную модель концепции — они скорее в еще большей
степени дополняли и объясняли ее.
Поэтому я предпочитаю опубликовать текст, предлагаемый русскому
читателю, в его первоначальном виде. Я считаю, что он предоставит бу­
дущим интерпретаторам необходимую основу, но одновременно с тем и
достаточную степень свободы в понимании великого русского писателя.
Я полностью уверен в одном. Адекватное понимание Достоевского не за­
висит от национальных, этнических, расовых, половых или социальных
факторов; не зависит от того, русский ты или болгарин, эфиопец, китаец;
образован ты или нет; современник ли ты писателя или удален столети­
ями во времени — все эти факторы несущественны. Есть, однако, одно
условие, без которого истинное сопереживание и толкование Достоевс­
кого невозможны. Оно состоит в том, что этот писатель — уникальный
феномен православной культуры, и об этом надо помнить всегда, посему
и последние глубины созданного им литературного мира останутся на­
всегда закрытыми для того, кто духовно чужд этой культуры.
Настоящая книга посвящена тому счастливому мгновению, без кото­
рого она бы не родилась. Она также является выражением благодарности
моему дорогому другу Алексею Васильевичу Подчиненову, без которого
она не воскресла бы к новой жизни в своем уже русском бытии.
Болгария. Пловдив. Сентябрь 2009 г.
Предисловие
Встреча с творчеством Достоевского всегда была событием, приво­
дящим к значимым последствиям во внутреннем мире человека. Для ис­
следователя это большой вызов, так как, являясь принадлежностью сфе­
ры Духа, она предполагает антинамичность интерпретации, как гово­
рится в священном тексте: не исполнились еще времена, когда мы будем
созерцать духовный мир «лицем к лицу», и поэтому «теперь мы видим
как бы сквозь тусклое стекло» [1 Кор., 13: 12]. Или, как пишет святой:
«Таково свойство зеркального образа: он и очевиден, и его не видать, по­
тому что никак невозможно одновременно глядеть в зеркало и видеть то,
что отбрасывает в него свой образ» [Григорий Палама, 1995: 69]. И все
же этот видимый мир нужен нам, потому что он — «зеркало надмирного, и путем духовного созерцания мы, как по чудесной лестнице, при­
ближаемся к этому надмирному бытию» [Migne, 151, 36В]. Точно таким
же образом и творения Достоевского могут стать для нас, облаченных в
плоть, или ступенями по «духовной лествице» познания, или же камнем
преткновения.
Перед читателем лежит исследование воплощенных в текстах До­
стоевского духовных образов. В нем ставится ряд вопросов и ведется
поиск ответов в области, которая остается недостаточно разработанной
в достоевсковедении. В первую очередь это проблема отражения догмато-мистической ортодоксии в личности и творчестве писателя и того, как
это отражение находит свое художественное воплощение.
Я сознательно ставлю акцент на позднем Достоевском по двум при­
чинам. Первая — необъятный для отдельного исследования объем цель­
ного его творчества, и вторая, более веская, — в том, что в последних
произведениях писателя («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы»,
«Подросток» и «Братья Карамазовы») интересующая меня проблемати­
ка находит ясную и определенную художественную реализацию, и ее,
соответственно, можно объять исчерпывающе. Я попытаюсь объяснить
влияние православной религиозно-культурной модели на мировоззрение
Достоевского и ее отражение в нем. Я далек от мысли осуществлять
цельную реконструкцию ментально-мировоззренческих позиций писа13
Предисловис
теля, тем более что существуют прекрасные опыты таких исследований.
Довольно упомянуть имена таких выдающихся представителей русской
культуры, как Н. Бердяев, К. Мочульский, Н. Лосский; или авторов пе­
риода советской критики, таких как Л. Гроссман, Б. Бурсов и др.* И все
же я должен подчеркнуть, что в академической науке пока что нет ка­
питального исследования, которое освещало бы обозначенную проблему
со строго ортодоксальной точки зрения. В большей своей части пере­
численные авторы, особенно представители «религиозного ренессанса»
(не говоря уже о советских), явно или неявно демонстрируют сдержан­
ное отношение к формам традиционного православия, что сказывается
на объективности анализа и не дает ясной и беспристрастной оценки суб­
станциальной связи Достоевского именно с ним1. О ряде принципиаль­
ных несогласий с подобного рода интерпретациями религиозных сужде­
ний Достоевского будет идти речь впоследствии. Теперь я остановлюсь,
хотя и фрагментарно, на некоторых фактах религиозной жизни писателя,
свидетельствующих, по-моему, о непрерывной его связи с церковно-ортодоксалъным исповеданием. Сравнительный материал, на котором я
основываюсь, включает, с одной стороны, воспоминания современников
о Достоевском, эпистолярное наследие автора, записные тетради и чер­
новые заметки, «Дневник писателя», и с другой стороны — библейский
первоисточник и сочинения святых отцов разных периодов, которые со­
ставляют православную догматическую модель, а также современную
Достоевскому русскую богословскую мысль.
Моя цель — не только исследовать влияние православия на ментальность писателя, но и представить то, каким образом ортодоксальный
комплекс находит выражение в его эстетическом продукте, а тем самым и
в рецептивном сознании читателя. Иными словами, работа направлена на
исследование сложных путей и этапов, через которые проходит форми­
рование таинственной поэтики великого русского писателя. В ней дается
попытка их толкования при помощи единственно догмато-мистического
ортодоксачьного учения, то есть с опорой на православную патристику.
В тесной связи со сформулированной проблемой находится и поня­
тие «таинственная поэтика». Поэтика Достоевского таинственна не в
смысле загадочности и скрытности, а в том смысле, что она отражает
религиозные таинства и традиционные ритуалы, и именно это превра* См.: Бердяев, 1923; Мочульский, 1995; Лосский Н., 1994; Гроссман, 1996; Бурсов, 1979.
14
Предисловие
щает ее в мистическую и непонятную для того, кто находится за преде­
лами подобного мировосприятия и интуиции.
Меня никогда не оставляло чувство, что попытка прочтения худо­
жественных произведений Достоевского как канонических сочинений,
эстетически воплотивших в себе догмато-мистические тезисы право­
славия, раскрыла бы негаданные возможности перед истолкователем,
задающимся целью постичь адекватное понимание идейно-эстетических
посланий писателя. Я убежден, что это путь к неожиданным и плодо­
творным результатам. Но чтобы достичь эстетического сада, сотворен­
ного Достоевским, и нарвать живительных плодов, исследователь дол­
жен соприкоснуться в первую очередь с тайной творческой личности, с
ее верой, так как христианство — не какая-нибудь неясная философская
система, которую можно принять или отбросить, оно прежде всего образ
жизни, оно — религия. Поэтому и исследование творческого мира До­
стоевского обязательно надо начать с выяснения проблемы Личности и
ее Веры.
Часть 1
Ф. М. Достоевский и православие
(экзистенциально-мировоззренческие аспекты)
Глава 1
Достоевский
и ортодоксальное богослужение
С самого начала я хочу подчеркнуть, что религиозное мировоззре­
ние писателя в целом никем из исследователей не подвергается сомне­
нию. Неясности и разногласия намечаются прежде всего в вопросе об
отношении Достоевского к традиционному православию в полном его
догмато-мистическом объеме, т. е. к преданию, учению и таинствам гре­
ко-русской православной церкви. Поэтому я сначала остановлюсь на сви­
детельствах о глубинной связи Достоевского с православными ритуаль­
ными таинствами в экзистенциальном аспекте.
По мнению некоторых исследователей [Гроссман, 1922: б; Лосский Н., 1994: 36], воспоминания писателя о самом раннем детстве
связаны именно с пребыванием в храме и с таинством причастия. По­
каяние и причастие как важнейшие церковные таинства Достоевский
исполнял с глубокой верой и непрерывно до двадцатилетнего возраста
(около 1841 г.). К тому времени «религиозность его была столь заметна,
что некоторые товарищи его (в Инженерном училище. — И. И.) втихо­
молку подсмеивались над нею» [Лосский Н., 1994: 38]. Острое чувство
греховности и нужда в покаянии ощущаются в его письме отцу (1838 г.):
«Боже мой! Чем я прогневал Тебя? Отчего не посылаешь Ты мне благо­
дати своей» [Достоевский, т. 28, кн. 1: 52]*. Очевидно, что Достоевский
* Цитаты из произведений Достоевского приводятся по изданию: Достоев­
ский Ф. М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Далее в тексте
они будут отмечаться арабскими цифрами, первая из которых обозначает том, а вто­
рая - страницу.
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
был внутренне сопричастен со все еще живым «тайным духом» «инженеров-бессребренников» — членов религиозного общества «Кружок
святости и чести», которое основал в училище за несколько лет перед
этим Игнатий Брянчанинов, впоследствии оптинский воспитанник,
будущий епископ и великий святой русской церкви [см.: Мочульский,
1995:224].
Знакомство с Белинским (летом 1845 г.) ознаменовало период ре­
лигиозного кризиса, продолжавшегося до первой половины 1846 г.
Позже в своем «Дневнике писателя» Достоевский будет вспоминать
об этом «грустном, роковом» для него времени: «Белинский... тотчас
же бросился... обращать меня в свою веру... Я застал его страстным
социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма... Как социалисту,
ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что ре­
волюция непременно должна начинать с атеизма... Семейство, собс­
твенность, нравственную ответственность личности он отрицал ради­
кально... Тут оставалась, однако, сияющая личность Самого Христа...
оставался пресветлый Лик Богочеловека, его нравственная недости­
жимость, Его чудесная и чудотворная красота... Белинский не оста­
новился даже и перед этим неодолимым препятствием»* [21: 10]. Он
действительно успел на некоторое время посеять у «новоокрещенного»
дух сомнения в Божественной природе Христа, и — как прямое следс­
твие этого — Достоевский уклонился от святого причастия в первой
половине 1846 г. Но о том, сколь кратковременной для автора «Бедных
людей» была «потеря Христа», свидетельствует факт, что сразу после
размолвки с Белинским, приведшей к окончательному разрыву в их от­
ношениях, он вместе со своим новым другом Яновским «вернулся к
Церкви и пошел вместе с другом к св. Причастию, вероятно, в Великом
посту 1847 г.» [Лосский Н., 1994: 42]. Даже позднейшая связь с петра­
шевцами нисколько не препятствовала «возвращению Достоевского к
Церкви, которое выразилось в том, что в 1847 и 1849 гг. он приобщил­
ся вместе с Яновским в Вознесенской церкви» [Там же: 44]. На самом
деле ощущение греховности, а тем самым и стремление к покаянию не
покидали писателя ни до, ни после знакомства с Белинским. В 1846 г.
он признался своему брату Михаилу: «У меня есть ужасный порок:
неограниченное самолюбие и честолюбие» [28, кн. 1: 120]. Позже, на­
ходясь уже под следствием в Петропавловской крепости, он пишет о
впадении в апатию как о великом грехе и говорит, что благодарен за ли* Графическое оформление цитат соответствует тексту оригинала (прим. ред.).
18
Глава
1 • Достоевский и ортодоксальное
оогоаужеиис
шения, убивающие в нем нечистые плотские потребности, от которых
раньше мало оберегался [Там же: 159, 164]. После каторги сведения о
добровольном посте и исполнении таинства покаяния мы находим и в
письме из Семипалатинска сестре Варваре: «...я на этой неделе говел,
сегодня исповедался» [Там же: 227]. После Сибири Достоевский мно­
го раз говорил С. Д. Яновскому: «Да, батенька, все пережилось и все
радостно окончилось, а отчего? Оттого, что вера была сильна, несокру­
шима; покаяние глубокое, искреннее, ну и надежда во все время меня
не оставляла» [Цит. по: Лосский Н., 1994: 50]*. И значительно позже,
предощущая «проклятый "мятеж страстей"», демоническую игру, в ко­
торой бес все время играет с ним шутки, притом в такой степени, что,
как сам он признается, «я духом был не свободен» [28, кн. 2: 54, 193,
207], он, изнемогая от страдания, неистово ищет священника, чтобы
исповедаться [29, кн. 1: 198]. И когда смерть отнимает совсем еще ма­
ленькую его дочь Соню, он не обвиняет, не ищет причины, а сокрушен­
но признается: «Бог поразил меня... Все за грехи мои» [28, кн. 2: 301].
После потери сына Алеши (16 мая 1878 г.) охваченный отчаянием отец
ищет утешения у знаменитого оптинского старца Амвросия [см.: т. 30,
кн. 2: 31-36]. «Это кающийся» — так коротко и определенно выска­
зался о Достоевском отец Амвросий [см.: Котельников, 1989, № 1: 73].
Узнав о намерении Анны Григорьевны поехать на поклонение в Нилов
монастырь, он поспешил наказать ей: «...помолитесь-ка... и за меня.
Слишком ведь уж я грешен» [30, кн. 1: 90-96]. Великие таинства пока­
яния и причастия неизменно сопровождали Достоевского до конца его
жизни. Поэтому и не случайно, что в предчувствии приближающейся
смерти он попросил Анну Григорьевну привести священника, чтобы
исповедаться и причаститься, т. е. подготовить душу к настоящему бес­
смертию [см.: Достоевская, 1971, ч. 11, гл. I] 2 .
#
$
Ф
Бесспорны также факты, подтверждающие православное отношение
Достоевского к таинству брака. В своих воспоминаниях Анна Григорь­
евна дает подробное описание свадебного ритуала, который совершился
полностью по предписаниям Восточной Церкви. Было соблюдено требо­
вание о времени, в которое позволено заключать брак (15 февраля, в сре­
ду перед Масленицей, т. е. в период между Рождественским и Великим
* Все выделения курсивом, которые не оговорены специально, принадлежат
автору.
19
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и правоемтие
постом). Венчание совершилось в православном храме (Троицкий Из­
майловский собор в Петербурге) и включало, кроме остальных деталей
обряда, принятие причастия и благодарственный молебен [см.: Достоев­
ская, 1971,ч. 2, гл. 1, ЛГУ//; т. 28, кн. 2: 179}\
Достоевский всегда воспринимал свой брак как таинство, как Бо­
жественное откровение: «Мне Бог тебя вручил, — писал он своей супру­
ге из Гамбурга через несколько месяцев после свадьбы, — чтоб ничего
из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не пропало, а напро­
тив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я
свои грехи огромные тобою искупил, представив тебя Богу развитой, на­
правленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и дух мертвит»
[28, кн. 2:184]*. Для Достоевского таинство брака возвращает первоздан­
ное духовное единство мужчины и женщины, создает из них «единый не­
делимый организм». «Как ты можешь дивиться, что я так люблю тебя...
ты, кто слилась со мной в одно тело и в одну душу?» — писал он своей
любимой [29, кн. 2: 112]. Опираясь на библейскую цитату «мужчину и
женщину сотворил их» [Быт., 1: 27], писатель восходит к святоотечес­
кому толкованию брака как образа церкви5, как малой церкви, в которой
мужчина и женщина вместе «с детьми, и с потомками, и с предками, и
со всем человечеством составляют единый целокупный организм. А за­
коны (имеются в виду современные светские законы. — Н. Н.) пишутся,
все разделяя и деля на составные элементы. Церковь не делит» [27: 46].
Но если таинство брака есть основа семьи, а она, со своей стороны, яв­
ляется церковью, то и к семье относится понятие «Христова невеста»,
потому что, как пишет Достоевский, «на религиозном и мистическом
языке под выражением "невеста Христова" всегда разумелась вообще
церковь» [25: 125]6. Это богословское понимание дает основания писа­
телю определять семью как «святыню» [22: 69]. «Мы любим святыню
семьи, когда она в самом деле свята... Святыня воистину святой семьи
так крепка, что никогда не пошатнется...» [Там же: 72]. Проблема «свя­
того семейства» и его противоположности — «случайного семейства»
ставится не только в статьях «Дневника», но является также основной
темой всего позднего творчества писателя, о чем подробнее пойдет
речь впоследствии. Здесь я хочу подчеркнуть только то, что понятие
«святыня» в контексте религиозно-философских возрений Достоевс­
кого тесно связано с церковным преданием и является в его творчестве
аналогом термина «таинство» и традиционной православной обрядо­
вости в целом.
20
Глава 1 • Достоевский и ортодоксальное богослужение
Ф
#
$
Прозрачно ясен вопрос об отношении Достоевского и к таинству
крещения. Известно, что в 1844 г. он с готовностью согласился стать
крестным отцом в семье своего брата [см.: 28, кн. 2: 85]. В сентябре
1860 г. (уже после каторги) Достоевский окрестил сына А. П. Милюко­
ва [см.: 28, кн. 2: 15, 371]. Будто предощущая близкую кончину дочери
Сони и понимая исключительную важность крещения как возможнос­
ти7 истинного спасения [см.: Кирилл Иерусалимский, 1991: 323-324],
писатель настойчиво убеждал Аполлона Майкова стать ее крестным
отцом. «Сообщите мне, ради Бога, Ваш ответ поскорей — потому что
это надо для крещения. Вот уж месяц, а она еще не крещена! (так ли в
России?)» [28, кн. 2: 277]. Майков дал свое согласие, но письмо поте­
рялось, и обеспокоенный его молчанием отец нетерпеливо спрашивает
опять об ответе [Там же: 296]. Приблизительно через месяц, спустя три
дня после похорон Сони, несмотря на то, что был сокрушен потерей
этой «маленькой личности», за чью жизнь был готов «принять крест­
ные муки», он не забыл сказать ее крестному отцу: «Благодарю Вас, что
не отказались быть крестным отцом. Она крещена была за 8 дней до
смерти» [Там же: 297].
$
$
*
Что касается мнения Достоевского о таинстве миропомазания,
хотя у нас нет конкретных сведений, это понятно само собой, так
как это таинство неразрывно связано с крещением и исполняется,
как известно, непосредственно после него, ведь рождаясь через кре­
щение для духовной жизни (наподобие телесному рождению), чело­
век сразу нуждается в благодатных силах Св. Духа (как нужны ему
воздух и свет при телесном рождении), который является духовным
воздухом и светом. «И когда видимым образом тело помазуется, тог­
да Святым и Животворящим Духом душа освящается» [Кирилл Ие­
русалимский, 1991: 326]. Впрочем, в корреспонденции писателя мы
находим исключительно важное сведение об отношении Достоевс­
кого к этому таинству, и хотя конкретное высказывание связано с ми­
ропомазанием царя при священнодействии «венчание на царство»,
являющемся само по себе новой, высшей степенью таинства, оно
косвенно доказывает факт его признания и почитания со стороны
писателя [см.: 28, кн. 2: 281].
21
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и правоаавие
*
•
#
Теперь остановлюсь на деликатном, в недостаточной степени выяс­
ненном и запутанном вопросе — о Достоевском и таинстве священства.
По своей сути он касается отношения писателя к служителям таинства,
т. е. к священникам, и является мерилом степени традиционности орто­
доксального мировоззрения творца.
Опираясь на воспоминания барона Врангеля о том, что Достоевский
был «скорее набожен, но в церковь родил редко и попов, особенно сибир­
ских, не любил», Н. Лосский пишет: «Русских священников Достоевский
и впоследствии довольно долго еще недолюбливал и в церковь, по-види­
мому, до 1871 г. ходил не часто. Возврат его к Церкви был в 1847 г. присо­
единением главным образом ко Христу как Богочеловеку, а не к Русской
Православной Церкви» [Лосский Н., 1994: 45]. Подобное мнение широко
распространено и теперь. Оно стало общим местом для огромной части
критиков Достоевского, особенно для представителей «нового Богоис­
кательства» и «религиозного ренессанса»8. Действительно, Н. Лосский
сразу добавил: «Любовь к русскому православию и к Церкви появилась у
него впоследствии и развивалась медленно и постепенно» [Там же: 45].
Строго говоря, суждение Лосского можно определить как contradicio
in abjecto, оно содержит глубокое противоречие в самой своей сути. По­
тому что как можно расценивать такие, скорее всего, этико-эстетического
характера выражения: «не любил», «антипатия» («недолюбливал») — по
отношению к «попам» и «священникам», т. е. к служителям таинства?
Как выяснилось, Достоевский не пренебрегал таинствами православной
церкви, не уклонялся от них (за исключением некоторого периода «друж­
бы» с Белинским), а исполнял их. Из этого вытекает и законный вопрос:
как можно принимать эти таинства «без искренней веры в благословление Божие от служителя православной Церкви, когда нет веры к самой
Церкви, раздаятечьтще даров благодати?» [Макарий, 1857, т. 2: 371].
У таинства есть видимая (обрядовая) и невидимая (но духовно осязае­
мая) сторона — получение благодати. Эти две стороны неразрывно свя­
заны подобно человеку, состоящему из видимой (телесной) и невидимой
(духовной) стороны. Отсутствие одной нарушает целое, так как только
единство двух субстанций дает представление о человеческом существе.
С другой стороны, как воспринимать то, что Достоевский в 1847 г. «воз­
вратился к Церкви», однако это было «присоединением..- ко Христу как
Богочеловеку», т. е. восстановлением веры в Божественную сущность
Спасителя, а не к русской православной церкви? «В Церкви,
пишет
22
Г л ana
l • Достоевский и ортодоксальное
оогоспжепис
выдающийся богослов в области экклезиологической проблематики
архимандрит Иларион (Троицкий), — продолжается всегда и неизмен­
но единение человека со Христом. Это единение — источник духовной
жизни, а без единения со Христом — духовная смерть. В чем же это еди­
нение? Христос говорил: "Я — хлеб живый, сшедший с небес; ядущий
хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, ко­
торую Я отдам за жизнь мира. <...> Истинно, истинно говорю вам: если
не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни; ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ядущий Мою Плоть
и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне" [Иоанн, 6: 51-56]. Таинство
Причащения — вот где единение со Христом и, следовательно, источ­
ник духовной жизни. Таинство Причащения соединяет людей с Богом
и, тем самым, объединяет их друг с другом. Вот почему Причащение, по
преимуществу, есть источник именно церковной жизни. Смысл Таинства
Причащения — в его церковности. Вне единства церковного нет и При­
чащения» [Троицкий, 1992: 20].
С богословской точки зрения, следовательно, по меньшей мере
бессмысленно говорить о «присоедииеии ко Христу как Богочеловеку»
вне православной церкви, совершающей таинство причастия, таинство,
верность которому Достоевский свято хранил всю жизнь. Важно также
следующее. Как объяснить утверждение Лосского, что Достоевский до
1871 г. нечасто посещал храм, предполагающее (притом небезоснова­
тельно), что после этого периода он стал часто посещать его, но еще
долго «не любил» русских священников?
На этот вопрос возможны несколько вариантов ответов. Если позна­
комиться с фактологической картиной, можно убедиться, что Достоевс­
кий не только «русских священников... не любил», но некоторых так и
«не полюбил» до конца жизни. В корреспонденции писателя (с 1871 г.)
мы находим пример отрицательного отношения к висбаденскому ду­
ховнику И. Л. Янишеву [см.: 29, кн. 1: 198, 200; см. также примечание
в «Записных тетрадях» в «Дневнике писателя» за 1881 г. — 27, 46]. Он
нелестного мнения также о протопопе Иване Смелькове [Там же: 239].
В письме Анне Григорьевне из Эмса (28 июня (10 июля) 1874 г.) встре­
чаемся с резко изобличительным отношением Достоевского к «дрезден­
скому попу» Эрнику и «висбаденскому попу» Тачалову [Там же: 340].
Холодное отношение писателя к последнему ощущается и в письмах
1875-1876 гг. [см.: 29, кн. 2: 32, J08]. Неодобрение Достоевского к «ду­
ховному лицу» находим даже в письме 1880 г. [см.: 30, кн. 1: 155, 336].
23
Часть
1 • Ф. /V/. Достоевский и православие
Полны тревоги, боли и упрека слова творца, обращенные к православно­
му духовенству в ряде статей «Дневника» за 1873 [см.: 21: 55, 56, 58, 59],
1876 [22: 99] и за 1877 г. [см.: 25: 173, 265, 266].
С другой стороны, можно найти не меньшее число фактов, свиде­
тельствующих о глубоком уважении Достоевского к ряду представителей
русского духовенства. Об этом говорит, например, письмо А. Н. Майкову,
написанное еще в 1868 г. [см.: 28, кн. 2: 259]. Особенно теплое отноше­
ние выказывает писатель к священнику Григорьевской церкви Иоанну
Румянцеву. Симпатия Достоевского к этому священнику строится далеко
не на личной основе, а на его «большой совестливости к службе и к со­
вершению таинства» [30, кн. 1: 202-203', см. также: 29, кн. 1: 236, 239;
30, кн. 1: 101 и др.]. Такое же чувство он питает к епископам православ­
ной миссии в Японии Алексею и Николаю и др. [30, кн. 1: 777]. Слова
уважения и преклонения перед православной церковью и священством
читаем и в «Дневнике писателя» за 1873 [см.: 21: 84-85], за 1877 [ 25:136,
1721 за 1880-1881 гг. [27: 43, 46] и др.
Таким образом, отношение Достоевского к духовенству представля­
ется глубоко противоречивым. Вопрос в следующем: что может означать
подобная амбивалентная позиция?
Если допустить, что «любовь» или «нелюбовь» писателя к некото­
рым священникам персональна, т. е. для него важны личные качества
(святость — греховность; вера — безверие) духовника, и это предопре­
деляет, соответственно, посещение или отлучение от церковного бого­
служения, то есть от таинств, это значит, что для Достоевского дейс­
твительность церковных таинств находится в прямои зависимости от
личности совершителя таинства, а это, со своей стороны, еретическая,
неправославная точка зрения, известная в истории Церкви как донатистский уклон9.
Факты, однако, говорят о другом. В 1868 г. Достоевский пишет про
священника И. Л. Янишева: «Это редкое существо... с ангельской чисто­
той сердца и страстно верующее» (курсив автора. -И. Я.) [28, кн. 2: 259].
В последующие годы он горько разочаровался в нем, но несмотря на это
в Висбадене, гонимый мятежными страстями, мучимый до смерти «бе­
сом» рулетки и зловещих сновидений, «побежал» за духовной помощью
к тому же самому священнику. Он признался Анне Григорьевне: «Я ду­
мал дорогою, бежа к нему, в темноте, по неизвестным улицам: ведь он
пастырь Божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на
исповеди» [29, кн. 1: 198]. Только то обстоятельство, что писатель заблу­
дился по дороге, помешало встрече состояться.
24
Глава 1 • Достоевский и ортодоксальное богослужение
В 1872 г. Достоевский пишет о своем новом знакомстве с протопопом
Иваном Смельковым: «Мне кажется, он в 10 раз хуже нашего Румянцева
(имеется в виду священник Иоанн Румянцев. — И. И.)» [Там же: 239].
Но это нисколько не помешало писателю через неделю присутствовать
на литургии в его храме и изъявить желание далее встречаться с этим
священником [Там же: 246].
Независимо от того, что для Достоевского висбаденский поп Тачалов — «интриган и мерзавец», «и Христа, и все продаст» [29, кн. 1: 340],
через два года (в 1876 г.) он сам его уговаривает отслужить торжест­
венный молебен за успех черногорского оружия и содействует ему
при организации подписки для сбора средств в пользу славян [см.: 29,
кн. 2: 108].
Подобное отношение со стороны Достоевского к священническому
сану — проявление глубокого антиномизма, свойственного православно­
му сознанию вообще10, когда речь идет о духовенстве. В момент богослу­
жения священник для него является исполнителем таинств и «пастырем
Божиим», т. е. служителем, проводником и подателем благодати. В этих
случаях момент личности не играет сколько-нибудь существенной роли.
И хотя никто не безгрешен, кроме Иисуса Христа, «ибо Он воспринял
всего человека и все, свойственное человеку, кроме греха» [Иоанн Дамаскин, 1894, кн. 3: гл. XX], через таинство Священства на избранного
«низводится... Божественная благодать» [Макарий, 1857, 2: 375]; и еще:
«...чтобы люди могли соделываться пастырями Христовой Церкви и по­
лучать власть совершать таинства, Господь учредил еще особое таинс­
тво— таинство Священства» [Там же: 374]. С присущей ему ортодок­
сальной ментальностью Достоевский всегда понимал это и отграничи­
вал личность от сана духовника. Вот что пишет он своему противнику,
«замаскировавшемуся» под священника: «...если бы вы были в самом
деле священником, я, несмотря на все ваши грубости... все-таки ответил
бы вам "с соблюдением", — не из личного к вам уважения, а из уваже­
ния к вашему высокому сану, к высокой идее, которая в нем заключается»
[21:87].
С другой стороны, однако, когда дело касается «не нравственных
достоинств, конечно (об этом Богу судить)» [29, кн. 1: 350], а потери
авторитета и чистоты православия, он как настоящий исповедник веры
проявляет особую чувствительность и твердую решимость. Например,
Достоевский довольно язвителен по отношению к упомянутым загра­
ничным священникам (Тачалову и Эрнику) не просто из-за их человечес­
ких слабостей, а из-за того, что срамят «нашу (православную. — И. И.)
25
Часть
1 • Ф. М. Доапоеаский
и правос.чавис
церковь своим невежеством перед иностранцами» [29, кн. 1: 340]. Для
него невежество, особенно в области веры, - непростительный грех,
потому что «во главе всего — слабое, ничтожное понятие о правосла­
вии» [22: 99]. По мнению писателя, невежество наносит урон не столько
достоинству личности, сколько «высокой идее» священнического сана.
Достоевский чувствует, что после реформ Петра I церковь находится в
кризисе, «в параличе» [27: 49]. Нарушен баланс, или (если можно при­
менить термин времен юстиниановской Византии) «симфония» между
государством и церковью [см.: Мейендорф, 2001, § 17], в результате чего
она впала в опасную зависимость от империи, зависимость, грозящую
реальной возможностью перерасти в подчиненность, когда священник,
«забыв обязанность своего сана», обратится «в чиновника от прави­
тельства» [21: 56]. Это уменьшает сопротивление церкви, направленное
против многочисленных лжеучений, сект и ересей. Как раз в эту «самую
смутную, самую неудобную, самую переходную и самую роковую мину­
ту... из всей истории русского народа», когда народу помощь духовенс­
тва «никогда еще не была так настоятельно необходима» [Там же: 57],
церковь не только «не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме
иных, еще горящих огнем ревности о Христе священников» [25: 174], но
некоторые из них даже поддерживают враждебные православию секты
и ереси — об этом Достоевский не может молчать. Со страниц своего
«Дневника» он прямо обращается к ним: «Желательно, чтоб на этот раз
никто из нашего духовенства не поддакивал его проповеди» (речь идет
об английском протестантском проповеднике лорде Редстоке. - И. И.)
[22: 99]. Как неслыханное нравственное падение расценивает Достоев­
ский сочувственное отношение некоторых священников к спиритизму,
который, по его мнению, опаснее даже, чем ересь: «Мне передали, между
прочим, — пишет он, — что некоторые из нашего духовенства отчасти
обрадовались спиритизму: возбудит, дескать, веру, по кайней мере, явле­
ние духов протестует против всеобщего матерьялизма. Вот рассуждението! Нет, уж лучше чистый атеизм, чем спиритизм!» [25: 265-266]. Резко
отрицательно писатель отзывается и о статье «духовного лица», поддер­
живающей протестантскую секту пашковцев [30, кн. 1: 155, 336].
Сложное отношение Достоевского к православному священству по­
нятно в контексте проблемы церковной соборности. Я остановлюсь здесь
только на ее наиболее характерных особенностях. Сразу хочу высказать
свое несогласие с тезисом Н. Лосского, что «поворот к православию на­
чался у Достоевского не с усмотрения положительной ценности своей
Церкви, а с отталкивания от чужого вероисповедания, именно от католи26
I I а в а 1 •Достоевский
и ортодоксальное
богослужение
цизма» [Лосский Н., 1994: 54]. Достоевскому исконно присуща ортодок­
сальная православная соборная ментальность, дающая ему единствен­
ный «различительный» критерий в отношении остальных конфессий.
Православие, католицизм и протестанство для него — три идеи, которые
«встают перед миром и, кажется, формулируются уже окончательно»
[25: б] и которые субстанциально уже не имеют ничего общего.
Я не буду подробно останавливаться на широко известной критике
Достоевским католицизма и протестантства, а сосредоточу внимание на
одной только детали, тесно связанной с изложенной выше проблемати­
кой. В «Дневнике писателя» за март 1876 г. он подверг уничижительной
критике принятый Ватиканским собором в Риме в 1870 г. догмат о не­
погрешимости папы. «Знайте же, что у папы есть ключи святого Пет­
ра, — иронизирует Достоевский, — и что вера в Бога есть лишь вера в
папу, который на земле самим Богом поставлен вам вместо Бога. Он не­
погрешим, и дана ему власть Божеская, и он владыка времен и сроков...»
[22: 89]. Для автора цитированных строк подобное «решение» доказыва­
ет разрушение единства церковного сознания, так как в нем «истина дана
отдельной личности в лице папы, — пусть одному папе, но все же одной
личности, без Церкви, — и папа же заведует спасением всех» [Троицкий,
1992: 7]. Для Достоевского «католическая идея» — насилие одиночной
воли над коллективным сознанием, и поэтому она «осуждена» [25: 5],
потому что наверняка ведет к духовной смерти.
Протестантская ментальность решает проблему истины и свободы
кардинально противоположным образом. Она только протестует: «Поче­
му же истина дана одному лишь папе?» и продолжает: «Истина и спа­
сение открыты всякой отдельной личности независимо от Церкви» и
производит «каждого отдельного человека в непогрешимые папы». Эти
мысли, высказанные большим экклезиологом архимандритом Троицким
в 1915 г. [Троицкий, 1992: 7], естественно продолжают богословские ви­
дения Достоевского, который еще в 1873 г. писал, что воззрения такого
рода создают из молодого поколения «множество маленьких пап, не под­
лежащих прегрешению» [21: 129]. Основная проблема протестантизма,
считает писатель, состоит в том, что «каждый своею чашкой хочет спас­
тись, и в каждой отдельной кучке начинаются опять новые споры. Идо­
лопоклонство усиливается во столько раз, на сколько черепков разбился
сосуд. <...> Толкуют Евангелие всяк на свой страх и на свою совесть»
[25: 11]. Этот протестантский принцип не меньше, чем католический,
нарушает церковное единство, что превращает Достоевского в убежден­
ного противника «духа северного протестантизма». Более того, для него
27
Ч а с т ь 1 • Ф. М. Достоевский и православие
«Лютерово протестантство уже отжило свое время давно» [25: 753], так
как «чуть исчезнет с земли католичество, исчезнет за ним вслед и протес­
тантство, наверно, потому что не против чего будет протестовать, обра­
тится в прямой атеизм и тем кончится» [25: 8].
Соборный принцип «единства во множестве» [Хомяков, 1995: 279]
присущ только «третьей мировой идее» — православной церкви. Это
единство церкви — не механическое собрание составляющих частей,
«так как каждая часть обладает той же полнотой, что и ее целое»,
т. е. «Церковь кафолична как своей совокупности, так и в каждой из
своих частей» [Лосский В., 1991: 133]. Иными словами, тайну пра­
вославной соборности можно сформулировать так: полнота истины
присуща каждому члену церкви, но не в отдельности, в обособленнос­
ти от церкви, а в единении с остальными («единство в множестве»),
выражающемся в единстве Божией благодати. Или по-другому: потен­
циально каждый может быть примером для остальных, тех, которые
уклоняются от благодати, потому что сама Божия благодать — крите­
рий истинности.
К рассматриваему моменту, в данной исторической ситуации писа­
тель являлся выразителем как раз этого церковно-православного собор­
ного сознания. Оно обусловило его отношение к «отпавшим», «укло­
нившимся» членам Церкви, а в данном случае — к некоторым священно­
служителям. Достоевский как живое олицетворение соборности со
своей смелой позицией является, может быть, одним из ярчайших испо­
ведников и защитников православной веры, что, естественно, вызывает
глубокое уважение здоровых сил православного священства.
Вот что пишет он Анне Григорьевне о своей встрече с уважаемы­
ми духовниками в знаменательном 1880 году: «Вчера утром заехал к
архиерею викарию Алексею и к Николаю (Японскому)... Оба по душе
со мной говорили. Изъяснилось, что я посещением сделал им большую
честь и счастье. Сочинения мои читали. Ценят, стало быть, кто стоит
за Бога. Алексей глубоко благословил меня. Дал вынутую просвирку»
[30, кн. 1: У 77]. Об уважении со стороны православной церкви к делу До­
стоевского свидетельствует и просьба со стороны великой АлександроНевской лавры, которая «будет считать за честь, если прах писателя До­
стоевского, ревностно стоявшего за православную веру, будет покоиться
в стенах лавры» [Достоевская, 1971: ч. 11, гл. 1].
Таковы экзистенциальные измерения отношения писателя к самому
незыблемому в православии — к церковным таинствам. Отношение его
не только к таинствам, но и к таким субстанциальным элементам право28
Глава
1 • Достоевский и ортодоксальное
богослужение
славия, как икона, святые, мощи, пост, молитва, милостыня, молебен, по­
хороны и вообще весь спектр православного частного и литургического
богослужения строго ортодоксально.
ф
®
ф
Остановлюсь теперь подробнее на вопросе о связи Достоевского с
иконным образом, так как отношение к ИКОНЕ всегда было и останется
самым верным признаком истинности ортодоксальной ментальности.
Это так, потому что образ в православии вбирает в себя как в священный
мистический фокус весь догмато-литургический онтос Церкви.
В письме поэту А. Майкову (декабрь 1868 г.), высказывая свою
оценку стихотворению «Дорог мне, перед иконой...», писатель откры­
то заявил: «...Я недоволен тоном. Вы как будто извиняете икону, оп­
равдываете; пусть, дескать, это изуверство, но ведь это слезы убийцы
и т. д. Знайте, что мне даже знаменитые слова Хомякова о чудотворной
иконе, которые приводили меня прежде в восторг, — теперь мне не
нравятся, слабы кажутся11. Одно слово: "Верите Вы иконе или нет!"»
[28, кн. 2: 333].
Предельно ясно Достоевский изложил здесь квинтэссенцию право­
славной веры: вера в икону есть вера в православие, т. е. в личность Бо­
гочеловека Иисуса Христа, «в великую христианскую тайну воплощения
Сына Божия» [25: 168], потому что икона выражает главный христианс­
кий догмат: Боговоплощение. И наоборот: посягательство на икону нис­
провергает «великое и спасительное таинство домостроительства Христа
Бога нашего, посредством которого мы искуплены» [ДВС, 1891, 7: 243].
Как раз эта непосредственная, «живая» вера в икону (как священный об­
раз, лик) служит ключом к пониманию много раз повторенной Достоев­
ским «схемы веры: Православие заключает в себе лик Иисуса Христа»
[11: 185]. Более того: «...в православии... одном сохранился Божествен­
ный Лик Христа во всей чистоте» [21: 56].
Только после акта Боговоплощения становится возможным и изоб­
ражение Бога, потому что «теперь же, когда Бог явился во плоти и с человеки поживе (Вар. 111: 38 — 1 Тимоф. 111, 16), я изображаю видимую
сторону Бога» [Иоанн Дамаскин, 1993: 11-12]. Икона восславляет самый
значимый факт в истории человечества, так как Творец вещества стал
веществом ради людей, благоизволил поселиться в веществе и через ве­
щество совершил наше спасение. К этому восходит и знаменитая свято­
отеческая формула: «Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Бо29
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
гом» — словами св. Афанасия Александрийского [Цит. по: Мейендорф,
2001, гл. 1]. «Слово плоть быстъ (Иоанн, 1: 14), чтобы плоть стала сло­
вом» [Марк Подвижник, 1992: 479]. То есть открылся путь к обожению
человека. «Дивное чудо на небе и на земле то, что Бог на земле, и человек
на небе; чтоб, соединив людей с Ангелами, вместе и всей твари даровать
обожение» [Авва Фалассий, 1992: 296].
Но икона не только свидетельствует об этих великих событиях и вос­
славляет их, она не только эманация Предания, этой «харизматической
или мистической ПАМЯТИ ЦЕРКВИ» [Флоровский, 1931: 23],— она
сама содействует нашему спасению. С одной стороны, по определению
Седьмого Вселенского Собора, поклонение (лроакт^ац) иконам — «ни­
как не то истинное служение, которое... приличествует одному только
Божественному естеству» [ДВС, 1891, т. 7: 285], так как «честных икон
христиане не называют богами, не служат им, как богам, и не возлагают
на них надежды спасения своего» [Там же: 275]. Потому что икона — это
не сам прообраз, т. е. она не имеет общения с ним по сути [Там же: 227],
а представляет «подобие первообраза» [Там же: 269]. С другой стороны,
однако, именно как «подобие первообраза» икона «получает и само имя
Господа; чрез это только она находится и в общении с Ним» [Там же: 269].
Потому и иконы честны, святы и священны, что «они по самому имени
своему полны святости и благодати... обозначая ее [икону] известным
именем, мы относим честь ее к первообразу; целуя ее с почтением, пок­
лоняясь ей, мы получаем освящение» [Там же: 235]. Следовательно, если
«изображение есть подобие с отличительными свойствами первообраза»
[Иоанн Дамаскин, 1993: 7], то «воздаваемая изображению честь перехо­
дит на первообраз» [Там же: /Я]12. И наоборот, «ибо святые и при жизни
были исполнены Святого Духа, также и по смерти их благодать Святого
Духа неистощимо пребывает и в душах, и в телах, лежащих во гробах, и в
чертах, и в святых их избражениях, не по причине их сущности, а вследс­
твие благодати и [Божественного] действия» [Там же: 16] — эта благо­
дать передается молящимся через икону. В этом смысле, «если апостолов
ведет в Иерусалим Сам Спаситель, то нас ведет к Иерусалиму горнему
Его образ» [Успенский Л., 1989: 27], а, соответственно, и образы проро­
ков, апостолов и святых, т. е. всех людей, получивших благодатное спа­
сение. Иными словами, сам иконный образ используется в сотириологическом плане и является важным звеном на пути спасения.
Особо благодатной силой обладают святые изображения Богоро­
дицы, так как она — «высшая из всех небесных сил и святых, честнее
херувимов и славнее серафимов, первая наша Заступница и Помощни30
Г л а в а 1 • Достоевский и ортодоксальное
богослужение
ца перед Богом» [Сказание, 1904: 212]. Это объясняет, почему сведе­
ния, которыми мы располагаем в связи с икононочитанием Достоевско­
го, связаны преимущественно с изображениями Богородицы. Для него
она — «кроткая молельщица за людей, скорая заступница и помощни­
ца» [24: 172]. В письме Анне Григорьевне из Москвы (1878 г.) он не
пропустил сообщить, что «молился у Иверской» [см.: 30, кн. 1: 35], т. е.
Иверской Божьей Матери в Москве, и это знаменательный для Досто­
евского факт, так как во всей России эта знаменитая икона почиталась
как чудотворная [см.: Сказание: 1904: 289; ППЭС, 1: 924]. Поклонение
именно Богородичным иконам было обычным в семье Достоевских
[см.: Достоевская, 1971].
Здесь уместно упомянуть, что любимая еще с самого раннего дет­
ства молитва Достоевского [см.: Лосский Н., 1994: 36] связана как раз
с Богородицей и звучит так: «Все упование мое на Тя возлагаю Мати
Божия, сохрани мя под покровом Твоим!» Эту молитву наряду с «Отче
наш» и «Богородице» писатель любил всю свою жизнь и произносил ее
вместе с детьми перед сном [см.: Достоевская, 1971, ч. 7: V]. Но вернем­
ся к проблеме иконы.
В 1873 г. Достоевский опубликовал в журнале «Гражданин», редак­
тором которого он был, статью «Смятенный вид». Формально она пред­
ставляет собой анализ рассказа Н. С. Лескова «Запечатленный ангел», но
практически является блестящим апологетическим сочинением в защи­
ту православной обрядности, и, в частности, иконы. Обыкновенный, на
первый взгляд, рассказ о том, как государственный чиновник надругался
над иконами раскольников, а православный священник ответил на это
только словами «смятенный вид», в статье Достоевского приобретает ог­
ромный символический смысл. Хотя речь идет о раскольнических ико­
нах, они очень древние и освящены «еще до времен патриарха Никона»,
до раскола русского православия [21: 54]. Это подталкивает Достоевско­
го к тому, чтобы задать свои «тревожные вопросы» и представить сле­
дующую ситуацию: «Вообразим только такой случай: ... в какой-нибудь
православной церкви находится древняя чудотворная икона, повсемес­
тно чтимая всем православием... Артель раскольников... выкрадывает
эту икону из собора, собственно чтобы иметь эту древнюю святыню у
себя, в своей моленной... Представим, что лет через десять какой-нибудь
чиновник находит эту икону, торгуется с раскольниками, чтобы добыть
знатную взятку; они такой суммы дать не в силах, и вот он берет сургуч и
капает его на лик святыни с приложением казенной печати. Неужели от­
того только, что икона побыла некоторое время в руках раскольников, она
31
Часть
\ • Ф. Л/. Достоевский и православие
потеряла свою святыню? И неужели при сем местный архиерей не мог и
не имел бы права поднять хоть палец в защиту святыни...» [Там же: 56].
В этой небольшой статье Достоевский сфокусировал весь спектр иконо­
борческих ересей и враждебных православной обрядности сил. Ребром
поставлен вопрос об отношениях между государством и Церковью — мо­
дификация в России старой проблемы противостояния между Империей
и Пустынью, существовавшей еще в Византии [см.: Флоровский, 1933:
143-144]. Здесь представлена, с одной стороны, арогантность чиновника,
символ государственной власти, а с другой — пассивность священника,
знак вавилонского плена, в котором государство держит Церковь. В ре­
зультате этого одному предоставлено право надругаться над народными
святынями, а другому не дана возможность защитить их. Далее Досто­
евский берет под прицел самого автора, Лескова, который, «кажется, ис­
пугался, что его обвинят в наклонности к предрассудкам, и поспешил
разъяснить» [21: 55], что чудо с самоочистившейся от воска иконой — не
чудо, а имеет рациональное объяснение. Но Достоевский иронически
подчеркивает, что автор все же не может дать объяснение этому факту и
остается слепым перед настоящим духовным чудом: почему, узнав, что
никакого чуда нет, сто пятьдесят человек раскольников, перешедших в
лоно православия, не вернулись обратно в свою секту? Очевидно, счи­
тает Достоевский, что они остались в православии не из-за недостой­
ного поведения священника «после такого неслыханного, всенарод­
но-бесстыдного и самоуправного святотатства, которое позволил себе
взяточник-чиновник» [21: 55] и не из страха перед светской властью.
Достоевский сохраняет твердое убеждение, что это «неясное» пове­
дение раскольников можно объяснить только чудодейственной силой
святого образа. Для писателя скептическое поведение автора Лескова
символично и характерно для атеистически-материалистического на­
строя русской интеллигенции, отвернувшейся от Бога и потерявшей
связь с душой народа.
Но эти три опасные тенденции — деспотизм государства, слабость
духовной власти и атеизм образованного слоя — чреваты печальными
последствиями. Народ лишен опоры, что толкает его к враждебным
православию увлечениям. Такова секта штундистов (форма немецкого
протестантства в среде православных), отрицающая «обряды и иконы».
Писатель с горечью констатирует темное невежество народа, приведшее,
например, к непониманию им смысла того, «откудова бедный человек
мог бы узнать спасительную, глубокую цель поста? Да он и всю свою
32
Глава
1 • Достоевский и ортодоксальное
богослужение
прежнюю веру знал как один лишь обряд. Значит, против обряда и про­
тестовал» [21: 58].
Острие своей критики автор направил против протестантизма как
формы иконоборческой ереси в современном ему мире. В 1877 г. в «Днев­
нике» он пишет: «Иной лютеранский пастор ни за что не может понять,
как можно, веруя в истинного бога, поклоняться в то же время "доске",
изображению святого, и допустить, чтоб из этого не вышло идолопок­
лонства. Русский интеллигентный человек всего чаще согласен в этом
суждении с пастором» [25: 168; см. также примеч. 14]. Напомню еще, что
Седьмой Вселенский Собор назвал иконоборчество средоточием ересей,
а иконоборцев — подражателями «евреям, сарацинам, язычникам и самяранам, а также манихеям и фантазистам, то есть теопасхитам» [ДВС,
1891, 7: 184-185]. Существовавшие еще в древности иконоборческие
тенденции возрождались в той или другой форме и в более поздний пе­
риод. Конкретно в России в XV в. самые яркие иконоборческие настро­
ения проявляла ересь жидовствующих. Она приобрела поистине всеобъ­
емлющий характер. Наблюдалось массовое отступление от православия
в народе, но ересь поразила также большую часть высшего духовенства
(во главе с первоиерархом Русской Церкви), монашества, светской интел­
лигенции, придворных сфер. Поддался ей даже сам великий князь Иоанн
III и его близке родственники. Православие действительно было в смер­
тельной опасности. Реальной стала угроза «уничтожения самой право­
славной Церкви и, соответственно, полутысячелетних устоев Русского
государства» [Кожинов, 1995: 75]. Жидовствующие отрицали таинства,
иерархию, пост, мощи, праздники, храмы, службы и обряды, но насто­
ящим центром их ненависти были иконы. «Беззаконствуя в своих бес­
стыдных словах и поступках, еретики, как бешеные собаки, рвущие все
своими зубами, оскверняли священные предметы, выбрасывая Честные
Кресты и Божественные иконы в нечистые места» [Иосиф Волоцкий,
1993: 147]. С огромными усилиями под предводительством троих вели­
ких святых — преп. Иосифа Волоцкого, преп. Нила Сорского и св. Ген­
надия Новгородского — русская православная церковь сумела только на
соборах, созванных против еретиков (в 1490 и 1540 г.), взять верх над жидовствующими. Решающее значение в победе над еретиками имело изоб­
личительное сочинение св. Иосифа Волоцкого «Просветитель» (считает­
ся, что преп. Нил Сорский также участвовал в его написании [см.: Кожи­
нов, 1995: 63]). Иконоборчество, однако, как я уже отметил, — ересь, она
мутирует, принимая другой вид, и продолжает проявляться до сих пор.
33
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
Во времена Достоевского таков был характер упомянутых уже рус­
ских протестантских сект, которые «всегда уничтожают... данный цер­
ковью образ веры» [22: 98] — секты редстокистов (преимущественно
в высших кругах) и штундистов (в среде народа), против которых не­
однократно восставал автор «Бесов». Вообще во всем современном про­
странстве русской ересиологии вряд ли существует враждебное право­
славию учение, на которое Достоевский не обратил бы внимания. Мы на­
ходим у него многочисленные статьи, высказывания и отдельные мысли,
направленные против раскола (с его многочисленными сектами: хлыстовцев, бегунов, скопцов, очищенцев, скакунов, трясунов и т. д.), против
тамплиеров, квакеров, конвульсионеров, редстокистов, штундистов; про­
тив армяно-грегорианской ереси; против масонства, спиритизма; против
оккультного мистицизма Сведенборга и мн. др.!3
На основании его острой реакции против всякого рода еретических
течений (особенно иконоборческой направленности) Достоевского спра­
ведливо можно назвать апологетом православия и духовным продолжа­
телем отцов и учителей церкви, церковных писателей и многих других
выдающихся имен в истории соборной православной церкви14.
В контексте рассматриваемой проблематики надо сказать, что икон­
ный образ имеет первостепенную функцию и в художественной системе
Достоевского. Отношение к иконе дает надежный ориентир в разгадыва­
нии сложного духовного мира героя и иллюстрирует его специфическую
атеистическую или религиозную, демоническую или ангельскую, сек­
тантскую или ортодоксальную направленность.
Например, последняя степень инфернальности, богоборчества и ду­
ховной деградации в романе «Бесы» отмечается святотатством по отно­
шению к народной святыне — Богородичному образу: «Я только зеньчуг
поснимал (с иконы. — Н. #.), — говорит "маленький бес" Федька Ка­
торжник Петру Верховенскому, — а ты пустил мышь, значит, надругался
над самым Божиим перстом» [10: 428]. Шизоидный рефлекс разруша­
ющей себя личности, мучительное метание между атеизмом и верой,
между идеей бессмертия души и идеей «золотого века», рая на земле
без Бога у «двойственного» Версилова («Подросток») тоже находят сим­
волическое выражение в эпизоде с иконой: «...стремительно вскочил,
мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись,
из всех сил ударил его об угол изразцовой печки. Образ раскололся ров­
но на два куска...» [13: 409]. Насколько важна была для Достоевского
сцена с раскалыванием иконы при решении сложных творческих задач в
образе Версилова, а тем самым и всего романа, говорит тот факт, что это
34
Глава 1 • Достоевский и ортодоксальное оогос.пжепие
наиболее часто встречающийся мотив в подготовительных материалах
к «Подростку». В них насчитываются десятки упоминаний о разбитой,
разрубленной, расколотой, украденной, переломленной или сожженной
иконе. Иногда этот мотив встречается два, три, даже четыре раза на од­
ной и той же странице15.
Вопрос об иконе, поднятый в романе «Подросток», концептуален и
пптологичеи также для остальных произведений, поэтому я остановлюсь
на нем подробнее. В большей своей части исследователи относят мотив
расколотой иконы прежде всего к психологии Версилова. Они толкуют
его как символ разрушения личности, как следствие «внутренней раз­
двоенности героя»16. Но ограничиться только сказанным недостаточно.
Вот как определяет свой жест сам Версилов: «Не прими за аллегорию,
Соня, я не наследство Макара разбил, я только так, чтоб разбить... А всетаки к тебе вернусь, к последнему ангелу! А впрочем, прими хоть и за
аллегорию; ведь это непременно было так!..» [13: 409]. Высказывания
героя противоречивы и содержат в себе одновременно две возможности
толкования — психологическую и религиозно-идеологическую. Психо­
логическая мотивация в романе постепенно уходит на задний план (хотя
и сохраняется), а религиозная приобретает все большую значимость.
И подростку Аркадию становится ясно, что «это была аллегория и что
ему непременно хотелось... показать это нам, маме, всем» [13: 410]. Ко­
нечно, этот жест Версилова нельзя трактовать буквально — он означает
не просто посягательство на «наследство Макара», а принципиальное от­
рицание сакрального образа, а следовательно, восстание против устоев
православной веры.
Указание на то, что икона разбита об угол печи, содержит глубоко
символический подтекст. Его смысл становится понятным, если обра­
тить внимание на семиотическую структуру русского жилища, уходящую
корнями в древнеславянский строительный ритуал. А суть его состоит в
следующем. Сакральным центром славянского жилища дохристианской
эпохи был очаг или печь, и находился он в середине помещения. С этой
наиболее значимой точки и начинали строить будущее жилище. С приня­
тием христианства все изменилось. Священным центром стал уже юговосточный угол здания. Это так называемый «красный угол» (лучший,
красивейший, прекрасный) — «старший, передний, красный, образной,
святой» [Даль, 1989, 2: 187]. Он «взял верх» над печью, которая «пере­
местилась» в противоположный по диагонали северо-западный угол.
Символические «центры» («красный угол» и «печь») находятся на пери­
ферии, они одинаково отдалены от топографического центра и распреде35
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
ляют между собой его религиозно-мифологическую нагрузку. В услови­
ях двоеверия красный угол связывается с христианской ценностной сис­
темой, а печь — с дохристианской [см.: Байбурин, 1983: 206-207]. Глу­
боко укоренившееся в сознании русского человека скрытое двоеверие,
продолжающееся, впрочем, и до новейшего времени17, порождает особое
напряжение между этими двумя центрами — мифологически-язычес­
ким и христианским. Как раз их столкновение символически воссоздает
Достоевский в сцене с раскалыванием иконы о печь, так как фактичес­
ки икона придает сакральность юго-восточному углу1*. Богоборческий
«двойник» Версилова, посягающий на святой образ, является эманацией
его хлынувшей языческой стихии. Этот смысл должен послужить нам
ориентиром в поисках первоисточника указанного «исключительного» и
«необычного», по словам критиков, мотива у Достоевского.
Исследователи считают, что его появление было спровоцировано
статьей Д. В. Извекова «Один из малоизвестных литературных про­
тивников Феофана Прокоповича», опубликованной в журнале «Заря» в
1870 г. В статье воспроизводится полемика Дмитрия Кантемира с Фео­
фаном Прокоповичем по поводу Катехизиса Прокоповича (написанного
в 1720 г. по приказанию Петра 1). В Катехизисе автор позволял себе ряд
насмешливых суждений относительно икон. Кантемир, со своей сторо­
ны, развернул аргументацию в защиту иконопочитания [см. коммент.
к т. 17: 272]. Не отрицая возможность подобного толкования, я думаю,
что первопричины этого явления уходят корнями значительно глубже,
так как иконоборческие мотивы можно встретить и в произведениях, со­
зданных задолго до «Подростка». По всей вероятности, иконоборческие
сюжеты у Достоевского (не только в «Подростке», «Бесах», но и в ос­
тальных романах) восходят к самому уважаемому и авторитетному для
русской богословской мысли сочинению упомянутого преп. Иосифа Волоцкого — трактату «Просветитель». Оно ярче всего свидетельствует о
пробуждении и первом проявлении угрожающей и неслыханной по сво­
ей силе богоборческой языческой стихии в русском народе в лице вероотступников-жидовцев. Вот один из многочисленных примеров: «А один
из них (еретиков. — Н. #.), по имени Алексейко Костев, вытащил из ча­
совни икону Пречистой Богородицы, честного и славного Ее успения, и
бросил на землю, и стал спускать на нее свою скверную воду. Другой же,
по имени Самсонко, пришел к попу Науму, а у Наума в избе стоит икона
Пречистой; и Самсонко сказал Науму попу: "Возьми икону да ударь ее о
землю", — и поп взял икону и ударил ее о землю; Самсонко, взяв поло­
винки иконы, поставил... а поп Наум, взяв ту же икону, ударил о пол еще
36
Г л а в а 1 •Достоевский и ортодоксальное богослужение
раз». Описывая потом еще много случаев святотатственного надругания
над святыми иконами, автор подчеркивает: «И осквернения эти совер­
шали не только те, имена которых я назвал, но так делали все, кто укло­
нился в жидовство» [Иосиф Волоцкий, 1993: 348-349]. Сочинение преп.
Иосифа было отпечатано в полном объеме в 1857 г. и не могло не при­
влечь внимания Достоевского, тем более если иметь в виду повышенный
интерес писателя в период после каторги к святоотеческому наследию,
и особенно к русской патристике19. Следовательно, иконоборчество Версилова надо рассматривать в связи с древней русской иконоборческой
традицией.
Сложные идейные и композиционно мотивированные функции вы­
полняют также сакральные изображения в других произведениях Досто­
евского, особенно в романах «Преступление и наказание» и «Идиот».
Невозможно отделить «ангельский» духовный образ Алеши Кара­
мазова от важнейшего воспоминания детства: мать, рыдающая перед Бо­
городичной иконой. Это воспоминание сохранилось как «светлая точка»
среди мрака [14: 18], освещающая его жизненный путь. С иконой нераз­
рывно связан и загадочный образ героини повести «Кроткая», которая
выбросилась из окна, обняв икону Богородицы и оставив после себя за­
кутанными в таинственный мрак настоящие причины самоубийства.
Немаловажная деталь рассматриваемой проблематики — отношение
Достоевского к каноничности иконного образа. Это сложный вопрос, объ­
емный, связанный с глобальной теорией виртуального образа, требующий
специальной разработки, что выходит за рамки данного исследования. Но
я позволю себе акцентировать внимание на некоторых моментах, связан­
ных как со сказанным ранее, так и с обсуждением дальнейшей тематики.
27 декабря 1877 г. Достоевский вместе с А. Ф. Кони посетил колонию
для малолетних преступников на Охте (по сведениям Кони, это произош­
ло летом 1877 г.). Они, естественно, посетили и церковь — она была пол­
на старообрядческих икон, выброшенных со складов бывшего суда, где
они хранились как вещественные доказательства и остались потом невос­
требованными. «С икон, развешанных по стенам, смотрели коричневые
лики и тощие условные фигуры старого письма, в одеждах "празелень"
и с бородами "до чресл", окруженные неправдоподобными горами, среди
которых ютились не менее странные города и обители. Но иконостас был
новый, расписанный красивыми традиционными изображениями во вкусе
итальянской школы. Когда мы поехали назад в город, Федор Михайлович
долго и сосредоточенно молчал, а затем мягко сказал мне: "Не нравится
мне эта церковь. Это музей какой-то! К чему это обилие образов? Для того
37
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
чтобы подействовать на душу входящего, нужно лишь несколько изобра­
жений, но строгих, даже суровых, как строга должна выть вера и суров
долг христианина... в иконостасе обыкновенно образа неискусного, но
верного преданиям письма. Тут же в нем все какая-то расфранченная италъянщипа". Нет, не нравится мне церковь...» [Кони, 1990: 243].
Это свидетельство особо показательно. Тонкая православная интуи­
ция Достоевского улавливает проявления процесса, оставшегося в боль­
шой степени скрытым для официального религиозного сознания, про­
цесса, характеризующегося экспансией со стороны католического мира
на православие. Влияние этого процесса в XVIII—XIX вв. выражалось
перевесом прежде всего в области зримого образа. Вот что пишет выда­
ющийся современный исследователь иконы Леонид Успенский: «...один
и тот же образ в течение нескольких веков господствовал как в римокатоличестве, так и в Православии. Он вытеснил на второй план образ
церковный, заменив его искусством, которое выражало некое общее по­
нятие христианства, было религиозным вообще... Когда же Православие
приобрело широкую известность, то оказалось, что свидетельством его
и его показанием является не заимствованное религиозное искусство, а
именно его собственная православная икона. Это религиозное искусство
западного типа, вершиной которого был Ренессанс (и которое на самом
Западе потерпело крушение), перенесенное на православную почву, ока­
залось несовместимым с Церковью, несовместимым ни с ее учением, ни
со святоотеческим Преданием» [Успенский Л., 1989: 449].
Парадоксальным образом именно старообрядчество, в силу своей
консервативности и «огражденности» от внешнего мира, успело сохра­
нить в иконе характерную для раскола символическую связь с прообра­
зом. Как выяснилось, Достоевский не выступает защитником старооб­
рядческого сектантства, но с исключительным чутьем и прозрением ка­
тегорически высказывается в пользу «старой иконописи» и против вли­
яний «расфранченной итальянщины», искажающей сакральный образ.
Не случайно Успенский сразу же подтверждает свои слова цитатой из
«Великого инквизитора» Достоевского, в которой раскрываются настоя­
щие причины бездуховной трагедии Запада, давно уже потерявшего чис­
тоту Божественного образа: «Вместо твердого древнего закона, — сво­
бодным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что
зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою, — но неужели ты
не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и
Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода
выбора?» [14: 232].
38
I л а в а 1 • Достоевский и ортодоксальное богослужение
Мне кажется, что в связи с этим необходимо пересмотреть укоренив­
шееся и в наши дни мнение о преклонении Достоевского перед высоки­
ми достижениями западного искусства — готической архитектурой, ма­
донной Рафаэля и т. п. Эту сложную проблему нельзя решить однознач­
но. Бесспорно, существует множество сведений, подтверждающих этот
тезис [см.: 28, кн. 2: 52, 319, 333 и др.; Достоевская, 1971: ч. 4: //, VI],
но есть и факты, опровергающие его. Например, в письме А. Майкову
15(27) мая 1869 г. из Флоренции Достоевский ясно противопоставил
Древнюю Русь Западу эпохи Ренессанса. Иконы и «деревянная изба вмес­
то дворца» князя Ивана III, где полагается «великая идея о всеправославном значении России» и об обновлении христианства, являются полной
противоположностью загнивающему Западу, исказившему учение Хрис­
та и породившему атеизм. Как раз этот смиренный, «кенозисный» образ
Святой Руси писатель воздвигает как контрапункт XV и XVI столетию в
Европе — столетию «Италии, папства, искусства храмов, Рафаэля, пок­
лонения Аполлону Бельведерскому, первых слухов о реформе, о Лютере,
об Америке, об золоте... об атеизме, о правах человечества, сознанных
по-западному, а не по-нашему» [29, кн. 1: 40-41].
Очевидно, что отношение Достоевского к западному искусству, и
в частности к римо-католической концепции визуального религиозного
образа, аитиномично. С одной стороны, готика и мадонна Рафаэля явля­
ются для писателя высшими достижениями человеческого разума и спо­
собностей, но с другой — он прекрасно понимает, что картина не ико­
на, и перед Сикстинской Мадонной нельзя молиться так, как, например,
перед образом Влахернской Богоматери [29, кн. 1: 40]. Потому что поэт
(художник, и тем более иконописец) «не творец» сам по себе [Там же: 39].
Иначе он был бы должен отражать «во множестве индивидуальных ин­
терпретаций религию» [Успенский Л., 1989: 449], а не представлять объ­
ективно Откровение Св. Духа, живущего в Церкви, Откровение, чисто
отражаемое в духовном зеркале св. отцов, которые являют собой то, что
должен изобразить иконописец [Там же: 384]. Иными словами, Достоев­
ский проявлял к готическому храму и рафаэлевой Мадонне (и вообще к
культуре Ренессанса) эстетическую, а к иконе и православному храму
религиозную интенциональность20 — их ни в коем случае нельзя путать.
Я приведу теперь свидетельство, психологически очень верно рас­
крывающее то, каково воздействие западного религиозного образа в ду­
ховном, молитвенном плане. Это свидетельство из личного опыта про­
тоиерея Сергея Булгакова, полученного в результате двух его встреч с
Сикстинской Мадонной. Сначала С. Булгаков описывает эпизод того пе39
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
риода своей жизни, когда он был неверующим марксистом, и картина
произвела на него сильное не только художественное, но прежде всего
эмоциональное впечатление: он увидел в ней образ Мадонны. Вторая
встреча произошла уже после того, как он стал православным священни­
ком. Снова увидев Сикстинскую Мадонну, он пишет:
С трудом от волнения поднимаю глаза. Первое впечатление было, что я
не туда попал, и передо мной не Она. К чему таить и лукавить? Я не увидел
Богоматери. Здесь — красота, лишь дивная человеческая красота, с ее религи­
озной двусмысленностью, но... безблагодатность. Молиться перед этим изоб­
ражением? — да это хула и невозможность! ... Это, может быть, даже не дева,
а просто прекрасная молодая женщина, полная обаяния, красоты и мудрости.
Нет здесь девства, а наипаче Приснодевства, напротив, царит его отрица­
ние — женственность и женщина, пол. В ведении этого соотношения — осле­
пительная мудрость православной иконы: я наглядно почувствовал и понял,
что это она обезвкусила для меня Рафаэля вместе со всей натуралистической
иконографией, она открыла глаза на это вопиющее несоответствие средств и
заданий. В аскетическом символизме строгого иконного письма ведь заключа­
ется прежде всего сознательное отвержение и преодоление этого натурализма
как негодного и неуместного и просвечивает ведение сверхприродного, благо­
датного состояния мира. Поэтому икона не имеет отношения к портретности,
ибо в ней неизбежно таится натурализм, к которому роковым образом влечет­
ся религиозная живопись. И вот почему последняя никогда не достигает цели,
если видит свое достижение в религиозном, а не в живописном эффекте...
Этим определяется судьба всего Ренессанса как в жипописи, так и в скульпту­
ре и архитектуре. Он создал искусство человеческой гениальности, но не ре­
лигиозного вдохновения. Его красота не есть святость, но то двусмысленное,
демоническое начало, которое прикрывает пустоту. Про эту красоту Ренес­
санса нельзя сказать, чтобы она могла «спасти мир», ибо она сама нуждается
в спасении. Ведь то, что с такой остротой я почувствовал в Сикстине, это же
самое имеет силу для всей религиозной живописи Ренессанса. Вся она есть
очеловечение, обмирщение Божественного: эстетизм — в качестве мистики,
мистическая эротика — в качестве религии, натурализм - - как средство ико­
нографии [Булгаков, 1946: 106- III].
Я позволил с е б е привести эту пространную цитату, так как мне ка­
жется, что она наиболее точно объясняет с л о ж н о е противоречивое отно­
шение, выраженное Д о с т о е в с к и м к эстетическому и сакральному образу
и его воплощению в иконографии Востока и Запада.
40
Глава
1 • Достоевский и ортодоксальное
богослужение
Теперь мне придется отойти от чисто экзистенциальных измерений
проблемы иконопочитания писателя, чтобы обратить внимание на вопрос,
скорее всего, литературно-теоретического характера, который, однако,
находится в прямой зависимости от сказанного здесь. Он состоит в том,
что икона оказывает конкретное влияние и на эстетические принципы ав­
тора как таковые, т. е. находится в связи с решением одного из наиболее
сложных вопросов, перед которыми стоит теория литературы, — вопроса
о принципах поэтики Достоевского. Изложенный коротко, он звучит так:
в достоевсковедении существуют две замечательные попытки разгадать
сложную поэтику, на основании которой строится художественный мир
писателя. Первая — известная теория М. М. Бахтина о полифоническом
романе. Согласно ей, автор «Братьев Карамазовых» создает «множест­
венность самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний», «подлин­
ную полифонию полноценных голосов» [Бахтин, 2004: 3]. Более того —
это «множественность равноправных сознаний с их мирами», т. е. «слово
(и идея. — И. Н.) героя о себе самом и о мире так же полновесно, как
обычное авторское слово (и идея. — Н. Я.)» [Там же: 4]. Бесспорно, ут­
верждение Бахтина можно считать обоснованным, но только в некоторой
степени, потому что оно так и не дает ответа на вопрос о том, как сохра­
няется художественное единство произведения. Такая позиция, доведен­
ная до предела, без сомнения, разрушила бы это единство, что очевидно
противоречит эстетическим фактам. Почему, например, при чтении ро­
манов Достоевского у нас не возникает ощущения распада, деиерархизации, какофонии неслитных голосов, а наоборот — как раз полифонии как
гигантской организованной симфонии равноправных голосов и идей?
Другой исследователь, В. Е. Ветловская, делает знаменательную по­
пытку разрешить это противоречие, стремясь доказать, что голос автора
совершенно преднамеренно манипулирует нашим восприятием героя че­
рез способ его представления, реакцию остальных участников, внушаю­
щую доверие или недоверие к нему, совокупность сведений, подтвержда­
ющих или отрицающих достоверность сообщения и т. п. «В этом смысле
повествование от имени рассказчика ничем не отличается от авторского
повествования, которое также выбирает, группирует и оценивает явления
и в самой своей сути всегда монологично» [Ветловская, 1977: 47]. Эта
теория вполне противоположна «полифонической», и в своих крайних
монологических проявлениях также не отражает реальных эстетических
фактов, так как творческий прием Достоевского, очевидно, далек от чис­
то монологического типа повествования. Слагается такое ощущение, что,
по всей вероятности, поэтика писателя воплощает в себе особую мен41
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
тальность, которая парадоксальным образом сочетает в монологическое
единство полифоническую многоаспектность. Этот антиномизм находит
свое объяснение, вытекающее из целей, которые Достоевский ставит пе­
ред собой. Самую важную цель он формулирует словами «образить че­
ловека», т. е. «дать образ, восстановить в человеке образ человеческий»
[24: 126]. Иными словами, цель состоит в том, чтобы «найти в челове­
ке человека» [27: 65]. Эта творческая концепция конкретно восходит к
святоотеческой идее об «оглавлении» (аушшраХшмац) человека Богом с
целью восстановить в нем «образ и подобие Божие» [см.: Ириней Лион­
ский, 1978: 688]. Именно попытка показать Божественный образ (erej3i)
в человеке связывает поэтику Достоевского с фундаментальными при­
нципами ортодоксальной иконографии.
Вопрос о восхождении основополагающего в эстетике писателя по­
нятия «восстановление» к ортодоксальной концепции avaKEpaXaiwaiq
будет специально рассматриваться далее. Здесь он только намечается в
связи с конкретной проблематикой. Вот что я имею в виду.
Как известно, в иконе отсутствует строгий принцип линейной перс­
пективы. При построении сакрального образа отсутствует точка зрения
самого иконописца. Построение образа основано на так называемой
обратной перспективе, или, точнее, в нем преобладает «разноиентричность в изображениях: рисунок строится так, как если бы на разные
части его глаз смотрел, меняя свое место». Будто каждый объект в ико­
не изображен «с своей особой точки зрения, т. е. со своим особым цен­
тром перспективы» [Флоренский, 1993, гл. 1, 2]. Этим икона отличается
от западной картины эпохи Ренессанса, подчиняющей видимое закону
оптической перспективы, наложенной автономным разумом художника
[см.: Успенский Л., 1989: 442], т. е. картина дает одну только точку зре­
ния — авторскую. Средневековая икона и картина «нового времени» —
продукты двух разных типов мышления. Если гуманистическое мировоз­
зрение является «мерой всех вещей в мире», то такое отношение к бытию
немыслимо, даже кощунственно для иконописца, потому что ограничи­
вает свободу чужой личности. Оно ставит в центр мира не автономную
человеческую перспективу, а бесконечное многообразие, «многоцентричность» творческих энергий, вытекающих из Божественного центра,
выражая таким образом идею всеприсутствия Творца в мире.
Как раз этот настрой не только глубоко присущ личному религи­
озному сознанию Достоевского, но и формирует его творческое мыш­
ление, превращается в креативный принцип. Подобно иконописцу, пи­
сатель отвергает возможности наложения одной только (с точки зрения
42
Г л а в а 1 'Достоевский и ортодоксальное богослужение
автора или кого-нибудь из героев) идеологической перспективы. Такое
решение неприемлемо, так как свидетельствовало бы об «эвклидовом
разуме» (его же словами). Но бесспорный полифонизм — это только
одна из сторон созданного Достоевским художественного мира. Дру­
гая — осязаемое монологическое начало, не допускающее распада на
«многогласные» элементы. И это начало ни в коем случае не монологи­
ческая гегемония сознания, идеи или голоса автора (как, впрочем, и не
диктат сознания, идеи или голоса кого бы то ни было из художественных
персонажей), а присутствие этого неуничтожимого образа «человека в
человеке», утверждающего достоинство личности. Свободным актом
приближения, отдаления или отвержения со стороны героя объективно­
го, существующего в его богоподобной душе образа усиливается, зати­
хает или иссякает навсегда (например, в акте самоубийства) сознание,
голос или идея.
Потому, например, голос Алеши Карамазова в конце романа звучит
совсем не с той силой, что и голос сошедшего с ума брата Ивана или
умолкшего навсегда Смердякова. Потому и голос Мити Карамазова все
более усиливается, и крепчает в нем спасительная идея-чувство, что он
созвучен со все яснее раскрывающимся в его душе человеческим образом.
Практически никто из героев Достоевского не составляет исключения из
этой зависимости. В этом намечается естественная закономерность, ко­
торая провоцируется свободным выбором человека и не является следс­
твием тенденциозных намерений автора, а вытекает из самих устоев бы­
тия. Вот почему парадоксальный «многоголосый монологизм» — самая
характерная черта художественного мира Достоевского. Она вытекает из
в совершенстве воплощенного в его поэтике антиномического принци­
па иконографии — «единства во множестве», который лежит в основе
православной соборной ментальности вообще и который наиболее полно
отражается и внушается священным образом иконы. В этом смысле раз­
личные идеолого-мировоззренческие перспективы, которые несут в себе
герои Достоевского, с одной стороны, напоминают многоаспектность
иконографического изображения, но, с другой, единство как иконы, так
и художественного мира писателя, которое поддерживается общим суб­
станциальным центром. Для сакрального изображения это Божественная
Личность; единым же критерием для романов Достоевского является сте­
пень раскрытия «человека в человеке», т. е. приближение героев к этому
таинственному центру личности, отражающему в себе образ и подобие
Божие.
43
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
ф
9
9
Итак, я снова возвращаюсь к чисто экзистенциальным измерениям
проблемы отношения писателя к элементам ортодоксальной ритуаль­
ности.
Еще начиная разговор об иконе, я упомянул, что все богословские
проблемы и богослужебные действия (т. е. весь комплекс православно­
го вероучения) связаны со священным образом. Сказанное относится в
большой степени и к молитве. Не считаю необходимым излагать подроб­
но суть этого вопроса, так как я уже остановился частично на некоторых
существенных моментах вроде молитвенной практики Достоевского и
любимых молитв, сопутствовавших ему в течение всей жизни, тем более,
что уже есть исследование, в котором пространно описаны многочислен­
ные факты из жизни писателя, свидетельствующие о насущной его пот­
ребности в молитвенном общении [см.: Лосский Н., 1994: 36, 37, 41, 57,
69 и др.]. Как правильно отмечается в указанном исследовании, «религи­
озность Достоевского всегда была... конкретною и никогда не падала на
степень абстрактного протестантского спиритуализма» [Там же: 65]. То
же самое относится и к его молитве. Она имеет неизменно православный
образ, который соответствует или направлен к конкретнему лику, будь то
Иисус Христос, Богородица или святые.
Все еще, однако, распространено сомнение, что бесспорное прекло­
нение Достоевского перед иконными изображениями святых не включа­
ет в себя почитания их мощей. Поводом для такого соблазна является
знаменитая сцена в «Братьях Карамазовых», в которой описано действие
тлетворного запаха, исходившего от тела умершего святого старца Зосимы. Предугадывая подобное впечатление, сам Достоевский подчерки­
вает в письме Н. А. Любимову следующее: «Одно маленькое Nota bene
на всякий случай: не подумайте, ради Бога, что я бы мог себе позволить
в сочинении моем хотя малейшее сомнение в чудодействии мощей.
Дело идет лишь о мощах умершего монаха Зосимы, а уж это совсем
другое. — Подобный переполох, какой изображен у меня в монастыре,
был раз и на Афоне и рассказан вкратце и с трогательною наивностью в
"Странствовании Инока Парфения"» [30, кн. 1: 126 ]21. В романе Досто­
евского словами монастырского библиотекаря, кроткого иеромонаха Ио­
сифа, с православной точки зрения высказана суть вопроса о нетлении
мощей как о критерии святости: «...не догмат же какой в православии
сия необходимость нетления телес праведников, а лишь мнение, и что в
самых даже православных странах, на Афоне например, духом тлетвор44
Г л а в а 1 • Достоевский и ортодоксальное богослужение
ным не столь смущаются, и не нетление телесное считается там главным
признаком прославления спасенных, а цвет костей их... если обрящутся
кости желты, как воск, то вот и главнейший знак, что прославил Господь
усопшего праведного; если же не желты, а черны обрящутся, то значит не
удостоил такого Господь славы...» [14: 300]22.
Следовательно, в «Братьях Карамазовых» описание разложения
тела не противоречит каноническому православию, а преследует иную
цель — оно связано с проблемой веры в чудотворную силу мощей. Тле­
ние отца Зосимы для многих является «опасным соблазном» — раскры­
вает скудость их веры, опирающейся только на доказательство, которое
дает им внешнее, чувственно осязаемое чудо. Для них чудо видимо от­
сутствует, и это колеблет устои их неглубокой веры. Для их колебаний
были бы основания, если бы настоящее благодатное откровение внут­
реннего духовного чуда не раскрывалось так ярко в следующей главе ро­
мана — «Кана Галилейская». Не случайно в том же письме Любимову
Достоевский определяет эту главу как «самую существенную во всей
книге, а может быть, и в романе» [30, кн. 1: 126]. Ее можно считать
апологией духовного чуда, соприкосновения души с «иными мирами»,
оставшегося незримым для плотских очей, но реально преобразующего
человеческий лик в личность. После благодатной помощи Алеша Кара­
мазов уже не тот, «пал он на землю слабым юношей, а встал твердым на
всю жизнь бойцом» [14: 328]. Твердость эта нужна «русскому иноку»,
который покидает тихое лоно монастыря, чтобы «пребывать в миру».
В этом смысле автор от отрицания переходит к защите мощей и вере в
их чудотворную силу.
Молитвенное преклонение Достоевского перед святыми церкви не
исчерпывается почитанием их икон и мощей, т. е. видимого образа, но
дополняется также исключительным интересом автора к писаниям свя­
тых отцов и является своеобразным поклонением перед их словесным
образом. О неразрывной связи между словом и образом — превращении
Слова в Образ (при Боговоплощении) и образа в слово (при обожении
тварей) как наиболее характерной особенности новозаветной традиции
пойдет речь впоследствии. Теперь я только хочу заострить внимание на
факте, что Достоевский, несомненно, знал и целенаправленно изучал
огромное святоотеческое наследие — факт, которым долгое время пре­
небрегали исследователи и который имел фундаментальные последствия
для его творчества, особенно в период после каторги23.
Знание православной христианской литературы (впрочем, и като­
лической и протестантской), а также усердное участие в богослужебной
45
Часть
I • Ф. М Достоевский и православие
практике формируют у Достоевского обширную глубокую духовную
культуру в области догматики и литургики. Она дает ему возможность
компетентно относиться к широкому кругу вопросов, принадлежащих
любой точке пространства догмато-литургической ортодоксии. Это каса­
ется не только проблем общего вероучительного характера, но и специфи­
ческих вопросов, предполагающих детальные познания и исключающих
любые предположения о дилетантстве. Довольно припомнить, например,
спор Достоевского со «специалистом и экспертом в православии», как он
иронически называет Н. С. Лескова, о возникновении и введении духов­
ной одежды столпов русской церкви. Достоевский блестяще и фактологи­
чески аргументированно защитил свою позицию, чем еще на этом этапе
опроверг позднейшие утверждения Лескова о его недостаточной «бого­
словской образованности» и «начитанности в духовной литературе»24.
#
#
ф
До каких деталей доходят познания Достоевского в области литур­
гии, дают представление примечания в записной тетради за 1880-1881 гг.:
«Голос Василия Великого. Исправить богослужение» [27: 66]. Такое же
примечание — «Исправить богослужение» — является и в подготови­
тельных материалах к «Дневнику писателя» за 1881 г. [Там же: J91]. Спе­
циалисты считают, что писатель намеревался высказать свое отношение
по сложному вопросу о перенесении в литургию св. Василия Великого
из литургии св. Ионна Златоуста слов «преложив Духом Твоим Святым»
(произносимых, когда призывается пришествие св. Духа для освящения
даров и претворения их в пречистое Тело и пречистую Кровь Иисуса
Христа). Эта практика отличает русское богослужение от служб право­
славного Востока [см.: 27: 345-346]25.
Другие конспективные записки свидетельствуют о том, что Достоев­
ский был знаком в подробностях и с конкретными богослужебными тек­
стами. Особое внимание обращает он к св. Андрею Критскому, чей «Ве­
ликий покаянный канон» рекомендует «всем оторвавшимся... от народа»
и увлекшимся фальшивым европейским гуманизмом [24: J84]. «Прочти­
те "Канон" Андрея Критского, — советует писатель, — и просветитесь.
Народ много таких молитв знает, а не знает, так слушает» [Там же: 195].
Достоевский неоднократно упоминает в своих записках также Божествен­
ную литургию св. Иоанна Златоуста, из «Слова на Св. Пасху» которого
он извлекает буквальные цитаты. Например: «Где, смерть, твое жало, где,
аде, победа?» [Там же: 202]. Выражение «ничтоже сумняшеся», первоис46
Г.i а в а 1 • Достоевский и ортодоксальное
ooroc.iy.vcenue
точник которого — Соборное послание ап. Иакова: «Но да просит с ве­
рою, нимало не сомневаясь» [Иак., 1:6] — восходит у писателя к словам
св. Иоанна Златоуста: «Аще кто лишися и девятаго часа, да приступит,
ничпюже сумняся, ничтоже бояся» [Пентикостарион, 1893: 16]. Такое
толкование бесспорно, поскольку те же слова св. Иоанна буквально пов­
торяются в рукописных редакциях «Братьев Карамазовых» [см.: 15: 243].
Но автор «Бесов» не ограничивается только изучением ортодок­
сальной литургии, а интересуется и протестантским богослужением,
богослужением в Англии и т. д. [см.: 24: 167]. Это не случайно, так как
для Достоевского богослужение выражает суть веры и души народа.
Оно является и главным источником его духовного образования. Аполо­
гия православия находит у писателя основание в том факте, что «у нас
есть великая школа богословия, это наша обедня, открытая для всех»
[Там же: 123]. Литургия как центр ортодоксального богослужения пред­
ставляет в синтезированном виде суть самого православия.
Вполне естественно и закономерно то, что Достоевский относит­
ся положительно и ко всем службам частного богослужения. Рассуж­
дая о бессмертии человеческой души, он отмечает в своем дневнике за
1863-1864 гг. огромный смысл панихиды и возгласа «Вечная память!»
для души как осуществления трансцендентной связи между мирами
[см.: 20: 174]26.
Так же положительно относится писатель и к молебну, какой слу­
жили и по особым случаям в семье Достоевских (день рождения сына
Феди или покупка нового дома в Старой Руссе [см.: 29, кн. 2: 106, 259]).
Для Достоевского эти службы — не формальность, они имеют сакраль­
ное значение в его жизни. Поэтому он особо настаивает на их канонич­
ности. В связи с этим ощутимо его смущение, когда он сообщает Анне
Григорьевне, что П. И. Ламанский покончил жизнь самоубийством, но
похоронен по христианскому обычаю [см.: 29, кн. 2: 9].
Так объясняется и страстная его защита церковнославянского языка
как священного языка православного богослужения, а обвинение «либе­
ралов», что он неудобопонятен «простолюдину», Достоевский считает
«самым колоссальным обвинением на нашу церковь» [26: 152].
Ф
Ф
Ф
От защиты богослужения Достоевский переходит к апологии самого
храма, так как он является, наряду с богослужебной практикой, вторым
важным элементом храмово-лигургического единства. «Я утверждаю,
47
Часть
1 • Ф. Л/. Достоевский и православие
что наш народ просветился уже давно. Все знает, все то, что именно нуж­
но знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился .же в.хра­
мах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей»
[26: 151]. Потому и любое небрежное отношение к святости храмоволитургического действия возбуждает полемический дух Достоевского.
Разочарованный несерьезным поведением светской толпы в храме, он
пишет Анне Григорьевне: «Я был в Духов день в русской церкви, народу
много, больше, чем я ожидал, но все Бог знает кто. Дамы жеманничеют,
садятся на стульях и падают в обмороки. При мне в церкви три упали в
обморок (от ладану и от духоты будто бы), а небось на бале пропляшет
всю ночь или такой наворотит обед, что и двум мужикам было бы в сы­
тость. Гадко» [29, кн. 2: 36].
Достоевский особо остро реагирует на любое демонстративное или
провокационное посягательство, направленное против храма как народ­
ной святыни. Не случайно это основной момент в его письме к студентам
Московского университета (18 апреля 1878 г.): «Прошлую зиму, в казан­
скую историю нашу, — пишет он, — толпа молодежи оскорбляет храм
народный, курит в нем папироски, возбуждает скандал. "Послушай­
те, — сказал бы я этим казанским (да и сказал некоторым в глаза), — вы
в Бога не веруете, это ваше дело, но зачем же вы народ-то оскорбляете,
оскорбляя храм его"» [30, кн. 1: 23]. Достоевский, однако, видит в этом
поведении не просто случайную юношескую шалость, а привнесенную
извне «доказанную политическую демонстрацию», так как многие из ее
участников — евреи и армяне, т. е. представители религиозно-этничес­
ких групп, враждебных православию27.
Защита храма как сакрального пространства вытекает из факта, что
как раз в нем (и это особенно важно подчеркнуть) дается «просвеще­
ние» — «то есть свет духовный, озаряющий душу, просвещающий сер­
дце, направляющий ум и указывающий ему дорогу жизни» [26: 150]. На
этом сосредоточена вся вера Достоевского, потому что «просвещение»
означает «озарение души» «духовным светом», т. е. ее осветление (ос­
вещение, освящение), очищение от духовного мрака, затемнившего Об­
раз Христов — иными словами, возвращение образа и подобия Божия
в человеке. И так как православие одно сохранило «Божественный Лик
Христа во всей чистоте», ортодоксальным храмом и литургией этот
образ «просвещается» и «озаряется» в душе верующего народа. Из
этого вытекает «предопределение Востока» — спасти Запад, вернув
незапятнанный образ Христов потонувшему в духовном мраке и «по­
терявшему пути свои» человечеству [21: 59; см. также: 26: 75/]. В этом
48
Г л а в а I • Достоевский и ортодоксальное
богослужение
состоит венец веры, надежды и любви писателя — суть profession de
foi (символа веры), на это направлен и весь гуманистический пафос его
творчества.
Из изложенной здесь фактологической картины (которая не пре­
тендует на исчерпывающую полноту) вытекает несколько выводов.
Во-первых, несомненно подтверждается ортодоксальная догмато-литургическая каноничность поведения Достоевского и отношения его к
историческим формамам православия. Суть здесь сводится не просто
к «лояльности», как считает Н. А. Бердяев, прибавляя, что «он [Досто­
евский] даже готов признать все старые формулы. Но новый дух вкла­
дывает в них» [Бердяев, 1923: 237]. Речь идет об отдаче, о жизни в
вере, такой, какой она завещана Преданием Церкви. Вопрос касается,
наконец, любви к добытому веками драгоценному достоянию, «кото­
рое надо бы разъяснить этому темному народу в его великом истинном
смысле, а не бросать в землю, как ненужную старую ветошь прежних
веков» [25: 11].
Во-вторых, изложенные факты не соответствуют некоторым тезисам
представителей «русского религиозного ренессанса» и «новых Богоиска­
телей» о том, что с Достоевским «связаны все формы неохристианства»
[Бердяев, 1923: 220] или что он был далек от церковного православия, что
он «империалист» и приходит к признанию языческого, антихристова
начала государства [см.: 1Мочульский, 1995: 294, 545 и мн. др.]. Парадок­
сальным образом эти радетели нового, по-настоящему жизненного хрис­
тианства, отвергающие «окостеневшие исторические формы правосла­
вия», изначально связаны со строгим «церковником» К. Н. Леонтьевым,
утверждающим, что Достоевский «в то время, когда писал "Преступле­
ние и наказание", очень мало о настоящем (то есть о церковном) христи­
анстве думал» [Леонтьев, 1992: 50]. Не желая недооценивать безусловно
значительный вклад этих и близких им исследователей в разгадывание
сложного мира Достоевского (я опираюсь на их наблюдения в своем ис­
следовании), я все же считаю, что их преднамеренное отношение к такой
узловой проблеме, как Достоевский и православие, создает, с одной сто­
роны, ряд фальшивых мифов и вольных мнений о писателе, распростра­
ненных и по сей день, с другой же стороны, мешает в целом адекватности
интерпретации, приводя к субъективизму и значительным отклонениям в
юл ковании некоторых его художественных образов и идей. Я думаю, что
нет большего камня преткновения для критиков, нежели непонимание,
пренебрежение или недооценка ортодоксального догмато-мистического
49
Часть
1 • Ф. Л/. Достоевский и православие
влияния на личность Достоевского, а следовательно, и на его художест­
венное творчество.
В-третьих, изложенные факты свидетельствуют о том, что проник­
новение в суть религиозной ментальности писателя возможно только в
аспекте исторической ортодоксии, т. е. при рассмотрении религиозного
мировоззрения в контексте православия, от которого оно неотделимо.
Без выяснения этой проблемы художестенный мир Достоевского остался
бы труднодоступным для научного анализа, а адекватное прочтение его
произведений было бы в значительной мере затруднено.
Глава 2
Мировоззрение Ф. М. Достоевского
в свете православного учения
2.1. Антропология Достоевского
с точки зрения категории сновидения
Сновидение — важный элемент мировоззренческой системы Досто­
евского, которая, со своей стороны, полностью вписывается в контекст
христианского православного догматического комплекса. Надо подчер­
кнуть, что речь идет именно о мировоззренческой, а не о философской
системе, так как она органически присуща и неотделима как от личности,
так и от творчества писателя. Он не философ в строгом смысле этого
понятия28. Он закладывает основы русской идеалистической филосо­
фии XX века29, развивая и углубляя метафизический опыт и мышление
принципиально отличающимся путем — через художественную систему
своих романов. Поэтому очень точно суждение, что «Достоевский боль­
ше показывает, чем доказывает» [Флоровский, 1937: 300]. Использова­
нием эстетических средств для выражения категорий чисто трансцен­
дентального порядка он ближе к византийской религиозной практике30,
чем к древнегреческим или современным философским традициям31.
Изложенные соображения дают мне достаточные основания считать, что
медотологически выдержано решение начать объяснение категории сно­
видения именно с этого мировоззренческого контекста.
Сновидение у Достоевского тесно связано с основным вопросом
любого религиозного мировоззрения, а именно — с вопросом о бытии
Бога. Вот что пишет он А. Майкову 25 марта (6 апреля) 1870 г.: «Главный
вопрос, который проведется во всех частях32, — тот самый, которым я
мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существова­
ние Божие» [29, кн. 1: 117].
Достоевский живет в эпоху глобального кризиса гуманистическо­
го мировоззрения. Человек, оставшись наедине с самим собой, впал в
51
Часть
1 • Ф. М. Достоевский к православие
состояние тотальной безвыходности, потому что потерял веру в безгра­
ничную силу своего разума и уже не ощущает в себе силы быть мерой
всех вещей в мире. С другой стороны, разрушается средневековый тип
мышления. Человек медленно слепнет духом. «Небесная иерархия» рас­
творяется в бездонности материального мира. В лучшем случае о Боге
говорят как о трансцендентальной идее. Дитя своего века, «дитя неверия
и сомнения», Достоевский глубоко переживает весь драматизм и всю ка­
тастрофичность этого безвыходного состояния. Он пишет: «Жаждешь,
как "иссохшая трава", веры, и находишь ее... Каких страшных мучений
стоила и стоит мне эта жажда верить» [28, кн. 1: 176]. Для автора этих
строк поиск пути к Богу превращается в sine qua non — как для жизни
человека, так и для его бытия в целом. Достоевский стоит перед фун­
даментальной проблемой, перед последним вопросом, перед последним
ответом. Он предпринимает мучительный и в принципе бесконечный,
но спасительный богоискательский поход. Его изыскания — следствие и
продолжение тысячелетнего пути восточно-православного богословия, с
которым писатель знаком в деталях.
Опираясь на заложенную в Откровении возможность, христианская
догматика дает два глобальных метода достижения уверенности в сущес­
твовании бытия Божия. Их в обобщенном виде можно определить как
внешний и внутренний. Первый из них связан с рассудочным стремлени­
ем к изучению видимого мира как творения Бога. Второй — с сверхчувс­
твенной способностью, заключающейся в богоподобной природе духа
человеческого33.
Принципиальное объяснение проблемы отношения Достоевского к
внешнему методу доказывания бытия Божия дает нам спиритизм — фе­
номен, которым он интересовался. Если бы это явление принадлежало
трансцендентальной сфере духовного мира, то оно кардинально решило
бы ряд вопросов: о небесной иерархии, о бытии чистых духов, о бес­
смертии души, а тем самым — об онтологии Бога. Многие современни­
ки писателя искренне веровали в подобное чудесное разрешение. Спи­
ритизм превращается в настоящую религию для большой части высшего
русского общества. Однако еще при первом контакте с этой «новой ре­
лигией» Достоевский остался глубоко возмущен: «...я мало того что не
верю в спиритизм, но, кроме того, и вполне не желаю верить, — так что
никакие доказательства меня уже не поколеблют более никогда. Вот что
я вынес из того сеанса и потом уяснил себе» [22: 127]. Каковы причины
такого резкого отрицания? При более углубленном анализе проблемы
выясняется, что принятие спиритизма было бы духовным отступничес52
Г л а в а 2 • Мирово прение Ф. Л/. Достоевского в свете правоаавпого
учения
твом для писателя. Как правильно отмечают И. Л. Волгин и В. Л. Раби­
нович, исследовавшие эту проблему, для Достоевского спиритизм — это
материализовавшийся спиритуализм, поэтому и он отвратителен. Дух,
выходящий, чтобы поклониться призвавшей его публике, — уже не Дух
[см.: Волгин, Рабинович, 1971: J13]. Опасность для православия, кото­
рую Достоевский увидел в спиритизме как духовной форме сектант­
ского уклона, настраивает его полемически не только по отношению к
заблуждению светских кругов, но, как я уже отметил, и к легкомыслию
части православного духовенства. Но суть проблемы кроется глубже и
в несколько ином плане. Отрицание спиритизма, а частью и внешнего
метода Богопознания у него объясняется активной ролью рационально­
го сознания. Возможности человеческого разума, помимо того, что ог­
раничены, в большой степени и дискредитированы, как я уже отмечал.
Религиозный идеал Достоевского стоит так высоко, что каждый опыт
его доказывания эмпирическими фактами и научным их обоснованием,
как и любая форма наукоуподобления самого Бога, выглядят жалкой
профанацией. Большого мыслителя нельзя так легко ввести в заблуж­
дение. Давно и глубоко выстрадано его убеждение, что «эвклидов ра­
зум» бессилен найти ответ на вопросы о человеке, мире и Боге. Впрочем,
еще в 1838 г., споря с братом Михаилом, начинающий писатель говорит:
«Познать природу, душу, Бога, любовь — это познается сердцем, а не
умом» [28, кн. 1: 53]. При помощи образной антиномической форму­
лы, в которой «сердце» противопоставляется «рассудку», Достоевский
передает метафизическое содержание особо сложного характера. Этот
символ, заложенный глубоко в библейском тексте, используется право­
славной догматикой для кратчайшего выражения полной зависимости
внешнерассудочного от внутреннечувственного способа Богопознания.
«Полная зависимость есть такое условие, без которого первый способ
(внешнерассудочный. — Н. И.) сам по себе не имел бы надежной силы и
значения» [Силвестр, 1912, 1: 175].
Итак, если православная догматика символически настаивает на со­
четании двух методов, то Достоевский категорически выбирает сверх­
чувственный путь, чем объясняется и его высказывание, что «если б кто
мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что ис­
тина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, неже­
ли с истиной» [28, кн. 1: 176]. Здесь писатель близок к приписываемому
I ертуллиану высказыванию «Credo, quia absurdum est»34, которое состав­
ляет целое направление и превращается в общее место для большой час1
и христианской догматики. Если разум не может быть критерием исти53
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и прсиюсишис
ны, значит, он не может быть и достаточным основанием для веры. Отцы
эпохи Великих соборов считают, что у веры есть своя особая, независи­
мая от разума область. А разум должен соотноситься вспомогательно и
служебно с требованиями веры35. Еще ярче выявляется эта тенденция у
«великих каппадокийцев», оформивших ее в стойкий догмат36. Он лег в
основу русской православной доктрины новейшего времени37. Из сказан­
ного здесь можно сделать вывод, что акт Богопознания для Достоевского
осуществляется иррационально, и он локализован где-то внутри челове­
ка. «Вопросы», как он сам пишет, задаются во «внутреннем человеке»
[30, кн. 1: 17] — тем самым Достоевский придерживается догматической
формы «каппадокийского периода» [см. примеч. 39]. Благодаря тонкой
интуиции своего таланта начинающий писатель очень рано ощущает,
что если где-нибудь в мире есть загадка, то ее можно разгадать только и
единственно раскрыв тайны человека. Учась еще в инженерном учили­
ще, он пишет любимому брату: «Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее
надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори,
что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком»
[28, кн. 1:65].
Показательна способность Достоевского в нескольких словах выска­
зать то, что в принципе нелегко сформулировать и на десятках страниц.
Суждения такого характера изобилуют в корреспонденции писателя, но
приведенное выше действительно остается непревзойденным по силе
обобщения и пророчества для всего пути писателя.
Можно ли, однако, определить мир Достоевского как антропоцент­
рический? По-моему, нельзя утверждать, что человек находится в цен­
тре художественного космоса Достоевского38, правильнее было бы ска­
зать, что человек составляет этот космос, т. е. вне человека ничего нет.
Это давно отметили исследователи39. Антропоцентричен мир Ренессан­
са: там человек является мерой всего в мире, он природное существо.
В эпоху Средневековья дела обстоят по-иному. Исключительно антропо­
логическое сознание возможно только в христианском мире, когда весь
космос повернут к человеку. Мир трансцендентально интериоризируется в имманентной сущности человека, а не наоборот (человек экстериоризируется в мире). Это видно, как уже выяснилось, в принципиально
отличной антропологии иконографического образа, противоположной
антропоцентризму картины эпохи Ренессанса. Если икона — сакральное
средство трансцендентальной коммуникации в обоих направлениях, т. е.
обслуживает сущностные религиозные потребности,, причем эстетика
остается только средством, то эстетический эффект картины эпохи Ре54
I л а в а 2 • Мироао прение Ф. М Достоевского в сеете принос юапо.'о учения
нессанса превращается в самоцель и является следствием субъективного
художественного произвола и эмансипации искусства. В этом смысле у
Достоевского не присутствует ни один из характерных элементов искус­
ства Ренессанса или вообще искусства эпохи Гуманизма. Последние его
романы строятся исключительно способами средневекового христианс­
кого антропологизма. Я не буду здесь более углубляться в эту проблему,
так как это отклонило бы меня от конкретных вопросов, которые ставят­
ся в этой главе, но к фундаментальной проблеме буду возвращаться и в
других местах настоящего исследования.
К данному моменту можно сделать предварительный вывод, что
процесс Богоискательства у Достоевского переплетается с его антро­
пологией. Писатель сознает, что в современном мире человек является
единственным существом, через которое можно получить представление
о Божием бытии. Иными словами, он убежден, что проблему Бога мож­
но решить, только решив проблему человека. Как объяснить, однако, его
постоянное стремление «найти человека в человеке»?
Новая задача, которая возникает на данном этапе, — объяснить эту
наиболее характерную черту антропологии Достоевского — постоянный
интерес к «внутреннему человеку». Известно, что отношение между обе­
ими субстанциями — телом и душой — является основной проблемой
христианской антропологии и догматики. Она весьма сложна и объемна.
На ней частично придется сосредоточиться в дальнейшем ходе исследо­
вания; здесь я остановлюсь только на наиболее характерных моментах,
касающихся интересующей нас проблематики.
Основные характеристики человеческого существа определяются
связью материального и духовного. Эти две субстанции составляют вне­
шнюю и внутреннюю его архитектонику и описывают, соответственно,
сферы «внешнего» и «внутреннего» человека. Сложные взаимодействия
между телесной оболочкой и духовным содержанием, приведенные в
диалектическое отношение, снимают опасность разграничения этих двух
областей, что, однако, не означает потерю их автономности. В ортодок­
сальном христианстве они несут разную оценочную нагрузку, но мнение,
что существует резкое ценностное противопоставление между телесным
и духовным, ошибочно. Представление, что тело — «зло», «тюрьма»,
даже «гроб» для души, присуще древней философии (Платон)40 и при­
обретает особый драматизм в крайнем его проявлении у представителей
гностицизма41 и позднейших дуалистических ересей, а также — сопро­
вождаемое жестоким флагеллантским привкусом — даже в новейшее
время в крайностях аскетической практики42.
55
Часть
1 • Ф. Л/. Достоевский и прешосшвие
В ортодоксальном христианском учении душа и тело также пред­
ставляются совершенно противоположными субстанциями, но это нигде
не доходит до резкой их конфронтации, телесное нигде не определяется
как ненужное зло и помеха для спасения души. Христос «нигде не осуж­
дает плоть, но везде обвиняет развращенную волю» [Иоанн Златоуст,
XVII: 3]. «...Наша брань не против крови и плоти», — учит ап. Павел
[Ефес, 6: 12]. Человек потому человек, что эти две составляющие его
субстанции неразрывно связаны, и он не мог бы существовать, лишив­
шись одной из них. Душа и тело связаны взаимной ответственностью
[см.: Rops: 772-773]. Это, однако, не означает, что они эквивалентны в
ценностном отношении. Тело создано, чтобы служить и подчиняться.
Оно орудие, которым душа совершает свое благочестие или грех. Оно
одновременно с тем и крест, и тяжесть для души; без тела же, однако,
душа никоим образом не могла бы проявиться. Поэтому в христианстве
материальное не отрицается, не уничтожается, а одолевается превозхюганием43. Подчиненность тела душе мотивируется иным положением,
которое оно занимает по отношению к творческому Божественному акту.
Телесность человека — результат вторичного творения (сперва были
созданы небо и земля, видимое и невидимое, т. е. духовный и матери­
альный мир [Быт., 1: 7]), она не божественна, так как Бог создал мате­
риальный мир не из себя, а из ничего44. Человеческое тело обрело душу
в результате непосредственного Божественного акта45. И она, по анало­
гии46, несет, хотя и только как бледное подобие, отпечаток и отражение
образа Божия47. Отцы и учителя Церкви особо подчеркивают, что нигде
в Писании нет указаний на то, что образ Божий содержится и в теле, в то
время как прямо сказано, что он принадлежит только душе [Ефес, 4: 21;
Колос, 3: 9-10], потому что «Бог не есть тело» [Блаженный Августин,
1994, 2: 329], но «Бог есть дух» [Иоанн, 4: 24], один бесконечный Дух4К.
Поэтому нигде внешнему способу Богопознания не приписывается такое
значение, чтобы было возможно только с его помощью убедиться в Божием бытии. Эта уверенность основана как раз на внутренней природе
нашего духа. Такова фундаментальная причина смещения ценностного
акцента в ортодоксальном христианстве на душу, без отрицания при этом
тела, которое призвано быть храмом души [1 Кор., 3: 76-77].
Понимание Достоевского аналогично, оно полностью вписывается
в традицию. «Говорят, — пишет он, — русский народ плохо знает Еван­
гелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он зна­
ет и носит его в своем сердце... сердечное знание Христа и истинное
56
Глава
2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского
в свете православного
учения
представление о Нем существует вполне... он любит образ Его... можно
очень много знать бессознательно» [21: 37].
Из сказанного становится ясно, что ориентация Богоискательского
процесса у Достоевского на «внутреннего человека» — это «топос» с со­
лидной богословской первоосновой49. Принцип «найти в человеке чело­
века» определяет для него и самоценность искусства50 — другую важную
проблему, которую нам предстоит разъяснить.
Итак, исходя из общей презумпции, выраженной в суждении Тертуллиана, что если душа божественна или исходит из Бога, она, несом­
ненно, должна знать того, кто «ей дал бытие» [см.: Силвестр, 1912, 1:
17б-177]5\ Достоевский формулирует самую характерную черту свое­
го творчества: «Меня зовут психологом: неправда, я лишь реалист в
высшем смысле, то есть изображаю все глубины души человеческой»
[27: 65]. На передний план выдвигается процесс все более детальной
дифференциации и конкретизации объекта художественного исследова­
ния. От общей концепции человека внимание перенаправляется к его
внутренней области — душе. Это приводит к значительным последстви­
ям. Кроме указанной выше очевидной дематериализации предметного
мира в художественном пространстве романов, они полностью начина­
ют осознаваться как состоящие единственно и полностью из субстанции
души [см.: Улф, 1983: 76]. Это очень меткое определение, и я его безу­
словно поддерживаю, но одновременно с тем оно слишком общее в от­
ношении проблематики, которой мы занимаемся. Душа в целости явля­
ется не крайней областью, фиксированной границей, а только степенью
Богопостигаемости. Она, конечно, и вправду исследуется Достоевским
по той причине, что с ней связана основная и высшая идея человечес­
кого бытия — идея, что вера в бессмертие души человека необходима и
неизбежна [см.: 24: 46]. Но здесь и сейчас рассматривается проблема не
бытия человека, а бытия Бога.
Все-таки если Достоевский категорически не согласен с утвержде­
нием, что он психолог, как следует истолковать слова: «Изображаю всю
глубину человеческой души»? Очевидно, что объект его исследования не
отдалился от души, но приобрел точно определенную и ясно выражен­
ную характеристику — глубину. У Достоевского каждое слово значимо,
тем более если оно находится в контексте его лаконических суждений в
связи со спецификой проблематики, которые он годами проверял и обра­
батывал — сознательно или несознательно — перед тем как вылить их в
совершенную формулировку
57
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и прааоствис
Чтобы постичь точный смысл, вложенный в выражение «глубина
души», надо подойти к нему опять с точки зрения ортодоксальной хрис­
тианской догматики. Выражение это, очевидно, восходит к проблеме
духа, и в частности, характера разделения «тело — душа — дух». Это
разделение обосновано тем обстоятельством, что в Писании везде, где
речь идет о духовном начале в человеке в противоположность телесному,
оно всегда обозначается или словом «душа», или словом «дух». Ап. Па­
вел в Первом послании коринфянам [Кор., 6: 20\ 5: 3-7], желая обозначить
духовную природу человека в противоположность телесной, называет ее
то душой, то духом52. В святоотеческом учении некоторые христианские
учителя и писатели, особенно в первые века, различают в человеке, по­
мимо души, и дух как нечто особое, даже в некотором смысле автоном­
ное. Иустин Философ, например, учит, что «тело — жилище души, душа
же — жилище духа» [см.: Сильвестр, 1914,3: 313]. Приблизительно тако­
во же понимание Тертуллиана, Климента Александрийского, Иринея. Но
все-таки никто из них не принимает утверждения, что дух существует па­
раллельно с душой и телом. На основании вышеуказанных слов ап. Пав­
ла они различают дух и душу в человеке только в качестве двух сторон
одной и той же духовной природы или же отдельно обозначают в душе
дух как высшую ее способность. А может быть, как допускали некоторые
из древних, под Ихменем духа апостол понимает, собственно, «благодать
Св. Духа, обитающую во всех верующих» [Макарий, 1868, 1: 444]. Пра­
вославная церковь, следовательно, встает на следующую официальную
позицию: под духом понимается та же душа, только с ее внутренней, со­
кровенной стороны, несмотря на ее глубину; та ее часть, в которой при­
сутствует слово Божие — то есть что-то такое, что, имея свой особый
отличительный характер, все же неразрывно соединено с самой душой
[см.: Сильвестр, 1878, З]53. Таково же и понимание великих отцов и учи­
телей Церкви. Св. Кирилл Иерусалимский пишет следующее: «Познай и
себя самого... познай, что ты из двух частей состоящий человек, из души
и тела; и что... Бог есть Творец души и тела» [Кирилл Иерусалимский,
1991: 51]. «Человек составлен из души и тела; плоть взята из земли, душа
же небесна» [Василий Великий, 1993,2: 19]. Такое же мнение высказыва­
ет и Августин: «Человек не есть одно тело или одна душа, но состоит из
души и тела. То верно, что душа не составляет всего человека, а лучшую
часть человека, и тело не составляет всего человека, а низшую часть че­
ловека; когда же то и другое бывает соединено вместе, называется чело­
веком» [Блаженный Августин, 1994, 2: 329-330]. И еще: «Бог из видимой
и невидимой природы Своими руками творит человека по Своему образу
58
Г."I a в a 2 • Миром) прение Ф. М. Достоевского « счете принос питого учения
и подобию. Из земли Он образовал тело человека, душу же разумную и
мыслящую дал ему Своим вдуновением... Душа была создана вместе с
телом» [Иоанн Дамаскин, 1992: 79]. И другие дают такие же свидетель­
ства. Иными словами, православие не принимает крайних выводов ни
трихотомистов, отделяющих дух как нечто независимое, самостоятель­
ное и существующее параллельно с душой, ни дихотомистов, забывших,
что душа человека имеет высшую духовную сторону, отличающую ее от
души других существ. В этом смысле в словах Достоевского «изображаю
всю глубину человеческой души» надо видеть то содержание, которое
вложили в него святые отцы.
Исследовательская этика требует упомянуть и другое мнение.
М. М. Бахтин, растолковывая то же выражение Достоевского, считает,
что под «глубиной души» писатель понимает то, что романтики-идеалис­
ты, в отличие от души, обозначают как «дух» и что в творчестве писателя
становится предметом «объективно-реалистического, трезвого, прозаи­
ческого изображения» [Бахтин, 1986: 194]. Я не могу согласиться с таким
пониманием по трем причинам. В суждениях Достоевского нельзя найти
даже малейшего намека на противопоставление «дух — душа». Наобо­
рот. Еще в 1838 г. он говорит, что «душа же, или дух, живет мыслию,
которую нашептывает ей сердце» [28, кн. 1: 54] — следовательно, у него
не только нет противопоставления, но в некоторой степени намечается
тождественность обоих понятий, или же дух представляется высшей
мыслительной и словесной стороной той же души. Противопоставляют­
ся два изображения души — «психологическое» и «глубинное». Первое,
по-моему, надо понимать как описание движений души по отношению к
внешним, чисто ситуационным фактам бытия, с которым она соприка­
сается, т. е. при периферийном контакте, при обращении души к бытию
или бытия к душе, но никогда при обращении души к самой себе или
к Богу, т. е. в ее духовных измерениях. Это определяет, образно говоря,
«горизонтальный», или «плоский» характер души — а того, кто ее изоб­
ражает, Достоевский называет «психологом». Совершенно различен вто­
рой тип изображения. Он представляет душу в ее глубине, в отношении
к самой себе, во вневременной и бесконечный в своей протяженности
момент углубления, когда возможно прикоснуться к источникам чистой
духовности.
Мое второе возражение связано с фактом, что концепция духа и
души самих романтиков-идеалистов восходит к моделям средневеково­
го богословия и не является их самобытной идеей. Здесь, конечно, речь
59
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
идет не об оригинальной художественной практике романтизма в ее ин­
терпретации, а о чисто идеологическом аспекте проблемы.
В-третьих, вряд ли серьезно можно утверждать, что Достоевский
со своими объемными и детальными познаниями в области богослов­
ской проблематики (в подтверждение чего существуют многочисленные
серьезные свидетельства) позволил бы себе использовать настолько важ­
ную для своего творчества глобальную модель, заняв ее у посредника,
а не опираясь на всегда авторитетную для себя православную традицию.
Еще раз уточняю, что речь идет не о художественно-эстетической про­
блематике. Не желаю оспаривать утверждения, что «Достоевский кровно
и глубоко связан с европейским романтизмом» [Бахтин, 1994: ч. 1, гл. 4].
Это вопрос, который отклонил бы нас от конкретных целей.
Но вернемся еще раз к мысли Достоевского.
Из всего сказанного можно прийти к выводу, что под «глубиной
души» надо понимать дух человеческой души, но дух не как отдельную и
параллельную душе часть или субстанцию, а как самую внутреннюю ее
область, как специфически организованную и ориентированную в глуби­
ну устремленность души к Богу (в акте трансценденции). В данном слу­
чае мне трудно найти стилистически безупречную абсолютную формулу.
Вот почему под выражением «дух человека» я буду понимать в общих
чертах сказанное выше.
Мне кажется, что мы уже выяснили, почему Достоевский не назы­
вает себя психологом. Для него «плоскость» души недостаточна, и он
направляется в своих поисках к ее центру, где дух находится в движении,
оформляющем принципиально отличную конфигурацию — вертикаль­
ную. Само слово «глубина» очень точно и образно демонстрирует бездну
души. Богоискательский процесс направлен к скрытой, внутренней сто­
роне души, к чистой ее духовной сущности, к словесной ее силе — туда,
где в незатуманенном виде отражается Божественный образ54, и это при­
водит к глобальным последствиям.
Как уже отмечалось в начале работы, кризис мировоззрения, в кото­
рый впадает человек эпохи Гуманизма, был особо драматичен в XIX в.
В массовом сознании давно уже разрушено представление о небесном
духовном иерархическом порядке и прервана трансцендентальная связь
с Богом. С одной стороны, срыв спиритуальных вертикальных стуктур
приводит к духовному «уплощению» мира и к замене его материальной
объемностью космоса. С другой стороны, отсутствие духовной глубины
в массовой средневековой психике (так как она была трансцендентально
обеспечена) сохраняется. Достоевский как великий учитель человечест­
во
Г.I а в а 2 • Мировопрение
Ф. А/. Достоевского в свете православного
учении
ва после стольких лет специфической бездуховности вновь обнаружива­
ет глубину в человеческой душе. Как пишет Бердяев, «бездна разверзлась
в глубине самого человека, и там снова открылся Бог и дьявол, небо и
ад» [Бердяев, 1923: 45]. Богоискательский поход Достоевского раскрыва­
ет невиданную глубину души там, где ее дух проторивает дорогу к лону
святая святых. По своей сути это акт, реконструирующий вертикальную
небесную иерархию, однако уже не во вселенной, а в самом человеке.
Этим же преодолевается духовная слепота человека, и он способен сно­
ва ощутить присутствие (как в Средние века) небесных сфер над собой.
Только в раскрытой таким образом глубине душа может осуществить
полноценный и окончательный контакт Бога с его отражением в своей
богоподобной сущности. Надо признаться, это поистине грандиозная
идея. Образно говоря, реконструированная вертикальная структура явля­
ется фактически своеобразной axis mundi — осью, организующей чело­
веческую душу. По-моему, именно здесь, на этой оси, мы должны искать
и место сновидения. В зависимости от своего происхождения и функций
оно занимает разные «этажи» во внутренней духовной структуре.
Необходимо, конечно, различать сон, сновидение и видение, притом
как раз в средневековом их смысле, который, как мы убедимся, ближе
всего к пониманию Достоевского. Но так как этот вопрос, так сказать,
является частным случаем более фундаментальной проблемы, я скажу о
ней несколько слов. Она связана с функциями сна как феномена культу­
ры и сама по себе заслуживает специального исследования в силу своей
сложности и объема. Имея в виду характер настоящей проблематики, я
постараюсь быть совершенно лаконичным, заострив внимание на прин­
ципиально отличной роли сна в раннеантичной греческой культурной
модели и в Средневековье и проведя параллель с Новым временем и с
мировоззрением Достоевского.
Место и функции сна в Античности становятся ясными в контексте
проблемы бытия и истины55. Основная типологическая характеристика
раннеантичного бытия состоит в том, что оно воспринимается всегда
как «живое существо», как тело, совершенное по внутренней структуре,
полное скрытой энергии и жизни. Оно обязательно выражено оптичес­
ки, оно «говорит», т. е. являет себя как совершенно артикулированное.
Логос и бытие в принципе сближаются чуть ли не до слияния. Совпа­
дение артикулированности (Логоса) и бытия на самом деле и есть исти­
на существующего, т. е. «истина — это именно указанная открытость и
выразительность бытия. Она есть само бытие, которое проявляет себя»
[Бояджиев, 1990: 105]. Таким образом, истина и видимое бытие отож61
Часть
1 • Ф. /V/. Достоевский и православие
дествляются5(\ Более того, бытие настолько совершенно до самодоста­
точности, что ни в ком не нуждается, даже в Боге57. У бытия, наоборот,
нет своей пластики, оно не артикулировано устойчиво, не обладает оп­
тической выразительностью, одним словом, не имеет своего «лика» и
«языка». Оно метафизически невыразительно, следовательно, кроме того
что недействительно, оно ложно. Потому и сон для древних греков так­
же недействителен, или, точнее, псевдодействителен, он представляется
какой-то вялостью, деэнергизацией жизненных сил, обездвиженностью,
бессилием, состоянием, близким к смерти или буквально аналогичным
смерти. Сон — это небытие, и следовательно, являющиеся во сне образы
недействительны, а их «онтологическая интенсивнсть значительно ниже,
чем интенсивность самих вещей» [Там же: J00]. В нем все абстрактно,
смутно, плоско и неуловимо. В отличие от бытия, которое является жиз­
ненной преисполненностью, сон — небытие, а значит, не обладает какой
бы то ни было возможностью быть источником истины, так как истина
для них — аналог бытия.
В этом аспекте Средневековье представляет полностью противо­
положную модель. Онтология видимого бытия не самодостаточна, она
только творение Бога, притом, как отмечалось, creatio ex nihilo, творение
из ничего, из небытия. Материальный мир ниже духовного, невидимого
мира, который, со своей стороны, является средней сферой в отношении
абсолютности бесконечного Духа — Бога. Видимый космос создан Ло­
госом, а не наоборот, Логос не есть артикуляция мира: «И Слово стало
плотию» [Иоанн, 1: 14]. Истина «изымается» из бытия и «полагается» в
инобытие. Потому и сны как продукт освобожденной от телесного души
ценностно нагружены, так как являются носителями истины. Они пони­
маются как трансцендентальная эманация58. Библия изобилует такими
свидетельствами59. Так понимали сон и святые отцы. «Решительно надо
отбросить мнение, — пишет св. Афанасий, — что во сне Адама есть чтото греховное. Адама усыпил сам Бог, и за этим сном надо признать глу­
бочайшее и таинственное значение, так как во время его Бог положил
основы брачного союза, который должен был изобразить таинственный
союз Христа с Церковью. По Тертуллиану, все создано Сыном. До вопло­
щения в человеке пророки видели Его только в видениях, во сне, в гада­
ниях, так как Слово и Дух можно увидеть только в образах воображения»
[см.: Бичков, 1981: 125].
Сновидение в Средневековье, следовательно, представляет сложную
и незаменимую гносеологическую категорию. С изменением мироощу­
щения в эпоху Ренессанса — с началом процесса постепенной материа62
Глава
2 • Мирово прение Ф. Л/. Достоевского в свете православного
учения
лизации спиритуального — сновидения лишаются сакрального транс­
цендентального содержания. Они превращаются в обыкновенные сны, в
продукт маргинальной психологии, то есть в следствие отношений души
с формами телесного бытия. По ничтожной эпистемологической функ­
ции, которая приписывается снам, Новое время фактически обнаружива­
ет большую близость к мировоззрениям ранней греческой Античности,
чем к средневековой модели.
Точка зрения Достоевского значительно отличается от описанной.
«Вы скажете, это сон, бред: хорошо, оставьте мне этот бред и сон», —
пишет он [24: 309] (курсив автора. — Н. И.). Мы как будто слышим сло­
ва героя «Сна смешного человека»: «Но неужели не все равно, сон или
нет, если сон этот возвестил мне Истину?» [25: 109]. Достоевский поч­
ти никогда не обращал внимания на «плоские» сны (в смысле, который
вкладывали в это понятие как Античность, так и Новое время). У него
«случайных», «психологичесих» снов, порождаемых маргинальной сфе­
рой отношений между телом и душой, не встречается. «Обыкновенные
сны» у Достоевского всегда воспринимаются как сновидения. Так же,
как это имеет место в средневековой модели, у автора Пятикнижия сно­
видение — вероятно, наиболее значимая мировоззренческая категория с
многообъемными и незаменимыми функциями. Но различия существу­
ют. Одно из них — гносеологического характера. В Средневековье сны
преимущественно трансцендентальны, они являются эманацией инобы­
тия или средством его постижения. Это объясняет массовый характер
видений из потустороннего мира, этого специфического феномена сред­
невекового мировоззрения. Сновидения воспринимались как откровения
и «окна» в трансцендентальный мир [см.: Гуревич, 1985: 191], дающие
своеобразные возможности наглядно и на опыте доказать существование
потустороннего мира. Сновидение такого характера может в корне изме­
нить жизнь человека60.
У Достоевского дела обстоят иначе. Он дитя XIX века, века неве­
рия и сомнения. Как уже упоминалось, он совершает попытку реконс­
трукции своеобразной внутренней «небесной иерархии» по аналогии с
иерархией ангельского мира. Следовательно, это в корне отличающийся
Богоискательский путь, и он нисколько не десакрализирует сновидения
как основное средство Богопостижения в человеке. Они — «духовные
глаза» души. Сразу же, конечно, надо сделать оговорку, что не все сно­
видения у Достоевского ценностно эквивалентны. Этот факт, по-моему,
вытекает из обстоятельства, что они находятся в разных местах сегмен63
Часть
1 • Ф. Л/. Достоевский и правосинше
тированной вертикальной структуры духа, расположенной в глубинах
человеческой души.
Ценностная дифференциация снов — также средневековый прин­
цип. В своих «Диалогах», например, Григорий I разделяет сновидения на
несколько категорий: сны, порожденные телесным (переполненный же­
лудок, суетность); несерьезные сны; сны, порожденные желаниями или
капризностью духа. Уже после перечисленных идут сны-откровения, но
и они бывают «смешанными» — вызванными откровениями или жела­
ниями. Так что из шести видов снов он считает истинным откровением
только один [Там же: 212]. Следовательно, чем далее отстоит сон от теле­
сных причин, породивших его, тем более приближается он к чистому от­
кровению. Эта идея отчетливо выражена и у св. Феофила Александрий­
ского, для которого Бог, подобно свету, открывает себя духовным глазам
людей и становится видимым для них, если они здоровы и свободны от
греховного плотского мрака [см.: Сильвестр, 1912, 1: 241].
Этот принцип онтологичен и для мировоззренческой системы До­
стоевского, так как в ней именно сновидение выполняет незаменимую
функцию преодоления человеческого «я», человеческой эгоистической
сущности.
Основным ядром системы ценностей Достоевского является его
символ веры (как сам он называет его), в котором все очень «ясно и свя­
то». «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее,
глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и
не только нет, но с ревнивою любовию говорю себе, что и не может быть»
[28, кн. 1: 176]. Этот символ становится для писателя «вековечным иде­
алом», абсолютной нравственно-эстетической парадигмой подражания
для человечества в его стремлении к крайней цели — превращению в
Богочеловечество. По своей сути эта цель означает, что «возлюбить че­
ловека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон
личности на земле связывает» [20: 172] (курсив автора. — И. Н.). Поэ­
тому крайняя цель неотделима от преодоления личности и слияния ее с
«законом гуманизма»61, что является высшей степенью развития. «Это-то
и есть рай Христов. Вся история, как человечества, так отчасти и каждого
отдельно, есть только развитие, борьба, стремление и достижение этой
цели» [Там же]. Отрицательное отношение Достоевского к «я» имеет
свою глубоко онтологическую причину. Оно основывается на понима­
нии, что «я» — выразитель телесно-рассудочного. Его можно превозмочь
только средствами, противоположными по характеристикам, т. е. нете­
лесными и нерассудочными. Рассмотренный в глобальном плане, сон пре64
I л а в а 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете православного
учения
кращает действенную активность телесного. С его помощью, так сказать,
возможно объективировать состояние другой жизненной возможности.
Но это физиологическое проявление, на некоторое время лишающее тело
возможности совершать не только злые, но и добрые дела, не решает ра­
дикально проблемы. Сновидение, т. е. сон-откровение, сон-пророчест­
во — феномен совсем иного порядка. Оно является только тогда, когда в
большой степени уже преодолена эгоистическая сущность «я». Так что,
если сон есть начальный этап процесса преодоления телесного, то сно­
видение фиксирует крайнюю его степень и в некотором смысле является
его целью. Идея здесь не в том, чтобы уничтожить «я», — это было бы
слишком легким бегством, а в там, чтобы овладеть им, возродив к добру,
излечить душу: «.. .быть властелином и хозяином даже себя самого, свое­
го я, пожертвовать этим я, отдать его — всем. В этой идее есть, — пишет
Достоевский, — нечто неотразимо-прекрасное, сладостное, неизбежное
и даже необъяснимое» [20: 795]. Здесь, следовательно, речь идет о лю­
бовной отдаче «я» во имя других, о свободной духовной жертве. Вот это
основная христианская идея — жизнь во Христе.
Единственную возможность преодоления и облагораживания «я»
Достоевский видит в великой формирующей силе страдания: «Без стра­
дания и не поймешь счастья. Идеал через страдание переходит, как золото
через огонь. Царство небесное усилием достается» [29, кн. 1: 137-138]62.
В другом месте писатель еще более категоричен: «Нет счастья в ком­
форте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты...
есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страда­
ния» [7: 154-155]. Суждения такого рода высказывались неоднократно
и в разное время его жизненного пути63. И здесь Достоевский опирается
на христианские традиции. Самосовершенствование через страдание
становится идейно-философским центром христианства, которым объ­
ясняется если не все, то очень многое64. «Самообладание» и «самоодо­
ление»— таковы советы писателя [25: 63], неизменно связанные с не­
удовольствием и страданием, советы, исходящие из многовековых источ­
ников христианской аскетики. Болезнь в широком смысле превращается
у него в главный субститут страдания. Она «вытесняет» на задний план
эгоистическую экзистенцию «я», подавляющую душу, и отпадением те­
лесного активизирует «движения духа», выражающего свою сущность
в откровениях пророческих сновидений. Нельзя указать ни на один сон
героев последних романов Достоевского, который не являлся бы именно
после болезненного состояния духа или тела, после чрезмерного физи­
ческого утомления или нервного возбуждения. В большой степени это
65
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
относится и к другим произведениям писателя05. Очень показательно
в связи с этим интересное суждение одного из героев, Свидригайлова,
описывающего диалектические отношения тела и болезни как процесс
перехода из бытия в инобытие: «Ну а чуть заболел, чуть нарушился нор­
мальный земной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться
возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновений
с другим миром больше, так что когда умрет совсем человек, то прямо и
перейдет в другой мир» [6: 221]. Приведенное рассуждение Достоевский
отметил курсивом и Nota bene в плане романа «Преступление и наказа­
ние» [см.: 7: 165].
Аналогичны функции болезни не только в раскрытии художествен­
ного мира героев, но и в чисто личном, экзистенциально-мировоззрен­
ческом плане. Это можно с уверенностью утверждать на основании
многочисленных свидетельств. Болезнь непрерывно занимает сознание
Достоевского, стоит в центре его внимания. Он систематически записы­
вает дни и часы своих припадков, связь их с климатом и фазами луны
[см.: 27: 97, 98-107, 114-115 и др.]. Эпилепсия начинается с безобидных
проявлений, которые сам Достоевский в шутку называет «кондрашкой
с ветерком», доходя в последние годы до ужасающих припадков, при­
водящих к судорогам, конвульсиям и временной потере памяти. Но, как
отмечает Б. Бурсов, вопреки всему, писатель воспринимал свое глубокое
несчастье как спасительный бальзам [Бурсов, 1979: 397]. Это так, пото­
му что телесные страдания всегда награждали его ни с чем не сравни­
мыми мгновениями духовного прозрения. Особо интересно одно из них,
рассказанное самим писателем и широко известное из воспоминаний
С. В. Ковалевской. Речь идет об эпилептическом припадке, вызванном
религиозным спором с другом-атеистом, который произошел в ночь Вос­
кресения Христова. Как раз в тот момент, в ту же самую минуту, когда
вне себя от волнения он закричал: «Есть Бог, есть!», ударили колокола,
возвещающие самый светлый час в христианской истории. «И я почувст­
вовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю
и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся Им. Да, есть
Бог! — закричал я, — и больше ничего не помню... Вы все, здоровые
люди... и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испы­
тываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком... Не знаю, длится
ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но верьте слову, все
радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!» [Ковалевская,
1990, 1: 27]6Ь. Это свидетельство очень важно по двум причинам: во-пер­
вых, оно передает непосредственное чувство писателя, и, во-вторых,
66
Глава
2 • Мирово прение Ф. Л/. Достоевского « свете православного
учения
Достоевский представляет перед Ковалевской этот припадок как первый
в своей жизни67, т. е. для него он особо значим™.
Описанная таким образом, эпилепсия (болезнь, или наиболее обоб­
щенно — страдание) может рассматриваться как явление метафизичес­
кого порядка, дающее возможность тотального преодоления «я» в трансцендентирующем акте69. И все же она, так сказать, эзотерическое заболе­
вание — только для избранных, morbus sacer, священная болезнь, особо
высоко ценившаяся в древности70.
Но обращение «я» к добру — это долгий процесс mutatio mentis
(изменения духа), в ходе которого аллоформой страдания в творчестве
Достоевского выступают болезни более тривиального характера. Снови­
дения как этапы на этом мучительном спиралевидном пути души к само­
познанию, т. е. к возвращению кругового движения71, фиксируют степе­
ни в изменении духа.
Коротко: эпилепсия и сон-откровение в мировоззренческой системе
Достоевского — эквивалентные категории, которые наиболее успешно
преодолевают телесный элемент в структуре «я».
Вторая отрицательная сторона «я» — это рассудочность. Когда я го­
ворил о спиритизме, речь зашла и о том, что Достоевский решительно
отрицает «трансцендентальное доказательство» существования потусто­
ронних миров как материализации спиритуального. Существует и дру­
гая причина для этого. При сновидениях и эпилепсии налицо процесс
индивидуального выхода из «нормального» состояния. В спиритическом
сеансе обязательно присутствует посредник (медиум), а все остальные
участники только сознательно созерцают дух. Или, как иронически пи­
шет Достоевский, наблюдают, как «стол качается, подымается, слышатся
звуки, получаются интеллигентные ответы», или же им «оматерьялизуют
знакомых покойников» [22: 32, J26]. Во сне и в момент эпилептического
припадка присутствует момент вытекания (эманации) духовного, став­
ший возможным благодаря изменению или распаду в организации рас­
судочных структур.
Сновидение для Достоевского — явление, не вытекающее из рас­
судочности. «Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова,
а сердце...» [25: 108]. В другом месте: «...совершалось всё так, как всегда
во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы
бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит
сердце» [Там же: ПО]. Стойкая эмблематика, выраженная в антиномии
«сердце — рассудок», опять ясно эксплицирована72.
67
Часть
1 • Ф. М. Достоевский
и
праиоаавис
Специально надо подчеркнуть, что понятие «сердце» является ос­
новным в духовной антропологии автора «Преступления и наказания».
Оно прежде всего источник чувств: «Ум... действует независмо от чувс­
тва, — пишет он, — следовательно, от сердца» (курсив автора - И. Н.)
[28, кн. 1: 54]. Сердце, по Достоевскому, есть область особая, область, в
которой осуществляется на практике sacrificium intellectus, интеллекту­
альные рассудочно-ментальные структуры приносятся в жертву, и поз­
нание происходит преимущественно «чрезвычайным чутьем» [23: 38]
иррационально-сердечно-чувственного73. Отсюда вытекает и убеждение,
что природа, душа, Бог, любовь познаются сердцем, а не умом. Сердце —
законодатель и высшая санкция, это оправдывает императив: «Надо де­
лать только то, что велит сердце» [25: 61]. Более того, «душа же, или дух,
живет мыслию, которую нашептывает ей сердце» [28, кн. 1: 54]. Поэто­
му люди падают на колени «перед желанием сердца своего» [25: 116].
Сердце — духовный творческий «резервуар» личности. В нем заклю­
чены наиболее стойкие и оригинальные воспоминания [см.: 13: 308],
в нем накапливается любовь [см.: 25: 193], хранятся «духовные начала»
[23: 161]. Оно кроет в себе «бесконечные источники жизни» [6: 421]. Оно
приютило в себе с «восторгом» святые образы [25: 69; 29, кн. 1: 118],
и «трудом сердца» [30, кн. 1: 18] эти образы возрождаются в будущих
«сердечных поэмах» [29, кн. 1: 39]. Но сердце прежде всего — орган рели­
гиозной жизни. Бог вселяется именно в «великое сердце» [29, кн. 1: 39],
и оно превращается в «почти безгрешное сердце» [13: 192], в «умное
сердце» [29, кн. 2: 83], в средоточие «внутреннего ума» [30, кн. 1: 77]
(курсив автора. — Н. Н.) — «главного ума» [8: 356], способного рас­
крыться «взгляду сердца» [24: 75]. Только оно может постичь «сущность
вещей», которая «человеку недоступна» [21: 75], «внутренний смысл»
[30, кн. 1: 122], что невозможно для сознания [21: 39]. Как раз поэтому
Бог «познается сердцем» [28, кн. 1: 53].
Достоевский неоднократно исповедует свою любовь и веру в сердце
русского народа [см.: 24: 107; 27: 227], потому что считает, что русское
сердце в наивысшей степени предназначено для всемирного братско­
го единения [см.: 26: 149], т. е. для этой «всемирной» и всепрощающей
христианской любви, которая спасет человеческий род. Прегрешения
в отношении сердца для него страшнее заблуждений рассудка, так как
омраченный сердечный взгляд вызывает заражение духа и необратимую
духовную слепоту [см.: 25: 5]. Нет ничего ужаснее «эгоизма сердца»
[13: 237] и «зверской жестокости» «ленивых сердец» [25: 239, 242].
68
Глава
2 • Мирово прение Ф. Л/. Достоевского в свете православного
учения
В сердце раскрывается головокружительная метафизическая глуби­
на трансцендентальных сущностей — небо души: «Тут дьявол с Богом
борется, а поле битвы — сердца людей» [14: 100].
Для Достоевского, следовательно, сердце не остается обыкновен­
ной поэтической метафорой, а становится символом с многообъемными
функциями. Сердце — центр метафизической архитектоники души.
Такое представление исходит из тысячелетней иудейско-христианской
библейской традиции. Библия приписывает сердцу все функции созна­
ния: мышление, решения, волю, ощущения, проявление любви — оно
является центром жизни вообще74. «Сердце на религиозном языке есть
нечто очень точное, — проникновенно пишет Б. Вышеславцев, — мож­
но сказать, математически точное, как центр круга, из которого могут
исходить бесконечно различные радиусы... В самом деле, сердце озна­
чает некоторый скрытый центр, скрытую глубину, недоступную для взо­
ра... сокровенный центр личности... предельный таинственный центр
личности, где лежит вся ее ценность и вся ее вечность» [Вышеславцев,
1925: 59, 60, 62]. Эти размышления мы можем соотнести с позицией До­
стоевского, но с одним исключением. Идея, что сердце — это «скрытая
глубина, недоступная для взора», неприемлема для его антропологии.
Действительно, писатель говорит, что «человек есть тайна» — и это в
полной мере относится к сердцу человека. Но несмотря на то, что область
сердечного сверхмистична, непонятна для рассудочных формул «эвкли­
дового разума», это зона абсолютно иная — она не непроницаема. Если
суть сердца невозможно объяснить логически, то ее можно созерцать,
так как она зримо, осязаемо проявляет себя в сновидениях. В них невиди­
мое становится видимым. Тем самым и объясняется огромный интерес
Достоевского к сновидениям как явлениям, порождаемым сердцем.
Во сне человек созерцает сокровище (0r|aai)p6(;) своего сердца. Точнее,
он получает непосредственное свидетельство об интимнейшей своей сущ­
ности, но не в смысле психологии, а в высшем смысле, как ценностной интенциональности по отношению к двум полюсам — Божественному и де­
моническому. Сказано: «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»
[Матф., 6: 21]. Евангелие, с одной стороны, подтверждает, что сердце —
орган восприятия Божественного Слова и Дара Св. Духа [см. примеч. 77],
но может превратиться, с другой, в орган сатанинского. Дьявол вложил в
сердце Иуды мысль предать Христа [Иоанн, 13: 2]. Сатана вложил в сердце
Анания мысль солгать Духу Святому [Деян., 5: 3] и т. п.
С опорой на положения авторитетного библейского текста Досто­
евский при помощи сновидения ищет «высший смысл» для человека —
69
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
истину о человеческой душе: «...во сне душа сама все представила и вы­
ложила, что было в сердце, в совершенной точности и в самой полной
картине и — в пророческой форме» [13: 308]. Уже упоминалось, что цель
Достоевского — не психологический анализ, не «плоскость» души, а глу­
бинное, бездна души. Из сказанного выше выяснилось, что эта метафизи­
ческая глубина разверзается в сердце, в этом центре души, и в нем рас­
крывается трансцендентное небо. Следовательно, центральная ось, орга­
низующая внутреннюю духовную структуру человека, проходит именно
через сердечный локус. Поэтому сны, расположенные по этой оси, назва­
ны Достоевским снами сердца [25: 105]. Его писательская задача состоит
в том, чтобы высказать все, что заключено в сердце [см.: 30, кн. 1: 140],
притом языком, который выражает душу [см.: 23: 88], точнее, сердце, так
как оно сказывается «в звуках слова» [28, кн. 1: 206]. И так как на этом
внутреннем небе человека положен Божественный отпечаток («образ и
подобие»), но одновременно с тем и корни греха, описание сердечных
сновидений подобно иконе. Иными словами, так же как икона изобра­
жает отражение Божественного в духовном зеркале святителей, описа­
ние сновидения является словесной иконописью самой скрытной внут­
ренней области души, притом высказанной в совершенстве — словом,
которое является аналогом Логоса, Божественного отпечатка в человеке.
Все это предопределяет и огромный интерес со стороны Достоевского к
своим сновидениям. Всю свою жизнь он уделял исключительное внима­
ние посетившим его снам. Известно, что в личной его корреспонденции,
особенно в письмах Анне Григорьевне, почти нет писем, в которых не
упоминался бы по определенному поводу какой-нибудь сон. Мы встре­
чаем целые описания снов, даже по нескольку в одном письме. И это не
обычный эгоцентризм, а жизненная необходимость. Анна Григорьевна
вспоминает, что Достоевский придавал большое значение снам и еще в
первые дни их знакомства поделился: «Мои сны всегда бывают вещими.
Когда я вижу во сне покойного брата Мишу, а особенно когда мне снится
отец, я знаю, что мне грозит беда» [Достоевская, 1971: ч. 2, Л"]75. Сны
становятся самым быстрым и адекватным средством контакта с близки­
ми, когда он находится вдалеке от них. По своим видениям он судил об
их судьбе. В одном из характерных писем Анне Григорьевне (от 23 июля
1873 г.) он описывает два леденящих кровь случая, которые приснились
ему. Первый — о сыне Феде, упавшем на его глазах с четвертого эта­
жа, второй — об умирающей дочери, которую избила до смерти розгами
случайная женщина. Обеспокоенный донельзя судьбой своих детей, он
пишет жене: «Я во второе зрение верю, тем более что это факт, и не успо70
1л а в а 2 • Мировоззрение
Ф. М. Достоевского в свете православного
учения
коюсь до письма твоего» [29, кн. 1: 282, 283]. К счастью, ничего серьез­
ного не произошло. Но есть сны, которые удивляют своим пророчеством.
Один из них мы находим в письме Достоевского С. А. Ивановой, в кото­
ром он говорит о предугаданной смерти своей тети76.
Вера писателя в пророческое значение снов не только не противоре­
чит христианскому пониманию, но находит ряд параллелей в творениях
писателей и учителей церкви. Св. Афанасий, например, пишет, что «ког­
да тело человека находится в состоянии бездействия или сна, он внутри
себя находится в движении и созерцает существующее вне него, этим
предугадывает и прорицает, что должно произойти с ним»77 [Цит. по:
Силвестр, 1914, т. 3: 208]. Конечно, не обязательно принять утверждение,
что Достоевский понимал пророческий механизм снов именно так. Ва­
жен, однако, факт, что сновидения выполняли для него идентичные фун­
кции. Эти функции не вступают в противоречие и с высказанной здесь
идеей о роли снов в Богопознавательном акте, направленном к «внутрен­
ней области» человека. Противоречие естественным образом снимается,
так как в процессе проникновения во всю глубину человеческой души
«я» полностью преодолевает себя, и постигаются надиндивидуальные
чистые источники «мировой души». В этом смысле, как пойдет речь и
в другом месте исследования, Достоевский воссоздает не отдельную,
индивидуальную человеческую драму, а общую драму мирового челове­
ческого духа, представленную в метафизическом принципе «coincidencia
oppositorum»78.
В том же письме мы натыкаемся и на другую знаменательную под­
робность: «Тут я проснулся и записал сон» [29, кн. 1: 209]. Помимо того,
что доказывает чрезмерный интерес к снам, эта фраза включает Достоев­
ского в традицию, также широко распространенную в Средневековье, —
записывание значимых сновидений как доказательств существования
потусторонних миров.
Для писателя, следовательно, сновидение по своему месту и значе­
нию является одной из центральных категорий с незаменимыми фун­
кциями как в лично-экзистенциальном, так и в идеолого-мировоззренческом плане. Выраженная в стилизованном виде, реконструированная
антропологическая система Достоевского выглядела бы так: стремление
к Богопознанию естественно направляет писателя к единственной воз­
можности — к познанию человека, разгадыванию его тайны. Интенция
здесь не к внешнему, а к трансцендентальным сущностям внутренне­
го человека — к душе. Здесь действует дух как высшая умственно-сло­
весная сила души. Рассудок отрицается за счет сердца — мистического
71
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
центра души. Ум подчиняется сердцу. Он полагается в него и превра­
щается во внутренний «сердечный ум», а сердце, со своей стороны, — в
«умное сердце». В сердечном локусе раскрывается метафизическая глу­
бина и обнаруживаются антиномические первоосновы бытия — Божес­
твенное и демоническое в человеке. Они существуют как coincidencia
oppositorum в его сердце. И это страшное сожительство. Эта «широта»
человека — жить одновременно с двумя «красотами» — «содомским
идеалом» и «идеалом 1Мадонны» — может стать священноопасной для
самого бытия его, погубить его душу, если он ошибится в выборе, под­
давшись демоническому искушению. То, превратится ли сердце в об­
ласть инфернального или в обитель Царства Божия, зависит от свобод­
ной воли человека.
Сновидение, подобно страданию, «бьет ключом из самого сердца»
[21: 36], из головокружительной сердечной бездны и свидетельствует
о степени Богооставленности или харизматического Богопостижения.
Каждое из перечисленных состояний является ступенью вверх или вниз
по метафизической лестнице и фиксирует духовную эволюцию челове­
ка. По мере приближения к Богоподобности, нравственному раскрытию
«человека в человеке» они повышают свою сакральность. Сновидениеоткровение относительно наиболее отдалено от психосоматики. Оно —
последняя ступень, самый внутренний «небесный» сегмент неясной гра­
ницы образно-чувственного познания. Эту степень постигает и Достоев­
ский, эту степень вообще может постичь сила Богопознаваемости через
искусство. За ней следуют «ступени» принципиально иного сверхчувс­
твенного мистического характера. Им нет числа — лествица, ведущая к
внутреннему Богопознанию, бесконечна, как бесконечен и субстанциаль­
но непознаваем сам Бог. Во внутреннем плане метафизическая лествица
внутреннего микрокосмоса находит свое продолжение в бесконечной
небесной иерархии макрокосмоса — этой небесной лестницы, веду­
щей в трансцендентальное, о которой говорится и в сновидении Иакова:
«И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и
вот, Ангелы Божий восходят и нисходят по ней. И вот, Господь стоит на
ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего» [Быт., 28: 12, 13].
Очищение ума, сердца, души и всего внутреннего мира человека
от «мрака» греха — процесс мучительный, исполненный страданий и
«внутренних слез» [8: 252]. Он вызывает «покаяние» (uemvoia) и вос­
становление духа «великим будущим подвигом» [6: 422] — духовным
внутренним подвижничеством. Он сопровождается мгновениями вроде
следующего: «...порыв горячо охватил его сердце, и на мгновение ярким
72
Г л а в а 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете православного
учения
светом озарился мрак, в котором тосковала душа его» [8: 186]. Очищен­
ные ум и сердце, озаряясь «необыкновенным светом», постигают «созер­
цание» (GscDpia) высшей степени гармонии и красоты [см.: 8: 186-187] —
«откровение», «Богоявление» (Geocpavia) в душе, т. е. конкретно созерца­
ется эта надмирная Божественная красота, о которой сказано, что она
«спасет мир» [Там же: 435]. Она уже действительно неназываема ника­
кими словами, необъяснима никакими понятиями, невыразима никакими
образами — ее может только созерцать ум в сердце.
2.2. Мировоззрение Достоевского
и православная аскетика
Каждая деталь изложенной антропологической системы Достоевс­
кого находит точное соответствие в святоотеческом учении. Подробное
обозрение методологии ортодоксальной аскетики — тема слишком не­
объятная и глубокая. Поэтому я остановлюсь только на некоторых основ­
ных ее аналогиях с мировоззренческой моделью Достоевского.
Средоточием духовной аскезы является область внутреннего чело­
века — субстанция души. «Все попечение надобно прилагать более о
душе, а не о теле, и телу уступать по необходимости малое время, все же
остальное посвящать наипаче душе и искать ее пользы, чтоб не увлека­
лась она телесными сластями, но паче себе порабощала тело» [Антоний
Великий, 1992: 22]. У святых отцов всегда подчеркивается приоритет
души: «Душа у нас одна, и членов тела много, но она все их держит,
животворит и движет» [Григорий Синаит, 1992: 213]. «Потому владычес­
тво принадлежит душе; ибо она пользуется телом, как орудием, руководя
им и направляя» [Иоанн Дамаскин, 1992: 235]. Такая точка зрения имеет
основания, так как, согласно аскетике, «существенно ... во внутреннем
человеке и уме иметь сокровище, благодать, внушение и действие Свято­
го Духа», а тело является только «одеянием» души, поэтому она «вместо
тленных одежд... облечется в ризу Божественного света, по внутреннему
человеку» [Макарий Великий, 1992: 211,220-221]. Высокое достоинство
души, как уже упоминалось, подтверждается фактом личного мистичес­
кого опыта как созерцания (Gecopia) Богоприсутствия в себе. «Ибо ... в
душу твою нисшел Дух Святой», коим просвещается ум человека [Исихий, 1992: 163]. И еще: «Царствие Божие внутри нас, когда Бог бывает
с нами в единении, благодатью Пресвятого Духа ... кто не видит в себе
Царствия Небесного, то есть не видит, что в нем царствует Бог, тот не ро­
дился еще свыше от Божественной благодати» [Симеон Новый Богослов,
1993:214,250].
73
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
Но душа связывается однозначно не только с явлением в ней Божест­
венного (6eo(pdvia), а и с проявлением греха. О забывших Бога душах
св. Григорий Синаит говорит: «Огненные озера суть сладострастные
души, в коих, как в зловонных болотах, смрад страстей питает неусыпающего червя невоздержания, неудержимую похоть плоти, — питает
также змий, жаб и пьявиц злых похотей, скверных и пагубных помыслов
и бесов» [Григорий Синаит, 1992: 187]. Как «соли свойственно истреб­
лять червей и уничтожать зловоние. Таким же образом и всякая душа,
не осоленная Св. Духом ... загнивает и наполняется великим зловони­
ем лукавых помыслов» [Макарий Великий, 1992: 182]. Поэтому основ­
ной заботой духовной аскетики является приобретение благодати Духа,
при помощи которой «образуется», «формируется» внутренний человек
«учением Господа нашего Иисуса Христа» [Аноним, 1992: 436-437].
Формирование осуществляется скрытным, таинственным подвизанием
в духовных пространствах «внутренней сокровенности души», там, где
возможно «отрубать» еще в зародыше греховные мысли, прежде чем они
сделаются «грубыми, чувственными грехами» [Исихий, 1992: 161,80].
Иными словами, «возрождение, конечно, происходит в душе, ибо вера, с
помощью Духа, умеет усыновлять (нас Богу), хотя мы и твари, приводит
к первоначальному блаженству» [Иоанн Дамаскин, 1992: 210]. То есть,
«чтобы здесь еще дать душе жизнь ... и ты, перстный, принял в себя
небесную душу ... тогда совершенный ты человек в Боге и наследник, и
сын» [Макарий Великий, 1992: 197].
Недостаточно, однако, сказать, что аскетическое подвижничество
есть подвижничество внутреннее, ориентированное к внутреннему че­
ловеку или к душе. Оно сосредоточено в еще более скрытой области —
сердце. «Сердце (кар51а), — пишет современный богослов, — по аске­
тическому преданию христианского Востока, есть средоточие челове­
ческого существа, корень деятельных способностей, интеллекта и воли,
точка, из которой исходит и к которой возвращается вся духовная жизнь»
[Лосский В., 1991: 151]. Святоотеческая литература изобилует такими
свидетельствами.
Сердце для аскета, в первую очередь, субстанциальный «центр»
[Каллист Патриарх, 1992: 426], главнейший орган. Сердце «владычественно и царственно в целом телесном сочленении ... ибо там ум и все
помыслы, и чаяние души» [Макарий Великий, 1992: 255]. Сердце, с дру­
гой стороны, самый важный «орган» соприкосновения с Божественным.
Оно «вход» в благодать. С сердца начинается и спасение всего человека.
Потому что если благодать овладеет сердцем, оно превратится в «чистое
74
Глава
2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете православного
учения
сердце» («Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» [Матф., 5: #]),
а из непосредственно действующей «сердечной веры» вытекает «просве­
щение души» [Григорий Синаит, 1992: 185] и «проникает во все части те­
лесного» [Макарии Великий, 1992: 155]. То есть сперва очищается и про­
свещается сердечное, затем душа (весь внутренний человек) и наконец
телесное (внешний человек). В этом случае сердце претворяется в «сер­
дечный рай» [Паисий Величковский, 1902: 8], «и кровь, чрез св. прича­
щение вселяется в сердца наши» [Авва Филимон, 1992: 375], и в них рас­
крывается метафизическое «сердечное небо, в котором обитает Христос»
[Иоанн Карпатский, 1992: 247]. «О чудо! — восклицает мистик. — Того,
Кого я воображал сущим на небе, узрел внутрь себя, — Тебя, говорю,
Творца моего и Царя, Христа» [Симеон Новый Богослов, 1993, 2: 487].
«Ко мне в средину сердца моего ... ниспадает свет и поднимает меня
превыше всего...» [Там же, 3: 70]. Слово Божие «было посеяно в сер­
дцах человеческих» [Макарии Великий, 1992: 171]. «Когда же воздух
сердца чист, то ничто не препятствует уже сиять в нем Божественному
свету Иисусову» [Исихий, 1992: 196]. Из этого вытекает и повеление:
«...В сердце ищи Господа» [Григорий Синаит, 1992: 182].
В святоотеческом учении, однако, сердечное не связывается одно­
значно только с Божией благодатью как пространство, в котором можно
«обрести сокровище, сокрытое на поле сердец ваших и стяжать его...
опытно царствие небесное сущим внутрь вас познать и приять» [Никифор
Уединенник, 1992: 239]. Наоборот — это опасная, таинственно скрытая
зона, сложный антиномический топос, где обитает грех, это «жало смер­
ти», глубоко укоренившееся вследствие преступления Адама [Макарии
Великий, 1992: 165]. Особенно когда вместо того, чтобы просветиться,
«сердечные очи» омрачаются [Там же: 213], и душа не имеет внутри себя
«собственного светильника мысленного света духовного ведения, чтоб
возмог ты непреткновенно шествовать в глубокой ночи века сего» [Марк
Подвижник, 1992: 244]. Тогда «князь лукавства, будучи некой мысленной
тьмой греха и смерти, каким-то сокровенным и жестоким ветром обурева­
ет и кружит весь на земле человеческий род ... уловляя человеческие сер­
дца ... тьмой неведения» [Макарии Великий, 1992: 165]. И вместо того,
чтобы с сердца началось просветление всего человека, из него вытекают
грязные потоки страстей, омрачающие душу, а затем и тело. И «дракон,
князь бездны восстает войной» против человека, который не черпает из
«живого источника Духа, но из сердца своего, как некоего тинного озера,
питающего пьявиц, змий и жаб похотей ... и вода ведения их ... теплохладна» [Григорий Синаит, 1992: 212].
75
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
Для ортодоксальной аскетики, следовательно, сердце человека - или
область, точка (тожк;) соприкосновения с Божественным, или место
(locus) демонического. Потому что, по словам богослова, «никто из нас
не может иметь сердца пустым, но ... всякий имеет в сердце своем одно
из двух: или благодать Духа Святого ... или лукавого диавола» [Симе­
он Новый Богослов, 1993, 2: 337]. Таков смысл и общего представления
св. отцов и подвижников о человеческом сердце как о головокружитель­
ной «бездне», «глубине» [см.: Григорий Синаит, 1992: 190; Марк Под­
вижник, 1992: 484; Диадох, 1992: 247; Каллист Патриарх, 1992: 425; Исихий, 1992: 160 и мн. др.], в которой раскрывается или Божественное «сер­
дечное небо», или «инфернальное сердечное болото». Но в чистом своем
проявлении это «или - или» характерно, так сказать, для конца пути, когда
окончательно постигнута или святость, или падение. В начете аскезы и
на всем его земном пути единственная реальность, раскрывающаяся пе­
ред подвижником, — это непрерывная «духовная брань».
В бездне сердца раскрывается грандиозное зрелище — борьба
между Божественным и демоническим: «...так сердце подвижников
представляет из себя зрелище, там лукавые духи борются с душою,
а Бог и Ангелы взирают на подвиг» [Макарий Великий, 1992: 243]. Но,
конечно, человек не может постичь своего очищения и спасения один,
без соучастия Божия, так как ни один человек не имеет в себе ничего,
чем можно бы спастись, спасение возможно только при помощи силы
Христовой [см.: Симеон Новый Богослов, 1993, 1: 128-132 и др.]. Сле­
довательно, только через со-дружество, синергию человека и Бога воз­
можно спасение.
Основным средством аскетической «деятельности» (npafyq, делание)
является так называемая «Иисусова молитва»79. Суть ее состоит в понуж­
дении ума сойти «из головы в сердце» [Григорий Синаит, 1992: 227]. Этот
процесс приводит к лишению ума его самостоятельности, к отрыву его
от мира, к «сохранению ума от нечистых и скверных помыслов» [Исаак
Сирин, 1993: 11]. «Ибо ум, занятый мирским, не может приблизиться
к исследованию Божественного» [Там же: 286]. Осквернение человека
начинается как раз с ума и, по определению аскета, имеет следующие
степени: прилог, сочетание, соединение, пленение, борьба и страсть.
«Прилог, — пишет св. Иоанн Лествичник, — есть простое слово или
образ, являющийся уму или вносимый в сердце; сочетание есть собе­
седование с явившимся образом ... соединение есть склонение души к
виденному ... пленение есть насильственное и невольное увлечение сер­
дца увиденным ... борьбою называют сильное сопротивление борюще76
Г.'i а в а 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете православного
учения
муся, кончающееся или победою, или поражением ... страстью назы­
вают такое похотливое расположение, которое, вгнездившись в душу ...
соделывается как бы природным ее свойством» [Иоанн Лествичник,
1994: 125]. Поэтому, когда вкладывают ум в сердце, он обязательно дол­
жен быть свободен от любых мыслей, представлений и образов, даже
и от «помыслов, кажущихся десными (добрыми. — Н. //.)» [Исихий,
1992: 179] — иными словами, быть совершенно чистым умом, в котором
должно пребывать только Божие имя. «Собери ум свой в сердце, и оттуда
мысленным воплем призывай на помощь Господа Иисуса, говоря: Госпо­
ди Иисусе Христе, помилуй мя!» [Григорий Синаит, 1992: 216]. «Должно
всегда вращать в пространстве сердца нашего имя Иисус-Христово, как
молния вращается в воздушном пространстве, пред тем, как быть дождю.
Это хорошо знают имеющие духовную опытность во внутренней бра­
ни» [Исихий, 1992: J79]. Это имя, этот единственный «победоносный»,
словесный «священный меч, будучи непрестанно вращаем в упразднен­
ном от всякого образа сердце, умеет обращать их (речь идет о мыслен­
ных пожеланиях. — И. И.) вспять и посекать, и попалять и поедать, как
огонь солому» [Там же: 191]. Вооруженный таким образом Иисусовой
молитвой, ум становится «внутренним», «сердечным умом». После со­
вершения sacrincium intellectus уже не ум, а сердце «умно». «Внутрен­
ним подвизанием», очистив глубины сердца от мысленных врагов, ум
сторожит около «сердечных дверей» и наблюдает, «как и когда и какие
тати хотят войти и окрасть твои грозды (духовное сокровище, сердечный
0г|ссшр6<;. — Н. Я.)» [Иоанн Лествичник, 1994: 219].
Столкновение демонического и Божественного — величественное
зрелище. Оно наблюдается в бездне человеческого сердца и «бывает
причиною венцов или мучений» [Там же: 125], то есть восхождения к
небесному или падения к низшим уровням плотско-земного «смрадного
сердечного болота». Поэтому св. отцы считают, что в этой бездне рас­
положена сакральная антропологическая ось — метафизическая лест­
ница. «Потщись войти во внутреннюю свою клеть, и узришь клеть не­
бесную, — учит авва Исаак, — потому что та и другая — одно и то же
и, входя в одну, видишь обе. Лествица оного царствия внутри тебя со­
кровенна в душе твоей. В себе самом погрузись от греха, и найдешь там
восхождения, по которым в состоянии будешь восходить» [Исаак Сирин,
1993: 10; см. также: Исихий, 1992: 182].
С метафизической лестницей тесно связана и проблема сновидения.
В аскетической святоотеческой литературе сердце — не только «центр»,
«сокровище», «бездна», «место сражения», «зрелище», но и зеркало
11
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и правое/тепе
души: «Как держащий в руке зеркало и смотрящий в него ... видит и свое
лицо, каково оно ... так со всем вниманием смотрящий в сердце свое ви­
дит в оном свое собственное состояние, видит и мрачные лица мыслен­
ных эфиопов (демонов страстей. — Н. //.)» [Исихий, 1992: 162]. Именно
во сне человек получает непосредственное представление о самых пота­
енных плотских вожделениях своей души, «иногда во сне, иногда наяву
издавая нечистоту...» [Марк Подвижник, 1992: 482].
В святоотеческой литературе, как правило, приятные и радостные
сновидения считаются детищами инфернальных влияний, они ложный
«знак прелести». И наоборот - истинны страшные, мучительные сны:
«...итак, верь только тем сновидениям, которые возвещают тебе муку и
суд; а если приводят тебя в отчаяние, то и они от бесов» [Иоанн Лествичник, 1994: J9-20]. Отцы церкви, однако, принимают существова­
ние — хотя и редко — снов-откровений, исходящих из трансценденталь­
ной Божественной области. Они видимы только святым. Такое открове­
ние определяется как неложное ночное видение, образ, порожденный
господствующим в нас началом, объемлющим будущее как настоящее
[см.: Григорий Назиански, 1994: 52, J50]. Следовательно, сновидения яв­
ляются свидетельствами с двух «концов» метафизической лестницы.
Они несут особое знание (yvwaiq) как о временном состоянии тварной
души человека, так и о нерукотворных небесных сферах Божественного
вечного бытия.
Итак, довольно провести даже беглое сравнение с ортодоксальной аскетикой, чтобы убедиться, что она является источником антропологичес­
кой концепции Достоевского. Очевидно, писатель заимствует структуру
и весь словесно-понятийный аппарат святоотеческого учения, не пыта­
ясь интерпретировать или изменять его смысловые параметры. Из всего
сказанного нельзя не заключить, что антропология Достоевского примы­
кает прежде всего к конкретному течению в православии, известному как
«духовная», или «внутренняя аскеза», которое, однако, фиксирует только
одну, хотя и приоритетную, из сторон подвижнической практики; другая
сторона — это «телесная», или «внешняя аскеза». Если в центре первой
находится «внутренний человек», и она стремится к постижению духов­
ного и нравственного совершенства при помощи упорной, постоянной
работы духа, то путь восхождения для второй проходит через строгое
ограничение и испытание телесного.
Так как православие всегда стремилось к полноте Богопознания, оба
эти аспекта взаимно обусловлены. Это общее место в святоотеческом
учении. «Как же ты думаешь и говоришь, — пишет св. Григорий Сина78
Г л а в а 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете привоствного
учении
ит, — будто мы предлагаем преуспеть в молитве (только умным делотворением. —И. Я.) без деятельной жизни (без поста, бдения, поклонов, пла­
ча и т. п.)? — Не это мы утверждаем, а то, что кроме деятельной жизни
требуется еще и умная деятельность, без коей невозможно успеть в мо­
литве ... Но как телом кто делает, так должен делать и умом, чтоб телесно
не казаться праведным, а в сердце быть исполненным всякой неправды и
нечистоты» [Григорий Синаит, 1992: 230]. И хотя не все св. отцы шли тем
же путем [Там же: 220], отклонение в одну или другую крайность счита­
лось отклонением от православия. Особо пагубным считается увлечение
физическим делотворением, т. е. телесной аскезой без связи с внутренней.
В патристике такое отклонение категорически отрицается, и постоянно
подчеркивается приоритет духовного делотворения, но без отбрасывания
телесного. Пост, суровые условия жизни, тяжелый труд, железные вериги,
власяница, множество мозолей на коленях — «[все] это хорошо... [как
принадлежность] умного и сокровенного делания ... Без внутреннего де­
лания вы подобны, пожалуй, прокаженным, одевшимся в светлые одежды
к обману видящих их» [Симеон Новый Богослов, 1993, 3: 236; см. также:
Макарий Великий, 1992: 483\ Григорий Синаит, 1992: 183, 230 и мн. др.].
То же самое относится и к крайностям духовной аскезы.
В этом аспекте можно принять утверждение о том, что религиозное
мировоззрение Достоевского опасно примыкает ко второй тенденции
(внутренней аскезе), и у него нарушается единство внешнего и внут­
реннего, характерное для православной подвижнической практики, что
дает основания большой части исследователей (мнения которых я уже
процитировал) противопоставлять религиозную ментальность писателя
«историческому православию». Подобный тезис кажется основательным
при намеренном рассмотрении антропологии Достоевского вне контекста
исторической ортодоксии. Но настоящие причины, направившие автора
«Братьев Карамазовых» к духовному течению, и цели, которые он ставит
перед собой в своем творчестве, можно понять единственно в сложных
взаимоотношениях двух аскез. Поэтому мне приходится дать более точ­
ное объяснение этой взаимосвязи.
Так называемая проблема двух аскез была и остается актуальна в раз­
ные периоды истории православия, так как она субстанциально связана с
путем Богопознаваемости. Уже упоминалось, что ортодоксальная догма­
тика признает законность обоих методов, при помощи которых постига­
ется уверенность в Божественном бытии, — «внешнего» и «внутренне­
го». Первый направлен к миру, который как творение Божие в своих види­
мых материально-телесных образах осязаемо (хотя и неясно) раскрывает
79
Часть
1 • Ф. Л/. Достоевский и щктосшнис
Божественное откровение, так как такова функция образа — раскрывать
и показывать скрытое. В основу этого метода лег фундаментальный прин­
цип восхождения к духовному через телесное созерцание. Такое знание,
однако, символично, оно всегда остается неточным и приблизительным,
так как знание о невидимом опосредовано видимыми знаками, а они
только подобны и составляют сложную, но ненадежную систему анало­
гий. По своей природе этот метод катафатичен (положителен), так как
пытается выразить невыразимую совершенную Божественную сущность
положительными умопостигаемыми символическими именами, причем,
например, Бог именуется Благим, Всемогущим, Премудрым, Красотой,
Жизнью и т. п., потому что «в своих суждениях о Нем нам следует исхо­
дить из того, что наиболее присуще Ему». Но никакое из этих определе­
ний не в состоянии выразить Его сполна, так как Он «превосходит любое
утверждение» [Дионисий Ареопагит, 1991: 8].
В истории христианской церкви катафазис как общий принцип
наиболее присущ Антиохийской богословской школе. Он выявляется,
например, в ее экзегетическом «историко-грамматическом» методе тол­
кования Священного Писания, характеризующемся специальным внима­
нием к «внешнему», буквальному толкованию исторических фактов без
попытки найти их скрытый или первообразный смысл. Неприязненное
отношение не только к любому аллегоризму, но и к таинственно невыра­
зимому духовному аспекту нарушает в антиохийском богословии чувс­
тво меры и в отношении христологической проблематики. Противопос­
тавляя себя аполинаристской ереси (исключающей из природы Христа
человеческий ум и унижающей тем самым человеческое, что приводит к
антропологическому минимализму), антиохийцы с особой настойчивос­
тью утверждают самостоятельность человеческого естества в Христе и
доходят до своеобразного антропологического максимализма, прибли­
жая Христа к обыкновенным людям — к «только людям» [Флоровский,
1933: б, 8 и далее]. Этот своеобразный гуманизм в конце концов охва­
тывает всю антиохиискую школу и приводит к несторианскому уклону
(принимающему постулат о том, что Иисус родился обыкновенным че­
ловеком, который стал Христом после того как был помазан Святым Ду­
хом). В нашем случае важно то, что усиленный акцент на человеческой
природе и самостоятельности не выходит за рамки «восточного» мона­
шеского аскетизма, преимущественно волевого и часто разрешающего­
ся чисто человеческим героизмом. Этот внешний богословский катафатизм идеологически обосновывает особое внимание к телесному, кото­
рое дает облик физической аскезе, т. е. крайним проявлениям внешнего
80
Г л а в а 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете правое.чанного учения
подвижничества. Не случайно такие проявления наблюдаются в Сирии,
где антиохийское богословие было сильнее всего. Сирийская аскеза со­
единяет отшельничество с «исключительными средствами аскетическо­
го самоумерщвления (еще в IV веке "пасущиеся", POGKOI; впоследствии
подвиг столпников)... Уже с конца IV века возникают монастыри по го­
родам (напр., обитель акимитов, "неусыпающих", в Константинополе)»
[Флоровский, 1933: 143]. По своей сути это «видимое исполнение закона
телом и хождение в заповедях напоказ» [Григорий Синаит, 1992: 183].
Библейский фундамент физических направлений аскетической практики
состоит в понимании тела Христа как храма Божьего: «Иисус сказал им
в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его ... А Он говорил
о храме тела Своего» [Иоанн, 2: 19, 21]. Исходя из этого по аналогии че­
ловеческое тело понимается как храм: «Не знаете ли, что тела ваши суть
храм живущего в вас Святаго Духа?» [1 Кор., 6: 19].
Мирское соответствие катафатического богословия и монашес­
кой аскетики — демонстративная формальная обрядность «церкви в
мире»— характеризуется особым пристрастием к богослужебному
действию, эманацией которого является видимая архитектоника храма.
Материальный храм символически изображает внешний путь Богопознаваемости, потому что катафатизм — это нисхождение Бога к человеку,
чувственное Его обнаружение в видимом храме тела. Связь между телом
и архитектоникой храма, впрочем, находит интересное подтверждение в
«антропологических» названиях отдельных элементов храма. Как пишет
Д. С. Лихачев, «храм — это своего рода человек. Не случайно поэтому
основные части храма названы по подобию человека: окна — это очи
человека (корень «окна» — око), купол — глава, поставлена эта глава
на шее, основание храма — его подошва. А выступы в городских сте­
нах — перси. Защитные от дождя выступы над окнами-очами — бровки.
Двери ... — уста» [Лихачев, 1987, 2: 477-478]. Но этот внешний, «теле­
сный» путь Богопознаваемости успешен только тогда, когда существует
в единстве с «внутренним». О нем также необходимо сказать несколько
слов.
Указанное положение исходит из презумпции, что Бог — абсолют­
ный Дух. Он, следовательно, есть и останется совершенно невидимым
и бесконечно далеким и отличным (по природе) от всего, что мы зна­
ем, так как Боговоплощение (через которое невидимое становится ви­
димым) осуществилось в одной ипостаси (а именно — Иисус Христос)
Триединого Бога — Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, а в своей
Божественной природной сущности он невыразимо различен оттелесно81
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и пршюсчанис
го. Поэтому и аналогии между тварным и нетварным, между внешними
материальными и видимыми формами мира и Божественным не могут
иметь субстанциальной и объяснительной силы. Следовательно, и путь
Богопознания должен идти в обратном направлении — при помощи не
внешне-чувственных аналогий (бескрайнего накопления положительных
определений — так называемых «Божественных имен»), т. е. катафатизма, а наоборот — апофатизма (отрицания): последовательным отбра­
сыванием любых аналогий, определений и имен. Потому что Бог не яв­
ляется чем-то телесным. Он «не есть ни душа, ни дух ... не есть число,
ни порядок, ни великое что или малое» и т. д., и поэтому разговор «о
Том, Кто превосходит любое отрицание, следует начинать с отрицания
того, что наиболее отличается от Него по природе» [Дионисий Ареопагит, 1991:5,9].
В плане общей ментальности этот апофатический (отрицательный)
метод духовно сродни крайнему аллегоризму, характерному для Алек­
сандрийской богословской школы, ставящей акцент на скрытом, внут­
реннем духовном смысле в толковании Откровения и отрицающей историко-грамматический буквализм антиохийского богословия. Неуклонное
следование этому подходу содержит в себе ряд опасностей. Александ­
рийскому богословию еще со времени Оригена угрожает антрополо­
гический минимализм (например, в толковании природы Христа), т. е.
соблазн растворить и погасить человеческое в Божественном, что позже
естественно приводит к монофизитскому уклону, принимающему только
Божественную природу Христа. Александрийское богословие оказыва­
ет определенное влияние на внутреннюю духовную аскезу, характерную
для египетского монашества, менее волевого, более созерцательного и
не в такой степени закаляющего, а, скорее, усекающего волю человека
[см.: Флоровский, 1933: 7].
Ментальный апофазис естественно направляет внимание духовной
аскезы к скрытой области «внутреннего человека», то есть не к видимо­
му, а к невидимому; не к телу, а к душе. Иными словами, не к внешнетелесной, а к внутренне-духовной молитвенной практике. О характере
«умной» молитвы уже говорилось, но здесь надо подчеркнуть особо важ­
ный для последующего анализа факт. Подобно тому как физическая ас­
кеза считает тело храмом, духовное подвижничество останавливается на
архитектоническом характере «внутреннего человека» и считает душу
ч ею века храмом Божиим. Такое понимание находит опору в библейском
тексте: «Разве не знаете, что вы — храм Божий, и Дух Божий живет в
вас?»[1 Кор.,3: 16].
82
Глава 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете правое.твпого учения
Исходя из евангельской истины: «.. .царствие Божие внутрь вас есть»
[Лука, 17: 21], св. Марк Эфесский выражает общую для духовной аскезы
идею о душе как храме: «Мы храм Бога, живущего в нас, и Дух его Бо­
жественный живет в нас» [Цит. по: Паисий Величковский, 1902: 32]. Это
так, потому что «Царствие небесное подобно скинии (храму. — И. И.)
Богоданной» [Григорий Синаит, 1992: 188]. Господь посылает небесный
дождь в душу, чтобы исполнилось Божье обетование: «.. .возставлю и возгражду скинию Давидову падшую» [Макарий Великий, 1992: 214; Амос,
9: / / ] . В этом понимании тело служит только «кабинетом» души — ис­
тинной обители, «естественного монастыря» для человека [Аноним,
1992:437,438].
Очень важно понять, что когда ей приходится ословесить явления
внутреннего, невидимого, духовного мира человека, эта аскетика без ко­
лебаний и постоянно пользуется литургической и архитектурной терми­
нологией храма. Наряду с общим определением души как храма, духов­
ная аскеза пользуется и более детальными обозначениями отдельных зон
внутреннего храма человека. Понятие «храм» обозначает, с одной сторо­
ны, всего «внутреннего человека», т. е. душу в ее полноте как «обитель»,
но с другой — фиксирует только наос (vaoq), ту часть храма, которая
находится перед алтарем. Ум человека, наделенный «словесной силой»
души, традиционно уподобляется священнику, совершающему свою
молитвенную службу во внутренней клетке, т. е. ум обитает постоянно
в наосе. Но душа — не только «наос»: «...во внутреннем человеке ...
поставлен Христов алтарь вместе с нескверным святилищем» [Макарий
Великий, 1992: 249]. Во время умной молитвы, чтобы войти (подобно
первосвященнику) в самую сокровенную, таинственно-сакральную об­
ласть сердечного (святая святых и центр внутреннего человека), ум идет
по «пути дыхания» [Никифор Уединенник, 1992: 249-250] и «входит» в
сердце как в алтарь. В духовной аскетике сердце недвусмысленно пони­
мается как алтарь внутреннего храма человека. Его семиозис идентичен
алтарю материального храма и, как и он, является трансцендентальным
«небом» и «раем» [см.: Иоанн Карпатский, 1992: 247; Паисий Величков­
ский, 1902: 8; Симеон Новый Богослов, 1992, 2: 487 и др.], т. е. духовным
миром и Царством небесным. У сердца, как и у алтаря храма, есть свои
«двери» [Исихий, 1992: 158; Макарий Великий, 1992: 187; Паисий Ве­
личковский, 1902: 35] и «завеса» («...раздери, — пишет св. Иоанн Зла­
тоуст, — сердце твое, а не ризы» [Цит. по: Паисий Величковский, 1902:
35-36]). Через них проходит ум (как священник), чтобы войти в сердце
и совершить богослужение и «священнодействие», принося «Богу таин83
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и правос./авие
ственную жертву молитвы» [Там же]. Этим актом «слова эти (носимые
умом, который, подобно священнику, владеет силой молитвы. — И. И.)
вошли в сердце, стали душою в душе, духом в духе, и Божественная сила
наполнила сердце» [Макарий Великий, 1992: 254]. Так же как в святой
святых ветхозаветного храма Моисея (скинии), в сердце хранятся «скри­
жали», на которых сама «благодать Божия пишет законы Духа и небес­
ные тайны» [Там же: 255]. И подобно мистическому трансценденталь­
ному храму, который таинственно созерцал пророк Иезекииль, храму,
являющемуся прообразом новозаветного храма, из алтаря которого вы­
текает благодатный источник жизни [см.: Иез., 47: 1-12], «вода, что бьет
из сердца, и как бы сказать, приснодвижно движима бывает Духом, всего
внутреннего человека исполняет Божественной духовной росою» [Каллист Патриарх, 1992: 426; см. также: Григорий Синаит, 1992: 225]. Но
в соответствии с устройством алтаря новозаветного христианского хра­
ма в сердце-алтаре расположены «жертвенник» [Паисий Величковский,
1902: 12] и Христов престол, который принимается сердцем и является
«камнем веры» [Григорий Синаит, 1992: 195]. Поэтому претворенные
тело и кровь Христовы через св. причастие «вселяются в сердца» [Авва
Филимон, 1992: 375], и совершается вкушение «агнца на мысленном
жертвеннике души» [Григорий Синаит, 1992: 204].
В контексте сказанного сновидение также находит свое точно опре­
деленное место. Как я уже говорил выше, оно выполняет функции свое­
образной духовной иконописи. Его образы соответствуют живописи
(в архитектонике видимого храма), когда душа вся обращается к Божест­
венному и раскрывает «небесные тайны», т. е. когда уже осуществилось
«обожение» (теозис), и она исполнена благодати Духа. Но если душа со­
прикосновенна с грехом, тогда образы в сновидениях имеют противопо­
ложный куполу «криптуальный» характер, и порождены они помыслами
из «болота сердца», т. е. несут не «небесный», а «хтонический» (точнее,
«подземный») смысл, так как находятся ближе к локусу инфернального.
Таким образом, следовательно, духовная аскетика обнаруживает
и описывает во внутренних пространствах души человека невидимый
храм, аналогичный видимому архитектурному образу храма. И так же,
как внешний храм символизирует физическую аскезу, внутренний храм
является эманацией духовной аскезы. И как фанатичное следование
внешней аскезе по катафатическому методу неизбежно ведет к антро­
пологическому максимализму несторианской ереси, так и неуклонное
следование только внутренней аскезе содержит в себе опасный соблазн
вырождения в антропологический минимализм монофизитской ереси.
84
Глава 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете православного учения
Довольно припомнить только пример с возникшим на Афоне иноческим
движением «именебожцев», или «именепоклонников», фетишизировав­
шим Иисусову молитву в мессалианском духе. Православной церковью
оно было признано еретическим и преследовалось, а монахи выселялись
на Кавказ [см.: Стефанов, 1994: 124]. Наоборот, если не впадать в край­
ность, обе эти аскезы дают законные пути Богопознания. Катафатизм и
апофатизм на самом деле — не разные пути, а только противоположные
направления одного и того же пути. В первом случае «Бог нисходит к
нам в Своих энергиях, которые Его являют». Во втором — «мы восхо­
дим к нему в "соединениях", в которых Он остается природно непозна­
ваемым» [Лосский В., 1991: 33]. Боговоплощение — самая совершенная
теофания (явление Бога в мире), в нем Слово является в видимом храме
плоти, но даже тогда оно остается для нас совершенно апофатическим.
И наоборот, Моисей, — рассуждает св. Григорий Нисский, — на горе вве­
ден в нерукотворную скинию, и это предел созерцания, которого никакие
понятия и образы не могут выразить [см.: Флоровский, 1931: 132]. И все
же Моисей созерцал этот нерукотворный храм, поэтому и стало возмож­
ным впоследствии воздвижение его вещественного образа по повелению
Божию [см.: Исх., 25: 9]. В этом смысле оба храма — невидимый и види­
мый, нерукотворный и рукотворный — как два крайних топоса на мета­
физической лестнице Богопознания, являются феноменами одной и той
же реальности. Огромна здесь заслуга так называемого «византийского
богословского синтеза», в котором преодолеваются крайности антиохийского и александрийского богословии, катафатического и апофатического пути, телесной и духовной аскетики.
После знаменитого ороса на Халкидонском соборе (451 г.) в орто­
доксии утверждается (великими каппадокийцами — святителями Васи­
лием Великим, Григорием Богословом, Григорием Нисским и Иоанном
Златоустом) спасительный «средний путь», объединяющий видимое и
невидимое, телесное и духовное. Ведущими стали слова: «...не укло­
няйтесь ни направо, ни налево; ходите по тому пути, по которому велел
вам Господь, Бог ваш...» [Втор., 5: 32-33]. В антропологическом аспекте
это единство выявляется в цельности внешнего и внутреннего человека,
который воспринимается как средоточие материальной и духовной все­
ленной, как единый духовно-телесный храм, потому что указанные два
начала законны, но только в плане синергизма. Подтверждают сказанное
евангельские слова: «...прославляйте Бога и в телах ваших и в душах
ваших, которые суть Божий» [1 Кор., 6: 20].
85
Часть
I • Ф. М. Достоевский и православие
Св. Максим Исповедник отмечает верхнюю точку этого богослов­
ского синтеза, и не случайно на центральном месте в его знаменитой
«Мистагогии» находится идея о мире, человеке и душе как храме Божием. «Церковь, — пишет преподобный, — есть изображение умопостига­
емого [невидимого, духовного] и чувственного [материального, видимо­
го] миров, потому что символом умопостигаемого мира в Ней является
алтарь, а символом чувственного — храм (имеется в виду наос. — И. И.).
Далее, Она есть и образ человека, так как алтарь представляет душу,
а храм [наос] — тело. Церковь есть также образ и изображение души,
постигаемой самой в себе, потому что алтарем Она являет славу созер­
цательной способности, а храмом [наосом] — украшение способности
деятельной» [Максим Исповедник, 1993, 1: 178-179].
В контексте сказанного о сути обоих типов аскетики, а также в кон­
тексте изложенной православной точки зрения возникает парадоксаль­
ный вопрос: почему Достоевский ориентирован прежде всего на духов­
ную аскезу и почему это не является отклонением от канонов ортодок­
сии? Потому что ясно, что выбор одной позиции исключает другую. Это
так, однако, только при первом взгляде. Противоречие снимается, если
вопрос рассматривается в историческом контексте. Фактологическая
картина проблемы взаимоотношений между аскетическими практиками
(в общем религиозно-мировоззренческом плане) в кратком историческом
экскурсе выглядит так: в раннем христианстве осязаем приоритет внут­
реннего духовного очищения над внешним ритуальным. С появлением
первых монахов в Египте (II в.) эта тенденция была продолжена духов­
ной аскетикой, но она всегда имела оппозицию в лице доминирующего
в Сирии физического аспекта подвижнической практики, развивающе­
го систему строгих телесных ограничений. Это раздвоение достигает
высшей степени в III-IV вв. в деятельности «великих каппадокийцев»
(IV-V вв.), и прежде всего в основополагающих канонизирующих поло­
жениях монашеского кодекса св. Василия Великого, где ограничиваются
крайние тенденции, и обе аскезы уравниваются и сливаются в единую
духовно-телесную практику. Постепенно, однако, телесные аспекты
внешней аскетики активизируются и начинают в трансформированном
виде влиять на официальную (светскую) религиозную ментальность,
принимающую формы внешне-обрядного храмового поклонничества, а
внутренне-духовное делотворение в то же самое время уходит на второй
план. Эта тенденция достигает своей вершины в период государственнополитического расцвета Византии Юстиниана (VI в.) и выражается во
все более нарастающем напряжении между Пустынью и Империей, т. е.
86
Г.I а в а 2 • Мировоззрении Ф. Л/. Достоевского а свете православного
учении
между «церковью в мире» и монашеством. Знак этого времени — уси­
лившееся внимание к храмостроительству, а его высшей образной эма­
нацией и символом становится гигантский купольный храм империи —
константинопольская церковь Святой Софии. С этого момента внешняя
аскеза храмово-обрядного благочестия начинает постепенно стихать за
счет внутренне-духовного, что по своей сути является сооружением,
устроением и укреплением скрытого храма и внутреннего богослужения
в душе подвижника. Эти симптомы намечаются и во все более усилива­
ющейся спиритуализации архитектуры храма (миниатюризации масшта­
бов и фрагментаризации форм). Таким образом, снова восстанавливается
единство в Богообщении, сохранявшееся в течение длительного периода
времени. Но в XIII в. ощущается новое колебание деликатного равнове­
сия. Духовная аскеза видимо активизируется, занимает приоритетное по­
ложение благодаря доктрине исихазма и становится ведущим началом ор­
тодоксальной ментальности. Усилившимся акцентом на созерцательном
внутреннем делотворении (таинственном духовном храмостроительстве)
заканчивается византийский период истории православной церкви.
После падения Византии (XV в.) Россия в течение нескольких веков
остается единственной православной империей, в которой церковь су­
ществует свободно. Здесь также действует эта условно называемая «дихотомно-аскетическая модель», к единству которой всегда стремилась
ортодоксия, но в которой всегда существовала потенциальная возмож­
ность колебаний в ту или другую крайность. В XV-XVI вв. в России обе
практики присутствуют не столько в единстве, сколько взаимно дополняя
друг друга. Ярким представителем духовной аскезы выступал преп. Нил
Сорский - проводник нестяжательства80, по духу близкий к исихазму.
Другой путь утверждает преп. Иосиф Волоцкий, приверженец строго ри­
туализированного обрядного благочестия и физического аскетизма в рус­
ских монастырях81. Я принимаю мнение исследователя, что указанные
преподобные, идя каждый своим путем, все же стремились к одной и той
же цели и ни в коем случае не отрицали, а дополняли и обогащали друг
друга [см.: Кожинов, 1995: 48]. Нельзя отрицать, однако, что после смер­
ти этих великих святых возникают противоположные явления — тече­
ния, известные как «иосифлянство» и «нестяжательство» («заволжские
старцы»), несущие приметы обоих видов аскетики. Напряжение между
ними не стихает до тех пор, пока во второй половине XVI в. иосифлянская тенденция не берет верх, что оказывается особенно существенным
для дальнейших судеб русской церкви. В этот период «уже нет места для
созерцательного делания. В ... синтез не входит лучшее и самое ценное
87
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православие
из Византийских преданий, не входит созерцательная мистика и аскетика, наследие исихастов XIV века» [Флоровский, 1991: 25]. Это обрядное
благочестие, естественно, характеризуется воздвижением «величест­
венных художественных храмов, украшенных вдохновенным иконным
письмом», однако оно остается «недоверчивым и равнодушным» к бо­
гословскому творчеству, т. е. к словесному «строительству» [Там же: 19].
«Иосифлянское учение стало ... официальной доктриной московского
самодержавия» [Алексеев, 1927: 22].
Реформы Петра I еще более усиливают эту тенденцию и доводят
ее до крайности. Более того, преобразования в религиозной области —
прежде всего уничтожение Патриаршества и установление Святейшего
Синода, по своей сути утверждающее цезарепапизм, так как император
реально предъявляет свои претензии быть главой церкви, — в большой
степени превращают церковные институты во внешнеритуальный при­
весок к государству. Это была попытка секуляризации и скрытой про­
тестантской реформации, которая долго держала православную церковь
в вавилонском плену империи и нанесла серьезные и трудноизлечимые
удары православию [см.: Поселянин, 1905: 3-24]п.
Только в конце XVIII в. начинается активный процесс «собирания
с духом» и восстановления «внутренней личности» — духовная аскетика медленно перемещается от периферии к центру Богомыслия. Боль­
шой вклад в это вносит деятельность преп. Паисия Величковского и его
школы, которые восстановили институт старчества в русских монасты­
рях [см.: Четвериков, 1925: 76]. Преподобный Паисий явился прямым
продолжителем внутренней аскетики св. Нила Сорского и «заволжских
старцев». Он остро выступал против ревнителей внешнего благочестия,
считавших «умную» молитву соблазном [см.: Паисий Величковский,
1902:5-6]. Преп. Паисий полностью возвращается к созерцательным
традициям XV в. и устраивает обители на Афоне и в Молдавии по прави­
лам византийского типа монашества, которые он излагает в своем уставе
«Изъявление о чине и уставах» [см.: Четвериков, 1926: 54-55]. Неоцени­
мо значение переводческого дела св. Паисия и его учеников, которым уда­
лось перевести весь корпус «Добротолюбия» (первое издание — 1793 г.)
и ряд знаменитых святых отцов, что оказало огромное влияние на даль­
нейшее утверждение внутренне-аскетического пути. После духовного
подвига старца Паисия центром православного мистагогического духов­
ного строительства становится монастырь Оптина Пустынь. Старцы этой
обители приобретают огромную известность. К ним стекаются люди со
всех сторон России в поисках совета и духовной помощи. Они превра88
Г.i а в а 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете правое.чинного учения
щаются в «живые храмы Божий», в «живые иконы», так как «личность
старца благодатна, потому что сама встреча с ним — уже Пасхальное
событие» [Янакиев, 1991: 208, 210]. Оптина Пустынь становится местом
поклонения и для большой части русской интеллигенции. Монастырь
посещали Н. В. Гоголь, И. Киреевский, К. Леонтьев (принявший здесь
монашество), Вл. Соловьев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, В. В. Ро­
занов и др. [см.: Четвериков, 1925: 75-76; Котельников, 1989, JV» 1: 61-86,
j\b 3: 3-32, № 4: 3-27]. Но хотя этот мощный харизматический центр, ге­
нерирующий духовность в мире, составлял скрытую оппозицию внешне­
му обрядному благочестию, все же нельзя сказать, что все противоречия
были разрешены и что были восстановлены единство и гармония между
двумя аскезами в цельном процессе Богообщения в России.
Рассмотренные в таком историческом контексте, личность и твор­
чество Достоевского приобретают особый смысл. Писатель, несом­
ненно, выступает ярчайшим сторонником оптинского благочестия. Он
полностью поддерживает попытку внутреннего подвижничества к пре­
одолению смертного застоя, «паралича», в который впала церковь пос­
ле эпохи Петра 1 [см.: Котельников, 1989, № 3: 3-32]. И если старчество
является выражением стремления достичь этой цели в церковной среде,
то Достоевский ставит перед собой другую грандиозную задачу — со­
здать своим творчеством средство для восстановления полноты Богопознания, которую нарушила усилившаяся внешняя обрядность. По своей
сути это попытка «генерировать» духовность в церкви, находящейся
«в мире» — творчество его предназначается широким кругам общества,
в которых православие потеряло (или может потерять) влияние, которые
уклонились или отчаянно ищут путь спасения; предназначается людям,
затемнившим в себе «образ и подобие Божие».
Но сказать, что Достоевский близок к духовным исканиям внутрен­
ней аскезы, недостаточно. Надо также сделать существенную оговорку,
что писатель и старчество в этот период не стремятся к гегемонии над
внешнеаскетическим путем. Они никогда не доходят до еретических
крайностей, потенциально содержащихся в фанатическом следовании
внутренней аскезе. В церковно-монашескей среде это, как уже упоми­
налось, «именепоклонники», а примером того, до каких крайностей мог
бы дойти Достоевский, может послужить возникновение целого течения
в церкви - так называемого «ученого, внемонастырского монашества»,
известного также как «белое монашество» — монашества в миру. Ти­
пичным примером петербургского академического инока был, например,
Антоний Храповицкий. Будущий ректор Московской духовной академии
89
Часть
\ • Ф. М. Достоевский и православие
и митрополит переходит из светской школы в духовную академию под
влиянием Достоевского. Автора «Братьев Карамазовых» он считает сво­
им учителем в жизни, наставившим его на веру и пастырский путь. У Ан­
тония намечается крайне односторонний морализм — перенесенный в
церковь идеал деятельного альтруизма. Он мало говорит о таинствах,
а догматизм богослужебного чина считает «низшей степенью». То же
самое характерно для большей части представителей этого движения
[см.: Флоровский, 1937: 426-233]. В таком же аспекте толковала Досто­
евского литературно-философская критика русского религиозного ренес­
санса вплоть до середины XX в.83
Но цель Достоевского и старчества иная — восстановить нарушен­
ное внешним ритуальным благочестием равновесие единого пути Богообщения, что также является целью ортодоксальной ментапьности.
Приведем некоторые примеры в подтверждение изложенного тезиса. Вопервых, отношение Достоевского к личности и делу Петра 1. Оно глубоко
антиномично и ни в коем случае не страдает сектантской одностороннос­
тью. С одной стороны, писатель соглашается с тем, что «грозная душа»
Петра [24: 205] есть причина «паралича церкви» [27: 48] и что «многое
случилось великими предначертаниями Петра, обратившего священни­
ка почти что в чиновника» [21: 255]. По мнению Достоевского, именно
от последователей петровских реформ пошли атеизм и презрение к Рос­
сии. «Русские европейцы неминуемо атеисты, пока оторваны от народа.
Это самое существенное и важное последствие реформы Петра» [Там
же: 266]. Он часто называет этот период рабством и подчеркивает в нем
отсутствие самобытного творчества: «У нас нет культуры, за двести лет
пустое место» [27: 60]. И заключает: «...толчок Петра мешает нашему
естественному развитию» [Там же: 196].
С другой стороны, однако, Достоевский никогда не доходит до край­
него отрицания Петра 1, так характерного, например, для секты расколь­
ников, которые видят в нем только воплощение антихристова начала. Он
видит в Петре 1 «великую душу» с «великими предчувствиями». Согла­
шаясь с тем, что Петр не мог не быть «западником», писатель ни в коем
случае не сравнивает его с жалким и ненавистным типом ограниченного
петербургского западника. «Этот аристократ был в высшей степени рус­
ский аристократ, то есть не гнушавшийся топора, — пишет он. — Правда,
он топор брал в двух случаях: и для кораблей, и для стрельцов» [24: 208].
Но главнейший «подвиг» Петра (как называет его сам Достоевский) —
это то, что он открыл России Европу. Неблагоприятный, с одной сторо­
ны, факт, так как оттуда приходят все идеи, прельщающие Восток (гума90
[ " л а в а 2 • Мировоззрение Ф. М. Достоевского в свете правос.швного
учении
низм, атеизм, социализм и т. д.), с другой стороны, он позволяет России
выполнить свою миссию по спасению мира, показав Европе «настоящий
Христов образ», давно утерянный папско-протестантским миром. То есть
заслуга Петра 1 состоит в том, что он предохранил Россию от соверше­
ния неправды в отношении человечества, не позволил ей замкнуться в
себе и «бездеятельно оставить драгоценность свою, свое православие,
при себе и замкнуться от Европы, то есть от человечества» [23: 46]. Сле­
довательно, важнейший критерий Достоевского, определяющий отно­
шение его к Петру 1 (и вообще к царю) — это то, в какой степени царь
служит православию. Сходным образом он понимает и государство.
Для него в принципе неправильно определять империю как славянскую,
греческую или русскую, «она должна быть православная, — тогда все
понятно» [24: 208]. Этим Достоевский выражает византийское восточ­
но-православное понимание царя и империи как «"избранного сосуда"
Господнего промысла, которым осуществляется Божие предначертание»
[Караянопулос, 1992: 12]. Об искренних монархических убеждениях До­
стоевского, которые полностью соответствуют святоотеческой традиции,
пойдет речь и в другом месте исследования. На данном этапе сказанное
является достаточным аргументом против допущения, что Достоевско­
му был свойственен крайний фанатический уклон в отношении светской
имперской власти, и в частности — к делу и личности Петра I, несмотря
на то, что они нанесли серьезный урон внутреннему смыслу христиан­
ской веры. У Достоевского существует особое, тонко развитое чувство
синергизма и равнопоставленности духовного и светского — восточная
идея, ставшая «краеугольным камнем византийского мироощущения»,
идея, что у обоих этих начал — одна и та же цель: «...привести веру­
ющих к Богопознанию, чтобы спасти их души, и для этого они должны
действовать в гармонии» [Караянопулос, 1992: 78].
Другое важное доказательство, «спасающее» Достоевского от край­
ностей духовного пути, можно видеть в факте, что он никогда не отрицал
ритуального начала. И это подтверждается не только в плане экзистенци­
альном (как мы уже убедились, он строго придерживался всех церковных
ритуалов), но и его историософскими и религиозно-философскими взгля­
дами. Писатель старается подчеркнуть единственно то, что по своей сути
православие — «вовсе не одна только церковность и обрядность, это
живое чувство» [23: J30]. Непрерывно внушая идею, что «православное
дело» — «...вовсе не какая-нибудь лишь обрядная церковность, а с дру­
гой стороны, вовсе не какой-нибудь fanatisme religieux {франц. религиоз­
ный фанатизм. —И. И.)» [Там же: 102]. Именно это «вовсе не» свидетель91
Часть
1 • Ф. М. Достоевский и православии
ствует яснее всего о том, что Достоевский придерживается ортодоксаль­
ного среднего пути, и это предохраняет его как от впадения в «fanatisme
reliqieux» духовной аскетики, так и от апологии или отрицания внешней
обрядности. Он верит в ортодоксальную полноту Богопереживания, и эта
вера роднит его с традиционными святынями исторической православ­
ной церкви. «Так что добытое веками драгоценное достояние, - пишет
он в своем дневнике за 1877 год, — которое надо бы разъяснить этому
темному народу в его великом истинном смысле», не надо выбрасывать
«как ненужную старую ветошь прежних веков» [25: 11-12]. В разъясне­
нии истинного смысла церковного дела как действа, состоящего в нераз­
рывном единстве ритуального и таинственного, видимого и невидимого,
внешнего и внутреннего, телесного и духовного, содержится весь пафос
его религиозной ментальности. Слова «вовсе не» выражают глубокую
тоску по утерянному единству, но параллельно с тем мотивируют твор­
ческую волю Достоевского, превращают его писательский труд в проро­
ческое служение — в миссию для преодоления внешне-телесно-зримого
ритуального соблазна.
И все же приверженность к духовному аскезтизму, к «внутреннему
человеку», к душе, бесспорно, приводит к фундаментальным послед­
ствиям в художественном творчестве Достоевского. Сразу же обраща­
ет на себя внимание то, что в его романах редко встречаются внешние
описания богослужения — церковных служб, молебнов и т. п. Это дает
повод критику К. Леонтьеву (а вслед за ним и ряду других исследовате­
лей) высказать мнение, что, создавая свои романы, Достоевский «очень
мало о настоящем (то есть о церковном) христианстве думал» [Леонтьев,
1992: 50]. Все перечисленное здесь раскрывает несостоятельность этой
точки зрения. Достойный ответ обвинениям такого рода дает В. В. Роза­
нов, который пишет, что если созданное Достоевским не соответствует
типу русского монашества XV1I1-XIX вв. (слова Леонтьева), то оно со­
ответствует типу монашества IV-X вв. [см.: Розанов, 1992: 187]. Однако
и это суждение не совсем точно, потому что, как мы убедились из при­
веденного выше исторического экскурса, духовный аскетизм не являет­
ся приоритетом только раннехристианского монашества 1V-IX вв., но
имеет место и в позднейших периодах истории церкви. В данном случае
важно другое. Отсутствие описанных внешних храмово-литургических
форм в произведениях Достоевского совершенно не означает, что они
не присутствуют другим, скрытым, невидимым для телесных чувств
образом. Наоборот: как раз таинственное их присутствие организует
художественный мир писателя в соответствии с неизменными законами
92
Г л а в а 2 • Мирово прение Ф. М. Достоевского в свете православного
учения
духовного храмостроительства и внутреннего литургического праксиса.
Это мистически роднит Достоевского с историческими церковно-ритуальными формами традиционного православия.
Иными словами, так же, как видимый храм, богослужение является
эманацией внешнеаскетического пути, а невидимый храм и ритуалы в
душе — внутреннеаскетического, и как видимое и невидимое храмовое
литургическое отражаются друг в друге, подобно предмету и его отра­
жению в зеркале, так и художественный мир Достоевского в словесной
форме отражает комплекс храмово-литургической ортодоксии, причем,
с одной стороны, скрывает формы видимого храмово-литургического
«жеста», а с другой — делает зримым невидимое их духовное содер­
жание. В связи с этим я припоминаю народное предание, рассказанное
Вячеславом Ивановым в связи с «русской идеей», но особо подходящее
в данном случае. Он говорит о сооружении на земле невидимой церкви
из невидимых камней, во время которого даже сами строители не будут
чувственно воспринимать сооружаемое, пока невидимое не раскроется в
славе [см.: Иванов, 1994: 326]. Можно сказать, что у Достоевского речь
идет именно о сооружении такого незримого словесного храма. Но это
пока что только преждевременное заключение.
Из сказанного здесь на данном этапе можно прийти к общему выво­
ду, что явление «Достоевский» как в экзистенциальном, так и в религиоз­
но-идеологическом (мировоззренческом) плане неотделимо от тради­
ций ортодоксальной церковности, а смысл его творчества вряд ли можно
объяснить адекватно вне принципов восточно-православной каноники.
Мне предстоит показать, как именно влияет догмато-мистическая орто­
доксия на конкретный эстетический продукт писателя.
Часть 2
Роман Достоевского:
проблемы поэтики
(типологические аспекты)
Глава 1
В поисках образа храма
В контексте заданной проблематики творчество Достоевского де­
монстрирует совершенную свою несовместимость с установленными
представлениями о художественной литературе84. Более того: еще при
жизни миссию его воспринимали как тип пророческого служения, при­
том не в переносном, а в буквальном смысле. Эта специфическая «абберация» вытекает из особых целей, которые ставит перед собой писа­
тель, скорее практических, нежели эстетических. «А занимательность
я, — утверждает он, — ставлю выше художественности» [29, кн. 1: 143].
Хотя и крайнее, это высказывание могло бы послужить нам ориентиром
в поисках творческого пути писателя. В принципе там, где у Достоев­
ского мы встречаем апологию «художественности», она является прежде
всего в защиту стремления помочь выражению «мысли» и преодолеть
«скуку» [24: 77]. Поэтому «художественность» (в широком смысле) вы­
ступает в роли «носителя», вспомогательного средства, и подчиняется
сверхзадаче — преодолнию кризиса, в который впала восточная религи­
озная ментальность в современной ему действительности. Этот кризис
автор «Бесов» болезненно ощущает как «дисгармонию» на всех уровнях
[см.: 24: 161 и др.], и прежде всего как нарушенную полноту общения с
Богом (непонимание собственного «православления»). Все перечислен­
ное, со своей стороны, является прямым следствием духовной болезни
внутреннего человека, проявляющимся в распаде единства общества,
личности и субстанции человеческого лика в целом.
94
Глава
1 • В поисках образа храма
Одна из крайних метастаз гуманистического мировоззрения находит
у Достоевского очень точное определение — «обособление». «У нас на­
ступила, — пишет он, — какая-то эпоха всеобщего "обособления". Все
обособляются, уединяются... Всякий откладывает все, что прежде было
общего в мыслях и чувствах, и начинает с своих собственных мыслей
и чувств» [22: 80]. Распад красивых форм жизни обусловливает край­
нюю фантастичность эпохи как времени исторического разлома, ха­
оса и разложения. Уже не может быть и речи о каком-нибудь едином
мире. В ускоряющемся темпе началось «химическое разложение наше­
го общества на составные его начала» [Там же: 83]. Обособление ста­
новится мифологемой эгоцентризма нового времени. Для Достоевского
оно — вернейший признак, что определенное явление принадлежит к
сфере демонического. Обособление характерно для папства, названно­
го «самым страшным "обособлением" из всех грозящих миру» [22: 90],
а следовательно — и для социализма, так как он «порожден» папским
католицизмом [26: 86] и унаследовал его [Там же: 87]; для иудаистского «status in statu» [25: 81-86]; для спиритизма [22: 99]; для современ­
ного русского интеллигента [25: 198-202]; для «случайного семейства»
[Там же: 178, 187]. Нечто странное происходит и с самим человеком.
Обособленный индивид не только заперся в свое «подполье» и потерял
связь с людьми, в нем начинает рушиться единство собственной его лич­
ности — она обособляется от самой себя, раздваивается. Процесс этот
писатель точно и глубоко запечатлел в «Двойнике» и «Записках из под­
полья». Не случайно Достоевский называет «двойничество» своей «пре­
восходной идеей» [26: 66], а двойника определяет так: «величайший тип,
по своей социальной важности, который я первый открыл и которого я
был провозвестником» [28, кн. 1: 340]. В «Приговоре» показан прямой
результат этого духовного заболевания: самоубийство, логический акт
тотального нигилизма и последняя степень обособления [см.: 24: 310].
Причины, приводящие к такому драматическому концу, Достоевский ви­
дит в безверии. Человек отвернулся от Бога, отбросил основополагаю­
щую в православной онтологии концепцию о мире как едином и гармо­
ническом целом. «Природа, чрез сознание мое, — говорит самоубийца
в "Приговоре", — возвещает мне о какой-то гармонии в целом. Челове­
ческое сознание наделало из этого возвещения религий ... И для чего бы
я должен был так заботиться о его сохранении после меня — вот воп­
рос?» [23: 146]. Писатель видит, что причиной трагедии современного
человека является его внутренняя раздвоенность, которая делает его не
способным придать целостность бытию. Это означает, что в объективно95
Часть
2 • Роман Достоевского: прошемы
полпики
материальном плане человек становится на сторону разрушительного на­
чала, а в мистически-религиозном противопоставляется творческой воле
Бога, который, по словам св. Василия Великого, изначально связал своей
любовью весь мир [см.: Котельников, 1989, № 1: 81]*\
Драма человека состоит в его роковой роли для творения. Он может
стать священноопасным, так как по своей природе и по положению в
мире он не просто часть изначально связанного любовью целого, а цель
творения. В иерархии материального мира человек занимает последнюю,
верхнюю ступень. Он поставлен властвовать над мирозданием и несет
ответственность за его судьбу, притом прежде всего в духовном аспекте,
так как «цель, к которой устремлен и направлен весь процесс мирово­
го бытия, — это сознательно-разумный и свободный дух» [Сильвестр,
1914: 3: 147]. Иными словами, окончанием всего на земле служит дух
человека, и следовательно, по отношению к нему не только весь земной
чувственный мир, но и сама его телесная оболочка не более чем своего
рода пьедестал, служащий духу. Вот почему человек должен стремить­
ся к «цельному духу», так как духовное единство выражает цельность
бытия. Иными словами, мир действительно настолько же един, на­
сколько един человек [см.: Котельников, 1989, № 1: 80-81]. И это надо
понимать не фигуративно-аллегорически, а буквально. Потому что, ор­
ганизуя свою душу в глубине и внутренне уплотняясь, человек вносит
цельность в свое идеальное и материальное отношение к миру — под­
держивает изначальную его связанность в организованный космос. Он
получил от своего создателя высшее предназначение: объединять види­
мый и невидимый мир (как «тело» и «душу»), и тем самым превратился
в средоточие всего творения [см.: Мейендорф, 1982: 340-341]. Поэтому
святоотеческая патристика рассматривает человека не как небольшое от­
ражение видимого космоса, а как нечто несравненно большее — как кос­
мос космоса («коашэи коашэс;»), или же как «новый космос», созданный
лучшим и более возвышенным, чем зримый мир [см.: Григорий Нисский,
1861: 136]. Следовательно, тварное бытие в целом (включая видимое и
невидимое) и человек в своей целости (включая тело и душу) соотносят­
ся не как большое к малому, а эквивалентны. Как говорил св. Григорий
Палама: «Человек ... этот большой мир, заключенный в малом, является
средоточием всего существующего и возглавленном творений Божиих»
[Цит. по: Успенский Л., 1989: 194]. Указанная формула является общим
местом в святоотеческом учении. Величие человека «заключается не в
том, что он — микрокосмос, малый мир в большом, а в его назначении,
в том, что он призван стать большим миром в малом» [Успенский Л.,
96
Глава
1 • В поисках образа .храма
1989: 424]. Трагическая возможность разрушения целости мира вытекает
из свободы человека выбирать зло или добро, разрушение или любовь.
Изощренным своим апокалиптическим восприятием Достоевский ощу­
щает приближение решительного, неизбежного для человека выбора.
В этом драматическом контексте надо понимать значимую метафизичес­
кую функцию его последних романов, входящих в так называемое Пяти­
книжие: «Преступление и наказание» (1866), «Идиот» (1868), «Бесы»
(1872), «Подросток» (1875) и «Братья Карамазовы» (1880). Они были
задуманы как средство, при помощи которого автор стремился положить
конец углубляющейся бездуховности; они полностью подчинены высо­
конравственной христианской мысли, формула которой — «восстановле­
ние погибшего человека» [20: 28].
Эту формулу, которую он высказывает еще в 1862 г., Достоевский
считает «основной мыслью всего искусства девятнадцатого столетия» и
придерживается ее как главной творческой программы действия в период
после каторги. Без сомнения, гигантское романное Пятикнижие являет­
ся именно тем великим произведением, которым он пытается воплотить
«всю, целиком, ясно и могущественно» главную христианскую идею
«восстановления» [Там же: 29]. В чем суть этой несомненно фундамен­
тальной для формирования творческой концепции писателя мысли?
Действительно, как надо понимать слова «восстановление погибше­
го человека»? Еще в 1849 г. критик П. В. Анненков (1813-1887) утверж­
дал, что рассказ Достоевского «Честный вор» (1848) выражает стремле­
ние раскрыть те светлые струны души, которые человек сохраняет всег­
да, даже впав в сферу порока, т. е. является попыткой восстановления
(rehabilitation) человеческой природы [см.: Анненков, 1849: 4-5]. Это
мнение сразу же становится определяющим почти для всех критиков До­
стоевского, притом до новейшего времени.
Эта действительно эффектная формула очень точно характериует
творческие поиски писателя до 1849 г., но одновременно с тем ее меха­
ническое применение к периоду после каторги (когда были произнесены
слова Достоевского о восстановлении погибшего человека), т. е. после
глубинного духовного переворота, наступившего в сознании автора «Бе­
сов» и «Братьев Карамазовых», по меньшей мере неточно и, мне кажется,
совершенно недопустимо. Причины, в связи с которыми эта характерис­
тика теряет свою объяснительную силу, весьма важны.
Объяснение слова «восстановление» как «rehabilitation» не случайно.
Будучи широко образованным либералом-западником и человеком, дол­
гое время жившим в Западной Европе, именно П. В. Анненков познако97
Часть
2 • Роман Достоевского:
прошены
поэтики
мил В. Г. Белинского и его окружающих с идеями французских утопичес­
ких социалистов и философов — П. Леру, Е. Кабе, Ж. Санд, П.-Ж. Прудона, О. Конта и др. Как известно, «rehabilitation» — ключевое понятие
в теории французского социального «нового христианства» 30-40-х гг.
XIX в. Следовательно, у критика слово «восстановление» приобретает
определенный смысл — сходится со значением социального термина
«rehabilitation». Но допущение, что французский эквивалент должен бы
указывать на источник идеи о понятии «восстановление» [см.: Бочаров,
1995: 155], т. е. что писатель ищет опору в уже отброшенной им в это
время идее о социальном христианстве, или, точнее, «христианском со­
циализме», глубоко неверно. Еще раз подчеркиваю: у Анненкова были
основания применять этот термин в отношении раннего Достоевского,
так как в это время (когда был создан «Честный вор») писатель действи­
тельно находился, хотя недолго, под влиянием сен-симонистской теории
утопического социализма. После 1860 г., однако, автор «Преступления и
наказания» предельно четко и последовательно отграничился от нее. Нет
надобности приводить подробные доказательства — их много. Общеиз­
вестно, что вряд ли можно найти более убежденного противника социа­
лизма (тем более, скрытого под маской христианства), чем Достоевский.
Еще в мае 1849 г., впрочем, он называет фурьеризм «вредной системой»,
которая «очаровывает душу» и «обольщает сердце» — «утопия, самая
несбыточная» [18: 133]. Я приведу также несколько свидетельств, нахо­
дящихся в непосредственной временной близости с высказанной писате­
лем формулой «восстановления». Для великого романиста все — «и Рус­
со, и французская революция ... и социализм», и даже самые заманчивые
и утонченные социальные теории — представляет продукт формальной
рассудочной логики Запада, точнее, «продукт католического христиан­
ства», т. е. все они вытекают из силы ада [20: 190-191]. «Из католическо­
го христианства вырос только социализм, — писал он в 1863 г., — из на­
шего вытекает братство» [Там же: 177]. «Социалисты хотят переродить
человека, освободить его, представить его без Бога и без семейства ...
Но человек изменится не от внешних причин, а не иначе как от перемены
нравственной» [Там же: 171]. «Социализм назвался Христом и идеалом,
а здесь Христос или там... не верьте» [Там же: 193]. И, наконец, «мы
приняли Святого Духа, а вы к нам несете формулу» [Там же: 205]. Пос­
леднее выражение особо важно для нашего анализа, так как проявляет
характерные особенности двух противоположных для Достоевского «на­
чал: католического и византийского» [20: 171].
98
Глава
1 • В поисках образа .храма
Позже (в 1873 г.) в своем «Дневнике писателя» автор открыто при­
знается: «...но тогда понималось дело еще в самом розовом и райсконравственном свете ... социализм сравнивался тогда ... с христианством
и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку
и цивилизации» [21: 130]. Однако «социализм» и «христианская правда,
сохранившаяся в православии», — начала противоположные [24: 185].
Вообще в случаях, когда он упоминает термин «социализм», Достоевский
имеет в виду в первую очередь именно утопические идеи Сен-Симона,
Фурье и их последователей. С течением времени в творческом наследии
писателя все чаще встречаются даже открыто инвективные высказыва­
ния против представителей демократической социально-утопически на­
строенной русской интеллигенции, притом не только против Белинского
и его круга в целом, но и персонально против деятельности П. Анненкова
[см.: И: 108-109 и др.].
Своеобразным доказательством того, что Достоевский не использу­
ет слово «rehabilitation» в значении «воскресение» или «возрождение»
человека, может послужить тот факт, что слово это встречается только
один раз (в подготовительных материалах к роману «Идиот» 1868 г.) и
употреблено, скорее всего, в смысле «реабилитация» [см.: 9: 275]. Это
очевидно, так как там, где писатель имеет в виду именно воскресение
души или ее перевоспитание, он неизменно пользуется понятием «вос­
становление», а не французским «rehabilitation». О своем любимом ге­
рое, князе Мышкине, автор пишет следующее: «...он перевоспитывает
Н[астасью] Ф[илипповну] и воскрешает душу» [Там же: 24б]\ «он был
«верен сладостной мечте» — восстановить и воскресить человека!»
[Там же: 264] (курсив автора. — Н. Я.) и т. д.
Следовательно, значение фундаментального для эстетики Достоев­
ского понятия «восстановление» не эквивалентно и ни в коем случае не
исчерпывается смыслом, который несет в контексте французского со­
циального «нового христианства» термин «rehabilitation». Его значение
следует искать в совершенно ином аспекте. Поэтому мне приходится вер­
нуться к первоначальному вопросу: какое содержание вкладывает писа­
тель в понятие «восстановление»!
Очевидно, что после каторги Достоевский вкладывает в это слово
несколько иной смысл, и это подтверждается словами, записанными в
черновой тетради за 1875-1876 гг. Я процитирую их без предваритель­
ных комментариев, «ббразить, — пишет он, — словцо народное, дать
образ, восстановить в человеке образ человеческий. "Образить челове­
ка", "ты хоть бы образил себя", — говорят, например, долго пьянствую99
Часть
2 • Роман Достоевского: проачсмы
шитики
щему. Слышано от каторжных» [24: 12б-J27]. В этих словах внимание к
себе привлекают два момента. Во-первых, неразрывная связь, устанав­
ливающаяся между понятиями «восстановление» и «образить». Во-вто­
рых, выражение «образить человека» Достоевский перенимает от наро­
да — точнее, от народного предания, и это действительно очень важное
свидетельство, которое дает нам возможность адекватно истолковать его
смысл.
Слово «образить» — объемное понятие, включающее широкий се­
мантический аспект, но, как мы увидим, в корне оно несет один общий
смысл. Вот некоторые из близких к нему значений этого слова, найденные
в словаре В. И. Даля: «придавать чему образ», «обделывать», «представ­
лять», «изображать», «улучшать духовно, просвещать», «благословлять
образом (иконой. — Н. Я.)». Отсюда и образ, образец — «вещь подлин­
ная, истотная ... по размеру и подобию коей другие вещи должны изго­
товляться». Образный — «представляющий какой-либо внешний образ,
вид, очертанье». Образ — «вид», «подобие предмета, изображенье его».
В этом контексте В. И. Даль приводит следующие распространенные в
народе выражения: «Нет вещи без образа», «Бог создал человека по обра­
зу и подобию Своему», «Дом выстроен во образе креста, крестом» и т. д.
Отсюда и образоносец — «Богоносец, носящий икону в крестном ходу».
Или образоборец — «иконоборец» и т. п. [Даль, 1989, 2: 613-614].
Если вернуться к приведенным выше словам Достоевского, выясня­
ется, что писатель толкует народное слово «образить» точно так же, как
«дать образ», но уточняет, что это значит «восстановить в человеке образ
человеческий». Для автора «Братьев Карамазовых», однако, этот «образ
человеческий» — не гуманистическая абстракция, он неотделим от ис­
конной задачи человека быть «образом и подобием Божиим» [см.: 22: /9;
14: 270 и др.]. То, что образ человеческий для Достоевского в дейст­
вительности Богоданный образ, подтверждается самой возвышенной мо­
литвой, написанной великим романистом: «Господи, благодарю Тебя за
лик человеческий, данный мне ... Вы чувствуете, что это (мир, звезды)
не выше вашей мысли (здесь писатель буквально придерживается общей
святоотеческой идеи о человеческой душе как большом мире, более вы­
сшем, чем все мироздание. — И. //.), и за это счастье чувствовать это вы
обязаны лишь вашему лику человеческому» [24: 116]. Эта вдохновенная
апология бессмертной человеческой души создана Достоевским в то же
самое время (1875-1876 гг.), что и указанное выше выражение, притом
записана только за несколько страниц до него. Очевидно, она является
100
Глава
I • В поисках образа храма
нераздельной частью идеи «восстановления в человеке образа челове­
ческого».
И не случайно это проникновенное сознание писатель восстанав­
ливает в себе именно при соприкосновении с народом. Период каторги
для него — «большая школа», настоящее просветление, целая духовная
эпоха. Он признается: «...от него (народа. — И. И.) я принял вновь в
мою душу Христа, которого узнал в родительском доме еще ребенком и
которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в "европейс­
кого либерала"» [26: 152]. Всеволод Соловьев припоминает слова Досто­
евского: «Сибирь и каторга! Говорят: ужас, озлобление ... ужаснейший
вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью, я там себя по­
нял ... Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я
сам русский, что я один из русского народа» [Соловьев Вс, 1990: 212].
Знаменательные слова, в которых чувствуется духовный экстаз от сопри­
косновения с верой и ортодоксальной соборной душой народа, единс­
твенно несущей в себе неискаженный образ Христов, т. е. свой прообраз
и подобие, потому что «идеал народа — Христос» [26: 150, 152]. Рас­
крывается феномен заново открытой веры («перерождение моих убеж­
дений» — по словам Достоевского [21: 136]) в реальном вслушивании в
устное церковное предание, имманентно живущее в народе.
Выражение «образить человека» — не что иное, как отражение в
экзистенциальном устном бытии фундаментальной идеи православия —
идеи анакефалиосиса, т. е. восстановления. Ее суть состоит в стремлении
возвратить творению его первозданную чистоту и гармонию, нарушенные
грехом первочеловека. И это воссоздание начинается в первую очередь с
восстановления человека, что становится возможным и осуществляется
при помощи Божьего домостроительства — оглавления (аусхкесраАлксац)
человека Богом, чтобы восстановились в нем «образ и подобие Божие».
Эта идея восходит к корням святоотеческого ортодоксального учения, и
раскрыта она в предельной чистоте еще в сочинениях основоположника
христианской догматики св. Иринея Лионского (II в.). «Итак, — пишет
святой, — Один Бог Отец ... и Один Христос Иисус Господь наш, име­
ющий придти по всеобщему устроению и все восстановляющии в Себе.
Во всем же есть и человек, создание Божие; поэтому, и человека восстановляя в Себе Самом, Он невидимый сделался видимым, необъемлемый
сделался объемлемым и чуждый страдания страждущим, и Слово ста­
ло человеком, все восстановляя в Себе» [Ириней Лионский, 1978: 688].
Итак, выражение Достоевского, употребленное им в 1862 г.,— «восста­
новление погибшего человека» — адекватно отражает смысл народных
101
Часть
2 • Роман Достоевского:
проблемы
поэтики
слов «образить человека» из устного церковного предания, а они, со сво­
ей стороны, являются переводом ортодоксальной идеи анакефалиосиса.
Круг замыкается. «Восстановление» как основное понятие в эстетике
писателя в действительности означает «найти в человеке человека»
[27: 65], восстановить его Божественный лик — эйкон («erej^i») челове­
ческой души. Этому было уделено достаточно внимания в связи с ико­
нографической проблематикой произведений Достоевского.
В этом контексте писатель понимает и функцию искусства как «инс­
трумента» восстановления. Искусство призвано поддерживать «еще в
обществе высшую жизнь» и «будить души» [25: 100], так как он втайне
надеется, что «словами поймешь и перевернешь убеждения данной ми­
нуты в обществе» [Там же: 6]. Для него литература — «лекарство», оно
«всегда современно, насущно-полезно». И, что важнее всего, оно помо­
гает человеку «в отыскании идеала» [18: 101]. А идеалом для души, по
глубокому убеждению Достоевского, является исконно присутствующий
в ней Божественный отпечаток — Христов лик. Согласно вере писателя,
Христос — «вековечный идеал», потому что душа человека, как гово­
рит Тертуллиан, а за ним и вся патристика — «по природе христианка»
[Тертуллиан, 2004: § 17]. Богочеловеческий отпечаток в душе можно
уменьшить, затемнить, даже изувечить, но его нельзя уничтожить. В этом
состоят и сокровенная вера, надежда и упование Достоевского, его неуга­
симый гуманистический пафос. «Ибо и отрекшиеся от христианства и
бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова
облика суть» [14: 756]. Как призыв, как исповедь звучат слова: «Христи­
анство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог.
Это величайшая идея и величайшая слава человека...» [25: 228]. Цель
состоит в том, чтобы «при полном реализме найти в человеке челове­
ка» [27: 65], найти истинный, неискаженный человеческий образ, рав­
ный Божественному. И для автора «Братьев Карамазовых» это не бред в
стиле западноевропейского гуманизма. Он категорически подчеркивает:
«направление мое истекает из глубины христианского духа народного»
[Там же].
Писатель мечтает о том, чтобы душа человека постигла имманен­
тное свое благообразие. «Благообразность» — это вторая основная ка­
тегория в нравственно-религиозных исканиях Достоевского; отсутствие
же ее превратилось в самую характерную черту русского «культурного»
человека, оторвавшегося от веры, духа и религиозного предания народа.
«Благообразия не имеют, даже не хотят сего», — скажет с тоской Макар
Долгорукий в романе «Подросток» [13: 302]. Трепетно и в бреду ищет
102
I л а в а 1 • В поисках образа храма
благообразия и Подросток: «В них нет благообразия!» — «Кончено,
думал я в исступлении, с этой минуты я ищу "благообразия", а у них
его нет, и за то я оставлю их» [Там же: 291]. Проповедует благообразие
против безобразия и другой любимый автору герой романа «Братья Ка­
рамазовы»— старец Зосима [см.: 14: 261, 267-268]. Но приобретение
благообразия означает, наряду с очищением, и прояснение в душе затем­
ненного грехом Богочеловеческого образа, т. е. явление, «знаменование»,
«показывание» (ср. выше смыслы слова «образить») ее канонического
(первообразного, истинного, правообразного) иконизма, означает еще и
ее устроение, организацию, «формирование», преодоление современно­
го ее хаотического (без-образного, бесформенного, неблагообразного —
в противовес благообразному [16: 379, 390]) состояния и «сведение ее
к одному целому» (см. значения «образовать»). Иными словами, вмес­
то того, чтобы остаться безобразной, душа должна приобрести (скорее,
восстановить) «структуру», благообраз — осязаемую форму. Из этого
вытекает и по-настоящему важный вопрос: если Достоевский прежде
всего «слишком чуткий тайнозритель человеческой души» [Флоровский,
1991: 299], а его художественный мир строится полностью и единственно
из субстанции души [см.: Улф, 1983: 76], и все его творчество — «внуше­
ние внутреннего человека» [Иванов, 1916: 39], на основании каких прин­
ципов, каких духовных законов она, эта душа, устраивается и является,
развертывается, показывает себя художественно-словесным образом в
романном мире писателя?
Соприкосновением с устным народным преданием Достоевский
навсегда освобождается не только от атеистской «прелести», но и от
общехристианского «гуманизма». У него утверждается вера, что «в
православии ... одном сохранился Божественный лик Христа во всей
чистоте» [21: 59], что оно — «один Христов образ» [24: 264]. Это, сле­
довательно, означает восстановление души, но не на основании какихлибо общих христианских принципов; это также не возрождение ка­
кой-то абстрактной христианской души, а восстановление конкретно
православного образа души, души, которая не прерывала невидимого
духовного общения с своим Первообразом (Христовым эйконом) и к
которой в действительности относятся приведенные выше слова Тертуллиана: «Anima humana naturaliter Christiana» («Человеческая душа по
природе христианка»).
Сказанное еще раз, хотя и другим образом, подтверждает выведен­
ное уже положение о субстанциальной связи Достоевского (в данном
случае — его художественного творчества) с духом и принципами право103
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
славного учения, и точнее, с одним из направлений в ортодоксии — ду­
ховной аскетикой. О причинах, приводящих к этой зависимости, я гово­
рил уже достаточно, теперь пора поговорить о последствиях. Они сущест­
венны, в первую очередь с методологической точки зрения. Напомню,
что если символическим эйконом внешней аскетики является видимый
образ храма, а внутренней — невидимый храм души, то эти два храма
субстанциально изоморфны, так как (в ортодоксальном единстве) они
представляют две стороны одной и той же метафизической реальности.
Это означает, что если утеряно единство богообщения (например, в пе­
риоды религиозного кризиса), то затемненную часть образа можно вос­
становить созерцанием доминирующей части. В данном случае это ви­
димый храм, потому что доминирующей в эпоху Достоевского является
внешне-ритуальная сторона ортодоксии. Иными словами, художествен­
ный мир писателя является отражением и апологией внутренней аскезы
(затемненной части) для восстановления утерянного единства; Достоев­
ский, следовательно, воплощает соборный образ души, образ невидимо­
го храма. Адекватно раскрыть этот образ, однако, возможно только в его
зримом телесном эквиваленте (доминирующей части), в видимом образе
храма. Исследователь сталкивается с той же трудностью, что и художник-тайнозритель (как, в принципе, и каждый мистик), которому прихо­
дится писать о духовных реалиях: образно придать этому личному мис­
тическому опыту словесную форму. В обобщенном виде можно сказать,
что здесь я применяю метод, при помощи которого «невидимое созер­
цается посредством видимого», потому что «весь умопостигаемый мир
представляется таинственно отпечатленным во всем чувственном мире
посредством символических образов» [Максим Исповедник, 1993,1:
159-160]. Этот метод подтверждается Св. Писанием: «...ибо невидимое
Его, вечная сила Его и Божество... через рассматривание творений види­
мы» [Рим., 1: 20]. Процесс этот, разумеется, не односторонний — от ви­
димого к невидимому, он протекает также и от незримого к зримому, так
как находится в зависимости от того, какой именно образ (ere|)i) ближе
человеку на определенном этапе. С особой силой это действительно для
духовно-телесного перихорезиса (лерг/ор^ац) храма — этого взаимо­
проникновения видимого и невидимого, которое представлено великим
ветхозаветным тайнозрителем пророком Иезекиилем как образ «колеса в
колесе» [Иез., 1: 16]. Иными словами, исходя из явленности («феноме­
нальности») бытия и восходя к идеям («логосам»), мы снова возвращаем­
ся к тому же самому бытию, но уже не в явленности, а в его смысловой и
духовной сущности, и замыкаем этим круг познания. Итак, чтобы познать
104
Глава
\ • В поисках аорта
храма
внутренний, бесплотный храм христианской души, о котором еще только
по презумпции допускаем, что он художественно воплощен Достоевским
в бессмертном романном Пятикнижии, состоящем из «Преступления и
наказания», «Идиота», «Бесов», «Подростка» и «Братьев Карамазовых»,
необходимо проанализировать особенности и смысл внешнего телесно
осязаемого образа храма.
•
*
*
Самые авторитетные знания о видимом протообразе храма, естест­
венно, положены в священном библейском тексте. Первый факт, который
подчеркивается в Писании, — это Богоданиость образа храма. Прямым
следствием этого является полное исключение случайности. Например,
выбор места для святилища, как пишет выдающийся исследователь этой
проблематики, «не следствие личных размышлений и личной инициати­
вы», оно строится там, «где прозревается благоволение Божие» (курсив
автора. - И. И.) [Шиваров, 1992: 389]. Этот факт подтверждается данны­
ми, известными еще со времени патриархов: только после видения Авраам
воздвиг жертвенник [см.: Быт., 12: 6-8]. После сновидения о таинствен­
ной небесной лестнице, по которой поднимаются и спускаются ангелы,
Иаков поставил камень на месте сна и нарек месту имя Вефиль (евр. «дом
Божий») [см.: Быт., 28: 12-19]. Требование о сверхъестественном повеле­
нии соблюдалось и позже при устроении мест культа [см.: Суд., 6: 22-24].
Известно, что переносной еврейский храм, так называемая скиния, оста­
навливался или трогался в путь по непосредственному указанию Бога,
который являлся как облако, покрывающее скинию на собрании. Днем он
был подобен облаку, а ночью становился блестящим как огненный столб
[см.: Числ., 9: 15-23]. Каждый раз, когда облако поднималось над скини­
ей, сыны Израилевы снимали свой священный шатер и отправлялись в
путь, а там, где облако останавливалось, они снова воздвигали его. Царь
Давид также воздвиг жертвенник там, где увидел Ангела Господня и где
позже Соломон должен был построить величественный Иерусалимский
храм [см.: 2 Царств., 24: 17-25].
Случайность недопустима и в другом отношении — недопустимо
включение своевольного, чисто человеческого, «тварного» элемента в
субстанциально-трансцендентальную структуру храма. Согласно биб­
лейскому тексту, у храма Божественное происхождение. Известно, что
на горе Синай Бог показал его образец пророку Моисею, причем высшее
105
Часть
2 • Роман Достоевского:
проСиамы
полпики
повеление звучало так: «...все, как Я показываю тебе, и образец скинии
и образец всех сосудов ее; так и сделайте» [Исх., 25: 9].
Вывод: с одной стороны, все «элементы» храма богоданиы, они не­
сут свой образный смысл и связаны в единый архитектурный образ; с
другой же стороны, образ, смысл и расположение остаются неизменными
до акта самого Боговоплощения. То есть до акта, в котором Сам невиди­
мый становится видимым, формы храма остаются только предобразами
настоящего храма Божия — тела Христова. Но до этого знаменательного
события осталось еще много времени, поэтому я вернусь к рассмотре­
нию предобразного облика храма.
Итак, скиния собрания,
воздвигнутая Моисеем, была
сакральным центром на разных
уровнях: место для встречи с
Богом; своеобразное место пре­
бывания Иеговы как царя Израилева; место для богослужения
и получения Божественного от­
кровения; место для аудиенций,
во время которых пророк выслу­
шивал разные спорные мнения
и просьбы народа. Не впадая в
подробности, попытаюсь пред­
ставить в общем виде архитекто­
нический смысл храма Моисея.
Первый важный принцип, воп­
лощенный в нем, — это строгая
иерархичность в организации
пространства. Скиния всегда
располагалась в центре стана.
Шатры священника, левитов и
двенадцати израилевых колен
располагались вокруг в точно
указанном порядке [см.: Числ., 2:
2-29]. Сама скиния была распо­
ложена в центральной части
двора, окруженного забором, от­
деляющим сакральную зону от
профанной (схема 1). В духов106
Святая
святых
Алтарь каждения
®
Семисв'ечник
(Трапеза
предложения!
Умывальница!
Алтарь всесожжения
Схема I
Глава
1 • В поисках образа храма
ном смысле внутреннее пространство двора находилось на неизмеримо
высшем уровне от окружающего его пространства стана. К этому двору
имели доступ все евреи. Здесь был расположен алтарь всесожжения, на
котором приносились жертвы. Он был срединным топосом между воро­
тами двора и дверью в скинию, находясь все же ближе к входу во двор,
чем к действительному входу в храм. Сама скиния делилась на два по­
мещения. В первом, называемом святым местом, также стоял алтарь,
но он принципиально отличался от алтаря всесожжения, так как на нем
приносились в жертву не животные, а благовоние фимиама, поэтому он
назван кадильным жертвенником и фиксирует более высокую ступень
духовного служения [см.: Исх., 30: 6-10; 40: 26-27]. В святое место име­
ли право входить только священники [см.: Евр., 9: 6]. Центром святос­
ти в храме 1Моисея являлось последнее помещение — святая святых.
В нем находился ковчег, содержащий каменные плиты (скрижали) Завета
[см.: Исх., 25: 16; 3 Царств., 8: 9]. Сюда имел право входить только один
человек — первосвященник, притом только один раз в году [см.: Исх.,
30: 10; Евр. 9: 7]86.
Иерархичность отдельных зон подчеркивается и другим образом.
Чем больше по размеру и чем ярче освещено данное пространство хра­
ма, тем оно профаннее. Двор скинии занимает наибольшую площадь и
освещен естественным солнечным светом. Святое место значительно
меньше и освещено светильником [см.: Исх., 25: 31-39]. Святая святых
еще меньше по объему и лишена какого бы то ни было освещения. Пос­
тепенное ослабление видимого света символизирует усиление духовного,
а также и трудность личного восхождения от профанного к сакральному,
от внешнего к внутреннему очищению, от тварного, материального и ви­
димого бытия к духовному миру, к совершенно невидимому и непозна­
ваемому Богу.
Другая особенность образа ветхозаветного храма Моисея заключа­
ется в обязательной ориентации по оси «запад — восток», причем святая
святых (важнейшая зона) всегда находится на западе, а, соответственно,
святое место, двор с алтарем всесожжения и вход — на востоке (схема 1).
Иными словами, входящий в область храма обязательно стоит спиной к
востоку и лицом к западу, и по мере передвижения его на запад сакральность на всех уровнях повышается. Согласно Маймониду (1135-1204) —
одному из галахистов, занимающихся «устным учением» Галахата,
которое бытует наряду с письменными предписаниями Торы, — пред­
почтением к западу евреи хотели подчеркнуть свою противоположность
107
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
язычникам, которые кланялись на восток в честь астрального божест­
ва— Солнца [см.: ЕЭ, 15: 691].
Экзегеза Талмуда объясняет эту каноническую ориентацию храма к
западу, а не к востоку тем, что на западе, по мнению евреев, находится
Шехина. В еврейской богословской литературе «Шехина» (буквально —
«пребывание») означает сложное понятие, служившее в послебиблейское время для обозначения одного из имен Бога; оно выражает конкретно
один из его атрибутов — отношение Бога к миру, в особенности к еврей­
скому народу. Шехина выражает идею о реальном присутствии Бога в
мире: в скинии или в своем народе [см.: Исх., 25: 8]; на месте, выбранном
Господом для пребывания его имени [см.: Второз., 12: / / ] ; в Иерусалиме
[см.: Зех., 8: 3 и др.]; на горе Сион [см.: Ис, 8:18 и др.]; в храме [см.: Иез.,
43: 7]. Шехина напоминает филоновское понятие «Logos» — эманационное вторичное божество, выполняющее роль посредника между Богом и
миром, так как локализовать можно только Шехину, но не и вездесущего
Бога. Поздняя мидрашистская литература (поздняя еврейская экзегетика)
иногда представляет Шехину как самостоятельное существо, находяще­
еся между Богом и миром. В роли посредника, или ипостаси, является
Шехина и у поздних представителей иудейско-арабской школы. Это по­
нятие используется везде, где мазоретский текст говорит о телесности
Бога и о его связи с материей. Если надо обобщить — в большинстве
случаев Шехина означает имя Бога и обозначает разные его отношения
к миру: пребывание Бога во всем народе, его вездесущность, его личное
проявление и т. п. [см.: ЕЭ, 16: 20-23; МНМ, 2: 642]. Поэтому святая свя­
тых находится на западе, там, где объективируется Божие присутствие.
Переносной ветхозаветный храм, хранящий ковчег завета, также имеет
иносказательное значение. Оно восходит к символике Ноева ковчега, яв­
ляющегося первой человеческой церковью, заключившей новый завет с
Господом [см.: Быт., 9: 1-16]. Наподобие ковчега, плавающего над вол­
нами потопа (которые лились 40 дней) как в настоящей водной пусты­
не [см.: Быт., 7: 17-24], скиния Моисея сорок лет скиталась в пустыне
(наложенное Богом наказание сформулировано именно так — «год за
день» [Числ., 14: 13-34]) и — как Ной — достигла спасительного берега
Обетованной земли. Наподобие ковчега, который как семя несет в себе
всю физическую и духовную жизнь на земле [см.: Быт., 6: 18-21; 7: 1-3],
скиния является моделью всего мироздания, принимая «образ и вид не­
бесного» и даже «всего творения» [Иоанн Дамаскин, 1992: 308]ю. Она
повторяет прямоугольную форму ковчега, и три ее зоны по горизонтали
(двор, святое место, святая святых) духовно воплощают вертикальную
108
Глава
1 • В поисках образа .храма
троичность вселенной, нашедшей отражение в ковчеге Ноя [см.: Быт.,
6: 16]. Таким образом, скиния, с одной стороны, показывает видимую
преемственность культа, а с другой, является новым этапом в раскрытии
богоданного образа храма.
Свое буквальное воплощение скиния Моисея находит в стационар­
ном Иерусалимском храме, построенном Соломоном. Важно подчерк­
нуть особое, срединное место, на котором он воздвигнут. Это место, гора
Мория [см.: 2 Парал., 3: У], также было указано сверхъестественным об­
разом (Ангел Господень указал на него царю Давиду [см.: 2 Царств., 24:
17-25]). Согласно талмудистскому преданию, которое в большей своей
части поддерживается и христианскими отцами церкви, здесь родился
Адам; здесь он построил алтарь в честь Бога; здесь Каин и Авель при­
носили жертвы, а Ной воздвиг алтарь после потопа [см.: Быт., 8: 20]. На
этой «Господней горе» [см.: Быт., 22: 14] Авраам был готов пожертвовать
Богу своего сына Исаака [см.: ЕЭ, 15: 691]. Таким образом, от духовного
семени скинии произрастает будущий образ храма. Он повторяет ос­
новную идею храма Моисея (схема 2). В целом пространство его также
троично, но с той разницей, что иерархичность здесь в высшей степени
усилена обособлением нескольких зон двора, дифференцирующих этапы
духовного восхождения. Сохранена и ориентация по оси «запад— вос­
ток», причем главный вход находится на востоке, а святая святых распо­
ложена на западе. После разрушения храма Соломона Навуходоносором
и возвращения евреев из вавилонского плена храм был восстановлен при
царе Зоровавеле [см.: 1 Ездр., 2: 1; 3: 8-13]. Начинается эпоха второго
иерусалимского храма, который, несмотря на то, что был лишен блеска
Соломонового, был построен по образцу первого [см.: ЕЭ, 15: 682-685].
Расширение храма при царе Ироде Великом не характеризуется никаки­
ми существенными изменениями в его идейно-религиозном архитекто­
ническом образе. Наоборот — он еще более приближается к храму Соло­
мона [Там же: 685-691]. В этом неизменном виде Иерусалимский храм
существовал до окончательного разрушения (в 70 г. н. э.). Этим заканчи­
вается эпоха ветхозаветного образа храма и полагается начало новоза­
ветного.
Новозаветная герменевтическая традиция прослеживает предобразные отношения Христа (респективно — христианской церкви) с первой
церковью Ноя. Сорокадневный пост Иисуса в пустыне аналогичен пото­
пу, лившемуся сорок дней. Согласно св. апостолу Петру, Ноев ковчег яв­
ляется предобразом Христовой церкви — вошедшие в нее и уверовавшие
в Христа спасаются подобно спасшемуся от утопления потомству Ноя.
109
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
Воды же потопа — предобраз очищающей воды святого таинства кре­
щения [см.: 1 Петр, 3: 21]. Поэтому в «Апостольских преданиях» (III в.)
категорически указано, что христианский храм должен быть продольной
формы, «подобно кораблю», т. е. конкретно имеется в виду структура
построенного Ноем ковчега.
ПЛАН ХРАМА ВРЕМЕН ХРИСТА
ПШ^ШШШЯёШШя
A. Святая святых
B. Святое место
C. Алтарь всесожжения
D. Медная умывальница
E. Священнический двор
F. Израилев двор
G. Никаноровы ворота
Н. Женский двор
Схема 2
ПО
I. Красные ворота
J. Языческий двор
К. Восточные ворота
L. Притвор Соломона
М. Царский притвор
N. Внешняя стена
О. Разные помещения
Г л а в а 1 • В поисках образа храма
Существует аналогия между Христом и патриаршескими святилища­
ми второго (послепотопного) культового этапа, святилищами типа «ма­
цеба» — камнем, воздвигнутым на высоких местах (мацеба (евр.) — ус­
тановление, воздвижение [ЕЭ, 10: 721]). В библейском тексте говорится,
что после своего видения Иаков «взял камень, который он положил себе
изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на верх его» и дал
ему имя «Дом Божий» [Быт., 28: 18-19]. В духовном смысле этот символ
присутствует и в скинии 1Моисея в виде вытесанных им каменных скри­
жалей [см.: Исх., 34: 4], хранившихся в ковчеге завета [см.: Исх., 25: 16].
Их можно рассматривать как своеобразный переносной «памятник»
(мацеба) откровения. В эпоху иерусалимского храма каменный символ
трансформируется в так называемый «камень основания», находящийся
в алтаре (святая святых), на котором ставится ковчег завета, или камень
под ачтарем всесожжения, на котором, по преданию, Ной совершил
первое послепотопное жертвоприношение [ЕЭ, 15: 667, 676]. В новоза­
ветной традиции символ камня является стойким предобразом Христа
[см.: Деян., 4: 11], который назван «живым камнем» [1 Петр, 2: 4]. Сам
же Спаситель, имея в виду ветхозаветный текст [см.: Пс, 117: 22-23],
говорит о себе: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделал­
ся главою угла; это от Господа, и есть дивно в очах наших» [Мф., 21: 42;
Мк., 12: 10-11; Лк., 20: 17]. Более того: уверовавшие в этот камень веры,
положенный в основу Сиона Господом, — «камень испытанный, краеу­
гольный, драгоценный, крепко утвержденный» [Ис, 28: 16], сами упо­
добляются «живым камням», которые воздвигают из себя духовный дом
(храм) и приносят «духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусу Хрис­
ту» [1 Петр, 2: 5]. На Петре как на камне воздвигнется церковь Хрис­
това, «и врата ада не одолеют ее» [1Мф., 16: 18]. Глубинный семиозис
камня воплощен в архитектонике христианского храма расположенным
в алтаре престолом, обычно каменным [см.: Нестеровский, 1931:94].
В интересующем нас аспекте таинства и ритуальные действия, соверша­
емые при устроении и освящении престола, очень важны. Я опишу их
коротко.
Действия этого обряда несут таинственное значение и своим про­
исхождением уходят в глубокую древность. Обряд начинается с молит­
вы и призывания Св. Духа. Устроение престола указывает на незримое
присутствие Господа среди верующих для их освящения. Доска свято­
го престола прикрепляется четырьмя гвоздями, напоминающими о рас­
пятом Спасителе. Углы престола, обозначающие Христов гроб, укреп­
ляются особой благовонной смесью, названной воскомастих (смесь из
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы
полпики
воска, мастики, толченого мрамора, росного ладана, алоэ и др.) в знак
благоуханной смеси, которой Никодим и Иосиф помазали снятое с рас­
пятия тело Спасителя. После укрепления совершается омовение престо­
ла — это древнее и священное действие описано еще в Ветхом Завете
[см.: Лев., 16: 16-20]. Прежде всего он омывается теплой водой с мы­
лом, после чего вытирается полотенцем, и начинается второе омовение,
состоящее в троекратном крестообразном излиянии красного вина, сме­
шанного с розовой водой. Это делается в память того, что церковь умыта
и освящена кровью Христовой, предобразом которой была жертвенная
кровь, которой Моисей окропил алтарь при освящении скинии [см.: Лев.,
8: 24]. После омовения архиерей приступает к таинству помазания пре­
стола св. мирром в знак Божией благодати, что также восходит к древ­
ности — Иаков помазал камень елеем [см.: Быт., 28: 18-19]; Моисей, со
своей стороны, освятил алтарь скинии помазанием елеем [Числ., 7: 7].
Так же, как новоокрещенный человек надевает особую одежду, престол
после омовения и миропомазания облачается двумя одеждами (нижней,
названной срачица, и верхней — индития), окропленными святой водой.
Нижняя одежда опоясывается веревкой, напоминающей о тех, которыми
был связан Христос, когда привели его к Анне и Каиафе. После этого
престол облачается и в верхнюю одежду, индитию, на которую возлага­
ются соответственно илитон, антиминс, Евангелие и распятие [см.: Нестеровский, 1931: 341-343,347-349; Вениамин, 1992, 1: 9-16и далее]. Из
сказанного ясно, что камень в Ветхом Завете символизирует следующую
степень в раскрытии образа храма и является одновременно с тем пре­
добразом новозаветного, который, со своей стороны, представляет уже в
чистом виде его истинный образ.
Ту же параллель проводит новозаветная традиция между Хрис­
том (соответственно — христианским храмом) и следующей степенью
(третьим этапом) в раскрывании ветхозаветного образа храма — скинией
Моисея. Апостол Павел объясняет это высшее иносказательное значение
скинии. В своем послании евреям он говорит следующее: «Ибо Христос
вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное,
но в самое небо» [Евр., 9: 24], «придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения» [Там же: 11].
Поэтому и христианская иконография изображает одежду Спасителя в
тех же сакральных для ветхозаветной традиции тонах — красном и си­
нем [см.: Ин., 19: 2, 5], в которые окрашены покрывала скинии и одежда
первосвященника [ср.: Исх., 25: 4\ 26: 7; 39: 7; 2 Лев., 3: 14]. Этим подчер­
кивается, с одной стороны, значение Христа как единственного верхов112
Глава
1 • В поисках обраю
храма
ного первосвященника и истинной нерукотворной скинии; с другой же
стороны, красный хитон и синий схиматий Спасителя «символизируют
соединение во Христе
Божественной и человеческой его природы»
[Языкова, 1995: 64].
Параллель между Христом и последним ветхозаветным культовым
образом — Иерусалимским храмом — очевидна. Слова Иисуса «разрушь­
те храм сей, и Я в три дня воздвигну его» [Ин., 2: 19] воспринимаются
излишне прямолинейно. Иудеи признают, что они относятся к величес­
твенному каменному храму в Иерусалиме, ап. Иоанн, однако, поясняет:
«А Он говорил о храме тела Своего» [Ин., 2: 21], т. е. ориентирует их
к телу Христа, чем провоцируется первая ассоциация: Иерусалимский
храм — Иисус, а также вторая: тело Христово — единственный настоя­
щий храм Божий, новый образ храма.
Христианский храм повторяет формаль­
ную структуру ветхозаветного и, как и он,
представляет модель вселенной (схема 3).
В горизонтальном плане нартекс (или при­
твор) соответствует двору, наос («корабль
верных») — святому месту, алтарь — святой
святых, «царские врата — завесе, отделя­
ющей помещения скинии, а алтарный пре­
стол— ковчег завета» [см.: Вагнер, 1986:
169]. В вертикальном же плане «корабль»
христианского храма также троичен: подзем­
ная часть (крипта), средняя наземная часть
(притвор, наос, алтарь) и верхняя часть (вер­
хняя зона стен и купол) — чем он аналогичен
трехэтажной архитектонической конструкции
Ноева ковчега.
Следовательно, образ христианского
храма имплицитно содержит в себе преды­
дущие этапы культа. Это, с одной стороны,
освящает традицию, указывает на богоданность предыдущего (ветхозаветного) обра­
за, а с другой, фиксирует новый уровень все
Схема 3
более полного раскрытия его истинного Бо­
жественного характера. Но хотя в новозаветном храмовом облике виден
отпечаток ветхозаветной преемственности, он принципиально отличен
и не является отражением предыдущей храмовости; то есть ветхозавет113
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
ный храм не первообраз новозаветного; наоборот — он только тень его,
только степень восхождения к истинному образу храма. Иными словами,
христианский храм непосредственно воплощает Божественный Перво­
образ и, так сказать, «старше» «старого», потому что является адекват­
ным отражением Вечносуществующего и возвещается самим Сыном
Божиим. Еще в ветхозаветные времена пророк Иезекииль таинственно
созерцал его субстанциально отличающийся образ. Это видение пред­
восхищает фундаментальное отличие новозаветного храма — ориен­
тацию сакральной части (алтаря) к востоку, а не к западу, предопреде­
ленную перелокализацией Шехины (объективации присутствия Божия)
на восток. «И вот, — говорит пророк, — слава Бога Израилева шла от
востока, и глас Его — как шум вод многих ... И слава Господа вошла в
храм путем ворот, обращенных лицом к востоку» [Иез., 43: 2, 4]. И еще:
«...привел он меня обратно ко внешним воротам святилища, обращен­
ным лицом на восток, и они были затворены. И сказал мне Господь: воро­
та сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими,
ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены» [Иез., 44:
1-2]. То есть единственный вход с востока (на запад), ведущий в святая
святых ветхозаветного храма, уже закрыт для людей — как в христиан­
ском храме, где нет дверей с восточной стороны, а входят с западной.
Из-под порога храма потекла «вода на восток, ибо храм стоял лицом на
восток» [Иез., 47: 1], и она «животворит» и «оздоровляет» все [см.: Иез.,
47: 3-12] как образный символ спасительного крещения язычников бла­
годатью Св. Духа [см.: РИПКВЗ, 1990: 200]. Именно такое понимание
выражает и св. евангелист Иоанн Богослов, который, подобно пророку
Иезекиилю, описывает архитектонику православного Иерусалима и реку
с водой жизни [Откр., 22: 1-2]. Противоречие между этой пророческой
книгой и ритуальными и храмовыми вопросами ветхозаветного чуть не
стало поводом объявить ее неканонической и изъять от законоучителей
[см.: ЕЭ, 8: 580]. Ввиду своей трудной умопостигаемости и таинствен­
ности книга прор. Иезекииля была причислена евреями к книгам, назы­
ваемым геназин (сокровенные), и ее нельзя было читать людям моложе
30 лет [см.: БЭ, 1991:52/].
Введенный пророком Иезекиилем мистический метод объяснения
духовных реалий через архитектурные образы находит широкое прило­
жение позже в практике христианской аскетики {в особенности внутрен­
ней, описывающий храмовый характер человеческой души), о чем уже
упоминалось. Принято считать, что Иезекииль осуществляет переход
«от национально-социальной этики первого храма к религиозно-индиви114
Глава
\ • В поисках образа храма
дуальной этике второго храма, то есть от поздней библейской апокрифно-псевдо-эпиграфической и талмудической этики, с одной стороны, к
христианской — с другой» [ЕЭ, 8: 574]. Именно Христос является тем
источником живой воды [см.: Ин., 7: 38-39], о котором говорит Иезекииль, и через подаваемую Им благодать спасаются все верующие. Но
связь Востока с Божественным прослеживается и в ряде других мест
библейского текста. Например, у пророка Захарии: «...и станут ноги Его
в тот день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к восто­
ку» [Зах., 14: 4]. Сидя на той же Елеонской горе, сам Господь говорит о
себе: «...как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада,
так будет пришествие Сына Человеческого» [Мф., 24: 3, 27].
Боговоплощение полностью подтверждает пророческие видения. Как
свидетельствует библейский текст, присутствие Иисуса Христа — Сына
Божия «локализуется» как раз в самой восточной зоне Иерусалимско­
го храма, так называемого притвора Соломона [см.: Ин., 10: 23; см. схе­
му 2]. В связи с тем, что Христос является уже настоящим Жертвенным
Агнцем [см.: 1 Петр, 1: 19], пришедшим, чтобы заменить ежедневно при­
носимую перед алтарем Иерусалимского храма жертву [см.: Бек, Бран,
1922: 51], переструктурируется вся ветхозаветная архитектоника храма,
причем низкосакральная в иудаистской традиции восточная область
(например, жертвенник, или так называемый «алтарь всесожжения» —
см. схемы 1, 2) в христианском Новом Завете превращается в сверхсвя­
щенную зону, в алтарь, престол, гроб и славу Господню. Поэтому самая
восточная часть иудейского храма — постоянное место пребывания и
проповедования апостолов [см.: Деян., 3: 11]. Иными словами, соверша­
ется решительное перемещение сакрального центра с запада на восток,
и это перемещение получает каноническое подтверждение во всей но­
возаветной патристике. Например, в интерпретации Лактанция Книги
Бытия Бог разделил землю на две противоположные части — восточную
и западную. Восток имеет прямое отношение к Богу, который является
истинным началом света, духовным и невидимым солнцем, просвеща­
ющим людей и ведущим к бессмертной жизни. Тертуллиан, обращаясь к
библейской символике, указывает, что голубь как «образ» (figura) Св. Ду­
ха любит восток, образ (figura) Христа. Лодка, на которой Иисус плавает
вместе с учениками по бурному морю [Мф., 8: 23-24], представляется об­
разом (figura) Церкви. Ипполит Римский также изображает социум мира
как бушующее море, а Церковь — как спасительный корабль на нем. Нос
корабля — это Восток, корма — Запад [см.: Бичков, 1981: 128-J29, 250].
св. Климент Александрийский подчеркивает, что Сын Божий, как солн115
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
це, освещает и просвещает всех человеков [Цит. по: Сильвестр, 1913, 2:
287-288]. Строго противопоставлен Запад Востоку и в объяснении та­
инства крещения св. Кириллом Иерусалимским: «Понеже место види­
мой тьмы есть Запад, сатана же, будучи тьма, во тьме и державу имеет».
И наоборот: «Когда же ты отрицаешься сатаны (Ис, 28: 1) ... тогда от­
верзается тебе рай Божий, на Востоке насажденный (Быт., 2: 8) ... Озна­
чая сие, обратился ты от Запада к Востоку, стране света» [Кирилл Иеру­
салимский, 1991: 3/7, 319]. «Во время молитв все смотрим на восток ...
при сем ищем древнего отечества» [Василий Великий, 1993, 3: 334]. То
же самое подтверждается и св. Симеоном Солунским: «...архиерей об­
ращает крещаемого лицом к западу, как бы що тьме, происходящей от
запада, в которой пребывает диавол». А поворачивается потом лицом на
восток, потому что там находится «небесное жилище Христа, которому
имя — восток» [Вениамин, 1992, 2: 342, 339].
Несмотря на то, что это разумеется само собой, я хочу еще раз под­
черкнуть, что поклонение на восток — сторону солнечного света — не
означает поклонения и обожествления солнца, как это имеет место в
языческом мире или в некоторых поздних манихейско-синкретических
религиях вавилоно-персидско-древнееврейско-гностического типа. Как
пишет преподобный Иоанн Дамаскин, «мы поклоняемся на восток не
просто и не случайно ... так как Бог есть духовный свет (1 Иоанн, 1: 5)
и Христос в Писании называется Солнцем правды (Малах., 4: 2) и Вос­
током (Зах. 3: 8), то и должно посвятить для поклонения Ему восток»
[Иоанн Дамаскин, 1992: 289]. Следовательно, «фотодосия» (свет как дар
Божий), или образ солнца, является только семантическим кодом хрис­
тианского Бога, и этот образ эстетически канонизируется как ведущий в
семантическом порядке христианских образных символов [см.: Мончева,
1984: 40].
Конечно, это изменение в образе храма, хотя и существенное, не
остается единственным. Изменения как архитектонического, так и бого­
служебного характера многочисленны. На некоторых я остановлюсь спе­
циально при детальном рассмотрении параметров нового христианского
святилища. Из сказанного здесь выяснилось, что, во-первых, ничто в
новозаветном образе xp(WQ Ие случайно, потому что — подобно ветхоза­
ветному — он также богоданный (трансцендентный по происхождению),
но, в отличие от первого, который был дан только одному человеку (Мои­
сею), он раскрывается в откровении Св. Духа всей христианской церкви.
Во-вторых, новозаветный храм становится наиболее совершенной визуа­
лизированной моделью невидимой духовной природы. Следовательно, для
116
Глава
\ • В поисках образа храма
верующего сознания христианина, каким бесспорно является и сознание
Достоевского, именно новозаветный (христианский) храм есть видимый
образ человеческой души. А так как творческий интерес писателя, как я
уже отметил, направлен к внутреннему человеку, точнее, к душе челове­
ка с целью разгадать эту тайну и создать «великие образы души русской»
[26: 148-149], иными словами — к созданию словесного художествен­
ного образа души, то из этого следует, что христианский храм делеги­
руется как формальный первообраз метафизической поэтики поздне­
го романа Достоевского. Это утверждение можно считать резонным, в
первую очередь, если оно найдет подтверждение в житейских фактах,
свидетельствующих об особом интересе писателя к архитектуре хрис­
тианского храма, и во вторую — если действительно будет доказано,
что романная поэтика Достоевского является адекватным отражением
поэтики храма.
Рассмотрим конкретные факты. Первым из того, что запечатлелось
в сознании молодого Достоевского в религиозном плане, действитель­
но был образ храма. Детство будущего писателя протекало в атмосфе­
ре серьезного отношения к вере, и одно из первых его воспоминаний
неразрывно связано с храмом [см.: Гроссман, 1922: 66; Лосский Н.,
1994: 36]. Это воспоминание художественно воплощено в его романах.
В «Подростке» — в словах Аркадия: «...а вас, мама, помню ясно толь­
ко в одном мгновении, когда меня в тамошней церкви раз причащали.
<...> Голубь пролетел насквозь через купол, из окна в окно» [13: 92].
Позже, в модифицированном варианте, это воспоминание находит место
в романе «Братья Карамазовы»: «...точно вижу вновь, как возносился
из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое
окошечко, так и льются на нас в церковь божьи лучи» [14: 264]. О ме­
тафизической функции «святых воспоминаний» детства, воссоздающих
«святыню души» [25: 172], пойдет речь в другом месте. На этом этапе
важно подчеркнуть, что самым драгоценным для Достоевского в них яв­
ляется присутствие образа храма. «Каждый раз посещение Кремля и
соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других,
может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. Я очень
часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие впечатления, боль­
шею частию, выносит из своего детства уже теперешняя современная
нам молодежь?» [21: 135].
В связи с этим особо важно иметь в виду специфику обучения До­
стоевского в Главном инженерном училище. Усиленные занятия рисо­
ванием и черчением архитектурных сооружений [см.: 28, кн. 1: 36, 37;
117
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы
поттки
26: 72] неимоверно развивают у будущего писателя чутье к визуальному
образу в целом. Более того — знаменателен тот факт, что он выбирает
в качестве курсовой работы именно чертеж христианского культового
здания — Кельнского собора [см.: Баршт, 1989: /62], он «с благогове­
нием чертил его еще в юности» [5: 48], что свидетельствует уже о со­
знательном интересе и профессиональном отношении к архитектонике
христианского храмостроительства. Увлечение Достоевского церковной
архитектурой связано не только с образованием строительного инжене­
ра. Внимание к образу храма не ослабевает у него и после окончания
инженерного училища, наоборот — оно углубляется. В период после
каторги, когда «привел наконец Господь увидать Обетованную землю
(Россию. — Н. Я.)», наиболее сильное впечатление производит на него
церковная архитектура Троице-Сергиева монастыря. «Что за архитек­
тура, какие памятники, — восклицает он, — византийские залы, церк­
ви!» [28, кн. 1: 362]. И позже в его письмах из Европы мы постоянно
сталкиваемся с отзывами о великих храмах западного мира: Нотр-Дам
[28, кн. 2: 38], собор св. Петра в Риме, Миланский собор [Там же: 52,
319], венецианский собор св. Марка [29, кн. 1: 57] и др. Достоевский как
знаток в особенности русской церковной архитектуры проявлял подчер­
кнутый интерес к определенным образцам храмостроительства. О таком
случае рассказывает в своих воспоминаниях Анна Григорьевна: «Про­
езжая мимо церкви Успения Божией Матери (что на Покровке), Федор
Михайлович сказал, что в следующий раз мы выйдем из саней и отойдем
на некоторое расстояние, чтобы рассмотреть церковь во всей ее красе.
Федор Михайлович чрезвычайно ценил архитектуру этой церкви и, бы­
вая в Москве, непременно ехал на нее взглянуть» [Достоевская, 1971:
ч. 4, V]. Я должен, однако, подчеркнуть, что внимательное созерцание
храмового образа для Достоевского далеко превосходит чисто эстетичес­
кое восприятие или любопытство. В видимом архитектурном образе он
старается угадать воплощенные духовные реалии и явления — эманации
невидимого мира идей. «В этих зданиях, — пишет он о рассматриваемой
им петербургской архитектуре, — как по книге, прочтете все наплывы
всех идей и идеек, правильно или внезапно залетавших к нам из Европы
и постепенно нас одолевавших и полонивших» [21: 107]. Благодаря сво­
ей способности различать суть за демонстративной архитектонической
видимостью Достоевский выступает ярким продолжателем завещанной
христианской аскетикой мистической традиции, уходящей корнями в да­
лекую эпоху ветхозаветных пророков.
118
Глава
В особенности чув­
ствителен автор к чуж­
дым западным влияни­
ям, нарушающим сак­
ральную чистоту образа
ортодоксального храма.
«Вот бесхарактерная ар­
хитектура церквей про­
шлого столетия, — про­
должает он,— копия в
римском стиле начала
нашего столетия, а вот
и эпоха Возрождения и
отысканный будто бы
архитектором Тоном в
прошлое царствование
тип древнего византий­
ского стиля» [21: 107]ш.
Очевидно, адекватный
образ храма, к которому
стремится Достоевский,
не исчерпывается общим
определением
«хрис­
тианский». Для него
он всегда конкретен, и
здесь мы сталкиваемся
с одним из наиболее су­
щественных вопросов:
какая метафизическая
культовая модель в дейс­
твительности конкретно
воплощена в художест­
венном мире писателя?
Ответ на этот воп­
рос находим в сохра­
нившихся рукописях его
романов. В них засви­
детельствовано то, как
глубокое пристрастие
\ • В поисках образа храма
"Ж
,
' '
г/Л,!./ lu*ffU
JfC
" \jf>f"f '''i"* &*"/}""•'/ /••....«•/: /-...i*..-.
Рис. I
Pl/C. 2
119
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы
у
Я* •?»
'**#
Ox (у *м*г V/2//<
Рис. 4
120
ГГ*5*Г
тптики
к тайнам христианской
культовой
архитектуры
накладывает неизглади­
мый отпечаток на словес­
ное творчество писателя.
Показательно буквальное
присутствие архитекту­
ры в черновых вариантах
к романам Пятикнижия.
Почти повсюду текст со­
провождается
архитек­
турными
зарисовками
церковных деталей и даже
целых фасадов храмов
(см. рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
Это словно не рукопи­
си романов, а примечания
к строительным планам
здания храма. Действи­
тельно, как отмечает ис­
следователь, тетради До­
стоевского напоминают,
скорее, рабочие записки
средневекового зодчего,
разрабатывающего
про­
ект очередного здания
[Баршт, 1989: 162]. Эти
рисунки ни в коем случае
нельзя считать простой
«пробой пера» или «ри­
сунками-паузами».
Они
демонстрируют,
скорее,
«уникальный вид рисункаразмышления — особый
метод творческой работы»
[Там же: 162]. Я бы при­
бавил —
своеобразный
«перихорезис»
(взаимо­
проникновение) видимо-
Глава
\ • В поисках образа храма
го и невидимого образа,
видимого образа храма и
его невидимого духовного
- : t o ^ ^.r.
воплощения в абстракции
слова.
Существенно то, что
. к/А..,...л.у£«?(4 4**и,
•/AJb-SCfi v<W«-' ft-* jt^UmyyjGb
архитектурные элемен­
ты соответствуют точно
определенному уровню,
достигнутому в построе­
^>е*и* 0~^ З^^гр^
ф^/—5*.
нии текста, замысла или
плана. Концепция изла­
гается параллельно — от
архитектурной
детали
-г^^г
до цельного образа фа­
сада. И еще особенно
важная
подробность:
архитектурный
образ
обнаруживает
прямые
соответствия с идейным
Рис. 5
замыслом.
Например,
идеологическая
оппо­ \
9.л-'&&£2~
зиция Сони МармелаЩй
довой и Раскольникова,
описанная в плане «Пре­
ступления и наказания»,
0&ю£ &*аи
A.^t.
•%^
графически
показана
в
противопоставлении
растительных
элемен­
тов — листов и «крестоцветов» — и холодной
строго умственной готи­
ки,
символизирующей
'fP <#L*. (
западное начало и Напо­
:
'фу>>"
леоновскую идею, завла­
девшие сознанием Рас­
?л Сф У
кольникова (см. рис. 1).
cj/M*f<A
В тех случаях, когда экс­
пансия западных идей
Рис. б
Ш>
Фу
121
Часть
2 • Роман Достоевского: проблемы
цЩ»-'
tjiZZl ^&/~^>
Рис. 7
ums^^mim
i
?^--
••"'^ЙЙйяЙр-'"
-*^^ЙЬ^Й±^££2^ J
A/c. 5
потткн
тотальна, как в романе
«Бесы», это выражено
повсеместным
при­
сутствием в рукописи
готической архитекту­
ры (см. рис. 2, 3). Хра­
мовая готика — вер­
ный признак подчи­
нения героя западной
ментальности, которая
для Достоевского всег­
да демонична. Так, на­
пример, готика явля­
ется на страницах, где
героем романа «Под­
росток»
Аркадием
Долгоруким завладела
идея о «золотом тель­
це» (рис. 4), и полно­
стью исчезает там, где
эти идеи преодолева­
ются (рис. 7) или где
изображается персо­
наж, внутренний мир
которого
полностью
противоположен миру
главного героя(напри­
мер, страницы, посвя­
щенные iMaKapy — см.
рис. 8).
Основная в рома­
не Достоевского идео­
логическая оппозиция
«западная
цивилиза­
ция — восточная циви­
лизация» в целом вы­
ражена так, что парал­
лельно с текстом при­
сутствуют рисунки —
Глава \ • В поисках образа храма
чертежи деталей и фасадов храмовой готики, противопоставленные
соотвествующим характерным элементам православного купольного
храма. Пример невозможного в реальной жизни сочетания готического
и ортодоксального храма представлен как раз на странице, где разраба­
тывается образ растерянного и колеблющегося между верой и западным
атеизмом Ставрогина (рис. 5 — обратите внимание на перечеркнутый
средний рисунок слева от текста, изображающий силуэт готического
собора, осененного православным куполом «луковичного» типа). Ни в
коем случае нельзя принять гипотезы, что писатель будто бы попытался
«совместить здесь западноевропейскую и русскую концепции храма»
[Баршт, 1989: 163-164]. Наоборот— здесь показано столкновение,
борьба между двумя образами храма, между двумя идейными иконами,
в котором на принципе отрицания Достоевский утверждает лик восточ­
ного за счет западного образа храма. Явно эксплицированная нетерпи­
мость к готическому типу образа, постоянно сопровождаемому инфер­
нальным духом, дискредитирует идею о мнимом увлечении позднего
Достоевского готическим архитектурным стилем, который, по мнению
исследователя, является воплощением «высшей точки приближения к
идеалу ... красоты — добра — истины» [Баршт, 1989: 166]. Еще более
неприемлемым кажется мне утвеждение, что в поисках ответа на воз­
никшие вопросы построения форм Достоевский подсознательно следо­
вал «архитектурным увлечениям эпохи ... особенно готике» [Лихачев,
1987, 3: 297; см. также: Халина, 1982: 363]. Действительно, перед ка­
торгой, да и после нее писатель восхищался готическим средневековым
собором, но для него он все же остается не Божиим творением и чемто отличным от Божией мысли, потому что Божия мысль — это одно,
а человеческая — совершенно другое, или, словами одного из героев
«Подростка», — «солнце, — как мысль Божия, а собор — как мысль
человеческая» [13: 353].
Здесь снова мы видим проявление знакомого уже амбивалентного
принципа Достоевского: эстетическая интенциональность к продуктамэманации западно-ренессансной ментальности и религиозная интенцио­
нальность к ортодоксально-каноническим проявлениям Востока (икона,
храм и др.). Готика — высшее проявление рассудочного автономного ума.
Она передает «самую сущность современной ... схоластической мысли»,
требующую рационального прояснения содержания самого Откровения
[Панофский, 1992: 63-64]. Иными словами, она является своеобразной
«визуальной логикой», наглядно иллюстрирующей основной постулат
Фомы Аквинского: «Nam et sensus ratio quaedam est» («Ибо и чувство в
123
Часть
2 • Роман Достоевского:
проблемы
поэтики
определенной степени разум»). Схоластическое мировоззрение рассмат­
ривает «способ архитектурного выражения точно так же, как ... способ
литературного изложения, то есть с точки зрения manifestatio ... главной
задачей множества элементов, которые составляют "сумму", является
обеспечение достаточной обоснованности» [Там же: 72-73]. Для орто­
доксального храма (речь идет о крестово-купольном храме византийско­
го типа, давшем модель всех церквей православного мира) немыслимо
требование построения цельного образа из одних и тех же гомологичес­
ких единиц (треугольных в своей основе), притом так, что даже одна из
них была бы в состоянии представить замысел всего образа храма. Это,
со своей стороны, требует обязательного устранения в готике округлых
поверхностей, которые придают характерную мягкость и мистическую
обтекаемость православному храму, чей образ исключает возможность
мысли о рациональной постижимости тайн веры. Как я уже отметил, та­
кая рассудочная ментальность вступает в глубокое противоречие с миро­
воззренческими устоями Достоевского, продолжившего путь восточной
аскетики.
Писатель пользуется архитектурным подходом не только для того,
чтобы показать губительное действие западных идей, прельщающих и
пленяющих восточное сознание; этот подход становится также языком
символов, посредством которого он объясняет понятия социально-на­
ционального характера, раскрывает коренное различие между двумя
типами мироощущения подобно двум типам зданий. Русский социум
как здание, по мнению Достоевского, подчиняется своеобразным ар­
хитектурным законам: «венчается снизу», что «на первый взгляд, ко­
нечно, нелепость, хотя бы лишь в архитектурном смысле, — пишет
автор, — и противоречит всему, что было и есть в этом роде в Европе.
Но так как у нас все своеобразно, все не так, как в Европе, а иногда
так совсем наоборот, то и в таком важном деле, как увенчание здания,
дело может произойти наоборот Европе ... Ибо, к удивлению Европы,
наш низ, наш армяк и лапоть, есть в самом деле в своем роде уже зда­
ние — не фундамент только, а именно здание, — хотя и незавершенное,
но твердое и незыблемое ... всю настоящую истинную идею ... нашего
будущего уже архитектурно законченного здания в себе одном пред­
чувствующее» [27: б]. Эта пространная цитата показательна тем, как
Достоевский пользуется таинственным языком архитектурной образ­
ности, чтобы объяснить сложные духовные, национальные и социаль­
но-политические процессы.
124
Глава
\ • В поисках образа храма
Таким же образом посредством архитектурной лексики писатель
раскрывает и духовную онтологию внутреннего чеювека — загадоч­
ную архитектонику человеческой души. Еще в первой части я пояснил,
что духовные реалии — душа, сердце, словесная сила, воспоминание,
ум — находят прямые храмовые соответствия во внутренней аскетике:
наос, алтарь, молитва, престол, священнодействие и т. д. Я подчеркнул
также, что Достоевский полностью опирается на мистическую тради­
цию. В подтверждение этого тезиса я приведу еще один пример. В опи­
санном контексте становится понятным содержание основного понятия
в творчестве Достоевского: «подполье». Слово это — прежде всего ар­
хитектурный термин со значением «помещение, находящееся под полом
здания». В символике славянского строительного ритуала, разделяющего
структуру дома по вертикали на подвал, жилище и чердак (со значением
подземного, земного и небесного мира), понятием «подполье» обознача­
ется демоническая зона в доме, что выражено еще в сказочном поверье,
что там «сидят остроголовые черти» [Даль, 1956, 3: 197]. В этом аспекте
болгарский перевод приближается к инфернальной семантике, так как
слово «подземие» («подземелье») прямо передает смысл православного
учения о преисподней (из церковнославянского «преисподний» — слиш­
ком низкий, слишком глубокий [см.: Младенов, Бакалов, 1924:752]),
локализирующего расположение ада в подземной области [см.: Игнатий
Брянчанинов, 1991: 89-99]. Это понимание восходит к библейскому пред­
ставлению. Например: «А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут
в преисподнюю земли» [Пс, 62: 10]; «дабы пред именем Иисуса прекло­
нилось всякое колено небесных, земных и преисподних (вся вселенная с
небесным, земным и подземным миром. —Н. И.)» [Флп., 2: 10]. Такой же
смысл вкладывает в это понятие и Достоевский, что видно из действий
некоторых его героев. Так, например, падение Смердякова «нечаянно с
чердака», т. е. с «неба» на «землю», представляет отпадение одной части
ангельского мира от Бога, а также изгнание из рая первых человеков, и в
скрытом виде говорит о связи героя с демоническим, так как Смердяков
становится мистическим наследником «дракона» [14: 88]. Во время вто­
рого эпилептического припадка герой падает с «верхней ступеньки», т. е.
из комнаты («белого света») в погреб (подземный, инфернальный мир —
«преисподнюю») [14: 255]. Известно, что этот припадок был инсцени­
рован Смердяковым для того, чтобы могло совершиться отцеубийство.
Падение героя «в погреб» — в тексте даже категорически подчеркивает­
ся, что «нашли его уже на дне погреба» — символически предупрежда125
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
ет второе, неизмеримо большее нравственное падение Смердякова и его
окончательную демонизацию.
Понятием «подполье», например, в выражении «записки из под­
полья» Достоевский выражает несколько ассоциативных уровней тол­
кования. Во-первых, это выражается в том, что герой буквально запи­
рается (сжимается) в своем жилище (дыре). «Я и прежде жил в этом
углу, — говорит он, — но теперь я поселился в этом углу. Комната моя
дрянная, скверная, на краю города» [5: 101]. Он проживает в самой низ­
кой, нижней, иными словами, демонической области. Во-вторых, в том,
что «записки» — это послания «из подполья», именно из этой инфер­
нальной зоны, где героя душат «злоба», «самолюбие» и «безграничное
тщеславие». В-третьих, к концу одноименной повести словами одного
из персонажей писатель недвусмысленно дает понять, что он вкладыва­
ет в понятие «подполье»: «...я уж и тогда носил в душе моей подполье»
[5: 127]. «Подполье» из внешнего топоса, интерепретирующего героя
как «человека из подполья» (т. е. из ада), интериоризируется во внут­
реннее пространство души, преобразуется в духовный ориентир, при­
дающий персонажу значение «человека с подпольем» (человека с внут­
ренним адом). Будучи знаком нечестивого локуса, «подполье» указывает
на таинственную «нишу» в спиритуальной структуре личности — сим­
вол криптуалъного пространства в индивидуальном духовном храме
человека. Таким образом, чисто архитектурный термин приобретает в
художественном мире писателя особые духовные параметры, при этом
сохраняя изначальный смысл, и таким образом адекватно представляет
внутреннюю архитектонику души — ее хтонизм, мрачную бездну, драму
безблагодати.
Противоположное и бесконечно далекое от инфернальной области
райское состояние, высшее небо, однако, находится в той оке душе. «Рай
был у меня в душе», — говорит другой человек «с подпольем» — герой
повести «Кроткая» [24: 35]. И если в понятии «подполье» фиксируются
низкие «этажи» духовней преисподней человека, криптуачьной архи­
тектоники души, то рай — восхождение по бесконечной вертикальной
лестнице к ее небесно-купольной зоне. Для Достоевского, очевидно, эти
духовные реалии не абстракции, они находят визуальное подтверждение
в пространственных архитектонических формах конкретной (притом ор­
тодоксальной) храмовости. И это действительно для всех «элементов»,
«форм» и «топосов», составляющих внутренний храм души.
Ассоциация между душой и храмом у Достоевского на протяже­
нии всего периода его творчества характеризуется большой стойкос126
I 'л а в а 1 • В поисках обрат .храма
тью. Иллюстрирует этот психологический процесс письмо к А. Майкову
от 15 (27) мая 1869 г. Не случайно, стараясь объяснить поэту сложные
творческие процессы, порождающиеся в сердце художника под воздейс­
твием Божественного откровения, и формирование в душе его «великой
национальной книги», которая послужила бы «возрождению самосозна­
ния русского человека», автор «Идиота» проводит параллель с великим
храмом Византийской империи — церковью Св. Софии. Идея о великой
книге ассоциируется с идеей о великом храме.
Мне представляется не лишним упомянуть, что поводом для этих
рассуждений послужило стихотворение Майкова «Констанцский со­
бор», то есть внимание писателя к внутренним пространствам души
вызвано произведением, также посвященным храму89. Но ассоциация
Достоевского остается прочно связанной именно с церковью Св. Со­
фии, давшей модель храмового образа всему православному миру. Не
случайно поругание церковной святыни турецкими завоевателями вос­
принимается писателем как посягательство на его собственную свя­
тыню и, без всякого сомнения, — как свидетельство русской истории.
Этим событием «полагается первый камень о будущем главенстве (Рос­
сии. — Н. Н.) на Востоке», и ортодоксальный церковный образ проти­
вопоставляется западному «искусству храмов» [29, кн. 1: 39-42]. Для
Достоевского Святая София символизирует мировой православный
дух — падение, но и воскресение души. Поэтому в своем «Дневнике
писателя» за 1876 г. он символически связывает освобождение и воз­
рождение Востока с восстановлением святости великого храма право­
славия. «Во-первых, — пишет он, — тотчас же бы отслужили молебен в
Святой Софии; затем патриарх освятил бы вновь Софию; из Москвы, я
думаю, в тот же день подоспел бы колокол ... и тем все бы и кончилось»
[23: 120].
Для Достоевского душа творца и порожденное в ней произведение
неразрывно связаны в объединяющем образе ортодоксальной соборнос­
ти. Путь воплощения образа храма в произведение идет от видимого к
невидимому, причем замысел возникает одновременно с идеей о цер­
ковном образе — наподобие огромного купольного храма, нарисован­
ного писателем на странице, где в первый раз появляется грандиозный
проект— «Житие великого грешника» (рис. 6). Таким образом, идея
фундаментального произведения идет рука об руку с идеей ортодок­
сального храма. Но ответ на вопрос, как конкретно «храмовая» поэти­
ка воплощена в романе Достоевского, я попытаюсь дать на следующих
страницах.
Глава 2
Воплощение ортодоксального образа храма
в последних романах Достоевского
Для дальнейшего хода анализа важно подчеркнуть, что в христиан­
ском сознании принципиально снято противоречие между архитектур­
ным и литературным феноменом, точнее — культовой архитектурой и
сакральным текстом. Это, с одной стороны, делает возможным воплоще­
ние архитектуры в абстрактную словесную структуру, а с другой — рас­
крытие этой структуры посредством воплощенного в ней архитектур­
ного образа. Такой ментальный настрой ведет к пониманию храма как
«каменной Библии», которая читается верующими как «текст» [см.: Гуревич, 1985: 242-243], а Библии — как «храма», в котором читающий
духовно переходит сначала через Ветхий Завет (как через «наос»), чтобы
прийти к Четвероевангелию (как к «алтарю»). Со своей стороны, книги
пророческого корпуса занимают такое же место в пространстве биб­
лейского книжного тела, какое занимает купол в архитектонике право­
славного храма. И так же, как купол символизирует трансцендентальную
вертикаль между небом и землей, функцию медиативного звена между
Богом и людьми выполняют пророческие откровения.
Другой аспект восприятия книги как «храма» и храма как «книги»
состоит в аналогичности функций изображений в храме (икон, фресок)
и в тексте (миниатюр). Надо отметить, что родство фресок, икон и ми­
ниатюр «проявляется не только в принципах построения изображения,
но и в самой технике обработки материала» [Успенский Б., 1995: § 1].
Например, при подготовке доски для иконы «первая забота иконописца
превратить доску в стену» [Флоренский, 2000], что свидетельствует не
только о том, что икона исторически возникла из стенописной техники,
но и о полной функциональной аналогии между ними. С другой стороны,
установлено, что «фон в осыпавшихся миниатюрах обнаруживает иногда
следы санкира (подмалевки по образцу иконной техники)» [Успенский Б.,
1995: § 1]. Иными словами, лист книги обрабатывается наподобие сте128
Г.1 а в а 2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
ны храма, т. е. живописание книги полностью аналогично леи во писанию
храма, и таким образом соответствие книги храму становится еще более
недвусмысленным.
В подтверждение изоморфных отношений архитектуры и текста
можно привести богатый исторический материал. Я остановлюсь на двух
показательных фактах. Пример построения храма полностью на осно­
вании литературного первоисточника дает намерение Бориса Годунова
построить храм, который «своим видом и устройством походил бы на
храм Соломона... Мастера тотчас же принялись за работу, причем об­
ращались к книгам Священного Писания, к сочинениям Иосифа Флавия
и других писателей...» [Лихачев, 1979: 24]. Показателен также факт,
свидетельствующий об обратном процессе — о создании литературно­
го произведения, дублирующего структуру храма. Павел Силенциарий,
придворный поэт византийского императора Юстиниана 1, создал боль­
шое (1 029 стихов) произведение «Экфрасис храма Святой Софии», пос­
вященное торжественному акту восстановления обрушившегося в 558 г.
купола церкви Св. Софии, которое по своему композиционному постро­
ению подобно описанному в нем храму. Поэт, имея в виду центральнокупольный характер церковного здания, сначала излагает вступительную
часть ямбом, потом в гекзаметрах приступает к действительному описа­
нию храма, в котором срединное место занимает купол, и в конце ямбом
оформляет заключение. «Так по общему строению, — пишет автор этого
наблюдения Л. А. Фрейберг, — дестриптивная часть напоминает контур
купольного здания» [Фрейберг, 1974: 56].
Пример своеобразного сосуществования образа храма и сакрального
текста дает нам свидетельство, которое, как мне кажется, особо значимо
в связи с обсуждаемой здесь проблематикой, так как приобретает извес­
тность как раз во времена Достоевского. Речь идет о письме Епифания
Премудрого к Кириллу Тверскому, написанном в 1415 г. и опубликован­
ном в «Православном собеседнике» за ноябрь 1863 г. В этом письме Епифаний (по всей вероятности, монах Троице-Сергиева монастыря) отвеча­
ет на вопрос Кирилла Тверского (игумена тверского Спасо-Афанасьева
монастыря) в связи с изображением храма в Четвероевангелии Епифа­
ния, которое произвело на игумена чрезвычайное впечатление. «Ты ви­
дел некогда, — пишет Епифаний, — церковь Софийскую царьградскую
(константинопольский храм Святой Софии. —И. Я.), представленную в
моей книге — Евангелии ... Когда я был в Москве, жил там и преславный
мудрец, философ зело искусный, Феофан Грек, книги изограф опытный
и среди иконописцев отменный живописец, который собственною рукой
129
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проо./сиы поэтики
расписал более сорока различных церквей каменных в разных городах ...
Когда я увидел, что он меня любит, то я ... попросил его ... чтобы краска­
ми написал мне изображение этой великой церкви Святой Софии в Царьграде ... на книжном листе, чтобы я положил это в начале книги и ... на
такой храм взирая, мнил бы себя в Царьграде стоящим ... он ... написал
изображение храма ... решился и я, как изограф, написать его в четырех
видах и поместил этот храм в своей книге в четырех местах: 1) в начале
книги, в Евангелии от Матфея, — где столп Юстиниана и образ еванге­
листа Матфея; 2) храм в начале Евангелия от Марка; 3) перед началом
Евангелия от Луки и 4) перед началом Евангелия от Иоанна; четыре хра­
ма и четырех евангелистов написал» [Епифаний Премудрый, 1999]. Об­
народование этого свидетельства, очевидно, вызвало интерес среди об­
щественности прежде всего в связи со сведениями о жизни иконописца
Феофана Грека, что само по себе уже привлекло внимание Достоевского.
В данном случае важно иное. Описанное сосуществование архитектуры
и текста поразительно соответствует творческому настрою писателя, о
чем уже упоминалось при анализе его рукописей более позднего пери­
ода. Это еще раз свидетельствует о том, что в сознании Достоевского
протекали сходные процессы, в принципе снимающие противоречие
между архитектурой и литературой, т. е. между образом и словом. Имен­
но подход к созданию текста как к строительству был глубоко присущ
писателю в работе над великим Пятикнижием90. Он, несомненно, видел
свои словесные творения как пространственные архитектонические
структуры (этот аспект будет рассмотрен и далее в исследовании). Го­
воря о своих литературных произведениях, автор особо подчеркивает их
«гармонию» и «пропорцию» [см.: 30, кн. 1: 55 и др.], т. е. описывает ит
терминологическими понятиями, характерными для объемных постро­
ений, которые воспринимаются визуально и пространственно-ритми­
чески. Сам метод работы Достоевского — «строительный», и эта особен­
ность проявляется еще на первом, подготовительном творческом этапе.
Креативному акту у него всегда предшествуют проработка и накопление
разнородных материалов, которые в дальнейшем будут занимать точно
определенное место в архитектонике единого замысла. Автор определя­
ет этот момент так: «.. .мне приятнее было обдумывать всё, до последних
подробностей, составлять и соразмерять части ... и, главное — собирать
материалы» [28, кн. 1: 295]. Уже после того как накапливается достаточ­
ное количество материалов для созидания произведения, он приступает
к их системной организации, конспективному расположению в рамках
предварительного плана — к самому ответственному для писателя мо130
1 л ana
2 • Воплощение ортодоксаihtio.'o обрат .храма и п<н:чег)пи.х романах
JocmocecKo.'o
менту. «Главное план, — пишет Достоевский Анне Григорьевне, — а ра­
бота самая легче» [29, кн. 1: 338]. И дальше: «...очень же работаю над
планом (речь идет о плане «Подростка». — И. И.) ... если выйдет план
удачный, то работа пойдет как по маслу» [Там же: 354]. Планы следуют
один за другим — иногда по пяти-шести в день, и так продолжается в
течение месяцев. «Ну-с: все лето и всю осень я компоновал разные мыс­
ли, — пишет Достоевский о работе над "Идиотом". — Средним числом,
я думаю, выходило планов по шести (не менее) ежедневно» [28, кн. 2:
239-240]. «Весь год я только рвал и переиначивал, — с отчаянием при­
знается Страхову автор "Бесов". — Не менее 10 раз я изменял весь план
и писал всю первую часть снова» [29, кн. 1: /57]. И немного позже с об­
легчением добавляет: «...план хорошо составлен и изучен, но поспешностию можно все испортить» [Там же: 185]. И еще: «...главное, хоть
бы я работал, тогда бы я увлекся. Но и этого не могу, потому что план
не сладился и вижу чрезвычайные трудности» [29, кн. 2: 43]. Разрешив
основную проблему — создание конструкции произведения — он снова
приобретает уверенность: «.. .да и действительно, кажется, напишу хоро­
шо, план вышел восхитительный» [Там же: 56].
В действительности еще с самого начала своего творческого пути,
еще работая над первым романом «Бедные люди», Достоевский был уве­
рен, что в его произведениях «слова лишнего нет» [28, кн. 1: 118]. С те­
чением времени стремление к педантиченому оформлению и располо­
жению деталей в композиционное целое все более усиливается: «мело­
чишки, но каждое со значением», — пишет он в плане «Преступления и
наказания» [7: 82]. Этот подход, характеризующийся предварительным
детальным структурированием, превращается в характерную черту его
творческого метода. Анна Григорьевна отмечает, что «составление плана
романа всегда было главным делом в его литературных работах и самым
трудным» [Достоевская, 1971: ч. 9, / / ] . Особое внимание к построению,
предварительному комбинированию, соизмерению и уравновешиванию
превращает его произведения в совершенно обдуманные и структуриро­
ванные построения, реально отражающие определенный архитектурный
образ — образ храма.
Типологическое сходство между храмом и входящими в состав Пя­
тикнижия романами Достоевского подтверждается не только на подгото­
вительном этапе (собирание основных «строительных» материалов, об­
думывание «проекта» и изготовление плана), но эксплицируется также и
на других специфических уровнях общего принципиального характера.
131
Часть
2 • Роман Достоевского: прошсиы
поэтики
Все сказанное здесь позволяет мне выразить в нескольких формулиров­
ках эти изоморфные отношения.
Изоморфизм на общем функциональном уровне проявляется в том,
что еще с апостольских времен, а затем и позже при святых отцах Цер­
кви христианский храм понимался как корабль, на котором души веру­
ющих переправляются через бурное житейское море в тихую небесную
пристань веры. Здесь неоднократно упоминалось, что в своих произве­
дениях Достоевский преследует ту же цель — преодолеть последующее
отдаление и окончательный отказ человека от Бога, переправив его через
опасные лабиринты современных гуманистических и рационалистичес­
ких идей. Вылечить душу, «найти в человеке человека» — это означает
восстановить «образ и подобие Божие», найти небесную пристань веры
в душе. Таким образом, романы Пятикнижия выполняют ту же перенося­
щую (аналогическую) функцию, что и храм.
Второй пример изоморфизма — взаимоотношения между «вне­
шним» и «внутренним» в пространственной структуре. Известно, что
концепция интерьерного и экстерьерного оформления восточно-право­
славного образа храма обосновывается той идеей о человеке, которую
разработала христианская антропология. «Подобно смиренному хрис­
тианину с его богатой внутренней духовной жизнью храм должен быть
подчеркнуто строг в своем экстерьере» [Лихачев, 1987: 19]. Эта аналогия
между храмом и верующим архитектурно воплощается в оформлении
византийского храма. Экстерьер «смирен» и поражает суровым внешним
видом за счет, однако, пышно разукрашенного интерьера. Я уже сказал,
что в творчестве Достоевского доминирующий акцент ставится на спиритуальном, т. е. внимание писателя направлено к воссозданию «внут­
реннего человека», а на втором плане остается предметная «оболочка»
бытия в целом и, в частности, «внешний человек». Иными словами, «эк­
стерьер» (в широком смысле) подчиняется «интериоризированной» ду­
ховной субстанции, что в мировоззренческом плане корреспондирует с
идейным «решением» пространства в восточной храмовой концепции.
В связи с этим надо отметить, что, в отличие от православного храма,
экстерьер в западной готической традиции значительно богаче акценти­
рован различными по форме и размеру орнаментальными фрагментами,
скульптурами, цветными витражами и т. д. Это очередной аргумент про­
тив теории о существовании каких-либо связей между западной храмо­
вой архитектурой и романами Достоевского.
Третий вариант изоморфизма тесно связан с проблемой .жанровой
специфики. Храм как сакральный универсум был единственной средой,
132
Глава
2 • Bon кущение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
где на практике осуществлялся тотальный синтез элементов всех жанро­
вых эстетических воздействий. Акт Божественной литургии включает в
себя литературную, театральную, музыкальную, изобразительную сто­
роны, эстетику света, теней и запахов. По восторженным словам Иоан­
на Геометра (X в.), в храме сконцентрированы все «красоты вселенной»
и «сливаются противоположности всего мира, верхнего и нижнего»
[цит. по: Бичков, 1984: 57; Migne, 106, 944В].
Сказанное здесь особым образом связано с традиционно дискусси­
онной проблемой жанровой специфики позднего Достоевского. Выска­
заны десятки противоречивых мнений по этому вопросу, но в большей
своей части они ставят акцент преимущественно только на одном из
множества аспектов художественной структуры и генерализуют его за
счет остальных91. В последнее время распространяется более широкое
толкование жанровой типологии Достоевского. Она дефинируется как
«небывало сложная синтезная структура» [Днепров, 1989: б]. Не вызы­
вает сомнения то, пишет другой исследователь, что «новый роман Досто­
евского оказался синтетическим жанром, способным поглотить любые
художественные и нехудожественные жанры. Жанровая "энциклопедичность" нового романа доведена Достоевским до универсализма» [Заха­
ров, 1985: J39]. Это, бесспорно, так, но причина жанровой специфики
заложена глубоко в принципах храмового синтеза. Иными словами, она
может найти свое объяснение только в контексте структуры самого храма
и Пятикнижия.
Мне кажется, что изложенные здесь изоморфные отношения общего
формального порядка в достаточной степени обеспечивают дальнейший
ход анализа. Но доказательство, что именно византийский (ортодоксаль­
ный) тип организации храма служит первообразом для структуриро­
вания художественного мира Пятикнижия, можно найти при анализе
конкретных элементов, характерных для обеих моделей и обладающих
идентичным семиотическим комплексом.
Суть проблемы в том, что православный образ храма имеет свои
особенности, которые придают ему специфический облик. Для верую­
щего христианина он является последней, наиболее совершенной сте­
пенью церковного догмато-литургического образа — архитектурной
иконой.
Первый тип христианского храма — базилика. Он естественно ас­
социируется с еврейской скинией, так как прямоугольная его форма (на­
подобие корабля) иллюстрирует фундаментальную идею историчности
времени, имеющего свое начало (сотворение) и конец (Апокалипсис), вре133
Часть
2 • Роман Достоевского: проблемы
полпики
мени, протекающего векторно — в одном направлении. Это так, потому
что «устрояемая Богом ''священная история" идет по прямой линии. Она
идет так потому, что у нее есть цель» [Аверинцев, 1977: 93]. Этой точкой
зрения на доктрину «вечного возвращения» христианский храм проти­
вопоставляется античной идее о циклически-круговом течении времени,
которому нет начала и конца и которое архитектурно воплощено в цен­
трических композициях языческого мира. Это объясняет, почему на на­
чальном этапе христиане превращают прямоугольные базилики в места
своего культа. Раннехристианские базилики, однако, не вполне удовлет­
воряют требованиям верующих — во-первых, из-за светских функций,
которые выполняло здание во время римского язычества, как это видно и
в самом названии: «царский дворец», «царский дом» — РаогАдкп. (оиаа)
[см.: Нестеровский, 1931: 82; Покровский, 1880: 70-85]. Чтобы подчер­
кнуть религиозное ее назначение, был предпринят ряд преобразований
в ее архитектонике. Сначала они выражаются в описывании, а позже и
вписывании в ее основание главного христианского символа — креста
(схема 4 (А, Б)).
с описанным крестом
с вписанным крестом
базилика
Схема 4
Даже и в этом виде, однако, базилика не в состоянии преодолеть не­
соответствие между архитектурной формой и богослужением, и это по­
рождает особое напряжение, ощутимое прежде всего в центре храма, где
находится амвон и зарождаются важные литургические действия. Про­
тиворечие архитектурной формы и литургического содержания, с одной
стороны, и острая нужда в таком ярком символе вечности и мироздания,
таком как небесный круг, с другой, естественно приводят к самому се­
рьезному изменению в образе храма — появлению купола. В V в. с со134
Глава
2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
зданием купольного храма византийский мир приходит к наиболее адек­
ватному решению культовой проблемы. Восточный храм, соединивший
базилику (прямоугольную форму — символ земли и линейного времени)
с куполом (символом неба и круга вечности) является моделью, квинт­
эссенцией, иконой христианского мировоззренческого представления о
вселенной (схема 4 (В)). Создание и композиционное воплощение этого
элемента, резко отличающего православный храм, тесно связано с про­
блемой круга. Попытаюсь в синтезированном виде передать суть этой
идеи.
Как я уже отметил, одна из причин, в связи с которыми христианская
ментальность не принимает символику круга, — это языческая идея о
цикличности времени. С другой стороны, круг символизирует солнце как
обожествленный язычниками астральный объект. Поэтому христианское
сознание еще со времен поздней античности (на колесе был распят, на­
пример, св. Георгий) ассоциирует колесо как орудие истязания или с язы­
ческой жертвой во имя солнца, или с антропологическим обрядом, при
котором колесо используется как подобие магического круга [см.: Соко­
лов, 1978: 152-154]. Не в последнюю очередь инвективное отношение
христиан к кругу определяется характером античного пантеона богов.
Христиане верят в реальное существование языческих богов. Это те же
падшие ангелы, которых Бог создал «благими, — словами св. Антония
Великого, — но они по произволению собственного духа низверглись
с неба на землю, где, пресмыкаясь в смрадной тине, учредили нечести­
вые верования язычества» [Цит. по: Игнатий Брянчанинов, 1991: 26].
С. Аверинцев отмечает: «...если мы приглядимся к этому миру (миру
античного язычества, и в частности, к языческому пантеону. — И. Н.) по­
пристальнее, мы заметим любопытную его особенность: по своей смыс­
ловой структуре он похож на круг, у которого нет центра» [Аверинцев,
1977: 71]. Действительно, двенадцать богов эллинского Олимпа описы­
вают символический круг, в центре которого, однако, нет никого — «ведь
Зевс, "отец богов и людей" — сам всего лишь один из двенадцати. Свято
место ... оставалось пусто» [Там же: 71-72]. Таким образом, языческий
круг располагается вокруг субстанциальной пустоты, из «центра» кото­
рой доносится ледяное дыхание небытия. Поэтому Блаженный Августин
утверждает, что «по кругу блуждают нечестивцы ... таков путь заблуж­
дения их, сиречь ложное учение ... блуждая в этих круговоротах, они
не находят ни входа, ни выхода ... не знают, ни откуда начались, ни чем
покончатся род человеческий и наша смертность» [Блаженный Авгус­
тин, 1994, 2: 258-259]91. Мысль св. Августина остается господствующей
135
Часть
2 • Роман Достоевского:
прошены
поэтики
для всего римско-католического мира, где базиликальная структура со­
храняется в качестве основной и определяющей для западного храмового
строительства.
По-настоящему, однако, берутся за разрешение проблемы кру­
га церковные отцы христианского Востока. Здесь также несомненна
идея, что по кругу человек водим бесом (сохраняется смысл выраже­
ния circulus viciosus — порочный круг), но Восток в лице св. Василия
Великого дает специальное разъяснение мнимой безначальности и
бесконечности круга, не имеющее ничего общего с языческим пони­
манием. Богослов допускает законность круга только с той поправкой,
что у любого круга есть средоточие, т. е. центр. И истинный смысл
круга состоит в стремлении к этому центру, который его обусловлива­
ет, структурирует и определяет. Эта мысль особо сильна в четвертой
беседе знаменитого «Шестоднева» св. Василия, где автор разъясняет
библейский стих: «И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом,
в одно место» [см.: Василий Великий, 1845, 1: 61-74]. Современный
исследователь А. Комеч вполне основательно замечает, что, «читая бе­
седы "Шестоднева", невольно представляешь купольные храмы VI в.»
[Цит. по: Вагнер, 1986: 173]. Христианский круг, как ни странно, не
имеет ничего общего с языческим; в нем роль субстанциального центра
выполняет Богочеловеческий Лик Иисуса Христа, Восток, Источник
бытия. Для наглядного контраста можем сравнить античные изобра­
жения композиционно выровненных сидящих или двигающихся фигур
языческого пантеона богов со строгой центричностью ранневизантийских композиций, где фигура Христа окружена фигурами апостолов и
ангелов [см.: Аверинцев, 1977: 72].
Для христианского храма, однако, потребность в обосновании круга
(купола) вызвана прежде всего требованиями самого богослужения, ли­
тургическое действие которого перемещается в центр храма — под купол
[см.: KB, 1989: 496]. Подкупольное пространство начинает выполнять
функцию ритуального центра, конечно, наряду с алтарем — бесспор­
ным «смысловым центром, символизиющим высшие сакральные цен­
ности» [Иванова, 1988: 56]. Но купол, подобно алтарю, также начинает
приобретать функции «неба», «пространства не из мира сего», «умопос­
тигаемого мира». Происходит существенное изменение — «метричес­
кий порядок подпор и арок, какой используется в церквях, развитых по
продольной оси (базиликальных. — И. И), заменяется в центрических
(купольных. — И. И.) церквях другой организацией пространства — они
сосредоточены вокруг объединяющей вертикальной оси, завершающейся
136
Глава
2 • Воплощение ортодоксальном
обрат храма в последних романах
Достоевского
куполом» [Чанева-Дечевска, 1988, Х° 4: 7; см. также: Иванова, 1988: 56\
1ГЗИ, 1983: 83]. Это «обособление» второго центра в восточно-право­
славном храме отчетливо проявляется в изменившейся внешней и внут­
ренней архтектурной конфигурации (схема 5 (А, Б)).
Купол
(«небесная апсида»)
I
г^
к к
S
-° го
Ос.
го
S S
1-
1
^
о.
1•
m о
•
я
IШ
••
••
-в-
I
1
Алтарная
апсида
I
I
1
Горизонтальная
конфигурация
1
А.
Схема 5
Купольный центр непосредственно связан с ритмически повторяю­
щимся конкретным литургическим действом, которое мистически воз­
вышает души верующих в акте их реального общения с небесными си­
лами.
Специфика купола читается в топографической символике строгой
системы стенописи. В вертикальном плане обособлены три каноничес­
кие зоны; чем священнее смысл данного изображения, тем выше оно
расположено. Так как нижняя часть храма естественно ассоциируется с
землей, а верхняя — с небом, то в нижней зоне расположены изображе­
ния стоящих в отдельности фигур пророков, апостолов, святых и иереев.
В верхней части стен — эпизоды из жизни Христа, а в куполе (как верти­
кальной апсиде), как правило, изображается Христос Пантократор (Все­
держитель), реже — сцена вознесения или сошествия Св. Духа. Такая
же иерархия стенописных изображений соблюдается и в горизонтальном
плане (по оси «восток — запад»). В нартексе (самой западной, низкосак­
ральной части храма — для оглашенных) изображаются монахи, мучени­
ки. В наосе (основном помещении — для верующих) находятся образы
апостолов, святых и изображения сцен из земной жизни Христа. В ал­
таре (области высшей сакральности — для пастырей) и в особенности
в наиболее восточной его части — алтарной апсиде (символизирующей
вифлеемскую пещеру) располагается образ Богородицы с младенцем Ии­
сусом. Таким образом, если при передвижении в наосе с запада на восток
137
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
христианин переживает в синтезированном виде (совершая мистическое
земное уподобление Христу) всю священную историю и, стоя перед ал­
тарной преградой (иконостасом — завесой, отделяющей Божественное
от человеческого), воздает обрядное поклонение сверхъестественному
Божественному воплощению — земному рождению и жизни Богочело­
века, то во время литургического действия в подкупольном пространстве
он совершает сверхреальный акт совместного возвышения душ, в кото­
ром воссоздается высшее духовное поклонение перед небесным алтарем
и вечной ипостасью вознесшегося Сына Божия. Таким образом, купол,
эта настоящая небесная апсида, доминирует над всем пространством
храма и, воплощая идею вертикального сакрального центра, превраща­
ется в основной определяющий структурный компонент системы.
Из сказанного здесь выясняется, что изменение, которое вносит ку­
пол в образ ортодоксального храма, вызвано внутренними духовными
литургическими причинами. «В противоположность архитектуре клас­
сической, которая, исходя из внешнего, шла к внутреннему и придавала
содержание форме, православная архитектура исходила из содержания
(литургического действия. — И. //.), придавая ему форму, идя таким об­
разом от внутреннего к внешнему» [Успенский Л., 1989: 173-174]. Это
развитие от внутреннего содержания к форме очень важно. Оно сви­
детельствует, что новый образ храма — крестово-купольная базилика,
изобретенный византийцами, является результатом сакрального дейст­
вия, выраженного в литургическом действии — откровении Св. Духа.
Это действие, следовательно, заполняет пространство изнутри, заставляя
внешнюю архитектурную форму следовать за внутренней, стать оболоч­
кой духовного содержания, в результате этого образ храма становится
адекватным отражением Откровения. Таким образом, устроение види­
мого храма можно рассматривать как процесс, аналогичный устроению
храма в душе человека, которое утверждается словами: «Вложу внутрь
вас дух Мой» [Иез., 36: 27] и в осязаемом, чувственном виде подтверж­
дает свидетельство: «...кто любит Меня ... и Отец Мой возлюбит его, и
Мы придем к нему и обитель у него сотворим» [Ин., 14: 23]. Поэтому
православный христианин принимает византийский храм как своеобраз­
ную архитектурную икону, как совершенное проявление христианского
представления о храме, его литургическое осмысление.
Художественная архитектоника Достоевского строится таким же
образом, и процессы развиваются в том лее направлении, как при ус­
троении православного культового центра. Откровение сводится к
внутренней области (так как в сердце, по мнению писателя, получается
138
I л а в а 2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
«полный» образ [см.: 28, кн. 2: 241]) и реализуется в художественной
структуре [28, кн. 1: 286]. Но так как предметом нашего анализа явля­
ется окончательный, уже готовый художественный результат, мы по
необходимости должны начать с противоположного — от внешней
структуры к внутреннему пространству. Иными словами, если
крестово-купольная архитектоника храма является метафизическим
первообразом романной структуры Достоевского, то в этих романах
должны найти отражение архитектонические принципы, которым
подчиняется сам образ храма. В таком случае, к книжному телу каж­
дого из романов следовало бы подходить как к пространственной
арх итект о н и чес ко й структур е.
Начнем анализ с самого характерного элемента восточного храма —
с купола. Известно, что купол в православном храме занимает точно оп­
ределенное место в отношении сакральной оси «восток — запад», причем
разделяет эту ось в следующей пропорции: в центрическом типе храма
купол приходится на абсолютный центр, т. е. делит ось «восток — запад»
на две равные части (схема 6), в то время как в различных модификациях
крестово-купольной базилики он делит ее в соотношении, известном как
sectio auretea — «золотое сечение» (схема 7)93.
Схема 6
139
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
Чтобы установить, находится ли данный объект в точке «золотого се­
чения», т. е. делит ли он данный отрезок, например, АВ, в таком соотно­
шении, чтобы меньшая сторона S3B соотносилась с большей AS3 так, как
большая AS3 со всей АВ, надо поступить следующим образом. Находим
середину (S1) отрезка АВ. Потом проводим отточки В перпендикулярный
отрезок ВС = AS1 = S'B и связываем точку С с точкой А. Получается пря­
моугольный треугольник ABC, называемый еще «пифагорейским». На
отрезок СА наносим отрезок ВС, а больший отрезок AS2 наносим обрат­
но на отрезок АВ. Точка S3 делит АВ в соотношении золотого сечения.
Схема 7
В православном храме сакральная ось «восток — запад» (соответ­
ствующая отрезку АВ) делится в соотношении золотого (или близко­
го к этой иррациональной величине) сечения центром купола, причем
подкупольное пространство занимает соответствующую зону золотого
сечения (схема 7). Следовательно, как наиболее типичный для ортодок­
сального храма элемент купол представляет основную идею в созида­
нии восточного храма — идею центра. Если произведения, входящие в
140
I.i а в а 2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
состав Пятикнижия Достоевского, построены на том же принципе, на
сакральный центр должен приходиться элемент художественной струк­
туры с идентичным куполу семиотическим комплексом — при исполь­
зовании того же геометрического способа обнаружения архитектурной
пропорции.
Для этого осуществляется следующая операция. Отбрасываются
все паратекстуальные элементы (если такие присутствуют), которые
вторично приложены к тексту (примечания, пояснения, вводные статьи,
приложения, факсимиле и т. д.), так как значим в данном случае только
«чистый текст». Число страниц представляется в виде прямой отсеч­
ки (в направлении читательского вектора) произвольно выбранного мас­
штаба — например, 1 мм соответствует двум страницам текста (одному
листу); 5 мм = 10 стр.; 1 см = 20 стр.; 5 см = 100 стр. и т. п.
Возьмем, к примеру, роман «Идиот». Его книжное «тело» представ­
ляется в виде отсечки указанного выше масштаба. Найти золотое сече­
ние известной отсечки при помощи приведенного выше геометрическо­
го метода — сравнительно легкая задача. Точка, разделяющая книгу в
пропорциях золотого сечения, почти полностью совпадает с описанием
самого важного в идеологическом смысле сна в романе (сна Ипполита).
Остальные сны также группируются в очевидной близости к этой точке,
которую удачно было бы назвать «зоной золотого сечения». Если верши­
на купола (центральная точка) разделяет ось «восток — запад» в золотой
пропорции, то все точки, находящиеся в пространстве от центра до пери­
ферийного круга купола, также приходятся на эту зону — то же самое
по аналогии можно сказать и о художественном тексте. В непосредс­
твенной близости находятся, соответственно, видение Ипполита, первый
и второй сон князя Мышкина.
Это удивительное совпадение подтверждается и другими романами
Пятикнижия.
В «Подростке» точка S3 (золотое сечение) приходится на первый
сон-воспоминание Аркадия Долгорукого, т. е. можно сказать, что сон
буквально делит художественное пространство романа в знакомых
пропорциях. Вблизи этой зоны расположен и второй пророческий сон
Аркадия, в котором раскрываются очень характерные для героя черты.
Намечается, однако, и существенное отклонение. Сон Версилова нахо­
дится слишком далеко от пророческой зоны. Каковы могли бы быть при­
чины? Эта «аномалия», очевидно, тесно связана с проблемой выпавшей
из «Бесов» части романа — главы «У Тихона». Существуют данные, что
в первоначальных планах «Подростка» Достоевский во многих отноше141
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевском:
проблемы
полпики
ниях связывал Версилова с образом Ставрогина. «Совершенно очевид­
но, — пишет Н. Звезданов, — что в этих первых набросках образ Верси­
лова все еще не может оторваться от гипнотической природы "бесновато­
го" Ставрогина» [Звезданов, 1983: 539]. Очевидно, на этом этапе работы
Достоевский искал средства для того, чтобы благодаря психологической
и прежде всего идеологической близости Ставрогина и Версилова вклю­
чить каким-то образом выброшенную Катковым часть «Бесов». Впос­
ледствии, однако, наступает переворот в замысле, в результате которого
центральным героем постепенно становится Аркадий — «ГЕРОЙ не ОН
(Версилов. —Я. Я ) , а МАЛЬЧИК» [16: 24]. Эти слова свидетельствуют
о переходе к другому замыслу. Меняется и образная концепция Верси­
лова — черты «хищности» смягчаются, и этот персонаж постепенно пе­
ремещается в «периферию» романа, а центр занимает образ подростка.
Достоевский принужден отказаться от великолепного психологического
этюда — исповеди Ставрогина, сохраняя все же наиболее существен­
ный момент в ней — сон, изображающий «золотой век» человечества.
Он «превратится в идейный центр исповеди Версилова» [Звезданов,
1983: 539]. Доказательством того, что Достоевский очень ценил этот сон,
служит буквальное его изъятие из главы «У Тихона» и в некоторой степе­
ни механическая «имплантация» в роман «Подросток». Желание Досто­
евского, чтобы этот сон вышел в свет, хотя и не как сон главного героя,
совершенно логично отводит ему периферийное место в романном про­
странстве — в отличие от центрального положения, которое он должен
был бы занимать по замыслу в «Бесах».
Рассмотрим теперь роман «Бесы». Здесь ситуация несколько более
осложнена. Общеизвестны трудности, с которыми сталкивался Достоев­
ский при издании этого своего произведения — точнее, неприятности,
связанные с опубликованием запрещенной по цензурным соображениям
главы «У Тихона». Автор в течение целого года вел упорную, безнадеж­
ную борьбу с Катковым и цензурой об этом ключевом моменте романа.
Он вынужден был несколько раз перерабатывать главу, но в конце концов
все оказалось бесполезно — отказы следовали один за другим. Досто­
евский полностью осознавал, что без этой главы нельзя проникнуть в
образ Ставрогина, а следовательно, невозможно полноценное понима­
ние романа в целом. В конце концов Катков одерживает победу. Роман
продолжает печататься без этой главы. Читатель так и не понимает, что
после «Ивана-царевича» должна была следовать глава «У Тихона». Она
отсутствует и в самостоятельном издании 1873 г. И даже теперь, спустя
более чем сто лет, она печатается отдельно. «У Тихона» содержит испо142
I" л а в а 2 • Воплощение ортодоксального обраш .храма в последних романах
Достоевского
ведь Ставрогина, здесь освещаются самые темные уголки его души; она
содержит и его сон. Ю. Карякин удачно отмечает, что эта глава — словно
«купол храма», который должен вернуться в собор, где родился [Каря­
кин, 1989: 333-334].
Итак, попробуем «имплантировать» текст главы «У Тихона» в ткань
романа. Это оказывается нетрудным по двум причинам. Во-первых, из­
вестно точное место, которое она в действительности должна была зани­
мать, — между 8-й и 9-й главами. Во-вторых, сохранился один из ее под­
линников [см.: 11: 5-33]. Получается, что глава «У Тихона» расположена
в зоне золотого сечения. Сон Ставрогина — так же, как и сны в «Идиоте»
и «Подростке» — находится почти в абсолютном центре сечения. Это
удивительное совпадение, повторяющееся уже в трех романах Пятикни­
жия, вряд ли может быть следствием только слепой случайности. Помоему, это довольно убедительное свидетельство того, что в композици­
онной архитектонике романов воплощена идея центра, организующего
художественное пространство в целом. Продолжим, однако, далее.
С романом «Братья Карамазовы» нами была произведена та же про­
цедура. На точку золотого сечения приходится одно из трех сновидений
в романе (сон Дмитрия Карамазова). Но в этом романе намечается и
специфическая особенность. Здесь сны не группируются вокруг одно­
го центра, а равномерно распределены в пространстве. По отношению
к инфернальному видению Ивана Карамазова это объяснимо — оно в
большой степени выполняет такие же замыкающие пространство рома­
на функции, что и последний сон Раскольникова в «Преступлении и на­
казании» и сон Версилова в «Подростке». Сновидение Алеши, однако,
выделено особым образом. Оно находится в абсолютном пространствен­
ном центре, разделяя роман на две равные части. Такое подчеркивание
центра, как и одинаковое расстояние между тремя сновидениями, сви­
детельствует о приложении иного принципа — симметричного, парал­
лельно сосуществующего с описанным выше. Он генетически связан с
пространственным решением первого романа Пятикнижия — «Преступ­
ление и наказание», где этот принцип представлен в чистом виде. До­
стоевский с математической точностью отделяет пять сновидений в
«Преступлении и наказании». Первая пара снов Раскольникова, с одной
стороны, и сон Свидригайлова и последний сон Раскольникова, с другой,
формируют две самостоятельные группы, расположенные на одинаковом
расстоянии от третьего сна Раскольникова, который буквачьно «делит»
роман на две равные части и является центром этой строго симметрич­
ной композиции. В следующей главе я попытаюсь доказать, что это не
143
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проб.чамы поэтики
чисто формальная архитектоническая особенность и что она имеет со­
держательную подоплеку. Это следствие того, что третий сон Раскольникова выполняет функцию как структурного, так и смыслового центра
произведения.
•
#
$
Купол (как небесная апсида) символизирует связь верхнего с ниж­
ним, видимого с невидимым, земной иерархии с небесной и, наконец, с
Богом. Этот принцип идентичен функции сновидения как метафизичес­
кой ступени в бесконечной лестнице к самопознанию и к поиску Божест­
венного начала в глубине человеческой души. Следовательно, купол в
храмовом комплексе и сновидение в романе Достоевского сходным об­
разом воплощают в себе идею центра. Они изоморфны как в пространс­
твенном, так и в функциональном аспекте. Сумма страниц каждого ро­
мана образует условно названную «читательским вектором» «отсечку»,
которая аналогична сакральной оси «восток — запад». Как уже было
указано, в области золотого сечения этой «отсечки», т. е. на одни и те же
места книжного «тела», неизменно приходятся сны героев, притом те,
которые наиболее существенны для понимания творческой идеи — это
типологическая особенность всех романов Пятикнижия Достоевского9*.
В «Идиоте», «Бесах» (после включения главы «У Тихона»), «Подростке»
и «Братьях Карамазовых» сны разделяют «читательский вектор» в про­
порции золотого сечения (см. схему 8) так же, как в одном из двух ти­
пичных вариантов расположения купола в православном храме (см. схе­
му 7). В романе «Преступление и наказание» сон делит книжное «тело»
на две равные части, т. е. приходится на абсолютный центр (схема 9), что
роднит его с другой структурой — структурой центрического купольного
храма (см. схему 6).
Надо подчеркнуть, что место, которое занимает данное сновидение в
текстуальном пространстве романа, остается неизменным независимо от
размера шрифта и формы страниц, так как во всех случаях объем текста
(а следовательно, и его пространство) всегда остается постоянной вели­
чиной (на схемах 8 и 9 это соответствие проиллюстрировано в обобщен­
ном виде). В этом может убедиться каждый при помощи объясненного
выше математического метода.
Итак, если сновидение не только находится в пространственной сак­
ральной области, но и выполняет роль центра в романах Пятикнижия, это
144
Глава 2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах Достоевского
должно подтверждаться и на других смысловых уровнях. Я остановлюсь
на основных из них.
|h
к
\-
Сон Ипполита («Идиот»)
Сон Ставрогина («Бесы» с главой «У Тихона»)
Сон Аркадия («Подросток»)
Сон Мити («Братья Карамазовы»)
Схема 8
с
С
^ ^ Т р е т и й сон уч^
^У^
/Ргскоп »никова\ ^ ч .
^У^Количество
][
страниц *
\
В
А
Направление чтения
Конец т е к с т а ^ ^
^ ^
^У
Схема 9
Известно, что трудность — самая характерная особенность пути,
ведущего из профанного в сакральное. «Путь тернист, усеян опаснос­
тями, потому что в действительности это ритуал перехода от мирско­
го к священному ... от смерти к жизни, от человека к Богу» [Элиаде,
1989: 43]. Трудность этого пути идейно выражена во всей концепции хра­
ма. Несмотря на то, что они восходят к иудейскому первообразу, именно
145
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
старохристианские базлики впервые ясно включают в свою архитектуру
движение как выражение духовного порыва. Это подчеркивается тро­
ичной организацией по горизонтали (нартекс, наос, алтарь), несущей
глубокий метафизический смысл — таким образом раскрывается идея
трудности перехода от периферии к священному центру. Чтобы перейти
из одной области в другую, христианин должен сначала одержать побе­
ду в трудной духовной борьбе с самим собой. Чтобы полноценно участ­
вовать в мистическом празднике душ, восходящих к Богу в сакральном
литургическом акте (осуществляющемся в подкупольном пространстве),
он проходит трудный внутренний путь, который часто длится годами95.
В контексте идеи «трудного пути» и реализации ее в символике архи­
тектурных форм храма можно разгадать смысл болезни как основного
субститута страдания в художественном мире Достоевского. В другом
месте уже упоминалось о том, что для писателя страдание — «закон на­
шей планеты», путь испытаний в стремлении к духовному просвещению,
этой великой радости, «за которую можно заплатить годами страдания»
[7: 755]. Болезнь — своеобразный символ тяжелого, мучительного пути
преодоления эгоистического пласта сознания (являющегося следствием
рефлекса плоти на периферийную область души) и достижения сакраль­
ного центра чистых духовных сущностей. В этом смысле в художествен­
ном мире Достоевского она всегда предшествует сновидению. Таким
образом можно объяснить и следующую зависимость: чем дольше бо­
леет герой, тем чаще его посещают внутренние откровения. Например,
непрерывные глубоко драматичные терзания Раскольникова выливают­
ся в форму патологического маниакального проявления, порождающего
«кризисные сны, приводящие человека к перерождению и обновлению»
[Бахтин, 2004: 87]. Болезнь, которая проявляется в течение всего сюжета
и определена как «тяжелая ипохондрия», даже «временное умопомеша­
тельство» и «болезненная мономания», изощряет до крайней степени
чувствительность героя, вытесняя телесную оболочку «я» в моменты
сновидений. Это приводит к показательному факту: в «Преступлении и
наказании», по сравнению с остальными романами Пятикнижия, описа­
но наибольшее количество снов главного героя. В «Идиоте» наблюдается
та же зависимость. С израненной безверием душой и истерзанным бо­
лезнью телом Ипполит говорит, что видел «сотнями» кошмарные «дур­
ные сны»96. Перед пророческим сном князя Мышкина автор не забывает
отметить, что герой его «всему чужой и выкидыш», «мучился глухо и
немо», «тревога его продолжалась и во сне» [8: 352]. Перед повторе­
нием «тяжелого сна» он снова объят раздвоением и нервным возбужде146
Глава
2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
пнем — «холодел каждый раз, когда прикасался к этим трем письмам»
[8: 377]. Для Аркадия в «Подростке» роль мучительного пути к себе
выполняют нервное расстройство и простуда: «минуту или две про­
лежал без сознания», «ощутив нестерпимый холод» [13: 269]. Во время
следующего его пророческого сна все возобновляется сначала: «...со
мной случился рецидив болезни; произошел сильнейший лихорадоч­
ный припадок, а к ночи бред» [Там же: 305]. Для Ставрогина в «Бесах»
за болезненными терзаниями совести о совершенном злодеянии сле­
дует «красивая» мечта о «золотом веке» человечества [см.: 11: 21-22].
А вот как охарактеризована болезнь Ивана Карамазова: «Доктор ... за­
ключил, что у него в роде даже как бы расстройства в мозгу» [15: 70].
Непосредственно после этого свидетельства о болезни приходит кошмар
Ивана Федоровича. Рассказчик просто ощущает необходимость напом­
нить о болезни перед самим описанием видения: «Я не доктор, а меж­
ду тем чувствую, что пришла минута, когда мне решительно необходи­
мо объяснить хоть что-нибудь в свойстве болезни Ивана Федоровича»
[Там же: 69]. Особое психическое состояние, в которое впадает Алеша
после смерти любимого старца, приводит к знамению в «Кане Галилей­
ской» [14: 325-328]. Дмитрий Карамазов видит роковой сон после того
как его замучили до смерти «пролитая кровь» и чудовищные обвинения
в отцеубийстве [15: 144].
Другая существенная особенность, которая косвенно подтверждает
идею о сновидении как сфере абсолютной реальности, представлена в
ритме передвижения от периферии к центральной зоне. В христианском
восточно-православном храме указанная особенность методологичес­
ки реализована чередованием открытых и закрытых, низких и высоких,
темных и освещенных пространств, организующих культовый комплекс.
Колонны, разделяющие нефы, подчиняют пространство храма единому
направляющему движению, а каноны богослужения — единому ритму,
ведущему к центральной области интерьера — к куполу97. Любые откло­
нения во время движения исключены, и это превращается в существен­
ную особенность культа и дает нам основания прийти к выводу, что «ритм
превращается в важнейший элемент языка нового искусства (христианс­
кого храмостроительства. —И. И.)» [Комеч, 1978: 215]. Следовательно,
движение поклонника как мистический порыв вдоль точно установлен­
ной сакральной оси «восток — запад» ритмически организовано во всех
147
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
отношениях: пространственном (архитектурной формой), образно-смыс­
ловом (фресками, световыми акцентами) и богослужебном (литургичес­
ким каноном). Оно рассчитано так, чтобы вошедший в храм приходил в
подкупольную зону в определенное время, когда он уже подготовлен к
осуществлению трансцендентального акта вне времени и пространства,
т. е. к контакту с категориями высшего сакрального порядка. Аналогич­
но описанному и концептуальное решение Достоевского. В связи с этим
понятна привычка писателя издавать свои романы не сразу в отдельной
книге, а публиковать их частями в периодической печати, в форме так на­
зываемого «романа с продолжением». Писатель очень настаивал именно
на этом способе публикации. Он видел в нем особые, неизвестные дотоле
преимущества, неоднократно вступал в споры с издателями, в каком мес­
те именно должна закончиться данная часть и в каком — начаться другая,
чтобы достичь определенного эффекта в воздействии на читателя. Это
он считал одним из важных качеств произведения98. По мере углубления
читателя в художественное пространство романа писатель постепенно
умышленно подготавливал его к восприятию (в точно определенный мо­
мент) самой существенной части послания произведения, к тому, чтобы
прийти к акцентированному в смысловом, пространственном, временном
отношении центру — центру, отделенному таким образом от остального
текста".
Ю. Карякин очень удачно сравнивает первую журнальную публи­
кацию «романа с продолжением» с первым исполнением гигантской
многочасовой симфонии; читатель (слушатель) настраивается на опре­
деленный ритм, увлекается им. Прекрасно осознавая это, Достоевский
придавал периодической публикации — ее ритму, порядку и паузам —
исключительное значение «действа», «мистерии» [Карякин, 1989: 321].
Таким образом он уловил очень существенную деталь — возможность
контролировать ритм рецепции. Я сразу должен, однако, попытаться раз­
решить некоторое недоразумение.
Указанное выше наблюдение, хотя и очень меткое, содержит в
себе неточность, которую надо оговорить. Попытка сравнить «роман с
продолжением» Достоевского с «мистериальным действом» очевидно
основывается на старой концепции, которую поддерживают некото­
рые исследователи, о том, что Достоевский создает «роман-мистерию»
[см.: Бицилли, 2004]. Сравнивая «безличного летописца» Достоевского
с функциональным рассказчиком в «Божественной комедии» Данте, Би­
цилли соотносит их с общей первоосновой — рассказчиком типа «лица
без лица», «everyman английской мистерии» [Там же: 183]. На первый
148
Глава
2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
взгляд кажется, что для этого утверждения есть свои основания. Дейст­
вительно, «сущность же мистерии, — продолжает критик, — заключа­
ется в том, что зритель приобщается к воплощенным в ней тайнам ...
В мистерии образы, носители известных "страстей", "добродетелей",
воплощения известных "истин"» «не индивидуализированы» [Бицилли,
2004: 183]. Исследователь проводит аналогию с персонажами Достоев­
ского, которые «при всей исключительной яркости и законченности их
художественного воплощения не живут, ибо не "становятся" во времени,
я могу приобщиться к ним только посредством живущего "за них" меди­
ума, обобщенного "я" летописца. Мое, при содействии медиума происхо­
дящее вторжение в роман Достоевского сообщает ему иллюзию жизни»
[Там же: 184]. Это тонкое примечание со стороны Бицилли в принципе
верно с формальной точки зрения. Но внешние сходства еще не дают
достаточных оснований проводить аналогии между художественной
системой Достоевского и поэтикой средневековой мистерии. Особо не­
убедителен этот тезис, если рассматривать его идейно-содержательную
сторону. Мне кажется, что было бы точнее сказать, что романы писателя
восходят, скорее всего, прямо к генерирующей модели — к литургическо­
му действию, а не к дериватным формам так называемой «литургической
драмы», или мистерии.
Проблема в том, что все варианты религиозных представлений в эпо­
ху Нового времени неизменно берут свое начало в деформированной цер­
ковной службе римско-католического богослужения. Это видно по эта­
пам, через которые проходит развитие западной драматургии от католи­
ческой литургии. Процесс этот намечается еще в XIII в., когда «сезонные
обряды карнавального типа воздействуют извне на римско-католическую
литургию и способствуют формированию в ней квазидраматургических
церемониалов: в конечном счете возникает перводрама — действо "по­
сещение гроба"» [Андреев, 1994: 40]. Это миниатюрное действо, возник­
шее в западной литургии, ограничивается, как правило, тремя репликами
и представляет приход жен-мироносиц к опустевшему гробу Христа. Од­
нако привнесением текста и музыки к песнопениям и молитвословиям
мессы, так называемым тропам, и созданием дополнений в литургичес­
ком обряде страстной седьмицы представляются основные события пас­
хальной мистерии — смерть и воскресение Христа — «двойной генезис
пасхального диалога превращает его в первообраз драмы» [Там же: 34].
Отделение ее от литургического усиливается полной карнавализацией
богослужебного порядка — рождественного праздника духовенства (на
самом деле показательно то, что первый шаг к глубинной перестройке
149
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: п/юочамы
тптики
действа «посещение гроба» был сделан литургическим сборником Фло­
рентийского монастыря) и тождественных с ним народных карнавальных
праздников: праздника глупцов, увенчания шутовского царя и др.
Для нас важно то, что именно эволюционные изменения, пережитые
католической литургией и западной церковью в целом, порождают благо­
приятную атмосферу для появления не только литургической драмы, но
и средневековой мистерии100.
Не так, однако, обстоит дело с православным Востоком. На византий­
скую литургическую систему также было оказано внешнее давление со
стороны античной традиции пантомимы, в результате чего (в V—VII вв.)
появляются некоторые квазидрамы, гибриды гимна и диалогизированной проповеди, которые окончательно исчезают с гибелью мимического
театра — на этот раз драматургическая эмансипация блокируется сра­
ботавшими защитными механизмами православной культовой системы.
Со своей стороны, русское православное богослужение таких импульсов
не получает и не создает драмы [см.: Андреев, 1994: 34]. Достоевский с
его общим православным духовно-мировоззренческим и эстетическим
настроем, о чем уже не раз говорилось здесь, логично остается глубоко
чуждым этой западной средневековой ментальности, породившей дух
мистерии. Следовательно, нам придется искать объяснение его поэтики,
исходя из ортодоксальной литургической модели. И так как православная
литургия не дает возможности порождения мистериальных интерпрета­
ций, то ее связь с художественной системой Достоевского непосредс­
твенна. Каким образом литургическое (а не мистериальное, как считает
Бицилли) воплощено в романах писателя — это вопрос, на который я
попытаюсь дать ответ в другом месте исследования, анализируя конк­
ретный художественный материал. Теперь я возвращаюсь к рассмотре­
нию других смысловых уровней, порождающих следующие изоморфные
отношения архтектурной комбинаторики храма и композиции романов
Пятикнижия Достоевского.
Говоря о предыдущем изоморфизме, я отметил, что созданная в про­
изведении ритмика частями «принуждает» читателя достичь «центра»,
акцентированного в смысловом, пространственном и временном отно­
шениях и тем самым своеобразно выделенного от остального текста.
Я направлю теперь свое внимание именно к этому «выделению», или,
точнее, акцентированию «обособлением» одной части по сравнению с
остальными на основании принципа контраста.
Так же как купол вносит изменения во внешний силуэт и внутрен­
нюю конфигурацию пространства храма (см. схему 5 (Б)), сон героя со150
Глава
2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
здает деформацию художественного пространства всей своей языковой,
образной, содержательной и эмоциональной стилистикой, выделяющей
его из остального текста как что-то особенное и важное для произведе­
ния. А общей с куполом метафизической функцией, символизирующей
аналогичную связь с категориями трансцендентального порядка, сон как
будто создает ощущение о реальном размыкании пространства и еще бо­
лее усиливает отграничение его от остального текста. Эта особенность
также типологична для художественного мира Достоевского и проводит­
ся последовательно во всех романах Пятикнижия. Я проиллюстрирую ее
на материале «Преступления и наказания», где она развита исключитель­
но четко и полно.
Я уже отметил, что особое психическое состояние Раскольникова
описывается на всем протяжении романа и во многих местах определя­
ется как «болезнь духа», «психическое расстройство», «душевное нерас­
положение» и т. п. Это, со своей стороны, сказывается на описании вне­
шнего мира, переломленного через его восприятие. Действительность
для Раскольникова максимально редуцирована, взгляд его подчеркнуто
интровертен. Объектом изображения являются премущественно душев­
ные терзания, которые, в свою очередь, деформируют объективный мир.
1Мир, который, трансформируясь в его сознании, из реальности превра­
щается в фикцию — «это точно во сне» [6: 66]. По мере приближения
к зоне сновидений эта кризисная ситуация все более углубляется и в
определенный момент достигает кульминации. В большинстве случа­
ев именно на грани между двумя реальностями (действительностью и
сном) подключается еще один раздражитель, который резко превышает
порог переносимости и приводит к разрыву с конкретной действитель­
ностью. Вот «кривая», прослеживающая состояние Раскольникова и путь
его к первому сну. Еще на первой странице романа отмечено: «В эту же
минуту он и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень
слаб: второй день как уж он почти совсем ничего не ел» [Там же: 5].
Свидетельства такого рода следуют одно за другим: «...он не знал, куда
деться от тоски своей. Он шел по тротуару как пьяный, не замечая про­
хожих и сталкиваясь с ними...» [Там же: 10]', «Он так устал от целого
месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения, что
хотя одну минуту хотелось ему вздохнуть в другом мире» [Там же: 11].
Внутреннее напряжение героя все более увеличивается и смещает реаль­
ность бытия: «Нервная дрожь его перешла в какую-то лихорадочную; он
чувствовал даже озноб; на такой жаре ему становилось холодно ... тот­
час же забывал, о чем сейчас думал и даже где проходил» [Там же: 45].
151
Часть
2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
Постепенно он впадает в такое состояние, что и наименьший раздражи­
тель превысил бы допустимый порог. Это происходит непосредственно
перед сном. В данном случае дополнительным раздражителем является
алкоголь: «...он выпил рюмку водки ... она мигом подействовала ... ос­
тановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на
траву и в ту же минуту заснул» [Там же]. С некоторыми отклонениями
схема «болезненное состояние + сверхраздражитель —• сновидение» пов­
торяется и в других снах этого романа. Для второго сновидения Раскольникова роль сверхраздражителя выполняет крайнее переутомление, пов­
торяются даже общие физиологические признаки: «Наконец он почувс­
твовал давешнюю лихорадку, озноб, и с наслаждением догадался, что на
диване можно и лечь» [Там же: 55]. В случае с третьим сном налицо то
же психосоматическое состояние: «Когда Раскольников пришел к своему
дому, виски его были смочены потом и дышал он тяжело» [Там же: 208].
Как раз в это мгновение происходит зловещая встреча с ремесленником,
который открыто обвиняет его в убийстве. Снова достигнута пороговая
ситуация, за которой следует знаменательный сон. То же самое повторя­
ется и во время болезни Раскольникова на каторге. Подобная модель на­
блюдается нами и в отношении Свидригайлова. Сон посещает его в ночь
перед самоубийством. Описанная схема повторяется в подробностях и в
остальных романах Пятикнижия.
Итак, в «Преступлении и наказании» действительность деформиро­
вана сознанием героя — она похожа, скорее всего, на кошмарный сон, а
не на реальность. Иллюзорность бытия особо сильно выражена в начале
романа. Это становится еще более осязательным по *мере приближения
читателя к «силовому полю» зоны, в которой расположено сновидение.
И именно в этот момент возникает деформация художественного про­
странства. Не случайно перед конкретным описанием сна автор пишет:
«В болезненном состоянии сны отличаются часто необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с действительностью ...
обстановка и весь процесс всего представления бывают при этом до того
вероятны, что их и не выдумать наяву этому же самому сновидцу ... Та­
кие сны ... всегда долго помнятся» [Там же: 45-46]. Прерывая естествен­
ный ход рассказа, автор вставляет это примечание, которым умышленно
ставит акцент на том, что будет описываться ниже — потрясающий сон
Раскольникова. В приведенном выше отрывке нельзя не приметить по
крайней мере три особенности: во-первых, подчеркивается необычная
«выпуклость», «яркость» «сходства с действительностью»; во-вторых,
ставится акцент на важности снов, на том, что они «всегда долго помнят152
Г л а в а 2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
ся»; в-третьих, обращается внимание на важность не только описанного
ниже сна, а в принципе всех болезненных снов в романе. В данном случае
интерес вызывает прежде всего первый момент.
Чтобы еще раз отметить исключительную реальность сна и ил­
люзорность действительности, в самом видении автор подчеркивает:
«...местность совершенно такая же, как уцелела в его памяти: даже
в памяти его она гораздо более изгладилась, чем представлялась те­
перь во сне» [6: 46]. Иными словами, здесь заметно желание внушить
восприятие сна как абсолютной реальности, более реальной, чем сама
действительность, и поменять местами сон и реальность. И действи­
тельно — воздействие сна потрясающее. Его описание настолько ярко и
реально (и в деталях, и в обобщении), что застревает надолго в сознании
читателя. Это вправду монолитный кусок действительности, который,
будучи «имплантированным» в иррациональный, отрывочный, иллю­
зорный мир Раскольникова, выделяется рельефно, и его воздействие
очень сильно. Ясная логическая последовательность сна резко прерыва­
ется, когда герой просыпается. Читатель вместе с ним попадает в иную
реальность. Отрывочность мыслей, фрагментарность картин окружаю­
щего мира, тяжелая усталость и рассеянность снова заполняют страни­
цы романа. Восстанавливается атмосфера, имевшая место перед сном:
«Он проснулся весь в поту, с мокрыми от поту волосами, задыхаясь, и
приподнялся в ужасе» [Там же: 49]. Опять приходит очередь усталости:
«Все тело его было как бы разбито» — она даже будто удвоилась фи­
зическим воздействием встречи с иной реальностью. Ритм повествова­
ния возвращается к тому же уровню, что и перед сном. Художественное
пространство меняется, деформируется как раз в той зоне, где распо­
ложен сон, и этим она акцентируется и приобретает относительную
автономность по отношению к целому. Как правило, это наблюдение
действительно для всех остальных снов в романе. Здесь, однако, надо
сделать уточнение. Как уже упоминалось выше, деформация реальности
в сознании Раскольникова постепенно убывает к концу повествования
как естественное следствие возвращения его душевного равновесия.
С точки зрения логики можно допустить, что если действительность, в
которой живет Раскольников, постепенно возвращается к объективным
параметрам, т. е. становится адекватной, уточняется, то она «выравнива­
ется» с реальностью последних снов героя. Следовательно, не будет на­
блюдаться никакой деформации — «зоны», содержащие сны, не будут
акцентированы. Такого «выравнивания» обеих реальностей, однако, не
происходит, так как, со своей стороны, фантастический, иррациональ153
Часть
2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
ный характер снов усиливается. Особо ярко это выражено в последнем
космогонически-апокалиптическом сне Раскольникова. Таким образом,
происходит новое переворачивание, подмена сна и действительности, и
художественная реальность последних снов строится по законам худо­
жественной реальности первых снов в романе. Элемент иллюзии, харак­
терный для действительности, в которой живет Раскольников в начале
романа, становится достоянием снов в конце произведения — тем са­
мым деформация (акцентирование) остается на прежнем уровне, и ав­
тономность «зон» сохраняется. Это очень важно, потому что еще раз
подчеркивает значение вложенного в них содержания.
Указанная особенность проявляется аналогичным образом в худо­
жественном пространстве всех романов Пятикнижия. Отделены от ос­
тального текста сны князя Мышкина и Ипполита в «Идиоте», Ставрогина в «Бесах», Аркадия и Версилова в «Подростке», Мити, Ивана и Алеши
в «Братьях Карамазовых». При помощи этого приема читатель получает
почти физическое ощущение третьего измерения (своеобразного вер­
тикального размыкания пространства), которое по своей сути является
духовным прорывом и внешним выражением глубинной организации
единой человеческой души (модель которой строит Пятикнижие Досто­
евского) и в конечном итоге (по аналогии) выявляет изоморфное соот­
ветствие с внешней конфигурацией, которую вносит купол в архитекто­
ническую объемность храма (см. схему 5 (Б)).
*
•
•
Наряду с указанными выше формальными признаками, сновидение
в романах Достоевского ассоциируется конкретно с куполом храма и на
буквальном образном уровне. Само сновидение является «куполом» в ду­
ховном храме героя, и таким образом писатель представляет храмовый
характер человеческой души, придавая ей словесный образ. Это объяс­
няет, почему многократное буквальное присутствие купола храма образ­
но-ассоциативно связывает сны персонажей с названным характерным
символом восточно-православной церковности. Вот с чего начинает, на­
пример, описание своего сна-откровения Аркадий Долгорукий в «Под­
ростке»: «Мысли мои мешались, и, вероятно, я очень быстро задремал.
Как сквозь сон теперь вспоминаю, что вдруг раздался в ушах моих гус­
той, тяжелый колокольный звон, и я с наслаждением стал к нему прислу­
шиваться.. . и я вдруг различил, что это ведь — звон знакомый, что звонят
у Николы, в красной церкви... в старинной московской церкви, которую
154
Глава
2 • Воплощение ортодоксальном
образа .храма в последних романах
Достоевского
я так помню, выстроенной еще при Алексее Михайловиче, узорчатой,
многоглавой и в столпах...» [13: 270]. И ниже, вместе с погружением в
это сокровеннейшее воспоминание, прочно укрепившееся в сердце ге­
роя, — свидание с любимой матерью — акцент на образе церковного ку­
пола становится еще отчетливее: «Я тотчас узнал эту гостью, как только
она вошла: это была мама, хотя с того времени, как она меня причащала
в деревенском храме и голубок пролетел через купол, я не видал ее уж ни
разу» [Там же].
Для художественной концепции Достоевского показательно то, что
когда герои возвращаются к ранним воспоминаниям и к ребенку в себе,
т. е. приближаются к Христову началу и к источнику веры в своей душе
(известна идея, которой автор дорожил, что дети — «ангелы Божий»,
несущие «ангельский лик и ... невинность» [22: 68]), почти всегда это
воспоминание связывается с образом купола — символом ортодоксаль­
ной соборности. Это припоминает старец Зосима [см.: 14: 264]; в сно­
видении Раскольникова также является «каменная церковь с зеленым ку­
полом», о которой сказано: «...он любил эту церковь и старинные в ней
образа» [6: 46]. Интересным образом символика купола воплощена и в
сне-откровении Алеши — любимого героя писателя в романе «Братья
Карамазовы». Образ купола мистически восходит к притче о «луковке»,
которую Грушенька рассказала Алеше. Я приведу здесь коротко ее со­
держание.
Жила когда-то женщина, злющая-презлющая. Когда она умерла, не
оставила за собой ни одного доброго дела. Схватили ее черти и кинули в
адское озеро. Но ее ангел-хранитель все же припомнил единственное ее
доброе дело и сказал Богу: как-то раз она выдернула в огороде луковку
и дала нищенке. А Бог ему сказал взять такую же луковку и протянуть
ей в озеро, чтоб ухватилась и чтоб он ее вытянул; вытянет — женщина
пойдет в рай, не вытянет — останется там, где она есть. Ангел так и
сделал. Ухватилась женщина за луковку, и ангел почти всю ее вытянул,
но другие грешники, увидев это, ухватились за нее, чтобы и их вытяну­
ли. Тогда женщина начала пинать их ногами: «Меня тянут, а не вас, моя
луковка, а не ваша». Когда она сказала это, луковка порвалась, и женщи­
на упала снова в озеро навеки [14: 319]. Через несколько страниц после
этой притчи начинается описание Алешиного сна-откровения, в котором
герою снится новозаветная сцена — свадьба в Кане Галилейской, и он с
изумлением видит среди гостей своего любимого старца Зосиму. «Чего
дивишься на меня? — спрашивает его старец. — Я луковку подал, вот
и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только
155
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
маленькой луковке...» [Там же: 327]. С душой, преисполненной слез и
восторга, Алеша просыпается и выходит из кельи. Вдруг на него опро­
кидывается «небесный купол», и он видит, как «золотые главы собора
сверкали на яхонтовом небе ... что-то твердое и незыблемое, как этот
свод небесный, сходило в душу его» [Там же: 328]. В святоотеческой эк­
зегетике известна аналогия между небесным сводом и купольным сводом
храма. В этом смысле ясно, что воскресшая у героя вера в бессмертие
его души, «соприкосновенная с иными мирами», — это та завершающая
идея, которая венчает духовным небом-куполом внутренний храм души.
На самом деле купольный свод не изображен буквально во сне Алеши,
но его присутствие обозначено одним из наиболее ярких его символи­
ческих субститутов — «луковкой». И это не случайно, так как луковка
символически изображает «космос», «первопричину» «бессмертия»
и «откровения». Символ лука также «апотропичен и особо силен про­
тив пагубных лунарных сил» [см.: Купер, 1993: 120; Шевалье, Геебрант,
1995, 1: 628 и др.]. Демоноборческая его функция видна и в народном
предании, где его острый запах изгоняет демонов. Отсюда и поверье:
«Кто ест лук, того Бог избавит вечных мук» [Даль, 1989, 2: 273]. И пре­
жде всего в семиотическом плане многослойная структура лука (каждый
слой которого объемлет остальные в себе) является наглядным образом
соборности — ответственности за вину «всякого перед всеми за всех»,
словами Маркела, брата старца Зосимы [14: 270] — этого «единства во
множестве», являющегося таинственной формулой и чудом ортодоксаль­
ной церковной соборности. Поэтому этот символ дает и характерный для
русских православных храмов облик купола луковичного типа (ил. 1). Он
наглядно представляет сакральную вертикаль axis mundi (или еще arbor
mundi — «мировое древо»), вокруг центра которой строится космичес­
кая архитектоника храма. И здесь следует отметить важную особенность,
вносящую ясность в рассматриваемую проблему. С одной стороны, сны
героев в романах Достоевского порождаются сердцем [25: ПО, 115 и др.],
а сердце (как утверждает духовная аскетика) есть символ аптаря во внут­
реннем храме человека. С другой стороны, сновидение, как выяснилось,
субституирует купол (который в храме венчает священную ось). Следо­
вательно, в художественном мире писателя сновидение объединяет два
центра в храме — алтарь и купол — и этим изображает единение ума и
сердца, что и является целью духовного «делания» — «умной молитвы».
Поэтому сон воплощает идею абсолютного антропологического цен­
тра, вокруг которого «воздвигается» духовный храм личности — храм
православной души.
156
Глава 2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах Достоевского
Иллюстрация
Ф
Ф
1
Ф
Но идея центра, маркированного куполом как вертикальной доми­
нантой, — только одна из составляющих, придающих характерный об­
лик православной церкви. Вторая классическая особенность — это фик­
сированная ориентация но оси «восток — запад».
Я уже сказал достаточно о метафизических основаниях, предопре­
деливших в христианском мировоззрении повышенную сакральность
восточного направления. Проблема в том, что оппозиция «Восток — За­
пад» продолжает соблюдаться и до сих пор как канонический императив
в архитектурной композиции православных храмов, и эта архитектурная
метафора также отличает восточные церкви от культовых сооружений
остальных христианских конфессий.
157
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проачаиы поэтики
Даже беглое знакомство с религиозно-мировоззренческими кон­
цепциями Достоевского убеждает нас, что в них нет яснее выраженной
антиномии, чем оппозиция «Восток — Запад». У него Запад всегда свя­
зывается, как и в церковном предании, с инфернальным, в то время как
обращение к Востоку синонимично спасению. Для писателя понятие
«Запад» неразнывно связано с представлением о западноевропейской
цивилизации. К ней он питает сильную личную неприязнь, выража­
ющуюся или в отвращении к протестантско-мещанской морали «под­
лой республики» Швейцарии, или к «глупости народа» Германии
[28, кн. 2: 243; 360-361], или к папско-меркантильному мировоззре­
нию француза с его «дышащим подлостью» парижским произноше­
нием [Там же: 248].
Разумеется, рассматривать такое отношение как результат первично­
го ксенофобского комплекса было бы ошибочным. Причины здесь зна­
чительно глубже. «Подкопанный и зараженный ... гражданский строй»
в Европе, который представляется Востоку прельстительным «идеалом»
[26: 132], имеет, по мнению Достоевского, свои основания не в френоло­
гических и психологических особенностях народа (сам он признается,
что никогда не был врагом даже евреев [см.: 29, кн. 2: 140]), а в том фак­
те, что папско-католический и протестантский мир затмил образ Хрис­
тов в себе [26: 152], вследствие чего Европа стала «совершенно язычес­
кой» [Там же: 168] и впала во власть инфернального. Поэтому там берет
свое начало мутный источник опасных и соблазнительных для Востока
идей — гуманизма, рационализма, социализма и т. д. Следовательно,
«Восток — Запад» в историко-философских видениях писателя по свое­
му характеру — не только социальное, культурное и психологическое
противопоставление (для него это только следствия, а не причины), на­
стоящая же причина прежде всего религиозная. Он воспринимает этот
феномен не как случайное совпадение, а как таинственное выполнение
библейских предзнаменований. Западная Европа (соответственно, запад­
ное направление) для писателя — религиозное понятие, синоним духов­
ного рабства: «...мы сами, — пишет он, — из Европы сделали для себя
как бы какой-то духовный Египет» [27: 36]. Освобождение и будущее
России Достоевский видит в ее ориентации к Азии [27: 195], на Восток,
точнее — к самой себе, в поисках собственной идентичности, потому что
она «есть нечто совсем самостоятельное и особенное, на Европу совсем
не похожее и само по себе серьезное» [23: 43]. Писатель убежден, что не
России нужна Европа, а наоборот — спасение Европы и, соответственно,
всего Западного мира придет с Востока, точнее, из России как «духов158
Г л а в а 2 • Воплощение ортодоксального аорта храма в последних романах
Достоевского
ного центра» и «главы Восточного мира» [26: 84]. Восток превращается
в символ «правды Христовой», которую сохранила только православная
Россия, чья нация должна освещать путь погрузившемуся в духовный
мрак Западу. «Надобен авторитет, надобно солнце, чтоб освещало,—
прорицает он. — Солнце показалось на Востоке, и для человечества с
Востока начинается новый день» [25: 51], — таково «предопределение
Востока» [26: 85]. Духовная брань «окончится в пользу Востока» — это,
продолжает Достоевский, «мои "прорицания"» [24: 2/, 22].
Утверждения такого рода встречаются на всем пространстве «Днев­
ника» и в письмах из личной корреспонденции. Надо прибавить, что
для Достоевского эта основная оппозиция часто заменяется другими
понятиями: Петербург и Москва [см.: 26: 55-56], разум и интуиция
[см.: 23: 43], ум и сердце и т. д. — но суть ее остается неизменной, и ду­
ховно-идеологическое противопоставление по оси «Восток — Запад»
сохраняется101.
Эта фундаментальная антиномия воплощена специфическим обра­
зом и в художественном мире романного цикла Пятикнижия. Особо ярко
представлена оппозиция «Восток — Запад» в постоянном образе заходя­
щего или восходящего солнца. С одной стороны, этот образ фиксирует в
произведениях пространственную ориентацию в целом: заходящее сол­
нце — запад, восходящее солнце — восток. То есть наблюдается про­
странственная ориентация по оси «восток — запад». С другой стороны,
однако, заходящее или восходящее солнце существует не только как фе­
номен объективного мира, но и тесно связано с духовным миром данного
персонажа. Иными словами, она связана с определенной религиозноидеологической ориентацией — признаком «восточной» или «западной»
мировоззренческой интенциональности героя. В этом смысле «косые
лучи заходящего солнца» символизируют безвозвратно минувший «зо­
лотой век» сонных языческих мечтаний человечества, сжимание в «под­
полье» и поворачивание спиной к новому восходу, страх перед будущим
и Апокалипсисом. Великие грешники Достоевского буквально сжигаемы
этим видением. Когда «лучи заходящего солнца» обливают лица Раскольникова, Ставрогина, Версилова, Ипполита, Аркадия Долгорукого, это не
просто внешнее, формальное, телесное обращение героя к западу, а об­
ращение желаний, чувств, мыслей — всей духовной и телесной жизни,
направление их духовного храма к обратной временной (языческой) и
идейной (западно-гуманистической) перспективе.
С особой четкостью ориентация духовного храма с запада на вос­
ток прослеживается в «Преступлении и наказании». В начале романа в
159
Часть
2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
важнейшие моменты выбора (после первого пророческого сна, при об­
думывании убийства и при самом убийстве, при мысли о самоубийстве
и т. д.) Раскольников неизменно стоит лицом к лучам заходящего солнца
[см.: 6: 8, 50, 120, 131 и др.], чтобы после катастрофы, в медленном и
выстраданном движении духа, «перебродить» все инфернальное про­
странство, отмеченное закатом (Петербург, цивилизация, кошмарные
идеи — вообще Запад), и встретить уже в другом месте (Сибирь, природа,
сердце — Восток) ранние утренние лучи «нового солнца» [см.: 6: 421].
Возродившись, он уже готов к настоящему великому подвигу — принес­
ти свою внутреннюю, духовную, бескровную жертву во имя будущего.
Такая же зависимость прослеживается и в романе «Идиот». Не слу­
чайно лучи заходящего солнца являются во время наибольшего духов­
ного испытания князя Мышкина: когда «возмужающие нашептывания
демона» «соблазняют» и «цепенят всю его волю», и он начинает верить
ему; когда «мрачное, мучительное любопытство» соблазняет его; когда
он теряет веру в доброе начало в человеке [8: 189-193]. Поэтому и впав­
ший в атеистический кошмар Ипполит, другой персонаж романа, делает
попытку застрелиться перед лучами восходящего солнца — это его бунт
против «нового солнца», символа веры и «источника жизни» [Там же:
309, 317]. И если Ипполиту это не удается, такой же символический
жест совершает другой герой — атеист Крафт в романе «Подросток»
[13: 128].
Сложные и противоречивые чувства, которые испытывает Аркадий
Долгорукий («Подросток») к символике восхода и заката, находятся в
тесной зависимости от его последовательного увлечения атеистической
верой «западника» Версилова (не случайно в романе звучат сомнения,
что Версилов «перешел в католичество» [13:57,57]) и православием Ма­
кара [Там же: 61, 62, 99, 270, 283 и др.].
Тоска Версилова по атеистическому «золотому веку», мечта о чело­
веческом о рае на земле без Бога находят ярчайшее воплощение в его
сне, где именно лучи заходящего солнца являются основным символом
повернутой к западному миру души [Там же: 375-376]. Этот сон, как я
уже отметил, позаимствован у другого великого атеиста — Ставрогина в
«Бесах» [см.: 11: 21]. Доказательсвом того, что здесь Достоевский имеет
в виду именно атеистически-залядиу/о символику, может послужить то
обстоятельство, что в своем «Дневнике» он приводит почти весь ставрогинско-версиловский сон как предзнаменование о хлынувших в Россию
западных идеях и созданной уже «Церкви атеиста» [см.: 22: 99]. Закат
Запада (по выражению Шпенглера), несомненно, несет для писателя зна160
Глава
2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
чение конца Европы, Западного мира вообще, но в некоторых случаях
выступает и как символ конца человеческой жизни, индивидуальной эс­
хатологии. «Благословляю восход солнца ежедневный, — говорит старец
Зосима, — но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его ...
Кончается жизнь моя, знаю и слышу это» [14: 265]. Как предчувствие
личного конца этот символ присутсвует и перед смертью его брата Маркела [Там же: 262].
Странным образом воздействуют «косые лучи заходящего солнца»
и на судьбу, может быть, самого чистого образа в творчестве Достоевс­
кого — образа «русского инока» Алеши Карамазова. Закат является еще
в его первом воспоминании детства наряду с наиболее красноречивым
символом православной веры — иконой. Маленького Алешу рыдающая
мать поднесла к расположенной в углу (к юго-востоку) Богородичной
иконе. Вся эта сцена облита проникающими через открытое окно (с северо-запада) косыми лучами заходящего солнца. Именно эти «косые лучи»,
которые ему «и запомнились всего более» [14: 18], искушают его прове­
рить, «только посмотреть», существует ли настоящая вера в монастыре,
и если выйдет, что все там ложь, это несомненно направило бы его к про­
тивоположной (т. е. западной) «вере» — «то сейчас бы пошел в атеисты
и в социалисты» [Там же: 25]. Одновременное присутствие еще на заре
его жизни обоих символов — заходящего солнца и иконы — раскрывает
перед героем возможность ориентирования к одной из двух идеологичес­
ких перспектив, соответственно, к западной или восточной идеологеме.
Но в монастыре он знакомится со старцем Зосимой, и эта знаменательная
встреча помогает Алеше постичь настоящие устои православной церков­
ности и ориентировать сердце, душу и весь внутренний мир однозначно
к восточной ментальности.
Особую метаморфозу переживает и отношение Мити Карамазова к
идеологеме Востока. В начале романа погрязший в «грехах» и «сладос­
трастии» Митя неистово любит жизнь и восхваляет лучи солнца, но для
него это не «новое солнце» христианского обновления, а его языческая
ипостась — «златокудрый Феб» [Там же: 362, 363]. Поэтому он намерен
застрелиться как раз тогда, когда появится первый луч солнца [Там же:
433, 526]. Однако после пророческого сна, который раскрыл перед ним
бездну его греха и вины, Митя осознает истину: «все виноваты», из всех
же именно он — «самый подлый гад», и он сразу решает «пострадать»,
очиститься «страданием», пойдя на Восток, к своей Голгофе. Таким об­
разом следует толковать и его слова в прощальном письме-предчувствии:
«От всех вас уйду на Восток, чтоб никого не знать» [15: 55].
161
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: прошены полпики
Несомненно, духовная направленность героя к двум противополож­
ным топосам бинарной оппозиции «Восток — Запад» — одна из важ­
нейших типологических особенностей всех романов, входящих в состав
Пятикнижия. Это подтверждается и на другом образном уровне. Надо
подчеркнуть, например, что когда в данном отрезке текста отсутствует
ясно оговоренная пространственная ориентация «восток — запад» (или
ее аллоформа «восход — закат»), она присутствует другим образом, за­
меняется оппозицией «правое — левое». Для христианского сознания
это закономерная операция, так как восток и запад, восход и закат, правое
и левое — понятия аналогичные, полностью взаимозаменяемые. Когда
совершающий молитву человек стоит лицом к востоку (как этого тре­
бует православный ритуал), левая сторона его тела направлена к северу,
а правая — к югу. Солнце находится в таком случае справа, в то время
как север слева символизирует холод и смерть. Такое толкование правого
как положительной стороны находит основания и в библейском тексте.
После своего воскресения Христос «воссел одесную Бога» [Мк., 16: 19].
При Втором пришествии праведники («овцы») станут одесную (по пра­
вую сторону), а грешники («козлища»), которые будут преданы вечному
огню и дьяволу, — ошуюю (по левую) [см.: Мф., 25: 33-42]. Поэтому в
христианской литературе правое и левое становятся популярными поня­
тиями, обозначающими праведных и грешных, Рай и Ад. Правый путь
(или тесные врата) ведет в Рай, а левый (левые, широкие врата) — в Ад
[см.: Петканова, 1994: 34-35].
Характерен в этом отношении следующий пример. Из Евангелия
известно, что на Голгофе Иисус был распят вместе с двумя разбойника­
ми— справа и слева от него [см.: Мф., 27: 38; Мк., 15: 27\ Лк., 23: 33].
Независимо от того обстоятельства, что в каноническом тексте не указа­
но ясно, к какому из обоих разбойников Спаситель обратился с словами:
«истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» [Лк., 23: 43],
христианская экзегетика, опираясь на развернутую выше устойчивую се­
мантику оппозиции «правое — левое», принимает, что спасся распятый
одесную Иисуса разбойник. Это предание поддерживает и Достоевский:
«Я был при том, — говорит дьявол Ивану Карамазову, — когда умершее
на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого
одесную разбойника» [15: 82].
На всем пространстве Пятикнижия устанавливается ясная парадиг­
ма, согласно которой правая сторона (направление) исконно присуща тем
героям Достоевского, которые являются носителями сердечно-интуитив­
ной восточно-религиозной ментальности (или стремятся к ней). И наобо162
Глава
2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
рот: «левые» телодвижения совершают откровенные грешники, которы­
ми завладели западные рациональные гуманистические идеи, и вообще
демонические персонажи.
Еще в первом романе Пятикнижия, «Преступлении и наказании»,
после третьей (последней) встречи с Раскольниковым его демонический
«двойник» Свидригайлов произносит знаменательные слова: «...теперь
вам скоро будет пора. Вы направо, я налево» [6: 368]. Через некоторое вре­
мя он снова настоятельно подчеркивает: «вам направо, а мне налево» —
и добавляет двусмысленное «или, пожалуй, наоборот» [Там же: 372], чем
намекается, что до последнего момента возможен поворот, при котором
любой из обоих преступников может обратиться к покаянию, искупле­
нию и спасению, а другой — к самоубийству, к левой стороне мрака.
И действительно — это колебание продолжается и на следующих стра­
ницах романа, так как некоторое время оба идут в одном направлении —
налево. Но когда наступает момент решительного рокового расставания,
о Раскольникове сказано: «он повернулся и пошел обратно (т. е. напра­
во. — Н. Н.) ... Глубокое отвращение влекло его прочь от Свидригайлова» [Там же: 374]. Приведенная здесь фраза, обозначающая противопо­
ложные направления «правое — левое», превращается в общую формулу
(«толюс;») для всех романов Пятикнижия. Она проявляется всегда в кри­
зисных для действия (соответственно, для внутреннего мира героя) ситу­
ациях. Это имеет место и в романе «Идиот», где ослепленный бесом Ганя
открыто называет своего спутника «идиот проклятый», а обидевшийся
князь Мышкин отвечает: «не лучше ли нам разойтися: вы пойдете на­
право к себе, а я налево» [8: 75]. Провокационный смысл этой фразы оче­
виден. Она мгновенно пробуждает раскаяние у Гани, который «ужасно
смутился и даже покраснел от стыда», этого достаточно, чтобы получить
прощение от всегда готового простить Мышкина, и оба продолжают свой
путь вместе направо. Первый — к своему мучительному будущему са­
мопознанию, второй — к миссии спасения всех людей.
В «Бесах» та же символическая фраза-формула высказана при первой
встрече архидемона Ставрогина с «малым бесом» Федькой Каторжником.
Эта встреча знаменательна и «погранична» во всех отношениях — она
происходит ночью на мосту, т. е. на ничьей территории, в локусе, вися­
щем над бездной. На прощание Ставрогин говорит: «мне налево, тебе
направо', мост кончен» [10: 205]. Особый смысл этих слов раскрывается
впоследствии. Федька еще не получил негласного приказа Ставрогина
убить Марью Лебядкину. С одной стороны, это подчеркивает его отно­
сительную «невинность», а с другой — несравненно меньшую степень
163
Часть
2 • Роман Достоевском:
проблемы поэтики
демонизации по сравнению со Ставрогиным, а таким образом — и тео­
ретическую возможность спасения, что объясняет его ассоциирование с
правым. И наоборот: намерение Ставрогина лично погубить «духовным
ножом» Лебядкину (ср. иносказательные ее слова [10: 250]) определяет
левое как закрепленный только за ним инфернальный периметр. И дейс­
твительно — после бегства из дома Марьи Лебядкиной левые коннота­
ции в отношении героя видимо учащаются. Он снимает «левою рукой»
шарф, чтобы завязать руки Федьке; поворачивает «налево ... в длинный и
глухой переулок» [Там же: 221] и т. д. При столкновении Верховенского
со Ставрогиным, как правильно отмечает Ежи Фарино, факт, что Верховенский повержен «левою рукой», а правая рука Ставрогина бездействует
(ср.: «бешенство охватило его: схватив Верховенского за волосы левою
рукой, он бросил его изо всей силы об земь» [Там же: 321]), что свиде­
тельствует о том, что Ставрогин проявляет свою бесовско-хтоническую
силу [см.: Faryno, 1991: 253].
Роман «Подросток» подтверждает это правило. Нравственные блуж­
дания юного героя Аркадия представлены также в оппозиции «пра­
вое — левое». Попав в западню Ламберта, подросток отчаянно и почти
интуитивно ищет верное направление. Вот как протекает его поединок
с француженкой Альфонсиной, близкой Ламберту. «Выбежав из комна­
ты, я повернул направо», но его противница указывает ему совершен­
но иное направление: «...уцепившися за мою шубу своими длинными
костлявыми пальцами, а другой рукой указывая мне налево по коридору
куда-то, куда я вовсе не хотел идти. Я вырвался и побежал к выходным
дверям...» [13: 278]. После этой сцены наступает очищающая болезнь,
приведшая к медленному, мучительному, но и верному нравственному
выздоровлению героя.
Та же зависимость прослеживается и в романе «Братья Карамазо­
вы». После того как Иван рассказывает Алеше свою «Легенду о великом
инквизиторе», братья расстаются, и Иван Карамазов произносит знако­
мую формулу: «А теперь ты направо, я налево — и довольно, слышишь,
довольно» [14: 240]. Контекст этой сцены означает следующее: Алеша
идет направо, к своему любимому Pater Seraphicus и к своему спасению,
а Иван — налево к своему демоническому двойнику Смердякову, чтобы
стать духовным соучастником в совершении величайшего греха — отце­
убийства. В этом смысле можно объяснить и странное обстоятельство,
что удаляющийся Иван «идет как-то раскачиваясь» и что у него «правое
плечо, если сзади глядеть, кажется ниже левого» [Там же: 241].
164
Глава
2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
Несомненно, что повышенная частотность у Достоевского левых
локусов, направлений и телодвижений, связанных с определенным пер­
сонажем, является верным признаком губительного инфернализма и ду­
ховной смерти. Хрестоматийный пример в этом отношении — Смердяков. Он почти всегда смотрит или движется налево — «вижу палево»,
«шагнул палево» [15: 64]; обитает в левом пространстве — в саду сел
на скамейку, находящуюся слева от Алеши [14: 203], поселился в комна­
те палево [см.: 15: 50]; совершает действия левой половиной тела— его
левый глаз всегда «щурится» или «мигает» [15: 43, 51], в носке палевой
ноге он спрятал ворованные деньги [15: 60] и т. д.102 В редких случаях,
когда правое упоминается в связи со Смердяковым (обычно это имеет
место в мгновения смущения, выдающего зачатки совести у героя), оно
всегда сочетается с левым — «приставил правую ножку клевой» [14: 244];
«Смердяков, смотревший в землю и игравший опять носочком правой
ноги, поставил правую ногу на место, вместо нее выставил вперед ле­
вую» [Там же: 245] и т. д.
Демоническая левая коннотация в принципе активизируется всегда,
когда в определенной ситуации кто-либо из героев впадает во власть тем­
ной стороны и совершает поступок, дисгармонирующий с нравственной
его сущностью. Например, Митя бьет слугу Григория, который вцепил­
ся «в его левую ногу» [14: 429]. Или когда предлагают Мите бежать в
Америку (т. е. на Запад), он принимает это образно как поворот налево.
«От страдания ведь убежал! — говорит он Алеше. — Было указание —
отверг указание, был путь очищения — поворотил налево кругом ... От
распятья убежал!» [15: 34]. Эта зависимость закономерно прослежива­
ется и в других романах Пятикнижия. Подлый поступок Лужина по от­
ношению к Соне («Преступление и наказание») насыщен «левыми» кон­
нотациями. Лужин держит золотой лорнет в левой руке, на левой руке у
него — перстень с желтым камнем [6: 287], левой рукой он тайно кладет
деньги в карман Соне [Там же: 306] и т. д. Перед встречей с Раскольниковым Свидригайлов остановился в трактире, находящемся в доме налево
[Там же: 355], при столкновении с Дуней он вынимает ключ из левого
кармана пальто [Там же: 383]; чтобы покончить с собой, выбирает боль­
шой дом с каланчой слева от себя [Там же: 394] и т. д.
Я должен подчеркнуть, что одновременное присутствие «правого»
и «левого» характерно для тех героев Достоевского, которые обладают
двойственной природой, колеблются между совестью и грехом, между
спасением и смертью. Таков, например, Раскольников. У него «правые»
и «левые» направления все время чередуются. Ремарки вроде «повернул
165
Часть
2 • Роман Достоевского: проочсмы поэтики
налево», «увидел слева», «поворотил вправо» и т. д. являются иногда
буквально на одной и той же странице текста и создают впечатление о
зигзагообразном или круговом блуждании героя [Там же: 69, 85, 136].
Но фреквентность «правого» заметно усиливается, когда Раскольникова
надо противопоставить демоническому Свидригайлову (ср.: «поворачи­
ваю... направо», «опустил правый локоть на стул», «подпер пальцами
правой руки... подбородок» [Там же: 356, 357]). Классический пример,
наглядно представляющий двойственную сущность героя, являет сцена,
в которой Свидригайлов угощает вином двух писарей: «с этими писа­
ришками он связался, собственно, потому, что оба они были с кривыми
носами: у одного нос шел криво вправо, а у другого влево. Это поразило
Свидригайлова» [Там же: 383].
Традиционные случаи раздвоения встречаются во всех произведени­
ях, входящих в романный цикл Пятикнижия. Их общей чертой является
смешение правого и левого. Типический пример в этом смысле — образ
«шута» и «паяца» капитана Снегирева, отца Илюшеньки («Братья Ка­
рамазовы»). Он кривит рот налево, левый его глаз щурится, но он топ­
чет деньги правой ногой [см.: 14: 193]. Аркадий («Подросток»), подобно
Раскольникову, все время меняет направления (ср. «повернул направо»,
«поворачиваю налево», «поверну налево» [13: 195, 278, 361]), локусы
(«в моей маленькой комнатке налево» [Там же: 270]) и т. п.
В художественном мире Достоевского естественной оппозицией
откровенно демонических персонажей и характеров блуждающих двой­
ников являются герои, сердечно-интуитивно стремящиеся к противопо­
ложному спасительному началу. Характерны в этом отношении Митя
Карамазов и Грушенька, у которых правые обозначения постепенно
берут верх и фиксируют этапы внутреннего их покаяния и духовного
возрождения — преодоления темного начала в грешной человеческой
природе. Правые положительные коннотации, однако, полностью при­
сущи только тем героям, которые несут в своей душе воплощенную ре­
лигиозно-нравственную доминанту восточного мироощущения. Яркий
пример этого — «русский инок» Алеша Карамазов. Он всегда обитает в
правых топосах — стоит в правом углу кельи [см.: 14: 325], придержива­
ется правого направления — поворачивает направо к квартире Снегирева
[см.: там же: 79], активна у него правая половина тела, точнее, правая
рука [см.: 15: 36]. В связи с этим показателен факт, что левая рука Алеши
упоминается только один раз, притом тогда, когда озлобленный Илюша
укусил его за палец, т. е. опять подчеркивается у него пассивность левой
демонической половины [см.: 14: 163].
166
Глава
2 • Вопющепие
ортодоксального образа храма в nocicdnux романах
Доспюсаского
Правое всегда присутствует и при построении детских образов.
II это не случайно, так как, по мнению писателя, дети являются носи­
телями ангельского начала. Так, например, Коля Красоткин идет напра­
во [14: 471], поворачивает направо [Там же: 475], пострадала его правая
нога [Там же: 482], отказывается пойти налево [Там же: 484] и т. д. Ма­
ленький мученик Илюша проживает в комнате справа от коридора, его
кровать находится у правой стены под крайним окном справа и под углом
с иконами, т. е. он проживает в самой сакральной части жилища, проти­
вопоставленной левой, где находится «большая русская печь» [Там же:
180, 182]. У Ниночки, его сестры (о которой отец неоднократно говорит
«ангел Божий», «горбатенький ангел», «взгляд ангельский», «ангельская
кротость» [Там же: 191]), «ноет вся правая половина» [Там же] и т. д. Из
всех детей только о «противнике» Илюши, мальчике Смурове, отмечено,
что он левша и что бросает камни левой рукой [Там же: 161]. Но демони­
ческое левое в этом детском образе весьма условно, выполняет сложную
неоднозначную роль в художественной системе романа и прежде всего
в маленьком обществе детей вокруг больного Илюши, где его функция,
скорее всего, катарсисная. Поэтому именно о Смурове сказано, что он
был «первый пришедший помириться с Илюшей» [Там же: 485].
В настоящем исследовании невозможно проследить все проявления
бинарной оппозиции «правое — левое», но я думаю, что и сказанного
здесь достаточно, чтобы прийти к следующему выводу. Полярные обоз­
начения, как то: восход и закат, правое и левое (наиболее активные аллоформы интральных понятий «Восток» и «Запад») — выходят далеко за
рамки конкретных пространственных ориентиров и средств управления
фабульного действия. В романах Достоевского они берут на себя функ­
цию художественных епифаний, так как в них из-за повседневного всег­
да просвечивает метафизическое, а обычное, житейское, даже пошлое
возводится до трансцендентального. Епифания дает возможность созер­
цать в видимом бытии надмирный эсхатос. Но наиболее существенно то,
что оппозиция «Восток — Запад» с представляющими ее аллоформами
использована Достоевским в качестве основного духовной оси, ориенти­
рующей читателя во внутреннем мире героя. Наподобие основной про­
дольной оси «восток — запад» в православном храме, она задает топосы, фундаментальные для духовного храма героя, а следовательно, и для
типологического построения каждого из романов в составе Пятикнижия
как словесного храма. Так же, как верующий проходит через простран­
ство храма с запада на восток, «вошедший» в духовный храм Пятикни­
жия читатель «передвигается» по той лее сакрально ориентированной
167
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поттки
оси и мистически переживает, подобно паломнику, драматическую исто­
рию человеческого духа как свою собственную.
ф
$
ф
Третья основная общая особенность «позднего» романа Достоев­
ского и ортодоксального храма — этя существование так называемой
«иконостасно-алтарной эсхатологической границы». Самая сущест­
венная особенность этого изоморфизма — ориентация к эсхатосу. Хрис­
тианский храм похож на корабль, «нос» (алтарь) которого указывает на
небесное (рай) как крайнюю цель. Подобно «кораблю» храма, роман
Достоевского также «направлен» к метафизическому, в конце которого
(VaxoiToq) раскрывается будущее Царство Божие — трансцендентальное
небо. И это никак не стремление к катастрофизму как выходу из слож­
ной и перегруженной фабулы [см.: Гроссман, 1996: 43]. Хотя «Достоев­
ский воспринимал историю в свете Апокалипсиса», он верил, что «пос­
ле Голгофы для человечества наступит второе Пришествие Христово и
раздастся великий гимн нового последнего воскресения» [Мочульский,
1995: 549]. Не катастрофизм, а Царствие Божие — настоящая цель, вдох­
новившая его великие произведения. Я еще раз подчеркиваю: в финалах
своих романов Достоевский действительно рисует ситуации убийства и
самоубийства, материального и духовного крушения, но все же им ха­
рактерна образность, в корне противоположная апокалиптической. Они
заканчиваются шхато<;-ом, но не в смысле катастрофы, а в смысле пре­
ображения и обновления мира, что выражается в символических сценах,
откровенно восходящих к алтарной образности храма.
Эта особенность типологична для всех романов Пятикнижия. На­
пример, Раскольников, перебродив демоническое пространство своей
внутренней Голгофы, в сонном откровении (четвертый сон героя) видит
гибель старого обреченного мира, который «осужден в жертву» [6: 419].
Это кризисное видение в конце романа «Преступление и наказание» гене­
рирует особое напряжение, пороговую ситуацию, пограничную область,
разделяющую жизнь Раскольникова (соответственно, и пространство ро­
мана) на два в корне противоположные духовные состояния — до и после
Апокалипсиса. Первое меонично («не-бытийно») и связано с искушени­
ем, преступлением и страданием. Второе онтологично и выражает покая­
ние, искупление и спасение. После апокалиптического сна Раскольников
постепенно переходит «из одного мира в другой» [Там же: 422]. Духов­
ные доминанты этого «другого мира» — образы, неизменно несущие
168
Г л а в а 2 • Вотощение
ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
райскую, небесную, алтарную символику: Восток — «сияла заря обнов­
ленного будущего», Сердце — «сердце одного заключало бесконечные
источники жизни для сердца другого», Свет — «в облитой солнцем не­
обозримой степи», Воскресение — «он воскрес», Обновление — «чувст­
вовал вполне всем обновившимся существом своим», Безврелте (отсут­
ствие времени) — «как бы самое время остановилось» [6: 420-421]. Эти
образы, подобно алтарю в храме, выражают категории духовных сущ­
ностей невидимого небесного мира. Но созерцание алтаря как духовного
неба осуществляется в православном храме при посредстве иконических
образов, расположенных в алтарной преграде. «Иконостас есть грани­
ца между миром видимым и миром невидимым ... Иконостас есть виде­
ние ... По немощности духовного зрения молящихся, Церкви, в заботе
о них, приходится пристраивать некоторое пособие духовной вялости:
эти небесные видения, яркие, четкие и светлые, отмечать, закреплять
вещественно, след их связывать краскою. Но этот костыль духовности,
вещественный иконостас, не прячет что-то от верующих — любопытные
и острые тайны, как по невежеству и самолюбию вообразили некоторые,
а, напротив, указывает им, полуслепым, на тайны алтаря, открывает им,
хромым и увечным, вход в иной мир» [Флоренский, 2000] (курсив авто­
ра. — Н. И.). В рассматриваемом романе Достоевского функцию такого
«иконостаса» выполняет посетившее героя апокалиптическое сновиде­
ние. Потому что сновидение, как уже подчеркивалось, во внутреннем
духовном храме человека похоже на своеобразную иконопись образов,
исходящих из сердца как неба и алтаря антропологического храма.
В этом смысле сновидение в духовном храме, наподобие иконостаса в
материальном, не только отделяет возвышенное от земного, алтарь от на­
оса и сердечный мистический центр от души, но будучи видением, оно
их связывает, объединяет и делает возможным — посредством видимых
свидетельств — созерцание невидимого мира. Или, как отмечает цити­
рованный выше автор, сновидения не только отделяют видимый мир от
невидимого, но и соединяют миры, они соответствуют «переходу из од­
ной сферы духовной жизни в другую» [Там же]. Посредством этого пос­
леднего кризисно-апокалиптического сна у Раскольникова раскрывается
внутреннее зрение, и он духовными глазами видит чистый смысл другой
возможности жизни. В этом мире он читает таинственные отпечатки надмирного, вечного и невещественного небесного Эдема, для достижения
которого нужен «великий, будущий подвиг».
Телеологическая структура ясно выражена и в романе «Идиот». Все
произведение устремлено к последней эсхатологической сцене. О ней
169
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
Достоевский говорит: «эта 4-я часть и окончание ее — самое главное
в моем романе, то есть для развязки романа почти и писался и задуман
был весь роман» [28, кн. 2: 318]. Последняя сцена — Рогожин и князь
Мышкин перед мертвым телом Настасьи Филипповны — несет ясную
«алтарную» символику. Она подтверждается рядом семиотических топосов, которые будут подробно обоснованы при конкретном анализе ро­
мана. Теперь я только намечу их. Например, имя жертвы — Настасья
(греч. dvdamaic;— «воскресение») Барашкова («барашек») символи­
чески восходит к Агнцу— Божественной искупительной жертве ради
спасения и воскресения человека. Поэтому особый нож, которым со­
вершено убийство [см.: 8: 505', 180-181], изображает ритуальный нож
(копье), применяемый в проскомидии (действии, также совершаемом
в алтаре) для отделения Агнца от просфоры, и одновременно с тем —
копье, которым один из римских солдат проколол ребро Спасителя
[см.: Ин., 19: 34]. Специальный альков, в котором расположена кровать
с мертвым телом [см.: 8: 502], аналогичен алтарному углублению — ап­
сиде (см. схему 3). Тяжелая «зеленая штофная шелковая занавеска с
двумя входами по обоим концам» [8: 503], которая отделяет альков с
телом («алтарь») от остального пространства («наоса»), очевидно, вос­
ходит к иконостасной преграде в храме. Такое толкование занавески как
преграды, функционально сходной с иконостасом, подтверждается как
зеленым ее цветом («символом воскресения» [см.: Голейзовский, Ям­
щиков, 1978: 3], цветом, связанным преимущественно с третьей ипос­
тасью Троицы — Святым Духом [см.: Л. Успенский, 1989: 349]), так и
расположением героев — Рогожина и князя Мышкина — перед ней. Так
как о семантике цвета у Достоевского речь пойдет в дальнейшем, здесь
я остановлюсь только на второй детали.
По предложению Рогожина оба решают расположиться «вот тут у
занавески», за которой находится кровать с мертвой Настасьей Филип­
повной, охранять ее и не позволить, чтобы ее вынесли [8: 504]. Автор
прослеживает приготовление временной постели и точно фиксирует
расположение обоих героев по знакомой уже оппозиции «правое — ле­
вое». В болгарском издании романа сцена передана так: «Рогожин настани княза на лявата, по-хубавата възглавница и самият се изтегна от
дясната му страна...» [Достоевский, 4: 594]. При переводе здесь допу­
щена неточность, которая нарушает пространственную ориентацию в
самой сцене. Выходит, что после того как Мышкин занимает левую по­
душку (сторону), Рогожин не мог бы расположиться справа, так как это
означало бы занять еще более левое положение, т. е. занять или другую
170
Г .! а в а 2 • Воплощение ортодоксального обраш храма в последних романах
Достоевского
левую подушку (какой просто-напросто нет), или ту, которая уже пред­
назначена для князя. В оригинальном тексте такого смешения нет. Там
буквально сказано следующее: «Рогожин, уложив князя на левую, луч­
шую подушку и протянувшись сам с правой стороны...» [8: 505]. Здесь
нет дополнительного указания «его», т. е. Рогожин не ложится справа от
Мышкина. И именно это «от дясната му страна» вносит непонимание
в болгарское издание. Следовательно, в оригинальном тексте авторский
(соответственно, читательский) ракурс остается неизменным с начала
до конца. Коротко говоря, с внешней (авторской или читательской) точ­
ки зрения представлены две стороны — левая и правая (соответствен­
но, две подушки — левая и правая). Князь Мышкин занимает левую, а
Рогожин правую. С точки зрения Мышкина, Рогожин ложится влево от
князя — с нашей точки зрения, однако, он занимает правую сторону. Это
уточнение особо важно для анализа, так как является следствием всего
религиозно-философского контекста и смысла произведения.
А/ълмшеъз^УлА^ ^м
fiftWk/Mi&№ ftWWWW
IV
••••••QDDDnnnDnn
III
4
2
7
^ч)1
•api 1
б
6
II
Г б | [б]
6
Схема 10
*
3
7
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
Известно, что основная цель Достоевского в «Идиоте» — предста­
вить в образе Мышкина «вполне прекрасного человека» или «положи­
тельно прекрасного человека» [28, кн. 2: 241, 251], что прототипически
связывает образ князя с личностью Иисуса Христа (о чем тоже пойдет
речь), а его контрапунктом становятся остальные герои, и в особенности
демонический образ Рогожина. Следовательно, если князь Мышкин по­
казывает Христов лик, то Рогожин воплощает в себе слабую грешную
человеческую природу, которая нуждается в спасении. Этим определяет­
ся и расположение их перед зеленой занавеской (непосредственно перед
ее входом) — оно несет глубокую символику, так как точно соответсвует
тем местам, которые занимают в иконостасе иконы Христа и святого —
покровителя храма. В классическом православном иконостасе образ Ии­
суса Христа занимает левую сторону с точки зрения зрителя (см. п. 1 на
схеме 10), а образ святого — правую (п. 3 на схеме 10)103. В этом смысле
расположение князя Мышкина (слева) и Рогожина (справа) перед зана­
весом («иконостасной» преградой) аналогично месту, которое занимают
иконы Иисуса и святого-покровителя, вследствие чего сцена в романе
приобретает функции, адекватные функциям иконостаса в православ­
ном храме.
Эсхатологизм и алтарную образность мы наблюдаем и в финале ро­
мана «Бесы». Катастрофическая картина разрушений, пожаров и убийств,
обрушившихся на провинциальный губернский город, находит духовное
соответствие в тексте из Апокалипсиса в конце романа. Подобно апока­
липтическому сну Раскольникова в «Преступлении и наказании», этот но­
возаветный текст является рубежом между меоническим миром «бесов»
и их изгнанием из больного тела России [10: 497-499] — рубежом между
земным и небесным бытием, между видимым и невидимым мирами. В
романе слова из Апокалипсиса не только разделяют, но и связывают пре­
жнюю жизнь «первого беса» Степана Трофимовича (которого писатель
называет «краеугольным камнем всего» в романе [29, кн. 1: 184]), жизнь,
пройденную под знаком «эгоизма», «бесчестия» и «лжи» [ср.: 10: 496497], с жизнью после вступления на путь страдания (не случайно все чаще
подчеркивается болезненное состояние героя [см.: 10: 490,492,494,496 и
др.]). Страдание, которое, со своей стороны, приводит его к покаянию пе­
ред проповедующим Евангелие «ангелом» Софьей (воплощением «муд­
рости» — греч. аоф(а): «свалился пред нею на пол ... он просто упал ей в
ноги и целовал полы ее платья» [10: 496]. Сцена эта поразительно похожа
на покаяние Раскольникова перед другой Софьей — Соней Мармеладовой — его Божественным провидением и мудростью. Именно покаяние
172
Г л а в а 2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
(uEiavoiot) помогает герою ощутить «взгоревшуюся любовь в сердце» к
Божественному, прозреть самый важный закон мироздания — любовь:
«любовь выше бытия, любовь — венец бытия» [10: 505] — это последнее
верую (profession de foi) телесно умирающего, но духовно воскресшего
Степана Трофимовича. Финальная сцена романа (отличающаяся от су­
хого репортажного стиля «Заключения») несет все признаки алтарной
символики с уже знакомыми духовными обозначениями: Восток, новый
день спасения — «дождалась утра» [Там же: 504], Сердце — «взгоревшаяся в сердце любовь» [Там же: 505], Евангелие — «и я буду пропо­
ведовать Евангелие» [Там же: 500], Святые таинства, жертвенный аг­
нец — «он исповедовался и причастился весьма охотно» [Там же: 504],
Духовное очищение — «огромное озеро» перед домом, где умирает герой,
с апокалиптическим образом утопленных в озере свиней, т. е. «бесов»
[Там же: 499], Бессмертие — «я бессмертен!» [Там же: 505], Духовное
блаженство — «каждая минута, каждое мгновение жизни должны быть
блаженством человеку» [Там же: 506]. Насыщенностью этих образных
символов Достоевский внушает представление о совершенно отличном
духовном мире, аналогичном алтарной небесной зоне в храме, и образы
эти становятся своеобразным «алтарным» концом (eaxaioq) словесного
храма романа.
Роман «Подросток» также не составляет исключения в отношении
этой типологической особенности. Хотя и не в такой степени ясно, здесь
также в общих чертах повторяется знакомая схема: стремительное «дви­
жение» к апокалиптической катастрофе (сцена с разбитой Версиловым
иконой [см.: 13: 409-410] и последовавшая за ней бурная развязка с
опасным компрометирующим письмом в сцене шантажа [Там же: 444]),
после которого подросток проникает в другие пространства, постигает
новое состояние духа. Апокалиптическая образность отделяет «хаос» от
«космоса». Для Аркадия Долгорукого эта перемена подчеркивается теми
же многозначными символами, характерными для храмово-алтарного
пространства: Новая жизнь [Там же: 451], совершенная Другость — «со­
вершенно в ином виде», Упорядоченность (коаиод) — «жажда порядка
и благообразия» [Там же: 453], Истина — «искание истины» [Там же],
Свет — «стояло яркое, высокое весеннее солнце» [Там же: 451], Душа —
«в душе иного подростка» [Там же: 455] и т. д. Эти алтарные образысимволы свидетельствуют о возникновении новых небесных сущностей
в юной душе и раскрывают роман-храм к бескрайним пространствам
>схатоса. Выдающийся достоевсковед К. Мочульский пишет, что посie Ада («Бесы») и Чистилища («Подросток») писатель задумал поэму
173
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
о Рае («Братья Карамазовы») [см.: Мочульский, 1995: 480]. Имея в виду
ортодоксальную ментальность Достоевского и то, что он отбрасыва­
ет римско-католическое представление о существовании Чистилища, я
не принимаю тезис, что в романе «Подросток» писатель развертывает
эту идею (о специфической экзистенциально-религиозной доминанте в
«Подростке» речь пойдет в дальнейшем). Что касается, однако, «Бесов»
и в особенности «Братьев Карамазовых» как эстетического воплощения
Рая, приведенное наблюдение, по-моему, вполне справедливо. Дейст­
вительно, небесная образность присутствует в невиданных размерах в
этом последнем романе Пятикнижия. И здесь, однако, как и в осталь­
ных четырех романах, она концентрируется, как правило, в конце произ­
ведения, где расположена трансцендентальная цель — эсхатос, и точно
соответствует месту, которое занимает алтарная зона в композиции пра­
вославного храма. Огромное произведение направлено к этой цели, и в
ее истинное образное воплощение превращается путь страдания, прой­
денный маленьким мучеником Илюшей, отцом Снегиревым, Алешей Ка­
рамазовым и его последователями — детьми [см.: 14: 188-189', 15: 195].
Этот путь — особая сакральная ось, организующая весь идейно-религи­
озный потенциал романа. В конце пути стоит большой камень. Его сим­
волика сложна, и к ней, как и к общей гемологической проблематике, я
буду возвращаться снова. Теперь я укажу только на два из амбивалентных
значений. В начале романа камень символизирует Голгофу — он связан с
нравственным мучением, истерзавшим душу Илюшеньки [см.: 14: 188].
В самом конце (eaxorcocj романа он меняется в камень веры, на котором
строится возрожденная Церковь, т. е. приобретает функцию священно­
го топоса, идентичного алтарному каменному Престолу, вокруг кото­
рого группируются основные духовные небесные сущности — Сердце,
Духовные Скрижали воспоминания, Спасение, Любовь и Воскресение
[см.: 15: 194-199]. И так же, как в рассмотренных выше романах, чтобы
достичь зоны духовного эсхатоса, Царствия Небесного, «расположен­
ного» в конце «Братьев Карамазовых», читателю обязательно надо «пе­
рейти» апокалиптически-катастрофическую границу (напоминающую
иконостас в храме, который отделяет и одновременно с тем связывает
пространство алтаря и наоса). В конкретном случае роль такой границы
выполняет трагическая смерть ребенка-мученика Илюши [15: 189] — за
такого рода сценами неизменно следует особая алтарная зона, которой
в принципе и заканчивается каждый роман Пятикнижия. Из всего пере­
численного следует существенный вывод: романная поэтика позднего
Достоевсокого строится на основании трех основных принципов, трех
174
Г л а в а 2 • Воплощение ортодоксального образа храма в последних романах
Достоевского
фундаментальных канонов, придающих характерный облик и православ­
ному храму — идея «центра-купола», ориентация «восток — запад» и
иконостасно-алтарная «эсхатологическая граница». Воплощение этих
трех канонических требований превращает каждый из романов Пяти­
книжия в словесный эквивалент структуры ортодоксального храма, в
невидимое духовное отражение видимой земной церкви — в своеобраз­
ный словесный храм.
$
Ф
$
Анализ другого типа изоморфных отношений (наряду с рассмотрен­
ными выше особенностями символически-композиционного типа) еще
раз несомненно подтверждает, что ортодоксальная храмовость является
основной прообразной моделью семиотически-архитектонической ор­
ганизации романов Пятикнижия. Возьмем, например, храмовую стено­
пись как мистическую связь внешней «оболочки» храма с внутренней
литургической практикой. Она находит своеобразное отражение в цикле
романов.
Употребление цветовых значений на всем пространстве исследуемых
романов полностью соответствует их символике в канонической системе
цветов восточно-православной иконописи. Так, например, инфернальное
значение коричневого цвета в иконографии постоянно применяется и в
«словесной иконописи» Пятикнижия как цветовой акцент для объектов
того же семантического порядка: дьявол является Ивану Карамазову в
коричневом пиджаке, того же цвета и костюм Лужина в «Преступле­
нии и наказании», Ипполиту в «Идиоте» снится коричневый скорпион,
светло-гнедой жеребец запряжен в сани Аркадия в момент наивысше­
го духовного ослепления в «Подростке», отец Ферапонт в «Братьях Ка­
рамазовых» видит чертей с бурыми хвостами и т. п. Наоборот, зеленый
цвет (канонический цвет надежды, воскресения и жизни) у Достоевского
является постоянно в связи с объектами, несущими в контексте рассказа
такой же смысл: зеленая шаль Сони хМарм ел адовой, зеленый дом Капернаумовых, зеленая скамейка, где князь Мышкин видит пророческий сон,
зеленая занавеска, отделяющая мертвое тело Настасьи Филипповны от
внешнего мира, зеленый купол храма в первом сне Раскольникова и т. д.
Когда у Достоевского этот цвет надо трансвестировать, это происходит в
соответствии с принципом, имеющим место, например, в иконе «Св. Ге­
оргий убивает змия». Обычно в этой иконе змий коричневого цвета (чем
подчеркивается его инфернальная хтоничность), но в тех случаях, когда
175
Часть
2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
он изображается в зеленом, обязательно сочетается с деталями (крылья,
язык, огонь и пр.) в красном или коричневом. У Достоевского шарф Рого­
жина — «ярко-зеленый с красным», дом его также «цвета грязно-зелено­
го», но с красными коридорами и т. д.
Вторым, наряду со структурой византийского храма, важнейшим
компонентом, служащим первообразом внутренней формы и в большой
степени способствующим мистическому познанию текста Пятикнижия,
являются принципы православного богослужебного действия. Слово,
действие и символы — это основные формы литургического действия,
а составные его части — молитва, песнопение, чтение Св. Писания,
поучение и таинства. В той или другой степени все эти элементы при­
сутствуют в ткани романов Пятикнижия. Вряд ли необходимо останав­
ливаться на огромном числе библейских параллелей в текстах. Я отмечу
только то, что Слово Св. Писания равномерно распространено на всем
пространстве цикла романов, и конкретных цитат насчитываются сотни.
Специфический «эпилептический» стиль Достоевского в большой сте­
пени соответствует восточному напевному представлению молитвенно­
го слова во время богослужения, причем в самые мистические моменты
текст Пятикнижия насыщается характерными для Достоевского словами
«вдруг», «как-то», «нечто», «будто» и др., которые в силу своей неоп­
ределенности выполняют функцию, аналогичную молитвенному песно­
пению, выражающему мгновение невыразимого словами восхваления
Божия, а в конкретном тексте Пятикнижия — неописуемую связь героя
с мистической трансцендентальностью. Не в последнюю очередь Пяти­
книжие изобилует описаниями символических действий — переодева­
ний, реакций, жестов, поклонов, а также характеризуется символичес­
ким отношением к воде, фазам луны, солнцестоянию и т. п. Но то, что
объединяет все указанные реалии как во время богослужения, так и при
отражении их в пяти романах, — это общие временные и содержатель­
ные топосы дневного, месячного и годичного последования. Их значение
в творчестве Достевского двойственное. С одной стороны, наблюдается
буквальное совпадение — Раскольников признается в убийстве именно
вечером (по литургическому канону это начало следующего дня), и этим
в романе фиксируется конец темного периода и начало нравственного
возрождения, не случайно совпавшее со временем непосредственно пос­
ле Светлой седмицы. С другой стороны, действие романа начинается в
душный июльский вечер, отмечающий начало его преступного падения.
Достоевский питает некоторое пристрастие именно к этому апофатическому методу утверждения посредством смыслового трансвестирования
176
Г л а в а 2 • Bon ющепие ортодоксального
образа храма в последних романах
Достоевского
определенных моментов литургического действия. Таким образом, почти
все бесовские воздействия в Пятикнижии локализованы в летние меся­
цы (май — июнь — июль) после больших христианских праздников в
годичном литургическом цикле — период традиционно усиливавшейся
языческой активности. В июне в ничего не подозревающий город вдруг
приезжают Шигалев и другие «бесы», Раскольников убивает в начале
июля, буквально в то же время убита Настасья Филипповна, в мае рожда­
ется Смердяков — «бесовский сын» Федора Карамазова.
Более того — когда Достоевский категорически подчеркивает ка­
кую-либо дату в свох романах, она почти всегда прямым образом связа­
на с православным праздничным календарем, а тем самым — и с идей­
ным содержанием произведения. Например, несколько раз отмеченная в
«Подростке» дата, 15 ноября по старому стилю в православном календа­
ре, отмечает начало Рождественского поста, но для подростка Аркадия
она означает начало периода усилившегося нравственного и идейного
замешательства — следствие его внебрачного происхождения. При вни­
мательном прослеживании дней и событий выходит, что Аркадий забо­
левает и надолго впадает в бессознательное состояние в ночь с 20-го на
21-е ноября, т. е. точно в праздник Введения Богородицы во храм (апо­
логия христианской семьи), и этим Достоевский неявно противопостав­
ляется феномену «случайного семейства», показательному симптому
распада русского общества и семьи — это и одна из основных проблем
в романе.
В тесной связи со всем сказанным находится тот факт, что Достоев­
ский строго следит за временем выхода в свет романов в периодической
печати. Опубликование отдельных произведений в составе Пятикнижия
происходит в рамках одного года (за исключением «Братьев Карамазо­
вых», которые выходят в течение двух лет [см.: 30, кн. 1: 37-38, 281]) по
аналогии с годичным литургическим циклом. Издание начинается всегда
в январе и оканчивается обязательно в декабре [см.: 28, кн. 2: 238, 330,
427; 29, кн. 1: 426; 29, кн. 2: 194] и таким образом определяется грани­
цами гражданского года — противоречие с церковным годом (начина­
ющимся 1 сентября), однако, вполне формально, так как Пятикнижие в
принципе предназначено для самого широкого круга читателей, часто
весьма далеких от церковной жизни. Ввиду этого Достоевский умышлен­
но пользуется психологическим моментом начала гражданского года, но
основные события в романах находятся в содержательной связи именно
с явлениями богослужебного года.
177
Ч а с т ь 2 • Роман Достоевского: проблемы поэтики
Таким образом, тематические и временные топосы восточно-пра­
вославного календаря вносят единство в цикл романов и способствуют
более адекватному отражению литургического последования — как мис­
тического действия и идейного носителя в последних произведениях До­
стоевского. Иными словами, внутренняя форма Пятикнижия повторяет
основные принципы восточно-православного богослужебного действия.
Мне кажется, что приведенные здесь примеры дают ясное представ­
ление о незаменимой онтологической функции восточно-православного
храмово-литургического единства как первообраза Пятикнижия, и это в
большой степени объясняет причины огромного воздействия этих рома­
нов на ментальность читателя. Рецептивное сознание совершает те же
литургические «действия» (в этом смысле его природа литургична, а не
мистериачьна), что и верующий в храме. Оно тесно связано с иконо­
писными и богослужебными канонами и проходит по той же идейно
и композиционно ориентированной оси «восток — запад», достигая в
определенный момент смыслового центра произведения, после чего,
преодолевая образную «иконостасную границу», созерцает в «алтаре»
преображенные духовные сущности эсхатоса. Поэтому, «выйдя» из
романа-храма Достоевского, человек становится уже не тем, кем был
раньше.
Со своей специфической точки зрения на творчество Достоевского
мы на данном этапе попытались прежде всего дать ответ на вопрос о самой
сути творческого метода, использованного писателем и моделирующего
художественный мир произведений в соответствии с точно определен­
ными идеологическими и эстетическими канонами. Использование орто­
доксального догмато-мистического контекста позволило раскрыть здесь
суть глобальных проблем как внешне-формального характера (структура
и жанровая специфика художественного мира), так и внутренне-содер­
жательного плана (адекватность интерпретации в толковании авторского
послания, или литургическая организация произведений, порождающая
неотразимое и тотальное воздействие на читательское сознание). В этой
части исследования усилия были направлены преимущественно на разъ­
яснение типологических особенностей поэтики романа Достоевского,
рассматриваемого как самостоятельная законченная целостность.
В следующей части мы выясним, каким образом отдельные романы вхо­
дят как составные элементы в единую структуру огромного произведе­
ния, названного условно Пятикнижием. Акцент здесь будет сделан на
интертексту апьиой поэтике Пятикнижия как единой метароманной
структуре.
Часть 3
Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
Глава 1
Тайна метарсмана
Понятие «пятикнижие» все чаще употребляется в критике как обоб­
щение последних пяти романов Достоевского: «Преступление и наказа­
ние», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Этот факт
можно объяснить очевидным сходсвом тем, идей и образов, вариативным
их повторением в каждом из перечисленных произведений, что прида­
ет им специфический облик и конструирует из них особую целостность.
Действительно, нельзя найти ни одного значимого идейно-тематического
элемента в художественной структуре любого из романов, который не
присутствовал бы и во всех остальных. Это явление дает основания оп­
ределять последние романы Достоевского как цикл-пятикнижие. Само­
го по себе, однако, этого недостаточно, чтобы объяснить то ощущение
особой связи и духовной близости между отдельными произведениями,
которое позволяет воспринимать их почти как единое произведение, ху­
дожественную реализацию оригинального и неведомого до сих пор в
мировой литературе жанра, названного некоторыми исследователями
условным термином «метароман». Определение метаромана («сверхро­
мана», «надромана») исчерпывается объяснением, что в нем каждое от­
дельное произведение восходит к общей прафабуле, т. е. решает одну и
ту же фабульную проблему разнородными сюжетными ходами и развяз­
ками [см.: Ерофеев, 1990: 73]. Такое определение, хотя и обоснованное,
остается слишком обобщенным. Его можно соотносить с творчеством
множества писателей, но применительно к пяти романам Достоевского
оно не обладает достаточной объяснительной силой. С его помощью не­
льзя, например, дать ответ на вопрос, почему вариаций прафабулы у него
179
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
как раз пять, а не больше и не меньше? Если принять, что это результат
случайности, надо отбросить тезис о Пятикнижии как цельном произве­
дении, восходящем к единому замыслу с единой продуманной и реализо­
ванной структурой. А это уже противоречит фактам.
1Мне кажется, что для ответа на вопрос о принципах метаромана сле­
довало бы, во-первых, выяснить то, восходит ли Пятикнижие (понимае­
мое как единое произведение) к конкретному замыслу.
В 1856 г. (18 января) в письме А. Н. Майкову из Семипалатинска До­
стоевский упоминает, что «создал там в голове большую окончательную
мою повесть» и работает над каким-то своим «главным произведением»
[28, кн. 1: 209]. Из другого письма Е. И. Якушкину (от 1 июня 1857 г.)
мы получаем некоторое представление о том, как видит писатель свой бу­
дущий большой роман, который по объему сравнивает с романами Дик­
кенса: «Это длинный роман, — пишет он, — приключения одного лица,
имеющие между собой цельную, общую связь, а между тем состоящие
из совершенно отдельных друг от друга и законченных само по себе эпи­
зодов» [Там же: 281]. Здесь речь определенно идет не о «Селе Степанчикове», не о «Дядюшкином сне» — произведениях, которые Достоевский
создает в это время.
Об этом «самом главном произведении», о котором пишет: «все сер­
дце мое с кровью положится в этот роман» [Там же: 351], Достоевский
упоминает неоднократно в своих письмах в течение четырех лет [см.: 28,
кн. 1, письма № 104, 134, 135, 136, 159], но все время откладывает его
написание. Заглавие будущего романа в первый раз появляется 9 октября
1859 г. в письме брату Михаилу: «В декабре я начну роман (но не тот —
молодой человек, которого высекли и который попал в Сибирь). Нет. Не
помнишь ли, я тебе говорил про одну "Исповедь" — роман, который я
хотел писать... Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую ми­
нуту грусти и саморазложения. Он естественно разделится романа на 3
(разные эпохи жизни), каждый роман листов печатных 12. В марте или в
апреле в каком-нибудь журнале я напечатаю 1-й роман» [28, кн. 1: 351].
Критика не единодушна в мнении о том, какое именно произведение
является художественной реализацией этого замысла. Некоторые иссле­
дователи считают, что «заменив первоначальное заглавие "Исповедь" на
"Записки из подполья" и напечатав первую их часть в № 1-2 "Эпохи" за
1864 г., Достоевский не отказался от намерения создать большое по объ­
ему произведение» [5: 375]. Сам писатель отмечает, что «в следующем
отрывке придут уже настоящие "записки" этого лица о некоторых собы­
тиях его жизни» [Там же: 99]. Иными словами, отрывок этот является
180
Глава
1 • Тайна метаромапа
своеобразным «вступлением» — за ним последуют и другие, и все вместе
будут составлять «целую книгу» о жизни героя. Далее критики говорят,
что «Записки из подполья» органически связаны ... с последовавшими за
ними романами, начиная с «Преступления и наказания» и кончая «Брать­
ями Карамазовыми» [Там же: 375-376]. Они, однако, всегда подчеркива­
ют, что первоначальный замысел или вообще «не был осуществлен», или
же «в полном объеме не был осуществлен» [3: 491; 5: 375].
Константин Мочульский, представитель другой литературно-кри­
тической школы с другой ментальной направленностью, высказывает
тезис, что план «Преступления и наказания» не был придуман в Висба­
дене, а восходил к той же идее, о которой уже шла речь, то есть «проис­
текает из духовного опыта каторги», причем «вынашивание» замысла
продолжалось шесть лет [см.: Мочульский, 1995: 353]. Так или иначе,
никто из исследователей не видит связи между грандиозной идеей, ко­
торая зародилась во время каторги и которая должна была окончатель­
но «утвердить имя» писателя, и другими романами Пятикнижия. Тра­
диционно «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы» отсылаются к
другому замыслу — «Житию великого грешника», которое, по словам
К. Мочульского, является духовным центром творчества Достоевского
и, как подземный источник, питает своими водами его большие романы
семидесятых и восьмидесятых годов [Там же: 420; см. также: Бицилли,
1995: 185].
Связывать, однако, романы «Преступление и наказание» и «Идиот»
(роман, который, по мнению того же критика, «органически вырастает
из "Преступления и наказания"» [Мочульский, 1995: 393]) с замыслом
времен каторги, а остальные романы — с идеей о «Житии великого греш­
ника» — значит разделить Пятикнижие на две группы произведений,
ориентированные к двум разным духовным центрам, и вступить в нераз­
решимое противоречие с конкретным художественным фактом — оче­
видным единством пяти романов. Это противоречие не мешает Мочульскому определять «Преступление и наказание» как первый из пяти рома­
нов-трагедий, или, точнее, как первый акт большой пятиактной трагедии
[Там же: 362]. Здесь справедливо поставить вопрос: действительно ли
речь идет о двух разных замыслах?
В письме от 14 декабря 1869 г. Достоевский пишет С. А. Ивановой,
что «главная идея», «все, для чего я жил» есть создание одного романа,
который «разобьется на три отдельные друг от друга повести» [29, кн. 1:
93-94]. Тремя месяцами позже он сообщает Страхову: «...идея ... суще­
ствует во мне уже три года» (то есть зародилась непосредственно после
181
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
«Преступления и наказания» (1866) и перед «Идиотом» (1868). — И. И.)
и «вся идея потребует большого размера, объемом ... будет составлять
пять отдельных романов» и настолько разных, что «могут быть изданы
отдельно как совершенно законченные вещи. Общее название, впрочем,
будет "Житие великого грешника'', при особом названии отдела (рома­
н а . — Я Я.)» [29, кн. 1: 112].
Что-то подобное Достоевский пишет и Майкову 25 марта 1870 г.:
«Это будет мой последний роман. Объемом в "Война и мир" ... будет
состоять из пяти больших повестей ... Повести совершенно отдельны
одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно ...
Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, ко­
торым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — су­
ществование Бога» [Там же: 117]. Что получается, когда мы сравниваем
проект 1856-1859 гт. с проектом 1869-1870 гг.? Первое, что бросается в
глаза, — Достоевский все время подчеркивает трехчастиую структуру
обоих замыслов (причем во втором случае идея о трех частях сущест­
вовала по меньшей мере до 1869 г.). Это непременное требование воссо­
здать как раз три эпохи из жизни героя не случайно и прямым образом
связано с устойчивой трехчастной композицией агиографического жанра
(детство, испытания в мире, чудеса при жизни или после смерти). Ана­
логия несомненна и подтверждается особым интересом со стороны пи­
сателя к Четьим Минеям и вообще к житийной литературе — наиболее
распространенной форме предания в русском народном православном
сознании. «И вот, верите ли вы тому, — пишет он, — что по всей земле
русской чрезвычайно распространено знание Четьи-Минеи ... почему же
так? А потому, что есть чрезвычайно много рассказчиков и рассказчиц о
житиях святых ... Я сам в детстве слышал такие рассказы прежде еще,
чем научился читать. Слышал я потом эти рассказы даже в острогах у
разбойников» [25:214-215]. Такого рода высказывания о роли и воздейст­
вии житийной литературы встречаются у Достоевского неоднократно
[см.: 23: 49; 25: 69\ 26: 152]. Указанный факт дает нам серьезные осно­
вания считать, что композиция грандиозного замысла, возникшего во
время каторги, порождена житийной литературой. Идею эту Достоев­
ский долго вынашивает в своей душе. Она все категоричнее связывается
с агиографической структурой, и это очевидным образом нашло отра­
жение в первой части заглавия позднего (в начале также трехчастного)
варианта замысла 1869 г. — «Житие...». Таким образом, наблюдающееся
сходство в отношении композиции позволяет допустить, что речь идет о
182
Глава
1 • Тайна метаромана
едином, а не — как считают некоторые исследователи — о двух разных и
независимых друг от друга замыслах.
Сходство, однако, выявляется и на другом уровне. По первоначаль­
ному замыслу роман был назван «Исповедь», что органически вписы­
вается в контекст религиозной проблематики, занимающей центральное
место в творчестве Достоевского в послесибирский период — «поиски
bora». Исповедь уходит корнями в тысячелетнюю христианскую тради­
цию и восходит к претворению ее в литературе (например, знаменитые
«Исповеди» св. Августина Блаженного). Как выражение покаяния ис­
поведь всегда связывается с осознанной греховностью человека, а тем
самым — и с поздним вариантом замысла «Жития великого грешника».
Не случайно Достоевский ставит знак равенства между житием и пока­
янием (соответственно, исповедью) словами: «В этих рассказах (жити­
ях. — И. И.) и в рассказах про святые места заключается для русского
народа, так сказать, нечто покаянное и очистительное» [25: 215]. Заглави­
ем «Исповедь», следовательно, имплицитно подразумевается «великий
грешник» (т. е. вторая часть названия позднего замысла), а полное загла­
вие «Житие великого грешника» представляет в чистом виде связь меж­
ду житием и покаянием (исповедью) и в окончательном виде развивает
первоначальную «исповедальную» идею.
Таким образом как на структурно-композиционном, так и на идейнотематическом уровне не существует никакого принципиального различия
между проектами «Исповедь» и «Житие великого грешника». Это вари­
ации одной и той же идеи или, в другом аспекте, они фиксируют началь­
ный этап процесса достижения полноты единым замыслом. Такой вывод,
однако, не только не разрешает проблемы, но и усугубляет ее. Потому
что, если принять концепцию о едином замысле, перед нами раскрыва­
ются две возможности. Согласно первой, замысел никогда не был твор­
чески реализован. Так утверждает большинство исследователей, так как
никакое из произведений Достоевского не соответствует буквально — ни
по названию, ни по концепции — изложенному выше замыслу. Чтобы
объяснить, однако, очевидную связь идейного проекта с большими ро­
манами послесибирского периода, они допускают, что замысел (или,
точнее, два разных, по их мнению, замысла) присутствует в творчестве
писателя в трансформированном виде, т. е. как незрелая предваритель­
ная концепция. Мне кажется, что такое понимание вступает в противоре­
чие как со специфическим художественным процессом, так и с могучей
творческой волей Достоевского. Принять такую точку зрения означало
бы утверждать, что он отказался или не сумел реализовать «самое глав183
Часть
3 • Поэтики и герменевтика
Пятикнижия
ное произведение», «главную идею», «замысел своей жизни», «все, для
чего я жил», роман, который «окончательно утвердит» его имя, которым
он скажет «свое слово» в мире. Пятикнижие Достоевского является силь­
нейшим аргументом против этого утверждения.
Вторая возможность допускает, что грандиозная идея находит адек­
ватную творческую реализацию в оригинальной поэтике метаромана,
которая превращает указанные пять романов в сложное произведение —
художественное воплощение единого замысла. Принятие этой второй
возможности обязывает нас ответить на ряд вопросов. Например: поче­
му ни одно из произведений не несет заглавия замысла? Ответ на этот
вопрос содержится в самом замысле. Автор неоднократно подчеркивает,
что грандиозный роман должен состоять из отдельных, совершенно са­
мостоятельных романов, каждый из которых будет иметь свое заглавие
и будет настолько самостоятелен, что можно будет печатать его в разных
изданиях, издавать и продавать отдельно и независимо от остальных.
Последние большие романы Достоевского полностью отвечают этим
требованиям.
Возражение, что в Пятикнижии нет единого обобщающего загла­
вия, также несостоятельно, так как, как выяснится в дальнейшем ходе
изложения, названия отдельных произведений вступают в сложные и
заранее обдуманные взаимоотношения, подчиненные единому замыслу
метаромана.
Существует, однако, еще два вопроса, на которые не так просто най­
ти ответ. В своем замысле Достоевский действительно подчеркивает, что
большой роман будет состоять из отдельных и независимых частей, но
опять же являющихся эпизодами жизни одного героя. Формально говоря,
в Пятикнижии нет единого героя. Во-вторых, замысел писателя с 1856
по 1869 г. предполагал трехчастную структуру, а с 1870 г. речь уже идет
о композиции из пяти частей. Снятие этих противоречий способствовало
бы лучшему пониманию самой сути и принципов, на основании которых
строится поэтика метаромана.
Очевидно, что эти принципы далеки от внешнеформальных призна­
ков, которыми оперирует традиционная поэтика. И это различие обуслов­
лено, во-первых, специфической религиозной проблематикой, ставшей
ядром не только художественного творчества, но и ментально-мировоз­
зренческой направленности Достоевского после каторги. Вопросы, кото­
рые ставит эта поэтика, в некотором смысле не литературного, а, скорее,
богословского характера. Точнее говоря, художественные факты являют184
Глава
1 • Тайна м cm аром oi i a
ся отражением и воплощением в эстетической форме проблем реально
бытующего религиозного сознания.
Наиболее существенна, по-моему, в поэтике метаромана Достоевс­
кого тесная связь с проблемой, которая уже более ста лет остается цент­
ральной и для русской богословской мысли, — проблемой соборности.
Первым в России раскрытием глубинного значения вероопределения «соборность», сформулированного в IX члене Никео-Цареградского
Символа Веры («Верую... во едину, святу, соборную и апостольскую Цер­
ковь»), занялся Алексей Степанович Хомяков. Стремление разгадать тай­
ну понятия «соборность» в богословских сочинениях Хомякова вызвано
онтологической связью этого понятия с церковной экклезиологической
проблематикой. Синтезируя духовный святоотеческий опыт (в частно­
сти, св. Афанасия Александрийского), он выражает соборный образ Цер­
кви как «единство», но не как «вселтрность», потому что «здесь речь не
о численности, не о протяжении, не о всемирное™ в смысле географи­
ческом» [Хомяков, 1995: 278].
Соборность — это не механическая сумма множества церквей, со­
ответственно, не «множество лиц в их личной отдельности», а что-то
несравнимо большее — «единство Божией благодати» [Там же: 39],
«свободное и полное единодушие» [Там же: 279]. Или, как пишет один
из величайших русских богословов XX века В. Лосский, — «Церковь
кафолична как в своей совокупности, так и в каждой из своих частей.
Полнота целого — не сумма ее частей, так как каждая часть обладает той
же полнотой, что и ее целое» [Лосский В., 1991: 133]. То есть речь идет о
некоторой тождественности единства и множества, в чем состоят тайна и
чудо церковной соборности. Здесь Лосский развивает один из важнейших
тезисов Хомякова: «...соборность выражает идею собрания не только в
смысле проявленного, видимого соединения многих в каком-либо месте,
но понимается и в более общем смысле внутренней оправданности тако­
го соединения: иными словами, соборность выражает идею единства во
множестве» [Хомяков, 1995: 279].
Личность Хомякова — не только поэта, но и богослова, всегда вы­
зывала интерес Достоевского. Для писателя Хомяков становится основ­
ным авторитетом в годы после каторги и в особенности в последний
период жизни. Он в подробностях знакомится с сочинениями Хомякова
[см.: 27: 367] и воплощает выраженные в них идеи в своих религиозно-историческиех видениях. В творчестве Достоевского многочисленны
прямые ссылки и скрытые аллюзии на знаменитого основателя славяно­
фильства.
185
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
«Русский народ весь в Православии, — пишет Достоевский, — и в
идее его ... Православие есть Церковь, а Церковь — увенчание здания и
уже навеки. Что такое Церковь — из Хомякова» [27: 64]. В тезисе «Цер­
ковь не делит» [Там же: 46] Достоевский выражает сокровенную веру
Хомякова, что Церковь одна — она объединяет в «единый целокупный
организм» человека с человеком, мужчину и женщину как трансценден­
тальное космическое единство полов; вместе с «детьми и с потомками, и
с предками, и со всем человечеством человек единый целокупный орга­
низм» [Там же].
Принцип соборности Достоевский широко применяет и в своих гло­
бальных религиозно-политических размышлениях об истории и будущей
миссии России в Европе и в мире. «Государство есть Церковь, — гово­
рит он. — Наше различие с Европой. Государство есть по преимущес­
тву христианское общество и стремится стать Церковью ... В Европе
наоборот ... государство есть по преимуществу свободное от религии
и христианства общество» [27: 80] (курсив автора. — Н. //.). Это суж­
дение также почти буквально повторяет слова выдающегося славянофи­
ла [см. Хомяков, 1995: 287]. «Предопределение» России как эманации
православной церкви, хранительницы «всего вселенского Православия»
[24: 63], — сказать свое «новое слово», которое будет «нечто особое и
неслыханное», «окончательное слово Православия» [23: 50]. Она — спа­
сение мира «всесветным единением во имя Христово», она — «всенарод­
ная и вселенская церковь, осуществленная на земле» [27: 19] (курсив ав­
тора. — Н. Н.). Миссию эту может выполнить только русская душа, сак­
рально связанная с русской землей [см.: 23:100-101], «вся характерность
которой состоит ... в ее бесхарактерности» [21: 70] (но не в «безличнос­
ти» [см.: 27: 49]), так как она несет православие, сохранившее «Божест­
венный Лик Христа во всей чистоте» [21: 56]. Это делает ее «всемирно
отзывчивой» [Там же: 142], «общечеловечной» душой [25: 22], основой
«всечеловеческого единения» и «народности нашего будущего» [26: 147],
так как она с любовью вбирает в себя «гении» всех других наций, взятых
вместе, не делая племенных различий, с умением инстинктивно почти
сразу распознать, устранить противоречия (умением «различать среди
европейских гениев — духов добрых и злых» [Там же: 212]), «извинять
и примирять различия ... ко всеобщему общечеловеческому воссоедине­
нию со всеми племенами» [Там же: 148].
Приведенные свидетельства бесспорным образом доказывают, что
грандиозные миссионерские, религиозно-историософские концепции
Достоевского развиваются полностью на принципе соборности и рас186
Глава 1 • Тайна метартшиа
крывают в чистом виде приложение формулы «единство во множестве».
Для нас, однако, важнее ответить на вопрос, как писатель воплощает со­
борность в плане эстетического. Характерно то, что автор смотрит на
соборность с особого персоиалистического угла зрения. Независимо от
того, имеет он в виду русскую, еврейскую или западноевропейские на­
ции, он отождествляет их с личностями, имеющими свой характерный
облик [см. 23: 47\ 25: 83].
Этот исключительный персонализм, как известно, — и самая харак­
терная особенность художественной образности Достоевского. К. Мочульский отмечает, что в центре его больших романов находится лич­
ность: «Работа над планами сводится прежде всего к разъяснению лица
главного героя» [Мочульский, 1995: 393]. И вот что еще исключительно
важно: когда исследователь говорит об образе Раскольникова, он под­
черкивает, что, с одной стороны, это образ «вполне русского человека»,
«типа петербургского периода», с другой же «то, что совершается в его
душе — не личное, не национальное: в ней отражается состояние всего
мира» [Там же]. Сказанное о Раскольникове полностью относится и к
центральным персонажам всех романов Пятикнижия. Иными словами, у
Достоевского намечается интересный феномен: отождествление, с одной
стороны, национальной и общечеловеческой «персональности» с кон­
кретной личностью человека, с другой же стороны — художественное
воплощение в образе героя национальной и вообще общечеловеческой
природы.
Такое понимание, несомненно, уходит корнями в метафизические
основания христианской антропологии, точнее, восходит к учению, от­
личающему личность от природы человека. Вся природа одинакова и
даже единосущна у всех людей — личность же единственна для каждого,
пишет выдающийся исследователь этой проблематики протоиерей Васи­
лий Зеньковский. Это не дает основания отделять момент личности от
духовной сферы в человеке (так как никакая «природа» немыслима без
своей ипостаси), но позволяет и даже требует различать их. Еще здесь
проявляется различие между понятиями «личность» и «индивидуаль­
ность» и проистекающими из них «персонализмом» и «индивидуализ­
мом» [см.: Зеньковский, 1991: 125]. Различение такого рода позволяет
осмыслить основную антропологическую концепцию православия — то,
что при грехопадении не был утерян образ Божий, так как сфера греха от­
носится к природе человека и не затрагивает момента личности. Из этого
выводится положение о том, что образ Божий следовало бы видеть толь­
ко в личности, а не в духовной сфере вообще. Духовная природа (разум,
187
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
свобода и моральное сознание) в человеке повреждены, а «личность» не
повреждена: она может быть ущемлена, угнетена, ослаблена, но остается
неповрежденной. Личность может властвовать над своей природой, мо­
жет и подчиниться ей [Там же: 125].
Со своей удивительной интуицией Достоевский постигает эту выс­
шую тайну православной антропологии и неоднократно исповедует ее.
Еще в 1838 г., в семнадцать лет, он пишет своему брату из инженерно­
го училища: «Одно только состоянье и дано в удел человеку: атмосфера
души его состоит из слиянья неба с землею; какое же противузаконное
дитя человек; закон духовной природы нарушен... Мне кажется, что мир
наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслию»
[28, кн. 1: 50]. Именно «грешная мысль» «быть, как боги» [Быт., 3: 5]
и есть причина греха, следствием которого является «отуманивание»
духовной сферы и искажение человеческой природы в целом. Затумани­
вающая сила греховности выдвигает преграду между отдельными людь­
ми [см.: Зеньковский, 1995: 131] и превращает их в обособленных друг
для друга индивидов, замкнувшихся в своей эгоистической самости. Это
процесс, в котором греховная природа берет верх над человеком, обезли­
чивает его и превращает в индивида, ничего общего не имеющего с лич­
ностью. Достоевский называет это явление «обособлением». Противо­
положный единению, этот процесс становится угрозой для русской пра­
вославной соборности и вообще для «соборной природы человеческого
сознания» (по выражению кн. Н. С. Трубецкого). Его тлетворный дух
проникает с особой силой со стороны Запада и западного «атомизованного» общества, исказившего Божий лик. В романах Пятикнижия находит
художественное выражение как раз это всеобщее греховное (ибо «во всех
нас живет Адам» — св. Григорий Нисский) состояние природы челове­
ка. В контексте этого единства в первогрехе можно понимать и слова из
романа «Братья Карамазовы», что «всякий перед всеми за всех и за всё
виноват» [14: 262]. А также: «...народ, — пишет Достоевский, — знает
только, что и сам он виновен вместе с каждым преступником» [21: 18].
То есть в романах Пятикнижия, как правильно отмечает критик, пред­
ставлена «история человеческого сознания в его трагической раздвоен­
ности» [Мочульский, 1995: 415].
Однако «затуманивание», охватившее природу человека, — это толь­
ко одна из сторон антропологической проблемы. Человек — антиномия
загадочная. Для него существует и возможность спасения, потому что
он состоит не только из отпавшей природы, общей для всего человечес­
тва, но и из «элемента», не затронутого сферой греха, — его конкрет188
Г л а в а
1
'
Та
""*>а мешарамана
ного лика, личности, ипостаси. Личность человека имеет внеприродное,
внекосмическое метафизическое начг ало? и поэтому она (как образ Абсо­
лютной Личности) непроизводна от е г о природы, от внеличностных и
безличностных процессов в человеку о н а у х о д и т корнями в неисследо­
ванные метафизические глубины [см. : Зеньковский, 1991: 127].
Достоевский страстно верит, что именно личность человека, феномен
ее реального существования есть н а с ^ т о я щ а я о п о р а д л я спасения. Только
она, личность, по мнению писателя, дает уверенность человеку, что он
«вовсе не атом» среди умопомрачи ;Тельных пространств созвездий —
«не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих
вовсе не выше его мысли». И этим он*а обязана единственно «своему лику
человеческому» [22: 6]. Это восхваление человеческой личности— са­
мая восторженная молитва из родив1^ и х с я когда-либо в сердце писателя.
В своем грандиозном Пятикнижии Достоевский парадоксальным обра­
зом воплощает эти два принципа христианской антропологии. С одной
стороны, пять романов представляю^ греховную человеческую природу,
которая является общечеловечески^ достоянием и, соответственно, об­
щим элементом всех произведений. (^ другой стороны, однако, эта общая
человеческая природа явлена п е р с о ц а л и с т и ч е с к и в каждом романе в от­
дельности — личностью главного ге^ 0 я, занимающей центральное место
в структуре произведения.
Если, однако, принять утвержд^ ние 0 том, что образы Раскольникова, князя Мышкина, Ставрогина, А ^ к а д и я Долгорукого и Алеши Кара­
мазова — только художественное воплощение конретных персонажей,
ограниченных единичными и п о с т а с ^ ^ которые являют общую челове­
ческую природу, это исключительно сузило бы периметр художествен­
ного воплощения, что не соответствуй рецепции реального эстетичес­
кого феномена. Как уже упоминала с ь , достоевсковедение (или, точнее,
некоторые из выдающихся его представителей — вяч. Иванов, К. Мочульский, П. Бицилли, Н. Бердяев и Д р ) принимает точку зрения, что со­
вершающееся в душе конкретного 1 е роя — не только личное и не толь­
ко национальное, но в ней отражае>ся состояние всего мира. Но сказать
только это недостаточно, так как «Состояние всего мира» восходит к об­
щей для всех людей человеческой п^ И р 0 де, а не к личности, которая всег­
да конкретна и индивидуальна. Так ЧТ0) с объективной точки зрения, это
утверждение не касается проблемц единой личности (соответственно,
объединяющего персонажа) в Пяти^ н и ж и и ? которая превратила бы его в
единый метароман. В таком случае ^ ы должны пойти далее и допустить,
что центральные персонажи у Дос>0евского воссоздают не только кон189
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
кретное отношение индивидуальной личности к собственной природе
(единосущной со всей человеческой природой), но что в их личностях в
обобщенном виде присутствует сверхличностный, надындивидуальный
«элемент», который роднит их с общечеловеческим мировым личност­
ным «персонажем». Иными словами, они одновременно с индивидуаль­
ными (субъективными) и национальными (историческими) аспектами
отражают и объективные (метафизические) состояния единой сверхлич­
ности в отношении общей греховной человеческой природы. Подобное
допущение в значительной мере приближает нас к снятию противоре­
чия между наличием единого героя (в начальном замысле Достоевского
о грандиозном романе — 1856-1870 гг.) и его отсутствием в конкретной
реализации Пятикнижия. По-другому говоря, единство романов Пяти­
книжия аналогично единосущию человеческих личностей в отношении
общей человеческой природы, но, будучи «персоналистическими рома­
нами», они показывают пять разных аспектов (ипостасей) человеческой
природы наподобие взятых в отдельности человеческих личностей, кото­
рые являются разными ипостасями той же природы. Короче говоря, та­
ким образом Достоевский воплощает в Пятикнижии соборную формулу
«единство во множестве».
Еще раз позволю себе подчеркнуть, что романы воплощают не толь­
ко пять разных ипостасей единой природы (в таком случае мы могли бы
говорить только о пяти персонажах без какой бы то ни было связи между
ними в едином замысле) — наоборот, хотя и разные, они показывают
пять этапов, или состояний, единого человеческого лика в отношении
собственной природы. Доказательство этого пока что первоначального
утверждения связано с двумя проблемами, которые с формальной точ­
ки зрения кажутся совершенно не связанными. Первая — это пробле­
ма свободы, а вторая связана с выбранной Достоевским пятичастной,
а не трехчастной структурой при окончательной реализации идейного
замысла.
Итак, в полном согласии с христианской антропологией писатель
принимает утверждение о том, что в человеке существуют две сферы:
греховная природа и не затронутая грехом сфера личности, в которой в
неискаженном виде присутствует образ Божий. Только благодаря лич­
ности человек имеет право назваться «образом и подобием Божиим»
[22: 25]. Для Достоевского, однако, как, впрочем, и для ортодоксального
мышления вообще личность неотделима от ее свободы. Одна из самых
основных идей христианства есть «признание человеческой личности и
190
Глава
1 • Тайна метаромапа
свободы ее (а стало быть, и ее ответственности)» [23: 37]. И наоборот,
если признать отсутствие свободы, это «доводит человека до совершен­
ной безличности, до совершенного освобождения его от всякого нравс­
твенного личного долга» [21: 16]. Именно свобода обеспечивает возмож­
ность нравственного самоусовершенствования человека — активного
воздействия личности «энергией, трудом и борьбой» [Там же: 18] на
грех, овладевший его природой. Личность, следовательно, свободна или
выбрать путь «восстановления и самоспасения», или поддаться «порыву
отрицания и саморазрушения» [Там же: 35]. Если человек выберет пер­
вую возможность, он начинает активный процесс нравственного восста­
новления, состоящий в преодолении эгоистической «обособленности» и
отделенности людей одного от другого. В этом и заключается дух собор­
ности [см.: Зеньковский, 1991: 128-129].
В своих последних романах Достоевский показывает в деталях как
раз этот процесс, что и дает основания выдающемуся исследователю бо­
гословия прот. Г. Флоровскому отметить, что у писателя «в его диалек­
тике живых образов (скорее, чем только идей) реальность соборности
становится в особенности очевидной» (курсив автора. — И. И.) [Флоровский, 1991: 300]. Это наблюдение, бесспорно, правильно в отношении
«открытости», общения и единения героев Достоевского в контексте од­
ного произведения, но ни в коем случае не дает ответа на вопрос о прин­
ципах поэтики, объединяющих отдельные «персоналистические рома­
ны» в цикл Пятикнижия, т. е. на вопрос, в каких отношениях находятся
пять отдельных произведений в единой системе метаромана.
В связи с этим приходится обратить внимание на другую проблему:
что мотивирует изменение первоначального замысла от трехчастнои
структуры к пятичастной?
Как я уже отметил, трехчастность восходит к композиции агиографи­
ческого жанра. Но она действительна только в своей земной, так сказать,
«горизонтальной» онтологии человеческой жизни, которая не обязатель­
но повернута к трансцендентальному. Примером такой композиции явля­
ется трилогия Л. Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность», в чем
некоторые исследователи видят основание считать ее первопричиной,
обусловившей замысел Достоевского 1856-1859 гг. [см.: 3: 493]. Тезис
этот не вполне безоснователен, так как речь идет об описании трех эпох
из жизни героя, и можно принять тот факт, что Достоевский имеет в виду
именно жизнь человека, не превратившуюся еще в «житие», т. е. жизнь
без трансцендентальной вертикали, без сотириологического элемента.
Говорить, однако, о существовании подобной возможности для Достоев191
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижии
ского, притом после Сибири, после глубокого религиозного ренессанса,
совершившегося в душе писателя, совершенно неуместно. Тем более, что
заглавие «Исповедь», как уже комментировалось, недвусмысленно ассо­
циируется с религиозной, житийно-христианской первоосновой.
Следовательно, причины прибавления двух новых частей к первона­
чальной трехчастной композиции должно искать как раз в том, что вос­
создание жизни героя вплотную приближается к житию. Это подтверж­
дается и точной фиксацией жанра в самом заглавии («Житие великого
грешника») на позднейшем этапе замысла. Итак, трехчастная компози­
ция выражает горизонтальное измерение жизни героя. Когда свободная
личность человека ориентирована на преодоление греховной природы и
стремится к восстановлению «образа и подобия Божия» в себе, ее жизнь
превращается в житие. Тогда перед бытием человека раскрываются две
возможности: или подчинение природы личностью, или трагическое от­
падение человека в сферу греха. Иными словами, к «горизонтали» бытия
прибавляется другая, «вертикальная» доминанта, которая ведет или к
небу Божественного, или к бездне демонического — к «подполью», по
удачному определению Достоевского. Следовательно, пятичастный за­
мысел на позднем этапе (1870 г.) и полная реализация его в Пятикнижии
мотивированы композицией жития: троичность в «горизонтальном»
бытии героя и двоичность по вертикали «небо — подполье».
Пятикнижие только формально не является житием одного героя.
Действительно, в нем присутствует пять разных персоналий — это яв­
ление как в плане индивидуального (субъективного), так и в плане кол­
лективного (исторического), где они являются национальными типажами
на определенном этапе исторического развития России. В плане мета­
физического, однако, эти пять центральных персоналий представляют
историю человеческой души и человеческой личности в драматической
ситуации мистического вневременного акта решения «с Богом ли быть
или без Бога» [см.: Иванов, 1916: 25]. И это не просто история, а история-житие, раскрывающая пять этапов и состояний, через которые
обязательно проходит свободная человеческая личность. Каждый из ро­
манов Пятикнижия эксплицирует одно из этих состояний, развертывает
его полностью в содержании и представляет его в закодированном виде
еще в заглавии произведения.
В синтезированном виде эти состояния можно представить так. Вопервых, состояние юной души, неокрепшей человеческой личности на
'Vrane ее созревания — экзистенциальная доминанта «Подростка». В об­
разе Аркадия Долгорукого раскрывается обязательный выбор, который
192
Глава
1 • Тайна
метаромаиа
подросток должен совершить — две возможности (земной и небесный
рай); два авторитета (Версилов и Макар); два мировоззрения (атеисти­
ческое и религиозное); две концепции братского единения людей (соци­
альная и христианская); две модели человеческого поведения и жизни
(эгоистическое своеволие и христианское смирение). Весь роман служит
ответом, опровержением, преодолением «подземной» идеи, прельстив­
шей юную душу героя.
Второй этап, через который проходит душа человека, раскрыт в со­
держании и заглавии романа «Преступление и наказание». В образе Раскольникова Достоевский показывает вторичное падение души, которой
опять овладела преступная идея о земной власти, при помощи которой он
хочет насильно творить добро. Она — причина невыносимого духовного
страдания, вызванного борьбой между разумом и чувством, затуманен­
ной человеческой природой и личностью, сохранившей в себе неиска­
женный образ Божий. Это страдание содержит в себе и спасение, так как
именно оно выводит Раскольникова на путь духовного подвижничества,
смирения и покаяния, возможности новой жизни.
В заглавии романа «Братья Карамазовы» таким же образом закодирано все содержание произведения — вероятность братского духовного
единства всех людей, независимо от их «карамазовской» природы. В об­
разе Алеши — «русского инока» — Достоевский раскрывает пути еди­
нения душ человеческих как предчуствие будущего Царствия Божия на
земле. В некотором смысле роман «Братья Карамазовы» отмечает пос­
ледний, третий этап по «горизонтали» земного человеческого бытия, чья
цель — полное воплощение христианской соборности людей в земной
Церкви как образе небесной.
Романы «Идиот» и «Бесы» фиксируют два крайних топоса «верти­
кальной» доминанты «небесное — подземное». Они противоположны
во всех своих измерениях. Образ князя Мышкина — попытка создать
«положительно прекрасного человека», небесно-серафического героя
«не из мира сего». Название «Идиот» содержит в себе целый комплекс
загадочных антиномических ассоциаций и подсказывает этап сложных
отношений души человека с трансцендентальным как состоянием высо­
кого «сумасшествия без сумасшествия», словами Достоевского (хотя и
сказанными по другому поводу) [см.: 23: 139].
Наоборот, заглавие «Бесы» недвусмысленно ведет нас к противопо­
ложному топосу — к локусу инфернального. Ставрогин как центральный
персонаж являет собой человеческую личность в безблагодатном ее со­
стоянии трагической богооставленности на этапе окончательного обез193
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
личения, вытекающего из стремления к жизни без Бога, что и приводит
ее к духовной и физической смерти.
Итак, выяснилось, что независимые на первый взгляд друг от друга
заглавия отдельных произведений в составе Пятикнижия на самом деле
являются носителями точно определенных смыслов, входящих в строгие
и, очевидно, заранее обдуманные интертекстуальные взаимоотношения.
Названия пяти произведений составляют цельную сложно организован­
ную и динамическую систему названий, восполняющих отсутствие еди­
ного обобщающего заголовка. Таким образом, трудноразрешимая титрологическая проблема метаромана находит свое адекватное объяснение.
Выяснилось также, что Пятикнижие Достоевского является попыт­
кой показать «единство во множестве» через воплощение тайны собор­
ности в плане эстетического и выявляет эту тождественность единствен­
ности (романа) и множественности (Пятикнижия), у которой есть два
измерения. Первое измерение соборности — это историчность: индиви­
дуальная душа фиксирует отдельные этапы истории вселенской души.
Второе измерение — соборность в плане личности, объемлющей в себя
целое и восходящей к православной идее о «человеческой душе как хра­
ме Божием». Иными словами, каждый из романов Пятикнижия персоналистичен и, с одной стороны, визуализирует индивидуальный духовный
храм человека (что было показано в предыдущей части исследования),
но, с другой стороны, является и частью общей души, которая также
воспринимается как соборная, т. е. храмовая. Поэтому и ортодоксальная
соборность в ее пяти идейных и духовных состояниях дает ключ к поэ­
тике Пятикнижия. Эти состояния находят отражение, с одной стороны, в
пятичастной структуре жития (трехчастности по земной горизонтали и
двухчастности по духовной вертикали), а, с другой, соответствуют пяти
зонам православного храмового комплекса как архитектурной визуали­
зации (иконы) житийной структуры — также трехчастной по горизонта­
ли: нартекс, наос, алтарь, и двухчастной по вертикачи: купол и крипта.
Со своей стороны, пятичастность как агиографической литературы,
так и архитектуры храма отражает пять основных экзистенциальных со­
стояний человека, восходящих к церковным таинствам: крещение, ми­
ропомазание, покаяние, евхаристия, брак, священство и елеосвящение.
Хотя их и семь, но они по своей сути объединены в пять духовных топосов. Так же, как неоделимы крещение и миропомазание, брак, являющий­
ся священным союзом и образующий семью как церковь, подобен нерас­
торжимому браку человека с Богом — священству. Таким образом, при­
твор, или нартекс, храма символизирует начало подвижнического пути,
194
Глава
1 • Тайна метаромана
воцерковление души и таинство крещения. Наос — житийный подвиг в
отстаивании веры и таинство покаяния. Купол — символ мистического
единения подвижника с Божественным, обожения души и таинства ев­
харистии. Крипта обозначает катакомбный, скрытый период церковного
подвижничества, преследование, искушение и мучение души бесами, а
также таинство елеосвящения. Алтарь — это символ твердости в вере и
таинство священства.
Таким образом, каждый из романов Достоевского, входящий в состав
Пятикнижия, хотя и обладает общим с остальными идейным комплексом
(в сходных мотивах, темах, идеях, образах, фабульных конструкциях
и т. п.), развертывает свою особую идейно-экзистенциальную доминан­
ту, характерную для него одного, т. е. ассоциируется с точно определен­
ными житийным топосом, зоной храма и церковным таинством. Роман
«Подросток», например, представляет состояние юной души в период ее
духовного созревания и соответстует начальному этапу по горизонтат
земного бытия житийного героя, что, со своей стороны, соответству­
ет символике и функции нартекса в храме (потому что в нартексе, как
известно, совершается крещение). Поэтому роман является своеобраз­
ным «нартексом» в словесном храме Пятикнижия и воссоздает таинство
крещения. По своей сути «Подросток» раскрывает процесс оглашения,
воцерковления и крещения Аркадия его духовным отцом Макаром Дол­
горуким. Трудность подвижнического пути, совершаемого душой, су­
мевшей снова возвратить свою веру покаянием, роднит «Преступление и
наказание» с символикой наоса. Роман «Братья Карамазовы» воссоздает
последний, третий этап по горизонтали земного бытия житийного
героя, цель которого — полное воплощение земной церкви как образа
небесной. Алтарь, последняя зона по горизонтали храма, — архитектур­
ный аналог этой идеи. Со своей стороны, этот агиографический момент
и алтарь являются словесным и архитектурным соответствием таинства
священства. Следовательно, в образе Алеши («русского инока»), прини­
мающего священство от старца Зосимы, становится очевидным стремле­
ние Достоевского изобразить предчувствие о будущем Царствии Небес­
ном и братском духовном единении всех людей.
Романы «Идиот» и «Бесы», как уже упоминалось, фиксируют два
крайних противоположных топоса по вертикали «небесное — подзем­
ное». Первый в образе князя Мышкина воссоздает благодатное служе­
ние человека в мире и близок по символике к небесной купольной зоне и
таинству евхаристии. Роман «Бесы», наоборот, недвусмысленно уводит
нас в противоположный локус инферначьного — к окончательному от195
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
падению от веры. Произведение в метафорическом виде представляет
крипту, хтоническую зону храма, и раскрывает действие таинства елеос­
вящения, которым лечится душа (соответственно, Россия), очищающаяся
от причинителей духовного заражения — бесов.
Соответствия между романами Достоевского (в зависимости от осо­
бой духовной доминанты каждого из них и функций, которые они выпол­
няют в контексте всего «соборного» Пятикнижия) можно представить
визуально посредством архитектурно-символических зон в храме (см.
схему 11).
Схема 11
Таким образом, воплощая принцип соборности, Достоевский со­
оружает в пяти романах единую систему Пятикнижия одновременно в
виде цельного жития души, словесного храма и литургических таинств.
Поэтика этой системы не представляет из себя механического собрания
196
Глава
1 • Тайна мстаромана
составляющих ее элементов (романов), она металогична, потому что
каждый роман занимает точно определенное место в едином замысле,
т. е. воссоздает один агиографический мотив, одну зону храма и одно
таинство, которые, однако, присутствуют в отдельном произведении
только как доминанты, так как каждый из романов одновременно с тем
содержит в себе также суть и идейно-тематическую образность всего Пя­
тикнижия — всех житийных мотивов, всех зон храма и всех церковных
таинств. Именно поэтому каждый из романов может существовать отде­
льно и независимо от остальных.
Благодаря принципу соборности (сооружения жития из житий, хра­
ма из храмов и таинства из таинств) единственность и множественность
в метаромане становятся эквивалентными понятиями, и это концепту­
альная основа, на которой строится загадочная поэтика Пятикнижия.
Следующие страницы будут посвящены индивидуальным идейно-экзис­
тенциальным доминантам, придающим характерный облик каждому из
великих романов Ф. М. Достоевского.
Глава 2
Экзегетические примечания
в связи с доминантной
системой романов Пятикнижия
2.1. Роман «Подросток» — агиографические,
храмовые и литургические особенности
Я начинаю экзегетические примечания (своего рода «схолии») с
«Подростка», а не с «Преступления и наказания» — первого в хроно­
логическом порядке романа в цикле, так как литературно-исторический
подход в данном случае неуместен. С одной стороны, он бессилен рас­
крыть внутренний смысл произведений с точки зрения интересующей
нас догмато-литургической проблематики. С другой же стороны, пос­
ледовательность возникновения произведений (приоритет во времени)
несущественна, так как поэтика метаромана не является механическим
собранием текстов, развивающих в определенном порядке данную фабу­
лу. Наоборот: каждый из романов представляет обособленную метабо­
литную структуру, которая содержит в себе темы, идеи и проблемы всех
остальных (сама по себе является законченной храмовой композицией),
но одновременно с тем несет и свою акцентированность, и единственно
эта ее характерная доминанта создает «лик», индивидуальные особен­
ности произведения, превращает его в часть соборного метаромана, в
строительный элемент Пятикнижия-храма. Иными словами, каждый из
романов меняет общие темы, идеи и проблемы Пятикнижия и обменива­
ется ими (метаболизирует) в соответствии со своей идейно-эстетичес­
кой доминантой.
Как и остальные романы, «Подросток» действительно является вы­
ражением общих проблем и идей. Здесь представлены как отношения
«отцов и детей» (вопрос о «случайном» и христианском семействе), так
и проблемы преступления и страдания, ответственности и любви, стрем­
ления к материальному и духовному, атеизма и веры, падения и святости,
198
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в снят с доминантной системой романов
Пятикнила
хаоса и благообразия, гибели и спасения и т. д. Рассмотренный, однако, в
специфическом догмато-литургическом контексте, этот роман раскрыва­
ет свой индивидуальный «образ» и мотивирует наш выбор начать с него
анализ Пятикнижия, так как он на всех уровнях детерминирует вводные
функции, т. е. служит своего рода интродукцией в духовную проблемати­
ку сверхпроизведения (метаромана).
Специфическая для «Подростка» доминанта связана, как всегда у
Достоевского, с характером центрального персонажа, Аркадия Долгору­
кого. То, что герой назван «подростком», имеет определяющее значение
в связи с идеей произведения. Очень много писалось о существенной
роли в романе фактора возраста [см.: Бурсов, 1971: 64-71]. Я останов­
люсь только на главнейшем. Аркадию исполнилось девятнадцать лет.
Это особый пограничный возраст. Согласно законам тогдашней России,
он не принадлежит категории подростков, так как период «подрастаю­
щих» ограничивается шестнадцатью — семнадцатью годами. Аркадия,
однако, нельзя считать и совершеннолетним, так как совершеннолетие
начинается с двадцать первого года жизни [см. коммент. к т. 17: 275]. По­
этому, называя своего героя «подростком», писатель, очевидно, имеет в
виду что-то совершенно иное. С одной стороны, он отмечает в черно­
виках к роману: «...я бы назвал его подростком, если б не минуло ему
19-ти лет» [16: 77]. Он, однако, продолжает называть его так, вкладывая
в это понятие не временной, а духовный смысл. На вопрос: «Растут ли
после 19 лет?» — Достоевский отвечает так: «Если не физически, так
нравственно» [Там же: 77]. В этом смысле рубеж девятнадцатилетия
специально подобран и находится в тесной связи с ГЛАВНОЙ ИДЕЕЙ:
«Подросток... ищет руководящую нить поведения, добра и зла, чего нет
в нашем обществе ... и в этом цель романа» [16: 57]. Показательны слова
самого Аркадия: «.. .отмечаю все эти подлости, чтобы показать, до какой
степени я еще не укреплен был в разумении добра и зла» [13: 240]. Эту
рефлекторную характеристику своего поведения, однако, герой дает в на­
чале двадцать первого года своей жизни, когда уже знает: «...чту добро
и зло» [16: 63]. Минимальный в обычном смысле временной срок (около
года) в духовном аспекте достаточен, чтобы наступили видимые измене­
ния во внутреннем мире Аркадия. Исследователи отмечают, что «мысль
Достоевского об обретении знаний о добре и зле на грани 20-летнего воз­
раста, а потому и сам выбор возраста Аркадия (19 лет — участник со­
бытий, 20 лет — повествователь) в той или иной мере восходят к анало­
гичному ветхозаветному представлению» [17: 275-276]. Действительно,
в Библии неоднократно отмечается, что двадцатилетие для человека —
199
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
переходный этап на пути к зрелости [см.: Числ., 1: 3, 18; 2: 22, 24, 26,
28 и др.]. В сакральном тексте четко установлено разделение людей на
взрослых — «от двадцати лет и выше» (знающие добро и зло) [Числ.,
32: //] и «ничего не смыслящих» малолетних детей, «которые не знают,
что добро, что зло» [Числ., 14: 23].
Период между «знанием» и «незнанием» — роковой для души чело­
века. В этот период она пребывает в хаосе, блужданиях и лихорадочных
поисках выхода, «решения», «себяопределения». Этот духовный хаос
особо интересует Достоевского: «... с той точки, — пишет он, — с которой
начинается роман, созрел весь его внутренний хаос и разлад» [16: 34]. Не
случайно один из черновых заголовков произведения — «Беспорядок»
[Там же: 64]. В этот пограничный период юная душа подвергнута исклю­
чительным испытаниям физиологического и духовного порядка, всякого
рода испытаниям, исходящим как из материального (видимого), так и из
духовного (невидимого) мира. «Я взял душу безгрешную, — пишет До­
стоевский в связи со своим романом, — но уже загаженную страшною
возможностью разврата» [22: 8]. Это, следовательно, душа на грани двух
возможностей. Бесспорно, «в "Подростке" Достоевский изобразил ве­
личие и драму, связанные с пробуждением пола. <.. .> В результате этого
наступает хаос; социальное и нравственное чувство человека очень труд­
но преодолевает языческую природу пола» [Днепров, 1978: УУ; см. также:
Звезданов, 1983: 155]. Того же «земного» порядка и «идея», прельстив­
шая душу оскорбленного и гордого мальчика, который «обосабливается»
и начинает жить своей «идеей» стать Ротшильдом. Все это было бы легко
объяснимым, если бы оставалось простым стремлением к богатству и
зажиточной жизни. Ничего подобного, однако, здесь не обнаруживает­
ся. Наоборот, для Аркадия богатство связано с суровым аскетизмом, с
лишениями и «подвигами схимничества» [13: 67], притом не только по
пути к намеченной цели, но и после ее достижения. Потому что настоя­
щая цель — не деньги, не богатство и роскошь, даже не «могущество»,
а «уединение» — «уединенное и спокойное сознание силы!» [Там же:
72, 74]. В этом, согласно его пониманию, состоит сама суть «свободы».
Из-за претенциозных заявлений подростка начинает просвечивать ин­
фернально-метафизическое, потустороннее, связанное не столько с «бе­
сом» богатства, не со служением идолу денег или «имущественной по­
хоти», по словам Достоевского [см.: 25: 16], сколько с этой безграничной
свободой — за пределами добра и зла — достижением «юпитеровской»
зоны абсолютной независимости. Независимости даже от себя самого,
так как в конечном счете настоящим венцом его «поэмы» является отре200
Глава
2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
чение от «порочной власти», от всего постигнутого и добровольное сли­
яние с ничтожеством с целью доказать себе, что он в силах отречься от
нее [13: 67].
Несомненный демонический (антихристов) смысл этой идеи под­
сказывается ее еврейским (жидовским) происхождением. В тексте под­
черкивается, что Аркадий томится желанием стать не просто богатым,
а «именно как Ротшильд» — тема, бесспорно восходящая к идее о «жи­
довском царе» (властелине мира), а тем самым и к образу Антихриста.
В скобках добавлю только, что в религиозно-исторических видениях До­
стоевского еврейство прочно ассоциируется с мощью золотого тельца,
при помощи которого оно обеспечивает себе власть над всем миром и
готовит его к пришествию своего мессии, под которым в ортодоксаль­
ном сознании подразумевается Антихрист [см.: 25: 82-86 и др.]. Для
писателя личности, ориентированные к рассудочной, материально-ви­
димой похоти мира (независимо от того, принадлежат ли они или нет
к еврейской народности) принципиально определяются как «жидовствующие умы», подвластные «жидовствующим соображениям» [Там же:
6, 10], исповедующие жидовскую идею, охватившую «весь мир, вместо
"неудавшегося" христианства» [Там же: 85]. Вообще порождение идеи
о земном господстве, по мнению Достоевского, имеет метафизические
основания, так как она вышла «из главы диавола во время искушения
Христова в пустыне» [Там же: 158]. И эту идею нашептал душе закрыв­
шегося в своей «скорлупе», обособленного подростка великий злой дух
пустыни (ср. слова героя: «Злой дух уже носился надо мною» [16: 101],
«злые духи уже овладели моими снами» [13: 327]). Действительно, цель
Аркадия — совершенная свобода, постижимая через отречение от всего
постигнутого. Он, однако, не берет во внимание тот факт, что это отрече­
ние происходит впоследствии, после реализации идеи, не понимает, что
вступил в заколдованный круг, потому что уже не в состоянии отказать­
ся от служения самой духовной прелести — идее, и этим встает лицом
к лицу с р>еальной несвободой, настоящим рабством, внутренним хао­
сом и неблагообразием. Эта идея-чувство, дополнительно обремененная
неуправляемой сексуальной энергией, порождает проблему, которую
юная душа не в состоянии решить одна. Мы не должны забывать, что
герой — еще человек «неготовый», как определяет его сам автор [22: 8].
Наподобие укоренившегося в душе инфернального представления
(об идеях как живых существах, вселяющихся в людей, речь пойдет в
дальнейшем), благодатная помощь является внешней в отношении под­
ростка. В этом смысле произведение строится, скорее, на принципах
201
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
инициации, чем на принципах самопознания, что ни в коем случае не
означает, что герой остается пассивным по отношению к своей судьбе.
Наоборот, подростку дана главнейшая роль. Он находится в ситуации
рокового выбора одной из двух возможностей, и этот его выбор должен
быть совершенно свободным. Окончательному решению подростка, од­
нако, предшествует длительный, мучительный и сложный внутренний
процесс активного освоения и вникания в истинный смысл обеих фун­
даментальных мировоззренческих идей, носителями и проповедниками
которых являются оба его «отца» — Версилов и Макар — оба авторите­
та, поразивших воображение этой неокрепшей души. В данном случае
особо важно подчеркнуть, что в отношении обоих «проповедующих»
герой входит в роль активного слушателя. Но так как идеи и Версилова,
и Макара Долгорукого религиозны по своей сути, в духовном смысле ста­
тус Аркадия можно определить как статус оглашенного. В этом смысле
справедливо будет отметить, что большей частью роман «Подросток» яв­
ляется романом-оглашением, так как раскрывает сложный процесс пос­
вящения подростка-неофита в таинства веры.
Оглашение юной души развернуто Достоевским без какой бы то ни
было декларативности — объективно и непреднамеренно. Убедительно
показано все очарование, которое производит на «сына» прельститель­
ная атеистическая вера-мечта «героя-инкуба» (по точному определению
К. Мочульского [см.: Мочульский, 1995: 467]) — Версилова, отца по кро­
ви (т. е. «земного»), но одновременно с тем и незаконного (в религиозном
аспекте) отца Аркадия. Отец-Версилов выполняет важную роль в рас­
крытии основной темы романа — «игры с дьяволом». Это убеждение в
том, что может исчезнуть «великая идея бессмертия» [13: 379], что «нет
другой жизни... на земле» [ 16: 8], что возможно добро и без Бога — ины­
ми словами, что возможен будущий «золотой век» для человечества —
утверждение, которое Версилов не случайно пытается доказать подрос­
тку посредством своего сна, что на самом деле является «прыжком по
вертикали вниз— в мифологическую вечность» [Звезданов, 1983: 561],
т. е. откровенной языческой грезой. Версиловщина как яд вливается в
душу юного героя и надолго отравляет ее. Даже сам подросток призна­
ется, что «несколько фантастических и чрезвычайно странных идей, им
тогда высказанных, остались в моем сердце навеки» [13: 378]. Показа­
тельно то, что даже после встречи с Макаром, которая стала настоящим
откровением для Аркадия, ему хочется последовать за Версиловым.
И действительно, должна прийти очередь сцены с расколотой иконой
(в которой проявляется откровенное желание уничтожить наследство
202
Глава 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
Макара), раскрывающей ужасающую двойственность инфернального
Версилова, чтобы подросток наконец осознал, что из шизоидного раз­
двоения его бывшего идола доносится леденящее дыхание пустоты, пре­
исподней и небытия.
Настоящая неприкрытая сущность версиловщины, однако, становит­
ся доступной для сознания подростка как раз благодаря знаменательной
встрече и проповеди другого его духовного отца — старца Макара Дол­
горукого. Макар — «высшая противоположность» Версилова [16: 247],
начиная даже с такой внешней и незначительной на первый взгляд ха­
рактеристики, как смех. Смех Макара — «детский» и «до невероятности
привлекательный». Этот теплый и приветливый смех сразу притягивает
подростка [см.: 13: 286]. У Версилова, наоборот, во всем настоящий хаос.
Если одна его половина серьезна, «благообразна», то его двойнику неис­
тово хочется «засвистать» или «захохотать» безобразнейше, даже когда
он присутствует (а может быть, именно поэтому) на похоронах в церкви
[Там же: 409]. Эти герои противоположны не только в мельчайших, но
и в значимых обобщениях. Если в Версилове представлены «цивилизо­
ванный и отчаянный, бездеятельный и скептический, высшей интелли­
генции» моменты [16: 128], то Макар символизирует «древнюю Святую
Русь» [Там же], «православного христианина» [Там же: 242]. В целом
Макар и Версилов олицетворяют «порядок и беспорядок» [Там же: 390].
Показательно то, что еще перед встречей «лицом к лицу» с Макаром
Аркадий слышит произнесенные старцем слова Иисусовой молитвы:
«Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас», и эти священные
слова озаряют тишину его безотрадной одинокой души, «разозленной
до злобы». Они пробуждают в ней первый, хотя и едва приметный, не­
значительный импульс к реальному духовному подвижничеству. Это
мгновение исключительно важно, и позже подросток опишет его так:
«С легкостью, которую я и не предполагал в себе {воображая до сих
пор, что я совершенно бессилен), спустил я с постели ноги ... накинул
серый мерлушечий халат ... и отправился ... в бывшую спальню мамы»
[13: 284, 285]. И здесь подросток встречается с необыкновенным посе­
девшим семидесятилетним старцем, который одним только взглядом рас­
смотрел его «всего, до последней черты» души. С этой минуты в романе
начинается настоящее духовное оглашение юного героя. Сцена эта глу­
боко символична, и все элементы в ней и в дальнейшем повествовании
типологически соответствуют начальному этапу оглашения, крещения
и подвижничества героя в житийной литературе. В связи с этим не слу­
чайно, что огласительная «проповедь» Макара, адресованная подрост203
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
ку, начинается именно со слов: «Поди и раздай твое богатство и стань
всем слуга» [13: 311]. Эта фраза несет двойной смысл. С одной стороны,
старец, оценивший с первого взгляда внутренний мир Аркадия, сразу
обнаруживает прельстившую его идею о золотом тельце — идею, глав­
ную страсть и препятствие, загораживающее путь в Царствие Небесное.
Сцена, несомненно, воспроизводит евангельский мотив о богатом юно­
ше, связанном с «земным», которому Христос говорит: «...пойди, про­
дай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах;
и приходи и следуй за Мною», потому что «трудно богатому войти в Цар­
ство Небесное» [Матф., 19: 21-23]. Проблема, однако, имеет и другую
сторону. В центре проповеди Макара стоит апология «отшельничества»
и «пустыни» [см.: 13: 311]. В данном случае имя Макара (греч. цакар —
«блаженный, счастливый») является прямой аллюзией с житием велико­
го пустынножителя св. Макария Египетского. Это, однако, посторонняя
ассоциация. Она только способствует направлению внимания к чему-то
другому, что тесно связано с Аркадием и с начальным агиографичес­
ким этапом подвижничества. Приведенная евангельская фраза введена
Достоевским не случайно. Это ключевая словесная структура в агио­
графии, которая восходит к конкретному христианскому первожитию —
житию «образца подвижничества», преподобного Антония Великого,
описанного св. Афанасием Великим [см.: Афанасий Великий, 1994,3:
178-250]. Это житие широко распространено и известно (традиционно
публикуется в сборнике Четьих Миней на день святого — 17 января) и
является своего рода агиографической моделью для позднейшей житий­
ной традиции.
Известно, что будучи юношей (18-20 лет), Антоний услышал в хра­
ме приведенные выше слова Спасителя и, приняв их как «напоминание
свыше», как бы о нем самом сказанные, сразу же раздал бедным все свое
немалое состояние, доставшееся в наследство от родителей, и это был
первый важный шаг к духовному совершенству. Эти евангельские слова
пробудили у будущего святого жажду подвижничества, и он пошел труд­
ным иноческим путем в великой египетской пустыни, дав собой «обра­
зец подвижничества» [см.: Афанасий Великий, 1994, 3: 178-181].
Сцена посвящения в «Подростке» повторяет в основных линиях эту
агиографическую модель. Божественное слово пробуждает зачарован­
ную земным душу и словами «следуй за Мной» возвращает отпавшую
человеческую природу (символическим образом которой является «по­
гибшая овца» [см.: Мф., 10: б; Лк., 15: б; 1 Петр, 2: 25]) из земного в
небесное царство. В этом контексте становится понятным символичес204
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
кий подвижнический «жест» Аркадия. Услышав Иисусову молитву, он «с
легкостью» (с благодатной помощью) преодолевает «абсолютное бесси­
лие» (подчинение земной обремененности) и, надев «мерлушечий»104 ха­
лат (как «погибшая овца»), является перед лицом своего духовного отца,
который раскрывает перед ним духовное счастье (греч. цакар(а) «царс­
твия небесного», потому что «в этих существах, как в Макаре, — Царс­
тво Божие» [16: 399].
Подросток инстинктивно чувствует, что именно в Макаре — «отвод
от всех наваждений, спасение, якорь...»[ 13:297]. Встреча со старцем про­
воцирует настоящий духовный перелом в его внутреннем мире. От него
он узнает, что «деньги хоть не Бог, а все же полбога — великое искуше­
ние; а тут и женский пол, а тут и самомнение, и зависть» [Там же: 311].
Проповеди Макара помогают Аркадию узнать правду о сути тех
сил, которые пытаются развратить его природу, и прозреть таинствен­
ную, противоречивую душу Версилова. Поэтому «разрушением "леген­
ды" об отце... является вся вторая половина романа» [17: 311]. Юный
герой принимает не без сопротивления идеи духовного своего отца как
противоречащие его собственной идее и искажающие ее, потому и после
смерти Макара продолжает заблуждаться и ошибаться. Завет старца все
же остается в его сердце одним из наиболее прочных и оригинальных
воспоминаний, которые всегда будут освещать истинный путь спасения.
Достоевский подчеркивает: «...главнее всего: воспоминание о Макаре,
колоссальная роль» [16: 353] (курсив автора — Н. Н.). Оно вызывает ка­
чественное перерождение его убеждений, и эта мысль постоянно звучит
у Достоевского на протяжении всего романа.
О том, что посеянные в оглашенную душу подростка семена истины
прозябают, свидетельствуют дискредитация «идеи», подчинение сексу­
альной энергии и добровольное решение «не мстить» (не оглашать со­
держания документа). После этого свободного проявления воли подросток
признается: «...я перекрестился с любовью, лег на нары и заснул ясным,
детским сном» [13: 438] — к концу романа оглашение естественно пе­
решло в таинство крещения. Разорванные духовные связи в «случайном
семействе» восстановлены на другом, более высоком и принципиально
отличном уровне. Блудный сын возвращается к своему духовному отцу,
который умирает, так и не построив до конца своего храма, на который
двадцать лет собирал подаяние [см.: 13: 108]. В этом духе понятно «слово»-завещание старца к подростку: «.. .ты, милый, Церкви святой ревнуй,
и аще позовет время — и умри за Нее» [Там же: 330]. Материальный
храм, заложенный «отцами», должны защитить, преобразить и достро205
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
ить «сыновья» (такую семантику, впрочем, несет и имя Аркадий, про­
изводное из греч. Арка5(а — «область Аркадия», ассоциирующееся со
«счастливой страной» и с глаголом ссркёо) — «охранять, помогать») как
новый духовный невидимый храм в душе. Такова соборная общая идея,
связывающая «отцов» с «детьми» в единую Церковь воскресшего хрис­
тианского семейства.
В соответствии со всем сказанным мы должны сделать вывод, что
роман «Подросток» служит интродукцией к остальным романам Пяти­
книжия, так как его доминантная линия намечает все вводные парамет­
ры. Во-первых, она сродни начальному подвижническому этапу (юнос­
ти, «первым шагам») агиографического героя. Во-вторых, раскрывает
духовный образ таинства крещения. В-третьих, выполняет символичес­
кие функции словесного нартекса в храмовой архитектонике Пятикни­
жия (см. схему 11).
2.2. Доминантная линия в романе
«Преступление и наказание» — кризисное житие,
наос храма и таинство покаяния
Многие из исследователей Достоевского делятся наблюдением, что
существует особая близость, даже преемственность между «Преступле­
нием и наказанием» и «Подростком», притом прежде всего в сфере идеи,
подчинившей обоих героев, — Родиона Раскольникова и Аркадия Дол­
горукого. Независимо от того факта, что «Преступление и наказание»
предшествует по времени «Подростку», ротшильдовская идея Аркадия
не является ни продолжением, ни воздвижением на более высокий уро­
вень идеи Раскольникова. Наоборот. Принцип здесь противоположен —
Раскольников является тем, кто возводит концепцию Подростка на неиз­
меримо более высокий идейный уровень и уходит несравненно дальше в
ее реализации. Я согласен с точкой зрения, хотя и несколько натянутой,
что идея Подростка «локальна» и не касается всеобщих принципов об­
щественного бытия, как делают это концепции Раскольникова и Ивана
Карамазова [см.: Семенов, 1973: 107-116]. О том, в какой степени идея
Аркадия «локальна» и ограничена преимущественно в сфере «я», мож­
но спорить, но теперь это неважно. Более существенно в данном слу­
чае то, что преемственность в идейном религиозно-экзистенциальном
плане действительно не направлена от Раскольникова к Аркадию, а на­
оборот — от романа «Подросток» к «Преступлению и наказанию». Пре­
емственность эта полностью подтверждается специфической для романа
«Преступление и наказание» системой доминант.
206
V :i а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
В этом романе развертывается драма человеческой души, которая,
приняв один раз оглашение и духовное крещение в начале своего под­
вижнического пути (события, показанные в романе «Подросток»), не
сохраняет своей детской невинности, а поддается искушению (совер­
шает тяжелое преступление) — трагический акт вторичного отпадения
от Бога. Для героя наступает период религиозного кризиса (в истинном
смысле понятия «кр(ац» как «суд» и «решение») — период, аналогичный
этапу, через который проходит агиографический герой ранневизантийских «кризисных житий» [см.: Бахтин, 1983: 161]. Безблагодатное время
скорби и невыносимого духовного страдания естественно приводит ге­
роя к таинственному мгновению покаяния (ЦЕШУОКХ), когда совершается
mutatio mentis, новое «изменение мышления» (так как jieidvoia, кроме
«раскаяния» и «покаяния», означает и «изменение мышления»), т. е. чудо
нового обращения к Богу и окончательного освобождения от «идеи»
(рассудочности), возвращения к «сердцу» (интуиции, любви) и подго­
товки к будущему «подвигу», который увенчает спасение души (как спа­
сительный финал «кризисных житий»). Поэтому допустимо сказать, что
во внутреннем, духовном смысле роман «Преступление и наказание» ес­
тественно продолжает и развивает идейную проблематику «Подростка».
Он ассоциируется с наосом в храме, так как является своеобразным сло­
весным символом земной человеческой жизни — жизни, исполненной
опасных искушений и духовных испытаний, многие из которых слабая
человеческая природа преодолевает только при помощи таинства пока­
яния. Именно это духовное движение, эта «векторность» человеческого
бытия (визуализованные в храме наосом, который, будучи архитектурной
метафорой, показывает обращение и движение души от инфернального
Запада к спасительному Востоку) находит художественное воплощение
в замечательном романе Достоевского. Процесс духовного созревания
явлен в произведении при помощи особой системы последовательных
снов главного героя, фиксирующих этапы движения души от света веры
во тьму «подполья» и снова к свету спасения. Во сне закодированы до­
минантные особенности произведения, поэтому содержательный анализ
системы сновидений естественно становится центральной проблемой ис­
следования. Следующие страницы будут посвящены попытке раскрыть
действительные причины преступления, приведшего, со своей стороны,
к роковому отпадению человека от Божественного, а также способы его
преодоления. Ответы на эти вопросы тесно связаны с вопросом о герме­
невтических принципах толкования сновидений. У достоевсковедов и в
этой области существует большая разница во мнениях и даже ясно вы207
Часть
3 • Поэтика
и герменевтика
Пятикнижии
раженная тенденция к произвольности в содержательной расшифровке
посланий произведений в целом и сновидений в частности. Это верное
свидетельство отсутствия критериев и ясной концепции при анализе, ко­
торое оправдывается правом иметь свою точку зрения, не считаясь с объ­
ективным существованием одной онтологической, трансцендентальной
Истины, которую неоднократно и ясно исповедовал и защитил в своем
художественном творчестве Достоевский. Эстетическое своеволие неко­
торых авторов естественно провоцирует соответствующее проявление
индивидуализма в литературной критике. У Достоевского, однако, нет
даже намека на такой художественный произвол. Как я уже много раз
подчеркивал, ему чужда субъективность гуманизма, и он твердо проти­
вопоставляет себя ренессансному типу личности и пониманию свободы.
Прямая связь между текстом Пятикнижия и сакральным Словом Писа­
ния ограничивает возможность бесконечной семиотической интерпрета­
ции. Это, со своей стороны, требует, чтобы содержательный анализ по
необходимости придерживался методики истолкования сакрального тек­
ста. Средневековая экзегетика, занимающаяся этой проблемой, исходит
из принципа труднопостижимой глубины Божественного слова из-за ог­
раниченности человеческого понимания. Это порождает требование его
углубленного изучения и многопланового толкования. Каждый из этих
планов формирует значение, соответствующее определенной степени
посвященности — разной для каждого читателя105. Этот универсальный
метод приложим и в обратном направлении — при создании церковнокультового и вообще религиозного текста. Он организует символику на
принципе «многоэтажной семантики» [Лотман, 1970: 87]. При содержа­
тельном анализе здесь я в большой степени буду придерживаться указан­
ной экзегетической традиции, основываясь на трех основных смысловых
уровнях: историческом, буквальном и анагогическом106. При конкретном
анализе они будут носителями соответственно мифологического, соци­
ального и христианского содержания.
Ввиду ограниченного объема исследованного периметра текста,
включающего только сны, необходимо дать еще некоторые вводные по­
яснения.
Ранее мы выяснили, что на формальном уровне сновидение занима­
ет в структуре романа место сакрального центра со всеми вытекающими
из этого обстоятельствами. Этот вывод оказался возможным благодаря
ясно выраженной аналогии с расположением купола в телесной оболоч­
ке, составляющей формальную структурную конфигурацию христианс­
кого храма. Рассмотрим ситуацию на содержательном уровне.
208
Г i а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
Эквивалетным куполу в огромном семиозисе внутреннего духовного
пространства храма является другой элемент — икона. Подобно куполу,
но в содержательном плане, икона превращается в главный сакрально-ху­
дожественный феномен византийской культуры [см.: Бичков, 1992: 53].
Она выполняет те же незаменимые функции, самой существенной из ко­
торых можно считать апагогическую. Как я уже сказал, икона является
своеобразным трансцендентальным окном, через которое (в священном
акте мистического созерцания) постигается видение инобытийного ду­
ховного мира. Именно поэтому они (иконы) встроены в алтарную стену
(превращенную в иконостас), отделяющую, как «завеса», но и связываю­
щую Божественное невидимое с видимым человеческим. При помощи их
парадигматического образа осуществляется мистический контакт обоих
миров, чтобы произошло чудо и можно было увидеть «невидимое через
видимое». Экзегетический подход приложим тотально и ко всей внутрен­
ней стенописной организации храма, но прежде всего к многопластовому
толкованию иконных изображений, так как именно ими осуществляются
духовные прорывы в другую реальность, они являются центром внутрен­
него пространства, а, как уже упоминалось, сакральный центр является
областью наибольшей семантической нагрузки. Благодаря этой особен­
ности иконы как высшие сакральные объекты аналогичны сновидениям.
Эту особенность проницательно раскрыл Феодор Студит. Он допуска­
ет, что на иконе можно изображать не только то, «что непосредственно
воспринимается нашим зрением, но и то, что объемлется мыслью через
умственное созерцание» [цит. по: Бичков, 1984: J28]. В соответствии с
ее воздействием на человека он сравнивает икону со сновидением и счи­
тает вполне допустимым существование изображения, которое подобно
«фантазии». Напрашивается следующий первоначальный вывод: если на
формальном уровне сновидение (в структуре романа) и купол (в системе
храма) выявляют ясно выраженный изоморфизм, то на содержательном
уровне функции снов аналогичны функциям иконного изображения в ду­
ховном внутреннем космосе храма. Это, со своей стороны, порождает
вывод, что принцип толкования сновидений должен быть подобным прин­
ципу, заложенному в сложных и многопластовых иконных образах.
Вряд ли существует читатель «Преступления и наказания», который
не был бы потрясен чудовищной сценой, изображенной в первом сне
Раскольникова, — сценой убийства лошади. Эта картина действительно
застревает в читательском сознании как символ человеческой жестокос­
ти, изначального разрушительного комплекса, глубоко заложенного в его
209
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
сущности. Сначала я прокомментирую социальные аспекты сна — про­
межуточный (буквальный) смысловой уровень. Первый вопрос, который
возникает в связи с этим: почему изображенная сцена решена именно
так в образном плане? Чтобы объяснить это, я обращусь к ее конкретной
исторической этимологии. Она весьма интересна и связана с двумя ас­
пектами — личным и культурно-социальным. Данные об этом обнаружи­
ваются еще в детских воспоминаниях писателя. Одно из них он записал в
своем «Дневнике» за январь 1876 г. Здесь описан случай с фельдъегерем,
который бил кулаками ямщика, а тот, со своей стороны, «едва держав­
шийся от ударов, беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей, как
бы выбитый из ума, и наконец нахлестал их до того, что они неслись какугорелые» [22: 28]. В то время Достоевскому было только пятнадцать, но,
как он сам отмечает, «эта отвратительная картинка осталась в воспоми­
наниях моих на всю жизнь» [Там же: 29]. Это воспоминание все время
преследовало его. Мы обнаруживаем его и в других отрывках «Дневни­
ка». Доказательство того, что сцены, подобные описанной, были широко
распространены в России, мы находим и в «Повести о капитане Копейкине» в гоголевских «Мертвых душах»: «А фельдъегерь уже там, понимае­
те, и стоит: трехаршинный мужчина какой-нибудь, ручища у него, може­
те вообразить, самой натурой устроена для ямщиков...» [Гоголь, 5: 195].
Значительно ближе к изображенной в первом сне Раскольникова сцене
другое свидетельство, также включенное в «Дневник писателя»: «Наши
дети, — пишет Достоевский, — воспитываются и взрастают, встречая
отвратительные картины. Они видят, как мужик, наложив непомерно воз,
сечет свою завязшую в грязи клячу, его кормилицу, кнутом по глазам»
[22: 26]. «Этого кто ж не видал, это русизм», — говорит Иван Карамазов,
имея в виду ту же сцену [14: 219].
Моделирование этой жизненной ситуации (очевидно, очень частой
в действительности) и превращение ее в художественно-эстетический
факт осуществлено с документальной точностью в русской литературе
еще до Достоевского. В 1859г. Н.А.Некрасов создает стихотворение
«До сумерек» из знаменитого цикла «О погоде» [см.: Некрасов, 1967,
2: 169]. Даже при беглом сравнении обнаруживаются бесспорные сходс­
тва между сценой, описанной в «До сумерек», и сном Раскольникова. До­
стоевский, очевидно, имел в виду блестящее попадание Некрасова: эта
художественная модель часто встречаемой бытийной ситуации в неко­
тором смысле превратилась во внешнюю материализацию заключенного
в человеке архетипического проявления насилия. Автор «Преступления
и наказания», однако, не остался только в рамках разработанной до него
210
I i ;i в a 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
художественной модели. Очевидно, он приходит к чему-то качественно
отличному. То, что у Достоевского насилие, издевательство доведено до
ужасающей крайности — смерти беззащитного животного, — очень по­
казательно. Если у Некрасова сцена потрясает своей жестокостью, то у
Достоевского она поражает крайней безнадежностью. До этого художест­
венного решения был только один шаг, но он был продиктован глубокими
качественными изменениями в целях и функциях, заложенных в содержа­
нии. Чтобы стала понятна суть изменения, я должен возвратиться еще раз
к приведенному выше детскому воспоминанию Достоевского о фельдъе­
гере. Для писателя оно очень важно как эмблема, как наглядный пример,
при помощи которого он объясняет «связь причины с ее последствием».
И хотя теперь «и курьеры не бьют народ ... нет фельдъегеря, зато есть
"зелено-вино". Каким образом зелено-вино может походить на фельдъе­
геря? ... тем, что оно так же скотинит и зверит человека ... Пьяному не до
сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих» [22: 29].
Понимание этой сложной социальной зависимости дает возможность
Достоевскому построить более динамическую художественную модель
ситуации, изображенной во сне Раскольникова. Что я понимаю под дина­
мической моделью? С одной стороны, Достоевский стремится показать
социальную обусловленость действия — внешний эффект «среды», а с
другой — нарастающий внутри глубинный бунт души. Эти доминантные
акценты «делят» сон на две основные семантические группы, которые
входят в сложные динамические взаимоотношения. Одна из доминант
связана с социальными факторами, другая, обобщенно говоря, со спиритуальными элементами трансцендентальной сферы. Семантические
группы организуются вокруг двух образных символов, которые заложе­
ны в самом начале сна: кабак и храм. «В нескольких шагах от последнего
городского огорода стоит кабак, большой кабак, всегда производивший
на него неприятнейшее впечатление и даже страх...» [6: 46]. И ниже:
«Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом ... Он любил эту
церковь и старинные в ней образа». Оба символа разделены пыльной до­
рогой (а пыль на ней «черная»), которой идут сын и отец, «он держит
отца за руку и со страхом оглядывается на кабак» [Там же]. Еще с самого
начала параллельно строятся (в бинарной оппозиции) обе семантические
группы, что определенно ведет к реализации двух равнопоставленных
будущих возможностей. Жестокая сцена убийства лошади вплетает в
трудноразделимое единство как спиритуальное, так и социальное нача­
ло. Она превращается в главное семантическое ядро сна, содержащее на­
иболее существенную информацию, без которой невозможно понимание
211
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
как образа Раскольникова, так и романа в целом. Я сказал, что Достоев­
ский строит динамическую художественную модель. Рассмотрим, в чем
именно выражается этот динамизм в социальном плане.
При внимательном прочтении сна нельзя не заметить, что некрасов­
ская художественная модель битийной ситуации почти буквально повто­
рена в своих основных параметрах, но это происходит перед настоящей
сценой убийства лошади. Сцена вводится при помощи воспоминания
Раскольникова из его детства: «.. .тощая саврасовая крестьянская клячон­
ка, одна из тех, которые — он часто это видел — надрываются иной раз с
высоким каким-нибудь возом дров или сена, особенно коли воз застрянет
в грязи или в колее, и при этом их так больно бьют всегда мужики кнута­
ми ... а ему так жалко ... что он чуть не плачет, а мамаша всегда, быва­
ло, отводит его от окошка» [Там же: 46-47]. В данном случае буквально
дублируется прежняя художественная модель, которая характеризуется
пассивным переживанием страдания. Здесь, как и в произведении Не­
красова, насилие ограничивается рамками физического издевательства
над слабым животным. Далее во сне Достоевский рисует подобную си­
туацию, но в ней уже наблюдается существенное пере структурирование.
Активность маленького Роди, подчинившегося внутреннему порыву к
справедливости, нарушает пассивность зрительской позиции. Приходит
момент, когда Достоевский мастерски переворачивает прежнюю худо­
жественную модель. От издевательства над животным насилие вмиг пе­
реходит на мальчика. «Он бежит подле лошадки, он забегает вперед, он
видит, как ее секут по глазам, по самым глазам! <...> Один из секущих
задевает его по лицу; он не чувствует, он ломает свои руки, кричит...»
[Там же: 48]. Именно здесь перенесением насилия с лошади на ребенка
писатель достигает высшей степени обобщения. Насилие над ребенком
для Достоевского становится символом тяжелейшего греха. И если у Не­
красова мы наблюдаем только аллюзию, сравнение лошади и человека, то
у Достоевского замена уже осуществлена, она уже реальность. В первом
сне Раскольникова писатель создает динамическую художественную мо­
дель, которая дает возможность достичь более глобальных социальных и
психологических обобщений. Схема «человек —• насилие —> животное»
у него переходит в схему «человек —* насилие —» человек»! Эта модель
превращается в эмблему, в живой пример (по словам Достоевского), в
символ, выходящий из семантического ядра сна и распространяющийся
во многих местах остального текста романа. (Это явление — перенесе­
ние готовых символов из «ядра» снов к остальному тексту романа — на­
поминает своеобразный семантический «протуберанец».) Описывая
212
Глава
2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
выход героя из сонного состояния, например, автор указывает: «Все его
тело было как бы разбито» [6: 49]. Ассоциация с избитой лошадью мгновенна. Позже, после убийства старушки, когда Раскольников движется
как в полусне по мосту над Невой, сцена из сна будто повторяется: «Его
плотно хлестнул по спине кучер одной коляски ... Удар кнута так разо­
злил его, что он, отскочив к перилам ... злобно заскрежетал и защелкал
зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех» [Там же: 89]. Ассоциация
«лошадь — Раскольников» поддерживается активно и непрерывно. Бук­
вально через страницу после указанного примера она возникает снова:
«...весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван» [Там же: 90].
Сразу же после этого с ним случается слуховая галлюцинация, вызвав­
шая «безграничный ужас». Ему послышалось, что кто-то с невиданной
жестокостью бьет хозяйку дома. «И вот, к величайшему изумлению, он
вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла ... о чем-то умоляя —
конечно, о том, чтоб ее перестали бить, потому что ее беспощадно били
на лестнице» [Там же: 91]. Еще показательный факт: чем ближе сцена
такого рода к семантическому ядру сна, тем слабее ее ассоциативные
связи со сном, из которого она вышла; и наоборот — удаленные сцены
характеризуются усилением семантического сходства. Сцена смерти Ка­
терины Ивановны, например, дублирует сон даже в деталях. «Кровь еще
покрывала ее иссохшие губы ... — Уездили клячу!.. Надорвала-а-сь! —
крикнула она ... и грохнулась головой на подушку ... рот раскрылся,
ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла»
[Там же: 333-334]. Семантическим переносом из ядра сна к остальной
части романа непрерывно индуцируется информация, которую читатель
получил в закодированном виде еще в первом сне. Нечто подобное при­
метил и А. Л. Бем, который пишет, что «действительность под его пером
становится призрачной, и за ней раскрывается фантастический мир снов
и видений». Критик называет этот процесс «развертыванием сна», пос­
редством которого «содержание сна драматизируется, переводя таким об­
разом его тонкие намеки на язык действительной жизни» [Бем, 1924: 48].
Если продолжить до конца анализ промежуточного знакового пласта, то
убийство ростовщицы Алены Ивановны можно было бы истолковать как
социально мотивированное преступление. И, кажется, есть достаточно
оснований для такого толкования. Жестокую бытийную ситуацию, опи­
санную во сне, и превращение Раскольникова в жертву насилия можно
принять как начальный толчок для озлобления его против мира. В связи
с этим большое значение имеют интересные примечания к плану романа,
которые открыто восходят к детскому воспоминанию самого писателя и
213
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
недвусмысленным образом переплетаются с внутренним миром героя.
К одному из начальных редакционных примечаний приписано: «Мое
первое личное оскорбление, лошадь, фельдъегерь» [7: 138]. То же самое
повторяется и в третьей редакции плана: «воспоминания о лошади и об
обидах» [Там же: 147]. А к сцене, в которой кучер бьет кнутом Расколь­
никова, есть примечание: «Когда я тогда удивился, как это я мог озлиться
на то, что меня кучер ударил, точно я не в числе человеков и права мои
потерял. О, как тяжелы эти чувства!» [Там же: 83]. Постоянно упоми­
наемая идея о человеке, превращенном в жертву социального насилия,
открыто заявлена и в одном из планов романа — в сцене жестокого изби­
ения хозяйки (слуховой галлюцинации Раскольникова). Здесь буквально
записано: «Бедная жертва» [Там же: 126].
Имея в виду сказанное выше, отмечу в скобках связь с другим сном,
единственным во всем Пятикнижии, который восходит (в идейно-содер­
жательном плане) к видению Раскольникова. Это глубоко трагический
сон Мити Карамазова о погоревшей деревне, вобравший в себя весь дра­
матизм человеческого несчастья. «Избы черные-пречерные», и выстро­
ившиеся почерневшие от беды матери, и «дитё», которое плачет, превра­
щаются в обобщенный идейный символ невинной жертвы. И Дмитрий,
подобно Раскольникову, спрашивающему во сне: «За что они... бедную
лошадку... убили!» — ставит свои страшные вопросы: «...почему сто­
ят погорелые матери, почему бедны люди, почему бедно дитё, почему
голая степь, почему они не обнимаются ... почему они почернели так
от черной беды, почему не кормят дитё?» [14: 457]. Но, в отличие от Ро­
диона Раскольникова, Митя в конце своего сна уже нашел единственно
правильный ответ: «...все мы жестоки, все мы изверги, все плакать за­
ставляем людей, но из всех — пусть уж так будет решено теперь — из
всех я самый подлый гад!» [Там же: 458]. Раскольников все еще далек от
мысли о том, что каждый за всё виноват107: виновен и тот, кто совершил
преступление, и тот, кто не совершал, но остался безучастным; а также и
тот, который не совершал, но все же рано или поздно совершит. Потому
что оно в той или иной степени неизбежно для каждого человека. Ему
еще предстоит понять это.
Умонастроение героя до совершения преступления очевидно вос­
ходит к одному из двух символов, образующих противопоставленные
семантические ядра. Символ этот (не только во сне, но и во всем рома­
не) — кабак как ясно эксплицинованное представление о «храме» зла в
противоположность Божиему храму (Церкви). «Русский Бог уже спасо­
вал перед "дешёвкой". Народ пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви
214
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнш
пусты...» [10: 324]. Вокруг этого сатанинского места вращается все злое.
Оно превращается в материальный символ отвратительнейшей язвы, по­
жирающей русский народ изнутри108. Для Раскольникова любое вхожде­
ние в кабак табуировано, ассоциируется с перешагиванием запретов, что
всегда сопровождается роковыми последствиями. Как раз в кабаке при­
шла ему в голову идея о убийстве, утвердившаяся после услышанного
там разговора офицера и студента о «справедливости» этого дела. Опять
же в кабаке происходят трагические встречи Раскольникова с Мармеладовым, Заметовым, Свидригайловым. После выпитого в кабаке на Ост­
ровах стакана водки он видит ужасный сон.
Этим социальным контекстом можно полностью объяснить моти­
вацию преступления, совершенного Раскольниковым. Его можно пред­
ставить (как отмечает в одном месте своего «prospectus № 2» и сам До­
стоевский) как следствие «озлобления, нищеты, выгод, необходимости,
и выходит, что сделал логично» [7: 86]. Однако, хотя и «логичное», это
объяснение, толкующее буквальный социальный пласт, все же не толь­
ко недостаточно, но и глубоко неправильно109. Такое идейное понимание
романа неприемлемо по двум причинам. Оно не подтверждется, во-пер­
вых, действиями героя и, во-вторых, его же словами и объяснениями. В
этом смысле очевидна абсолютная алогичность поведения Раскольнико­
ва. «И как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтоб ограбить!» —
спрашивает с обоснованным недоумением Соня. Раскольников даже не
уверен, взял ли он вообще деньги или нет. «А те деньги... я, впрочем,
даже и не знаю, были ли там и деньги-то, — прибавил он тихо» [6: 317]
(курсив автора. — Н. Н.). Все, что он взял у убитой ростовщицы, так и
остается зарытым под камнем от первого до последнего дня в чужом
дворе на В-м проспекте. С этой точки зрения преступление Раскольни­
кова превращается в qui pro quo (чистое недоразумение). Везде в своих
импульсивных действиях Раскольников бескорыстно отзывчив к боли
и страданиям других. Он решительно и неоднократно отвергает такие
причины совершения преступления, как голод или материальная помощь
матери и сестре Дуне: «Нет, Соня, нет ... не был я так голоден ...если б
только я зарезал из того, что голоден был ... то я бы теперь... счастлив
был! ... Не для того, чтобы матери помочь, я убил — вздор! Не для того
я убил, чтобы, получив средства и власть ... Вздор! ... Все это не то»
[6: 317-323] (курсив автора. — И. И.). Как это возможно, чтобы чело­
век такой отзывчивой, чувствительной души, который еще ребенком был
готов выйти сам против толпы пьяных рассвирепевших мужиков, стал
способен на такое тяжелое преступление? Очевидно, что в Раскольни215
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
кове совершилась перемена, странная метаморфоза, логично приведшая
его к жестокому двойному убийству. Если причины его бунта выходят за
рамки социальной мотивации, то объяснение надо искать на принципи­
ально ином идейно-смысловом уровне. Может быть, правильный ответ
придет при анализе исторического семантического пласта. Разумеется,
здесь речь идет не буквально об историческом исследовании в строгом
смысле слова, не об анализе эмпирических фактов, а о чем-то принци­
пиально ином — об исследовании относительно отдаленного пласта раз­
вития мировой души, той самой человеческой души, которая наполняет
своей субстанцией все Пятикнижие. Я хочу сделать еще оговорку, чтобы
предотвратить опасное смешение, которое намечается у некоторых ис­
следователей, анализирующих Достоевского в контексте мифологичес­
кого. Крайняя в некотором смысле концепция В. Н. Топорова о том, что
ряд особенностей в структуре произведений Достоевского находит точ­
ное соответствие в текстах и схемах мифопоэтической традиции [см.: То­
поров, 1973: 225], предполагает, что романы Достоевского строятся по
мифологическим схемам или схемам, взятым из подсознания автора. Помоему, структуры такого рода, или мифологические реликты в Пятикни­
жии являются, скорее, следствием языческо-мифологического мышления,
а тем самым и поведения данного героя, а не следствием выдвижения
подобных представлений авторским подсознанием и эксплицированием
их в тексте. Такое смешение наблюдается и у Вяч. Иванова, который
полагает, что ряд произведений Достоевского строится драматургически
на мифологической первооснове [см.: Иванов, 1916: 31-51 и др.]. Не­
зависимо, однако, от этих возражений указанные авторы приводят ряд
верных и точных наблюдений, на которые я буду ссылаться при анализе
историко-мифологического пласта.
Я указал, что с Раскольниковым произошла существенная переме­
на. Прежде чем выяснить, в чем состоит ее суть, важно отметить, когда
и где именно она наступила. Несмотря на то, что в тексте нет прямых
указаний, очевидно, что она вызвана тремя существенными кризисны­
ми моментами. Все они являются пограничными. Первый, временной
момент связан с возрастом (переход от юности к зрелости); второй, про­
странственный, — переход от своего, знакомого (родной город) в чужое,
незнакомое (Петербург) место; третий связан с интеллектуальной пере­
меной — годы учения в университете. На самом деле это три основных
элемента, которые всегда сопутствуют универсальному процессу пос­
вящения (инициации). И это не случайное совпадение, так как в рома216
Глава
2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
не присутствуют и все остальные характерные детали этого процесса.
Я рассмотрю их коротко. Обряд инициации как переход индивида из од­
ного статуса в другой всегда сопровождается более или менее длитель­
ным одиночеством и молчанием110. Одиночество и неразговорчивость
Раскольникова подчеркиваются неоднократно. Еще на первой странице
говорится: «Он до того углубился в себя и уединился от всех, что боялся
даже всякой встречи» [6: 5]. «Раскольников не привык к толпе ... устал
от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуж­
дения» [Там же: 11]. «Он решительно ушел от всех» [Там же: 25]. «Ни в
общих сходках, ни в разговорах, ни в забавах, ни в чем он как-то не при­
нимал участия» [Там же: 43] и т. д.
Другой важный элемент — обязательная внешняя неряшливость —
как тела, так и одежды111: «Трудно было более опуститься и обнеряшиться» [Там же: 25]. «Он был до того худо одет, что иной, даже и привычный
человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу ...
он менее всего совестился своих лохмотьев на улице» [Там же: 6].
В процессе посвящения указанные требования глубоко символичны.
С одной стороны, они подчеркивают социальную маргинальность ин­
дивида (отсутствие статуса, имущества — одежда, указывающая на его
место и роль), а с другой — дают неофиту временную «невидимость»:
«Тут нужно быть как можно неприметнее», — думает Раскольников про
себя [Там же: 7]. Невидимость является символом утерянной самодоста­
точности, временной смерти (маркирует это и неоднократное упомина­
ние о комнате Раскольникова как о гробе) перед «получением» новой
души после воскрешения. Отсюда вытекает и запрет на смех (Раскольни­
ков почти не смеется), так как смех противоположен смерти как новому
рождению [см.: Пропп, 1976: 185].
Завершающим этапом инициации считается омовение и переодева­
ние, т. е. приобретение сакральной чистоты, которая «отличалась бы от
повседневного» [Стойнев, 1988: 48]. Подобным образом описано пере­
одевание Раскольникова в чистую одежду, «а то, пожалуй, — говорит Разумихин, — болезнь в рубашке-то только теперь и сидит» [6: 102]. Сразу
после этого эпизода перемена в Раскольникове становится очевидной:
«Его почему-то тянуло со всеми заговаривать» [Там же: 122]. Появляются
первые признаки раскаяния — мысль о самоубийстве, то, что он открыто
говорит Заметову о совершенном убийстве, то, что почти готов пойти и
признаться и др. Внешние перемены, однако, будто исчезают здесь. В не­
котором смысле они оказываются фальшивыми и в наилучшем случае
являются формальным маркером значительно более глубокого и слож217
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
ного внутреннего процесса. Новая «социализация» Раскольникова безус­
пешна. Причины же ее исключительно важны.
Весь процесс инициации, показанный в «Преступлении и наказа­
нии», хотя и совершившийся «по правилам», очевидно несет приметы
чего-то особо нездорового, искусственного — чего-то «нерусского». Это
весьма существенно для понимания содержательно-смысловой направ­
ленности произведения. Первое, что сразу бросается в глаза, — это заме­
на «естественного» «искусственным». Известно, что обряд посвящения
совершается обязательно в лесу. В романе это требование формально
соблюдено. Место (родной город), из которого приходит Раскольников,
открыто, «как на ладони, кругом ни ветлы». Формальным субститутом
естественного леса при инициации героя становится Петербург — ис­
кусственный «каменный лес» города. Вместо деревьев — «громадные,
теснящие и давящие дома» [Там же: 45]. По своей сути акт посвящения
протекает в урбанизированной цивилизованной среде, притом не просто
где-нибудь, а именно в Петербурге — «самом отвлеченном и умышлен­
ном городе на всем земном шаре» [5: 101]. Человек из подполья находит
наиболее точное слово — «умышленный», т. е. искусственно созданный,
придуманный город — город, который мог родиться только из малоценности бессмысленного амбициозного стремления к Европе. Петер­
бург— самый европейский, а, значит, и самый нерусский город. Пос­
тавить героя в этот «европейский» контест для Достоевского особенно
важно. Для писателя Петербург превращается в символ чего-то чужого,
имплантированного в живую ткань России, в место контакта с Западом,
становится проводником «ядовитых», чуждых русскому сознанию идей.
В большой степени для Достоевского эти новые идеи — не что иное, как
языческие и мифологические представления, облаченные гуманистичес­
ким образом мышления в современную рационально-индивидуалисти­
ческую оболочку. Именно в Петербурге они заражают ум Раскольникова,
что приводит к глубоким противоречиям с не изменившейся его внутрен­
ней духовной сущностью, потому что у Раскольникова поражен ум, а не
сердце, и это объясняет неадекватность его мышления поведению. В свя­
зи с этим становится понятной перемена внешнего атрибута одежды ге­
роя — такая знаменательная подробность, как «перемена шляп». Перед
убийством Раскольников ходит в особой шляпе — «циммермановской»,
или, как определяет ее пьяный прохожий, «немецкой». Кроме того, что
«никто таких не носит» (герой выделяется), она ярко контрастирует и со
всей одеждой. «К моим лохмотьям непременно нужна фуражка», — ду­
мает он, таким образом наблюдается особое маркирование головы, «от218
I л а на 2 • Экзегетические примечания к связи с доминантной системой романов Пятикнижия
деление» ума от сердца. Странное разностилие в одежде героя отражает
глубокое его идейное -замешательство. После убийства и ритуального
переодевания Раскольников ходит уже в обычной русской фуражке. Это
формальная примета, намечающая его будущее духовное выздоровле­
ние («подчинение» ума сердцу). Особо глубокий смысл несет тот факт,
что первый сон-откровение герой видит в естественной природной сре­
де (лес на Петровском острове), вне искусственного урбанистического
мира. Воздействие современной цивилизации (о которой сам Достоев­
ский говорит: «...цивилизация странная, неестественная и несамобыт­
ная» [29, кн. 1: 260-261]), губительно для Раскольникова. Она оказыва­
ется внешней, искусственной и чуждой внутреннему, естественному и
исконному в герое. Сон помогает Раскольникову прикоснуться к истин­
ной своей нравственной духовной сущности, но не в состоянии возро­
дить его, так как содержащееся в нем послание остается принципиально
непонятным для его больного сознания, более того — оно переворачива­
ется, деформируется и наполняется совершенно иным значением. Благо­
творное воздействие сна недолговечно, как недолговечен и выход героя
в периферийную область цивилизации. «Проходя через мост, он тихо и
спокойно смотрел на Неву ... он даже не ощущал в себе усталости. Точно
нарыв на сердце его, нарывавший весь месяц, вдруг прорвался. Свобода,
свобода! От свободен теперь от этих чар, от колдовства, обаяния, от на­
важдения!» [6: 50]. С возвращением Раскольникова в урбанизированный
центр (цивилизацию), однако, кризис еще более углубляется, и приходит
очередь второму сну, генетически связанному с первым и дающему ключ
к его разгадыванию.
Я попытаюсь снова проанализировать содержательный уровень
первого сна, но уже с точки зрения измененного, деформированного и
больного сознания Раскольникова. Чтобы правильно истолковать значе­
ние жестокой сцены убийства лошади, которая является семантическом
ядром сна, ее надо связать с многозначным символом, постоянно, под­
черкнуто присутствующим в романе и выраженным при помощи образа,
о котором я уже упоминал, — образа заходящего солнца.
Нет ни одной сцены, в особенности до третьего сна Раскольникова, в
которой этот образ бы не встречался. Странно то, что слишком мало ис­
следователей обращает на него внимание, и еще менее тех, кто придавал
ему особое значение в связи с толкованием содержательного пласта'12.
Какую символику в конкретном случае мог бы нести этот образ?
219
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
Во-первых, надо сказать, что «заходящее солнце» не имеет ничего
общего с обыкновенным, чисто бытийным присутствием солнца как ас­
трального объекта.
Во-вторых, до самого конца романа всегда подчеркивается момент
«заходящего», а не «восходящего» или «стоящего» в зените солнца.
В-третьих, связь с этим образом никогда не возникает в случайных
ситуационных, а только в роковых для героя моментах. В «Преступлении
и наказании» есть пять замечательных картин заката солнца, соответству­
ющих пяти важным моментам в развертывании драматического сюжета.
В-четвертых, отношение героя всегда активно — слова «тихо и спо­
койно смотрел», «машинально подумал», «вспомнил» и т. д. сказаны в
связи с появлением «лучей заходящего солнца».
Очевидно, этот образ-символ прямым образом связан с внутренним
миром Раскольникова. Более того, как уже подчеркивалось, он в большой
степени является ключом к этому миру. Без выяснения его адекватного
значения многое в герое осталось бы в сфере загадки и, следовательно,
подверглось бы релятивному истолкованию. Солнце как культурно-ис­
торическая мифологема с многообъемными семантическими функциями
исключает любую возможность предоления произвола при критическом
анализе. Поэтому, чтобы избежать подобной опасности, нужно найти
такое место в тексте, где бы оно недвусмысленно проявило (хотя бы в
закодированном виде) свое основное смысловое значение. Таким местом
в тексте романа является только второй сон Раскольникова. Видение
это следует непосредственно за первым страшным сном и предшест­
вует убийству старухи. Своим спокойствием оно ярко контрастирует с
первым сном и является его контрапунктом. Раскольникова посещают
«странные видения». Чаще всего это оазис в египетской пустыне, «ка­
раван отдыхает, смирно лежат верблюды; кругом пальмы растут целым
кругом; все обедают. Он же все пьет воду, прямо из ручья, который тут
же, у бока, течет и журчит» [Там же: 56]. По своему идейному содержа­
нию этот сон идентичен снам Ставрогина и Версилова. Все три сна сим­
волически представляют первый день «золотого века» человечества. Они
сходны даже по своей образности. Ключевые элементы во втором сне
Раскольникова («лазурная вода», «камни») и во сне Ставрогина (и Верси­
лова) («синие волны», «скалы») со своей почти идентичной образностью
и расположением в нюансированном контексте являются носителями ав­
торской идеи. Бесспорное доказательство того, что во сне Раскольникова
Достоевский воссоздает в образно-символическом виде идею о «золотом
веке», мы обнаруживаем в черновиках к роману «Преступление и нака220
[ i а в а 2 • Экзегетические
примечания
в связи с доминантной
системой романов
Пятикнижия
зание». Там буквально записано: «"О, зачем не все в счастьи?" Картина
золотого века. Она уже носится в умах и в сердцах. Как ей не настать»
[7: 91]. Доказать наличие субстанциальной связи этого видения со снами
Ставрогина и Версилова очень важно.
Ранее уже шла речь о том, что для Достовеского «новые» западные
социальные идеи по своей сути были не чем иным, как реставрацией
старых языческих представлений в современной оболочке. Типичным
примером в этом отношении может послужить идея о «золотом веке»,
воплотившая в себе мечту о всеобщем социальном счастье. В связи с
этим вряд ли случаен тот факт, что и Ставрогин, и Версилов видят свои
сны не в России, а в каком-то незначительном немецком городке в центре
Европы, а Раскольников — в урбанизированном по западному образцу
«каменном лесу» города. По своей сути эти сны реставрируют чистое
мифологическое представление и являются образной рефлексией спе­
цифического языческого мышления героев. Как справедливо отмечает
К. Юнг, «ориентирование вспять есть уже само по себе пережиток анти­
чного мышления; известно, что характерной чертой античного и варварс­
кого образа мыслей является предположение, будто плохой современнос­
ти предшествовал золотой век и райское состояние» [Юнг, 1990: 637].
Определенно можно сказать, что второй сон Раскольникова является
верным доказательством ориентации его сознания к сфере язычески-ми­
фологического. И если основной смысловой акцент во сне Ставрогина
(а также Версилова) падает на солнце (точнее, на «косые лучи заходяще­
го солнца»), то насколько ярче следовало бы быть этому символу во вто­
ром сне Раскольникова, там, где о нем прямо не упоминается, но сущес­
твует образ пустыни — основного субститута, воплощения и царства
солнца. Пустыня — его прямой выразитель и буквальный аналог. Она
здесь маркер не только «первого ... и последнего дня европейского чело­
вечества», но символизирует что-то более существенное — последнюю
ступень языческо-мифологической теократии. В ставрогинско-версиловском сне это выражено совершенно прозрачно. О «золотом веке» сказано
буквально следующее: «...боги сходили с небес и роднились с людьми
... Солнце обливало их... светом, радуясь на своих прекрасных детей».
Это «дети» европейского человечества три тысячи лет назад, но также и
сегодняшние «дети» — прежде всего те, которым все еще снится «мечта
самая невероятная из всех, какие были» [13: 375]. Более того, именно
они будут жертвами «последнего дня». Закат могущественного язычес­
кого бога вызывает в их душах апокалиптический ужас — бог призывает
«своих» детей. Раскольников находится полностью в его власти. Пустыня
221
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
(царство солнца) — единственное место, где герой счастлив. Действи­
тельность непрерывно опровергает, рушит любые иллюзии — делает
языческие грезы невозможными.
Для дальнейшего хода анализа важно уточнить еще кое-что. В кон­
тексте мифологического мышления бог-Солнце постоянно выражается
образной символикой лошади. Этот символ возникает с утверждением
представления о лошади как посреднике между двумя мирами — появ­
ляется устойчивый образ солнца как огненной коляски, запряженной ло­
шадьми.
Вернемся теперь к первому сну Раскольникова. В контексте мифо­
логического мышления, завладевшего сознанием героя, становится по­
нятным смысл жестокой сцены убийства лошади. Для Раскольникова она
несет значение посягательства на все доброе и справедливое, олицетво­
рением которого являются древние языческие века. Здесь, однако, надо
припомнить существенную подробность. Замещение бога-Солнца обра­
зом лошади в мифологической практике — обычная процедура. «Лег­
ко представить себе, что конь как посредник между небом и землей мог
быть наделен признаками неба» [Пропп, 1986: 179], следовательно, изде­
вательство толпы над лошадью в данном случае воспринимается боль­
ным сознанием Раскольникова как знак прямого посягательства на богаСолнце, так как лошадь является его особым субститутом. Он берет на
себя риск восстановить утерянную гармонию в обществе при помощи
обдуманного отмеренного насилия.
И если в «Бесах» насильное возвращение «золотого века» задумано
как коллективный, организованный заговор («пятерки» Петра Верховенского), то Раскольников решает совершить это один, методом индивиду­
ального террора. Надо подчеркнуть, что он именно принимает, будто в
ответ на могущественное требование языческого бога: «точно так же
как каждый человек на луч солнца отзывается» — буквально записано
в черновиках к роману [7: 202]. Да, слишком странны отношения между
солнцем и Раскольниковым. Как правильно отметил В. Топоров, герой
находится под его стихией [Топоров, 1973: 238]. Надо, однако, подчерк­
нуть точнее, что это не безличная стихия — Раскольников словно угады­
вает «настроение» и «волю» его. Как огромный «огненный глаз»113, оно
внимательно следит за каждым его действием. Нам может показаться,
что Раскольников — только безличное орудие Божественной воли. Чтото наподобие этого даже прослеживается в одном из планов: «Чего ж
мне бояться? Я — кирпич, который упал старухе на голову; я — леса,
которые над ней обвалились» [7: J28]. Принять, однако, подобную край222
Глава 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
ность означало бы вступить в противоречие с окончательным решением
и духом романа. Очевидно, в Раскольникове совершается параллельно
противоположный процесс сверхличностного утверждения, который, с
одной стороны, связан с глубокими историческими пластами славянской
языческой традиции114, а с другой — с современными социальными иде­
ями. Слияние этих двух тенденциий ведет к обожествлению чеювека.
В «Бесах» этот процесс ясно выражен в словах Петра Верховенского:
«Раскачка такая пойдет, какой еще мир не видал... Затуманится Русь, за­
плачет земля по старым богам... Ну-с, тут-то мы и пустим... Кого? <.. .>
Ивана-Царевича ... Ивана-Царевича; вас, вас!» [10: 325]. В связи с этим
становятся понятными многие места в романе, где он сравнивает князя с
солнцем. «Вы свет и солнце», — говорит юный Верховенский Ставрогину. Крайний этап, следовательно, — не просто обожествление Ставрогина, а превращение его именно в новое солнце; по своей сути это акт, за­
меняющий верховного языческого бога человеческим идолом, несущим
«новый правый закон» [Там же: 326]. В «Преступлении и наказании»
показан сверхиндивидуалистический процесс самообожествления, по­
рожденный глубинным мифологическим рефлексом. Он переплетается
со славянской языческой традицией, которая всегда проявлялась актив­
но, даже после принятия христианства115.
Действительно, сцена убийства старухи-ростовщицы полна ряда
знаменательных подробностей, которые недвусмысленно говорят в поль­
зу тезиса, что речь идет о «чисто» выполненном ритуальном убийстве.
Первое. Образ старухи ясно показан как священноопасный символ,
вобравший в себя сконцентрированное социальное зло. Разумеется, ис­
толковать его основную функцию (ростовщичество) как отвратительней­
шую язву, разъедающую (наряду с алкоголизмом) общество, — процеду­
ра, хотя и правильная в принципе, но слишком прямолинейная; она опе­
рирует ясно эксплицированными поверхностными знаковыми пластами.
Эти пласты — современный социальный рефлекс глубинных структур,
которые бегло, но недвусмысленно подсказаны системой символических
элементов. Читая, например, предельно сжатое внешнее описание ста­
рухи, мы обнаруживаем единственное сравнение, которое несет ключ к
тайне. Понимаем, кто в действительности эта кашляющая и кряхтящая
«крошечная сухая старушонка лет шестидесяти, с вострыми и злыми
глазками, с маленьким вострым носом», «белобрысые, мало поседевшие
волосы» которой «жирно смазаны маслом», а на плечах «несмотря на
жару» болтается «истрепанная и пожелтелая меховая кацавейка». А вот и
ключевое предложение: «На ее тонкой и длинной шее, похожей на кури223
Часть
3 • Полпика и герменевтика
Пятикнижия
Hvto ногу, было наверчено какое-то фланелевое тряпье» [6: 8]. Это единст­
венный элемент, который категорически отсылает нас к другому образу,
ничего общего не имеющему с сиюминутным, случайно-бытийным. Здесь
очевидно работает в чистом виде сформулированный В. Проппом «закон
редукции», согласно которому один элемент становится носителем «пол­
ной формы». «Основная русская модель жилища Бабы Яги,— пишет
он, — дом на курьей ножке или ножках» [Пропп, 1976: 162]. В данном
случае основной атрибут Ягиного дома («курья ножка») выполняет роль
основного «маркера» для обитателя, так как оба образа неразделимы (как
метла от ведьмы) и предполагают друг друга.
Вторая главная особенность — пространство, где обитает Яга.
Я выше сказал, что инициация героя совершается в Петербурге, но в этом
«каменном лесу» есть специфически значимые зоны. Вот что говорит о
них герой «Белый ночей»: «.. .есть в Петербурге довольно странные угол­
ки. В эти места как будто не заглядывает то же солнце ... а заглядывает
какое-то другое ... и светит на все иным, особенным светом. В этих уг­
лах ... выживается как будто совсем другая жизнь ... такая, которая может
быть в тридесятом неведомом царстве, а не у нас» [2: 112]. Очевидно,
в «Преступлении и наказании» речь идет именно о таком месте, странно
освещенном «заходящим солнцем»: «И тогда, стало быть, так же будет
солнце светить!..» — как-то «случайно» мелькает в сознании Раскольникова. В фольклорно-мифологической традиции сказочное «неведомое
царство» прямым образом связано с Ягой. Она хранительница его золо­
тых сокровищ. «Все, что сколько-нибудь связано с тридесятым царством,
может принимать золотую окраску ... может оказаться правильным и в
обратном порядке: все, что окрашено в золотой цвет, этим самым выдает
свою принадлежность к иному царству» [Пропп, 1986: 285]. В нашем
случае не вызывает сомнения, что речь идет именно о мифологическом
образе Яги. Но, как подчеркивает Пропп, по ряду своих особенностей,
как то: происхождение (хтонизм), функции (хранительница сокровища
«тридевятого царства»), обиталище (лес) и т. д. — Яга сходна со змеем116.
Их близость особенно ярко проявляется как раз в процессе инициации,
где они выполняют ту же функцию — поглощают героя. Сходство Яги
со змеем исключительно важно для нашего анализа из-за глобализации
последней функции, когда поглощаются не люди, а солнце117 [см.: Пропп,
1986: 267]. Следовательно, как субститут змея Яга становится священноопасной прямо для бога-Солнца, и она должна быть убита.
Существует и другая важная особенность. Как я уже отметил, Баба
Яга
хранительница сокровища (золота). Но золото синонимично сол224
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
нцу. Золотые предметы, связанные с «тридевятым царством», — это сол­
нечные предметы с волшебными свойствами [см.: Пропп, 1986: 285].
В связи с этим не случайно, что старуха-ростовщица в романе Достоев­
ского ходит в «пожелтелой кацавейке» и что вообще желтый цвет (при­
зрачный цвет золота) доминирует в «Преступлении и наказании».
Не в последнюю очередь ритуальный характер убийства подчер­
кивается присутствием «заходящего солнца», лучи которого озаряют
ужасающую сцену, придавая этому акту точно определенный смысл —
убийство превращается в астральное жертвоприношение во имя богаСолнца.
Я, однако, уже говорил, что было бы неоправданным говорить о пол­
ной зависимости героя от Божественной воли. В конечном счете возмез­
дие за жертву лошади (сцена из первого сна Раскольникова) как мотив
для убийства — это только основание, на котором строится крайне ин­
дивидуалистический акт самоутверждения. Эта особенность, однако, не
принижает ритуального характера совершенного убийства — не превра­
щает его в случайное субъективно-бытийное проявление. Здесь наблю­
дается значительно более существенная замена целей. Можно предпо­
ложить, что, убивая старуху, герой стремится не просто к возмездию, а к
присвоению волшебных предметов (золота), которые сразу дали бы ему
неограниченную личную власть, превращая его в законодателя. «В его
образе, — записал Достоевский в черновиках, — выражается в романе
мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу.
Его идея: взять во власть это общество. Деспотизм — его черта» (курсив
автора. —И. Н.)[1\ 155]. Но и это не объясняет полностью совершенного
Раскольниковым — это не предел его идеи. Деньги, даже власть, слиш­
ком снижают, ограничивают ее. Нет, здесь мы имеем дело с чем-то дру­
гим, значительно более существенным, что обнаруживается в его словах:
«...я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одно­
го]» [6: 321]. Жестокая истина — Раскольников хочет совершить «чис­
тое» убийство, не обремененное никакими причинами, «совершенное»
Божественное действие: «Слушай: когда я тогда к старухе ходил, я толь­
ко попробовать сходил», — говорит он Соне [Там же: 322]. Раскольников
«осмеливается» «перешагнуть» через границу между дозволенным и не­
дозволенным, что по своей сути является не только дублированием акта,
но и буквальным замещением Божественного человеческим.
В контексте славянского мифологического мышления Раскольников
ближе всего к «имитированию» верховного языческого божества — Пе­
руна. Прокопий из Кесарии пишет, что славяне верили, что есть только
225
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
один верховный бог, творец молний и господин всего, и ему приносили
в жертву быков и совершали другие священные обряды [Прокопий из
Кесарии, 1950:297].
Близость героя к верховному славянскому богу подсказана Достоев­
ским в трех планах: атрибутивном, ассоциативном и функциональном.
Лошадь — постоянный атрибут Перуна11К. В русской традиции глу­
бокая личная связь, которая устанавливается между ребенком и лошадью
(следствие никогда не отмирающего полностью мифологического миро­
ощущения), создает прецедент откровенно языческих представлений. Это
открыто выражено Достоевским в «Братьях Карамазовых» фразой, кото­
рая звучала бы странно в другом контексте: «А уж известно, что русский
мальчик так и родится вместе с лошадкой» [14:189]. Наиболее драматичен
в этом смысле первый сон Раскольникова. Его можно рассматривать как
глубокий архетипический мотив для убийства старухи, так как в ее обра­
зе обобщена потерявшая свой нравственный облик освирепевшая толпа,
не верующая ни в языческого, ни в христианского бога. Здесь уместно
припомнить религиозную глубоко мистическую связь лошади и героя в
мифологическом сюжете. В доисторические времена лошадь символизи­
ровала «птицу» и таким образом семантически была связана с «небом».
С этим связана и метаморфоза «крылатая лошадь», главный помощник
героя, который одновременно с тем персонифицирует его способности.
Часто даже «герой превращается в коня» [Пропп, 1986: 167-168]. При­
помним, сколько раз в «Преступлении и наказании» подчеркивается эта
связь Раскольникова с лошадью. Глубоко мистическим образом именно
лошадь в «Преступлении и наказании» является причиной и в некото­
ром смысле средством перехода героя в пределы сказочного царства и
встречи с Ягой. Атрибутивная связь Раскольникова с лошадью по своему
характеру подобна связи бога-воина Перуна с конем.
Вторая деталь, которая подсказывает близость героя к языческому
богу, — это орудие совершения убийства. Топор — основной символ
и атрибут Перуна119, и в древнерусской христианской традиции он оп­
ределяется как «богомерзкая вещь» [МНМ, 2: 306-307]. Раскольников
не случайно выбирает именно его для совершения убийства. С одной
стороны, топор подчеркивает ритуальный характер убийства (впрочем,
сам Раскольников убежден, что совершенное им — «не преступление»
[6: 59]), а с другой, как священное языческое оружие он дает ему до­
полнительные силы: «О том, что дело надо сделать топором, решено им
было уже давно ... на нож и особенно на свои силы он не надеялся, а по­
тому и остановился на топоре окончательно» [Там же: 57]. И в другом
226
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания к связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
месте: «...как только раз он опустил топор, тут и родилась в нем сила»
[6: 63]. Тесная его связь со священным атрибутом подсказана даже на
визуальном уровне тройным повторением первой буквы самого имени
героя — Родион Романович Раскольников — иконический образ кото­
рой ассоциативно напоминает силуэт топора. Впрочем, сходным обра­
зом построена и звуковая ассоциация в именах языческого бога и героя
Достоевского. Имя Перуна как бога борьбы, бури и грома связывается
со словами точно определенного семантического порядка: «ударить»,
«разорвать» и т. п. Сходную звуковую картину рисует и фамилия Рас­
кольников: «разделить», «расколоть», «разрезать» и т. п. Вышеуказанная
особенность дополнительно подчеркивает роль обоих персонажей. Не в
последнюю очередь надо упомянуть, что между героем Достоевского и
языческим Перуном существует функциональная близость. Я уже сказал,
что мифологическим прототипом старухи-ростовщицы является Яга, и
ее убийство символизирует устранение основного противника Солнца
(так как Яга — алломорфное соответствие Змея, поглощающего Солн­
це). В древнеславянском язычестве, однако, основная функция Перуна,
бога грома, — также змееборство, победа над хтоническим существом,
главным противником Солнца.
Таким образом, через имитацию Раскольников на самом деле дуб­
лирует основные параметры языческого первобожества славянского ми­
фологического пантеона. По своей сути, однако, этот акт обожествления
является изменой по отношению ко всему религиозно-языческому комп­
лексу — Раскольников остается практически один. Сознательно взяв на
себя риск, герой оказывается не способен выдержать такую тяжесть. Вы­
ходит, что он обыкновенный человек, а не бог.
Глубокий внутренний надрыв особенно ясно выражен в третьем сне
Раскольникова. Он является ключевым, «срединным» не только по своим
формальным приметам, но и по внутренним духовным измерениям. Если
ритуальное переодевание, так сказать, формально «маркирует» внешний
заключительный этап посвящения, то третье сновидение Раскольнико­
ва знаменует границу настоящей внутренней духовной перемены. И это
ясно показано всей образной символикой. Третье сновидение дублиру­
ет основное действие романа — сцену убийства старухи. Оно является
почти полной копией этой сцены, однако с обратным значением. В кон­
тексте антропологии Достоевского это несет особый субстанциональный
смысл.
В начале работы уже шла речь о том, что в сновидении телесная ак­
тивность заменена активностью духа. Еще на этом уровне начинается
227
Часть
3 • IhnimiKa и герменевтики
Пятикнижия
глобальное противопоставление обеих сцен, в результате которого обра­
зуются бинарные оппозиции на уровне отдельных элементов. Важней­
шим идеологическим изменением, наступившим во сне, является замена
астральных объектов. Небольшая комната, «ярко освещенная заходящим
солнцем», в сцене фактического убийства во сне уже «ярко облита лун­
ным светом». Солнце отступило, и его место занял «огромный, круглый
медно-красный месяц», смотрящий прямо в окно [Там же: 213]. С ре­
лигиозно-мифологической точки зрения это фундаментальная перемена.
Луна и солнце — несовместимые, противоположные в своих основных
характеристиках астральные божества, причем первый член оппозиции
чаще всего отрицателен, притом в такой степени, что месяц выступает
также противником бога-громовержца Перуна, который рассекает его
наполовину120. Торжественная победа луны над солнцем в третьем сне
Раскольникова показана недвусмысленно. Она «огромна», «кругла» — ее
полнота величественна и не затронута топором змееборца. Мистический
ужас наводит образ смеющейся старухи, и чем чаще и яростнее удары
топора, тем смех становится неудержимее — как символ вечно возрожда­
ющегося идола (опять же не случайно сравнение — «точно деревянная»)
бессмертного зла. Потому что в бесконечном мифологическом цикле, у
которого нет ни начала, ни конца, а только вечное возвращение, пробле­
мы жизни и смерти, добра и зла никогда не могут найти окончательного
решения. Таким образом раскрывается вся абсурдность совершенного
Раскольниковым121. Совершенный им акт оказывается убийством только
одной вредной, но обыкновенного, жалкой и бесполезной старухи. Экспе­
римент человекообожествления, очевидно, безуспешен и бессилен оста­
новить ход «заходящего солнца» — языческий бог уже окончательно пог­
лощен змеем, и его возвращение к жизни несоизмеримо с человеческими
усилиями. Мифический «золотой век» невозвратимо канул в прошлое,
а в будущем он возможен только в виде непостижимых грез. В этом кон­
тексте становятся понятными мысли Раскольникова непосредственно
перед сном: «Старуха была только болезнь... я переступить поскорее
хотел... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а пе­
реступить-то не переступил, на этой стороне остался...» [Там же: 211].
Имитированное ритуальное убийство, посвященное солнечному культу,
фактически оказывается жертвоприношением с обратным знаком. Вмес­
то убийства демонической старухи Раскольников совершает свое собс­
твенное идейное убийство и из хищника превращается в жертву. «Разве
я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и
ухлопал себя, навеки!» [Там же: 322]122.
228
j i а н а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
Содержательный анализ снов, рассматриваемых в плане историкомпфологического, хотя и строит безупречную систему, все же не в состо­
янии дать ответа на ряд концептуальных вопросов. В некотором смысле
он (как, впрочем, и социальный анализ) оказывается паллиативным реше­
нием, так как не способен достичь необходимой чистоты экзегетичес­
кого анализа сновидений, которая позволила бы действительно прикос­
нуться к глубинному духовному содержанию этих «последних» ступеней
метафизической лестницы человеческого духа. Поэтому как буквальное,
гак и историческое истолкование — только начальные ступени к апагоги­
ческому толкованию, постигающему иной смысловой уровень.
Вернемся к первому сну Раскольникова. В контексте диалектичес­
кой антиномии «сердечное — рассудочное» (основной для антропологии
Достоевского) генезис сновидения, несомненно, восходит к области пер­
вого элемента оппозиции. На это неоднократно указывается в тексте вы­
ражениями вроде «а ему так жалко». Особо подчеркивается воздействие
видения: «точно нарыв на сердце его... вдруг прорвался». Для анагогического уровня анализа, однако, весьма важно и другое — после сновиде­
ния, например, отношение Раскольникова к солнцу очевидно изменилось:
он «тихо и спокойно» смотрит на «яркий закат яркого, красного солнца».
Имея в виду весь социально-мифологический комплекс значений этого
образа-символа, мы можем понять смысл следующей фразы: «Он теперь
свободен от этих чар, от колдовства, обаяния, от наваждения!» В транс­
цендентальном акте сновидения (как имманентного импульса из глубин
души, в самой сокровенной области которой есть «небо», аналогичное
трансцендентному, а не как откровения, исходящего из метафизических
сегментов небесной иерархии) Раскольников соприкасается с чистыми
духовными сущностями (из сверхчувственной «сердечной» сферы), ко­
торые не только противопоставляются, но и выталкивают чужой им
идейный комплекс (продукт разумно-рассудочного). Процесс этот ясен.
Сам по себе, однако, он не в состоянии дать ответа на следующий (воз­
никающий в очередной раз) вопрос: почему же все-таки Раскольников
совершает преступление? Почему, получив внутреннее предупреждение,
он вопреки всему осуществляет задуманное?
Из вышесказанного выяснилось, что в романе в той или другой фор­
ме отрицаются все мотивы убийства. Остается последнее объяснение:
герой желает чисто божественного действия без прямой выгоды (только
«переступить», «осмелиться»). Но и это объяснение неубедительно. Бо­
лее того — его абсурдность прекрасно понимает сам Раскольников, и это
неоднократно подчеркивается в тексте: «...и как смел я, зная себя, пред229
Часть
3 • Поэтика
и герменевтика
Пятикнижия
чувствуя себя, брать топор и кровавиться! Я обязан был заранее знать...
Э! да ведь я же заранее и знал!..» [6: 210] (курсив автора. — И. И.) . Сле­
довательно, герой заранее знает, что не способен на божественный акт,
и это автоматически обессмысливает его совершение. «И неужели ты
думаешь, — говорит он Соне, — что я как дурак пошел ... что я не знал,
например, хоть того ... что если задаю вопрос: вошь ли человек? — то,
стало быть, уж не вошь человек для меня» [Там же: 321]. Таким образом,
мы опять встаем перед тем же вопросом: почему он убил? Почему «пе­
реступил», притом именно после глубокого очищения, после духовного
катарсиса, после радостного облегчения, после слов, что теперь он «сво­
боден» от «этого страшного бремени», после того как ему стало предель­
но ясно, что «не решится», что «не выдержит», после горячей молитвы:
«Господи! ... покажи мне путь мой, я отрекаюсь от этой проклятой...
мечты моей!» Приходит и роковой вопрос: почему так недолговечно воз­
действие первого сна-откровения? Очевидно, что-то точно определен­
ное опять произошло после этого сна. Какая-то загадка, объясняющая
все. И она категорически подчеркивается два раза в тексте. Это, навер­
ное, наиболее загадочные и мистические места во всем романе.
Первое следует непосредственно, буквально на следующей страни­
це после сна. «Одно обстоятельство», которое, как говорится о герое, «до
суеверия поражало всегда» и которое «он никак не мог понять и объ­
яснить себе», связано «с очевидным и совершенно ненужным» крюком,
который он делает по пути домой. «Но зачем же, спрашивал он всегда,
зачем же такая важная, такая решительная для него ... встреча ... подош­
ла как раз теперь к такому часу ... к такому настроению его духа ... при
которых только и могла она, эта встреча, произвести самое решительное
и самое окончательное действие на всю судьбу его?» [Там же: 50-51].
Второе загадочное место связано также с роковой встречей и разго­
вором, которые описаны в романе непосредственно после указанной
выше сцены, хотя предшествуют ей во времени и несут для Раскольникова фатальные последствия. Речь идет об услышанном им разговоре меж­
ду студентом и офицером в кабаке, куда он заходит сразу после встречи
со старухой. Сам по себе это совершенно «незначительный» разговор,
один из многих «самых обыкновенных и самых частых ... молодых раз­
говоров». Раскольников, однако, «в чрезвычайном волнении». Он удив­
лен следующим фактом: «...почему именно сейчас, как только он вынес
зародыш своей мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о
старухе?.. Странным всегда казалось ему это совпадение» [Там же: 55].
Автор замечает, что «обстоятельство» встречи с Лизаветой на Сенной
230
Глава
2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
«не очень необычайное», как, впрочем, нет ничего необыкновенного в
услышанном банальном разговоре. Но это неважно. Привлекает внима­
ние другое — отсутствует случайность. Даже наоборот — неоднократ­
но и недвусмысленно намекается на какое-то внутреннее вмешатель­
ство, проявление чьей-то воли в отношении героя. Вот как Раскольников
ощущает это чужое присутствие при первой встрече: «Впоследствии,
когда он припоминал ... все, что случилось с ним ... его до суеверия по­
ражало всегда одно обстоятельство ... которое постоянно казалось ему
потом как бы каким-то предопределением судьбы его». И важнее всего то,
что эта встреча «точно тут нарочно поджидала его!» [6: 50-51]. Непос­
редственно перед сценой с услышанным в кабаке разговором о Раскольникове говорится: «И во всем этом деле он всегда потом наклонен был
видеть некоторую как бы странность, таинственность, как бы присутс­
твие каких-то особых влияний и совпадений» [Там же: 52]. Более того —
насчет «незначительного» разговора подчеркивается, что «как будто
действительно было тут какое-то предопределение, указание»
[Там же: 55]. Недвусмысленно сказано также: «...но вот он не может от­
вязаться теперь от одного весьма необыкновенного впечатления, а тут
как раз ему как будто кто-то подслуживается» [Там же: 53]. Все это от­
крыто говорит о том, что Раскольников действительно впал во власть и
влияние кого-то. Что произошло на самом деле? Чье это «влияние», кто
этот «кто-то», который ему «помогает»? Подобные места встречаются в
тексте не раз, они даже становятся все категоричнее. Например, порази­
тельный пример с топором. Раскольников абсолютно уверен, что Наста­
сьи на кухне не будет и что топор будет лежать именно там, где он ожи­
дал. Увы — ничто не происходит так, как предвиделось. «Он был пора­
жен ужасно
Тупая, зверская злоба закипела в нем» [Там же: 59].
И вдруг, когда он уже решил, что все безвозвратно потеряно, «из каморки
дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то
блеснуло ему в глаза ... Он бросился стремглав на топор (это был топор)»
[Там же]. Кто-то скажет — случайность! Раскольников, однако, уже догадывется: «"Не рассудок, так бес!" — подумал он, странно усмехаясь»
[Там же: 60]. Дьявольское вмешательство в жизнь Раскольникова — уже
очевидный факт, но даже это не так важно. Важно то, почему герой так
легко поддается дьявольскому внушению. Ведь странная мысль, которая
«наклевывалась из его головы, как из яйца цыпленок» [Там же: 53], — это
та же мысль, которая пришла в голову незнакомому студенту в кабаке,
а наверное, и многим другим, но ни он, ни его друг-офицер не совершают
убийство. Почему поддается именно Раскольников? Соня — его настоя231
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
щее Провидение, она сразу понимает все и догадывается о настоящей
причине: «От Бога вы отошли, и Бог вас поразил, дьяволу предал!»
[Там же: 322]. Разумеется, «отходя» от Бога, герой теряет внутреннюю
духовную опору, впадает под идейное влияние рассудочного — самую
коварную область, где «дважды два — четыре», где нет чувств, нет веры,
а только сухая арифметика «эвклидового разума» — особый дьявольский
периметр, дающий уверенность и силу человеку превратиться в мерную
единицу «всех вещей в мире», жить без Бога. Если Раскольников догады­
вается о чужом присутствии, то другой герой Достоевского — Иван Ка­
рамазов, который впал безнадежно во власть своего «эвклидового разу­
ма» и потерял внутреннюю духовную свободу, уже разговаривает
tete-a-tete с самим дьяволом. Разрыв с Богом, а тем самым и особое пред­
расположение Раскольникова к сатанинскому влиянию не случайны, они
предопределены значительно раньше и выражены не только в фамилии
героя. Для такого автора, как Достоевский, все имеет значение, каждая
подробность несет свой особый смысл. Раскодировка полного имени несвусмысленна: Родион (род, родной, рожденный), Романович (со значе­
нием наследника, князя — аллюзия с династией Романовых) Раскольни­
ков (отщепенец, совершивший раскол с Богом). Следовательно, герой
«Преступления и наказания» — «рожденный — наследник — расколь­
ник», генетически обремененный темным языческим прошлым [о других
нюансах истолкования имени см. также: Бем, 1972: 278; Альтман,
1975: 44; Белов, 1985: 53-55]. Раскольников был ближе всего к христиан­
скому Богу в детстве (припомним слова Достоевского, что дети — «образ
Христов на земле»). Это подчеркивается в первом сне героя символикой
храма: «Среди кладбища каменная церковь с зеленым куполом ... Он лю­
бил эту церковь и старинные в ней образа ... и старого священника с
дрожащею головой». Открытый раскол с Богом происходит значительно
позже в нездоровом климате Петербурга (об этом уже было сказано до­
вольно). Первое сновидение героя приходит после первого открытого
дьявольского искушения (через идею, которая зарождается в его голове)
и непосредственно перед вторым капканом дьявола (встреча Раскольни­
кова с Лизаветой и услышанный в кабаке разговор). Оно является как
последняя возможность, как «сердечное» Божественное предупрежде­
ние. Получив духовное облегчение, герой все же не в состоянии понять
«умом» заложенного во сне значения — более того, он его неправильно
«разгадывает». Поэтому Раскольников и бессилен справиться с новым
испытанием, которое готовят ему злые силы. У него еще нет той внут­
ренней духовной твердости, которая помогла бы ему противостоять иску232
! ii в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижии
тению, и он окончательно впадает в непосредственную власть дьявола.
Достоевский блестяще представляет эту сложную диалектику, полно­
стью основываясь на христианском понимании свободной человеческой
воли. Выбрав зло, душа превращается в рабыню греха и лишается свобо­
ды и воли. Эта христианская идея — одна из ведущих в романе «Пре­
ступление и наказание» и формулируется в своей догматической чистоте
в одном определенном пассаже. И не случайно, что это происходит сразу
после роковой встречи на Сенной (т. е. после второго дьявольского иску­
шения). О Раскольникове говорится буквально следующее: «До его квар­
тиры оставались только несколько шагов. Он вошел к себе, как пригово­
ренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуж­
дать; но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более
ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окончательно»
[6: 52]. Последствия дальнейших действий героя фатальны. Начиная с
этого момента и до убийства в эти драматические минуты и часы практи­
чески нельзя найти хотя бы одного действия Раскольникова, которое
было бы совершено в полном сознании и по свободной воле. Наобо­
рот — все происходит с ним как во сне, механически. Везде просвечива­
ет активная сатанинская «помощь». На каждой странице встречаются
доказательства этого: «он никогда не мог припомнить: думал ли он о чемнибудь в то время?» [Там же: 55], за этим следуют сон о «золотом веке»
[Там же: 56], «растерявшаяся суета» [Там же], указания на то, что «ни­
когда, ни на одно мгновение не мог уверовать в исполнимость своих за­
мыслов» [Там же: 57], «никак не мог он... вообразить себе, что когданибудь он кончит думать, встанет и — просто пойдет туда» [Там же: 58],
«подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то
взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной
силой, без возражений» [Там же], «все вышло совсем не так, а как-то не­
чаянно, даже почти неожиданно» [Там же: 59], «так, верно, те, которых
ведут на казнь...»(сравнивает себя с теми, кого «ведут», с осужденными)
[Там же: 60], «мало того, даже, как нарочно, в это самое мгновение толь­
ко что перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно засло­
нявший его все время» [Там же], «он понять не мог, откуда он взял столь­
ко хитрости, тем более что ум его как бы померкал мгновениями, а тела
своего он почти и не чувствовал на себе» [Там же: 61], «почти машиналь­
но опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было» [Там же: 63],
«в самом деле, точно все это снилось» [Там же: 67], «в полном отчаянии
пошел им прямо навстречу ... и вдруг спасение! ... пустая и настежь от233
Часть
3 • Псптика и герменевтики
Пятикнижия
пертая квартира» [Там же: 69], «он плохо теперь помнил себя» [Там же:
70] и т. д.
По христианским представлениям, тело человека подобно храму,
этим храмом владеет или Св. Дух, или нечистый дух. В Средневековье
существовало верование, что демоны тащили за собой грешников за нос
[см.: Гуревич, 1985: 294]. То же действие совершает и «бес» Ставрогин в
знаменитой сцене романа, где он буквально тащит Павла Павловича Га­
ганова «за нос» [10: 39]. Процесс демонизации («вселения злого духа»)
четко показан в образе Ивана Карамазова, который, в свою очередь, «за­
ражает» Смердякова и интеллектуально «ведет» его к преступлению.
В этом контексте применительно к образу Раскольникова мы действи­
тельно можем говорить о прямом вмешательстве дьявола — своеобраз­
ном «таскании за нос» (или, точнее сказать, «за ум»), причем герой совер­
шенно впадает в его власть. Отдаляясь от Бога (так как человек не может
жить сам собой, не может быть идеалом для самого себя), Раскольников
невольно становится орудием дьявола.
Демоническая линия четко проведена и «закрывает» возможность
других интерпретаций. Это ясно показано в исповеди Раскольникова пе­
ред Соней. Вот ее последовательность. После фразы Сони: «От Бога вы
отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал!..» следуют слова Раскольни­
кова: «Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне все представ­
лялось, это ведь дьявол смущал меня? а?» Чтобы была исключена лю­
бая возможность истолковать эту фразу как глумление, автор включает
реплику Сони, которая именно так и понимает его слова: «Молчите! Не
смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете!» В ответ она
слышит мрачные слова Раскольникова, убедительно отрицающие такое
толкование: «Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что
меня черт тащил, — говорит он мрачно. — Я все знаю» [6: 321]. После
второй «проверяющей» фразы Сони (в смысле, не шутит ли он и в этот
раз, потому что, если он признает существование дьявола, значит, верит
и в Божие бытие и будет спасен), звучат его резкие слова: «Э-эх, Соня! —
вскрикнул он раздражительно... — Я хотел тебе только одно доказать:
что черт-то меня туда потащил» [Там же: 322]. Только после третьей про­
вокационной реплики Сони: «И убили! Убили!», которой она хочет под­
черкнуть, что Раскольников совершил свободное и обдуманное действие,
раскрывающее проявление его личной воли, приходят слова, в которых
содержится болезненная для Раскольникова правда: «Да ведь как убил-то?
Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когданибудь расскажу, как я шел... Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не
234
Г.1 а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
старушонку! <...> А старушонку эту черт убил, а не я...» [Там же]. Как
ни странно, тяжелее всего для Раскольникова именно то, что убил, но не
один, а вместе с дьяволом [см.: Ветловская, 1994: 118]. Еще перед треть­
им сном намекается на отсутствие абсолютного соответствия между фак­
том и истиной о убийстве: «Только и сумел, что убить. Да и того не сумел,
оказывается...» [6: 211]. На каторге Раскольников страдает именно этой
«уязвленной гордостью» [Там же: 416]. «Он стыдился именно того, что
он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и тупо, по какомуто приговору слепой судьбы» [Там же: 417]. Именно здесь он понимает,
что был жестоко обманут, обнаруживает «в себе и в убеждениях своих
глубокую ложь» [Там же: 418]. Именно здесь о нем говорится: «он не по­
нимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего пере­
лома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на
жизнь» [Там же]. Именно здесь его озаряет могущественный в своем кос­
мическом масштабе и трагизме последний апокалиптический сон. В нем
личная драма героя приобрела грандиозные размеры и становится дра­
мой всего человечества. Нашествие «идей» гибельно для мира. Этот сон
Раскольникова представляет в художественной форме тревожные мысли,
записанные самим Достоевским: «...идеи летают в воздухе ... идеи жи­
вут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым;
идеи заразительны» [24: 51]. В нашем мире, по словам Достоевского
(в четвертом сне Раскольникова), идеи — это страшнейшие вирусы, это
«какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в
тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди,
принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшед­
шими» [Там же: 419]. Идеи — это мутировавшая форма тех же демонов
и дьяволов, которые, по средневековым представлениям, считались чемто вроде вирусов, заражающих весь грешный земной мир [см.: Гуревич,
1985: 294].
Именно после четвертого сна у уже «выздоравливающего» после тя­
желой болезни Раскольникова наступает эта перемена, которая в иной
форме угадывается еще в первом видении. О нем говорится: «...он ниче­
го бы и не разрешил теперь сознательно; он только чувствовал. Вместо
диалектики наступила жизнь» [6: 422]. Круг замыкается. Раскольников
возвращается к «сердцу» (со всем комплексом значений, которые несет
лют мистический центр и духовный алтарь антропологического храма),
возвращается из «внешнего» к своему «внутреннему человеку». Долог
путь, огромны духовные пространства, которые герой должен был из­
бродить в себе, в наосе своего духовного храма, чтобы прийти к исти235
Часть
3 • Поэтика и гсрмеиеатика
Пятикнижия
не — ощутить глубокую греховность, скрывающую как пеленой богочеловеческий образ его души. И это окончательное возвращение к себе он
осуществляет в мгновение покаяния.
Я не разделяю мнения некоторых исследователей о том, что Расколь­
ников так и не приходит к покаянию. Против этого утверждения я при­
веду неопровежримое доказательство — очищающую «сердечные очи»
силу плача. Вот последняя сцена романа: «Как это случилось, он и сам
не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее
ногам. Он плакал и обнимал ее колени» [Там же: 421]. Нет более верно­
го признака покаяния, чем плач на коленях (в молитвенной позе) — это
общее место (тулос;) во всей православной аскетике. По этому вопросу
патристика категорична: «Слезы, — говорит святой, — суть первый плод
покаяния» [Симеон Новый Богослов, 1993, 2: 276], «ибо от века не слы­
хано, чтобы без слез очистилась какая-либо душа, согрешившая после
крещения» [Там же: 1: 429]. «Пока не приимет человек сего дарования
(слезы. — Н. #.), — пишет другой святой, — совершается дело его еще
во внешнем только человеке, и еще вовсе не ощутил он действенности
тайн духовного человека ... И это точный признак, что ум исшел из мира
сего, и ощутил оный духовный мир» [Исаак Сирин, 1993: 93]. И что еще
очень существенно: слезы — великий дар Божий; они совершенно очи­
щают ум от памяти о страстях; слезы — залог успеха в духовной бра­
ни. Все это и еще многое другое означают слова Христа: «...блаженны
плачущие, ибо они утешатся» [Мф., 5: 4]. Этот вопрос очень подробно
разработан в святоотеческом учении [см.: Авва Филимон, 1992: 361; Ио­
анн Лествичник, 1994: 76-87; Иоанн Дамаскин, 1992: 283; Нил Сорский,
1991: 58-62 и мн. др.].
Надо иметь в виду указанную выше связь слез с благодатью (сле­
зы— «дар Божий»), чтобы понять некоторые особенности поэтики
«Преступления и наказания». Многие из теоретиков удивляются немо­
тивированному на первый взгляд перелому героя (некоторые совершен­
но не принимают, что такая перемена вообще наступила у Раскольникова [см., например: Мочульский, 1995: 359]). Намекается даже на непос­
редственное вмешательство Достоевского-публициста в «полифоничес­
кий» в целом роман, которое будто бы превращает финал произведения
в «монологический» [см.: Бахтин, 2004: 98-99]. Это совершенно не так,
финал полностью соответствует ортодоксальной логике развития ро­
мана. Дело в том, что покаяние и слезы тесно связаны с благодатью.
Важная примета благодати (греч. гьХоуха — «милость», «дар») состоит
в том, что она дается человеку как дар Божий, независимо от его усилий
236
1л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
или заслуг [см.: ППЭС, 1: 338], а это предполагает неожиданное ее про­
явление. Эта внезапность, неожиданность благодатного воздействия на
Раскольникова особо подчеркивается словами: «...как это случилось, он
и сам не знси, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к
ее ногам». То, что благодать даруется «независимо от заслуг», нисколь­
ко не означает, что спасение не зависит от свободной воли и соучастия
человека. Наоборот — его особо деятельное участие нужно, и это видно
по настоятельным призывам евангельского текста к напряженному под­
вигу [см.: Мф., 7: 72-77; Деян., 14: 9-10; 1 Кор., 9: 24-27; 1 Сол., 1: J;
2 Тим., 2: 5; 4: 7]. В этом смысле понятно, почему роман Достоевского
заканчивается словами: «...новая жизнь ... ее надо еще дорого купить,
заплатить за нее великим, будущим подвигом» [Там же: 422], т. е. на­
пряженным духовным подвижничеством, сдвигающим героя с тленной
точки застоя и Схмерти.
Таким образом, покаяние как доминантный аспект в «Преступлении
и наказании» является той кризисной точкой для агиографического ге­
роя, которая ведет к двум в корне противоположным возможностям. Пер­
вая — «история постепенного обновления» и создания «положительно
прекрасного человека» (роман «Идиот»). Вторая — окончательное отпа­
дение от Бога, замыкание в «подполье» и погружение в безблагодатный
локус преисподней и духовной смерти (роман «Бесы»). На следующих
страницах я рассмотрю первую возможность — ориентацию к небесному
топосу.
2.3. Роман «Идиот» как символическое
выражение доминант: обожение человека,
купол храма и таинство евхаристии
«Идиот», подобно остальным романам Пятикнижия, глубоко персоналистичен. Это означает, что доминанты, которые несет произведе­
ние, заключены в личности основного героя. Если мы сумеем коснуться
тайны его личности, мы получим возможность постичь и тайну романа
в целом. Вот почему необходимо сначала попытаться ответить на один
вопрос: кто на самом деле князь Лев Николаевич Мышкин?
Князь Мышкин — один из самых загадочных героев Достоевского.
Трудность постижения его сущности закодирована еще в генезисе за­
мысла. В письме Аполлону Майкову автор «Идиота» сначала говорит,
что давно обдумывает идею «изобразить вполне прекрасного человека»
[28, кн. 2: 241], потом пишет Софье Ивановне: «Главная мысль рома­
на — изобразить положительно прекрасного человека» [Там же: 251].
237
с ть з • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
О различии в оттенках между вполне прекрасным и положительно пре­
красным человеком речь пойдет в дальнейшем, в данном случае принци­
пиально важно понять, что в действительности имеет в виду писатель,
говоря «изобразить человека». Если рассмотреть эти слова в контексте
фундаментального для антропологии Достоевского суждения, что «че­
ловек есть тайна» [28, кн. 1: 63], «изобразить человека» будет по смыслу
равносильно выражению «изобразить тайну». А императивное требова­
ние, которое выдвигает к самому себе автор в отношении центрального
героя: «Я обязан поставить образ», так как «целое у меня выходит в
виде героя» [Там же, кн. 2: 241] — в православном аспекте полностью
восходит к иконному представлению о понятии «образ» как «икона» (тем
более, что на языковом уровне слово «образ» в русском языке все еще
хранит крепкую связь с понятием «икона»). Эта зависимость особенно
четко вырисовывается именно у Достоевского, притом именно в конкрет­
ном случае, так как в концепции «Идиота» он действительно воплощает
ортодоксальное понимание о личности человека как образе, «иконе», от­
разившей в себе Божественный лик. Так что «изобразить человека» для
Достоевского означает изобразить внутреннюю икону, икону человечес­
кой души. Его цель — показать нам «образ» князя Мышкина, предста­
вить перед нами личность его, чтобы мы в живом общении могли прикос­
нуться к ее тайне. Представляя человека как тайну (u\)CTT4piov), Досто­
евский в принципе следует ортодоксальной антропологической модели.
Известно, что в Античности не было понятия о личности, а только об ин­
дивиде. Греческоеrcpoacorcovобозначает «не лицо, открывающее личнос­
тное бытие, а лицо-маску существа безличного» [Лосский В., 1991: 213].
Единственно христианское откровение о Троице с таинственными трехипостасными отношениями в Божественном бытии создает представление
о личности как абсолютной индивидуальности и тайне, потому что чело­
век является «образом и подобием Божиим». Неповторимость личнос­
ти делает ее ни с чем не сравнимой, поэтому ее нельзя дефинировать, а
только явить. «Личностное можно "уловить" только в личном общении,
во взаимности, аналогичной взаимному общению Ипостасей Троицы»
[Там же: 215]. Поэтому и личность 1У1ышкина можно только показать в
словесном «образе», но никоим образом нельзя ее определить. Остается
возможность почувствовать и понять ее только в конкретном общении
(чтении). Притом понять ее не непосредственно, так как вещь познают,
а личность понимают, — а ч е р е з символы [см.: Гоготишвили, 1994: 886].
Итак, к тайне князя Мышкина можно прикоснуться двумя способами,
аналогичными тем, которые применяет ортодоксальное богословие в от238
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с дамииаптиой системой романов Пятикнижия
ношении Божественной Личности (как и любой личности в принципе).
Независимо от того, что о них уже шла речь по другому поводу, я еще раз
напомню их. Первый, так называемый катафатический (положитель­
ный) метод, окружает Божественную сущность (обозначаемую термином
«oixjia») рядом положительных наименований — Бог именуется Благо­
стью, Жизнью, Премудростью, Могуществом и т. п., так как «о Нем нам
следует исходить из того, что наиболее присуще Ему». Никакое из этих
определений, однако, не в состоянии выразить его полностью, так как
он «превосходит любое утверждение». Второй, апофатический метод,
пользуется отрицательными суждениями, отрицающими все чувственно
воспринимаемое, так как Бог «не есть что-либо телесное», «ни число, ни
мера, ни великое что-либо, ни малое...». Потому что «о Том, Кто превос­
ходит любое отрицание, следует начинать с отрицания того, что наиболее
отличается от Него по природе» [Дионисий Ареопагит, 1991: 8-9].
Пользуясь по аналогии этими двумя методами, мы попытаемся пос­
тичь личность князя Мышкина, исходя из многозначительности понятия
«идиот», которое очевидно связывается с глубинной сущностью образа
и не случайно стоит в заглавии романа. В новое время обычно значе­
ние этого понятия связывается преимущественно с патологией, имену­
емой в медицине idiotia. В тексте романа, кажется, существуют факты,
дающие возможность истолковать образ героя в этом смысле. Еще в
начале сам Мышкин намекает на это заболевание [см.: 8: б]. В другом
месте также упоминается: «.. .да и что я выехал: почти не в своем уме!»
[Там же: 22]. Он даже буквально говорит о своем идиотизме: «Частые
припадки его болезни сделали из него совсем почти идиота (князь так и
сказал: идиота)» [см. там же: 25]. Большая часть окружающих воспри­
нимает его именно так.
В романе, однако, мы находим и недвусмысленное опровержение
этой точки зрения на героя. Это прежде всего факт, что болезнь представ­
ляется как пройденный этап в его жизни. Сам Мышкин говорит Гане:
«...ив самом деле был почти идиот; но теперь я давно уже выздоровел»
[Там же: 75]. Категорические высказывания в этом смысле встречаются
и в других местах [Там же: 64, 448 и др.]. Постепенно все начинают сом­
неваться в идиотизме Мышкина.
В другом смысле понятие «идиот» связывается со значением латинс­
кого idiota (невежда, глупец) и idioticus (невежественный). Idiota в пони­
мании Западного Средневековья — это человек, который довольствуется
знанием своего грубого родного языка и далек от латыни и «книжной
премудрости» [Гуревич, 1985: 27-28].
239
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
С одной стороны, такое истолкование также находит подтверждение
в тексте. Сам Мышкин признается: «...и тогда ничего не знал, а теперь
еще пуще» [8: 22-23]. На вопрос Аглаи: «Вы очень ученый?» Мышкин
отвечает отрицательно [Там же: 358]. Аделаида считает, что он «просто­
ват слишком» [Там же: 66], с этим соглашается и Александра. Аглая оп­
ределяет князя как «ужасно необразованного», на что Мышкин отвечает:
«Я вам сказал, что я небольшой учености» [Там же: 430].
Наряду с этим, однако, в романе допускается и противоположная
возможность истолкования. Подчеркивается, например, особый пиетет
героя к звучащему и написанному слову [Там же: 25, 29-30], доходящий
даже до философии разных языков и шрифтов. Сам Мышкин говорит о
себе как о философе. Еще в начале романа некоторые из героев (Епанчина и Александра) говорят, что он «чрезвычайно умен» [Там же: 49],
а Коля и Лебедев считают князя самым умным человеком в мире.
Рецепцию определения «идиот» можно связать и с другим, первич­
ным значением этого слова, которое отличается от смысла, приобретен­
ного им на Западе. Греческое iSioxriq означает особенность, своеобраз­
ность, a iSicoaiq — выделение, отделение. Буквально гбкЬтт]*; обозначает
частного, отдельного человека, a ISIGOTIKOC; — то, что принадлежит или
свойственно частному человеку.
Как проявление абсолютной индивидуальности (носителя комплек­
са iSicoiiKoq) личность князя Мышкина является совершенно иной в от­
ношении всех окружающих персонажей. Они все время говорят, что он
непонятен, «странен», «чудак». В этом смысле важно проверить, как сам
Достоевский трактует понятия «чудак» и «чудачество». В предисловии
к «Братьям Карамазовым» автор говорит о своем герое Алексее Федоро­
виче: «...это человек странный, даже чудак. ... он-то, пожалуй, и носит
в себе ... сердцевину целого, а остальные люди ... на время почему-то
оторвались...» [14: 5]. Не только здесь, но и в контексте «Идиота» эти
мысли, очевидно, восходят к распространенной в православном мире не­
обыкновенной форме святости в подвиге Христа ради юродивых.
Еще в предварительных примечаниях к роману герой определяется
как «юродивый» [9: 200]. На самом деле, слово «идиот» в русском язы­
ке наряду с другими смыслами несет значение «юродивый» [см.: Даль,
1989, 2: 8]. Это не случайно, так как «исторические судьбы и образ жиз­
ни... способствовали процветанию в России этого исключительного под­
вига. Ни одна страна не может похвастаться таким обилием юродивых»
[Ковалевский, 1902: 140-141].
240
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с даиииаитной системой романов Пятикнижия
В образе князя Мышкина обнаруживаются все аспекты юродства.
Первая особенность Христа ради юродивых — это сознательное отре­
чение от традиционного употребления разума и добровольное приня­
тие безумного вида. Кроме того, они должны были являться в обществе
подобные несмышленым детям [Ковалевский, 1902: 2, 8, 57]. Их целью
было скрыть под маской мнимого безумия свое благочестие и смирение
[Там же: 76]. Посторонние воспринимают это как сумасшествие и без­
умие. Такое же самосознание юродивого проявляет и князь: «...издесь
сочтут меня за ребенка, — так пусть! ... Я вхожу и думаю: "Вот, меня
считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не догадываются"»
[8: 64]. У юродивых и у Мышкина наблюдается дифференцированное
отношение к внешней и внутренней мудрости. Отрицая внешний разум,
юродивые не отрицали внутреннего. Наоборот, они были действительно
мудрыми [см.: Ковалевский, 1902: 45,55]. Такой же смысл несут и слова
Аглаи, обращенные к Мышкину: «...главный ум у вас лучше, чем у них
у всех ... потому что есть два ума: главный и неглавный» [8: 356]. Этот
«главный ум» для юродивого является проявлением причастности к бла­
годати — явление, описанное Достоевским за мгновение перед эпилеп­
тическим припадком, роднящее героя с мистикой исихазма во время со­
зерцания нетварных энергий. Жизнь юродивых подчиняется «служению
делу спасения ближних». Такая же цель руководит и Мышкиным: «.. .те­
перь я к людям иду ... Я положил исполнить свое дело честно и твердо»
[Там же: 64]. Характерно также то, что юродивые нередко жили среди
порочнейших членов общества, «среди людей, погубленных в глазах
общественного мнения, с целью поправить и спасти их» [Ковалевский,
1902: 5, 64у 68]. Это прямым образом соответствует миссии героя — его
усилиям спасти опозоренную Настасью Филипповну, бунтаря Ипполита,
убийцу Рогожина, обманщика Келлера и т. д. Герой Достоевского близок
к юродивым даже в мельчайших деталях: девство, нестяжательство, сми­
рение, пророческий дар, поучения, иносказательная речь и т. п.
Но параллельно с изложенными фактами в романе можно обнару­
жить и противоположные аргументы. Например, перемена во внешнем
виде. Вначале на Мышкине «довольно широкий и толстый плащ без рука­
вов и с огромным капюшоном» [Там же: б], т. е. одежда, напоминающая
иноческую или священническую фелонь123. Позже, однако, о внешности
князя говорится: «...в одной одежде была полная перемена: все платье
было другое ... слишком уж сшито было по моде» [Там же: 159]. Не тот
уже и социальный статус: от полного безденежья — до получения весьма
солидного наследства. У Мышкина меняется и характерный для юроди241
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
вых скитальческий образ жизни — он останавливается надолго в Павлов­
ске. С 1646 г. русский патриарх Иосаф I запрещает юродивым входить
в церковь [см.: Ковалевский, 1902: 156]. С тех пор они сидят обычно у
входа в церковь или у притвора. Тем временем про ожидающего невесту
Мышкина сказано: «...скрылся на время в алтаре» [8: 492]. Безумие, ко­
торое для юродивого только маска, для героя под конец становится дейст­
вительным его состоянием.
Смысл слова «идиот» связывается с образом князя Мышкина и на
более глубоком православном догмато-мистическом уровне. Как уже
упоминалось, для Достоевского чудак (юродивый, урод, гбкотпе;) оз­
начает не только iSicoTiKoq, выделенность, а «несет в себе сердцевину
общего» — субстанцию (substantia, ouaia), суть общего. Такое пони­
мание полностью восходит к ортодоксальному богословию. Контекст
следующий: в докаппадокийский период (у св. Афанасия Александрий­
ского) тождество Бога Сына и Бога Отца выражается именно словом
15ютг|<; — принадлежность, свойственность. Понятия «лицо» (гжбатаоц)
и «суть» (ovaia) совпадают [см.: Флоровский, 1931: 40-41]. У каппадокийцев (например, у св. Василия Великого), однако, понятия «суть»
(ovaia) и «лицо» (гжбеггаац), хотя и синонимические (оба по-гречески
означают «суть»), но дифференцируются как общее и частное. Общее в
Отце, Сыне и Св. Духе обозначается термином ouaia, а частное — тер­
мином гжбатаац. Отличительные свойства трех ипостасей (Лиц Трои­
цы) восходят к слову i6io<;, которое от объединяющего термина, каким
выступает у св. Афанасия, превращается в обособляющий [Там же: 75].
У св. Григория Богослова, однако, в связи с тем, что три отличитель­
ных свойства (iSioxTjxsq) ипостасей — «нерожденность» (ftyewnaia) для
Отца, «рожденность» (yewrjaiq) для Сына и «исхождение» ('ЕкябретЗак)
для Духа — придают характерный облик Лицам, то понятие «i5i6xr|9> (от­
личительное свойство) почти совпадает с понятием «\>я6атаац>> (лицо).
Без «15ютг[<;» н е т «йяоатаац», потому что три «особенности» (гбютптес;)
Лиц в Троице «не по сущности различаются, но различаются сущности в
одной и той же сути». А так как {жоатаац (лицо) есть частное проявление
сути (ovoid), существует онтологическая связь между словами 15ютп<; и
ouaia [Там же: 111], потому что, как я указал выше, I5I6TT]<; и йяоотаак;
совпадают. Следовательно, когда в этом смысле говорится об «идиоте»
(i6ioiT]c), надо понимать и «сущность» (ovaia); иными словами, идиот не
только маркирует индивидуальность как наиболее характерную особен­
ность личности, но и общее как объединяющий признак Лиц в Троице.
Такова догматическая основа заглавия романа «Идиот». Она связывается
242
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
с более глубоким толкованием образа «идиота» (i5i6xr|q) князя Мышкина
и с рассмотрением его в связи со второй ипостасью Троицы — Богом
Сыном, Иисусом Христом как метатипическим прообразом героя.
Близость героя с Христом исследовалась в достоевсковедении, по­
этому я не буду на ней подробно останавливаться124. Начиная с идеи
Достоевского о «Князе Христе» [9: 246], в тексте произведения обнару­
живается множество свидетельств в подтверждение этого тезиса. Поэ­
тому я остановлюсь только на некоторых элементах, ускользнувших от
внимания критики. Таков, например, наиболее общий топос — приезд
Мышкина из Швейцарии в Россию — «обетованную землю», который
напоминает пришествие Христа из Египта в Палестину. Или мелкие под­
робности вроде связи героя с «ослом-человеком»125 и выраженного в его
имени отношения Божественной силы (Лев) и человеческой слабости
(Мышкин) — двух природ Богочеловека.
Апофатическая точка зрения, однако, не менее убедительно противо­
речит подобному толкованию. Неужели в образе князя Мышкина Досто­
евский показал этот «вековечный идеал», о котором сам пишет, что «нет
ничего прекраснее ... и совершеннее Христа, и не только нет, но ... и не
может быть» [28, кн. 1: 776]? Для религиозного сознания недопустимо
изображать христианский идеал неканонически, потому что это невоз­
можно. Христос — «бесконечное чудо» [28, кн. 2: 251], единственный
«вполне прекрасный человек». Будучи совершенным Богом, Он также и
совершенный человек, который «уподобился нам, сделавшись человеком
по всему, кроме греха» [Иоанн Дамаскин, 1992: 257]. И еще: кроме того,
что Мышкин далек от образа Христа, по мнению некоторых исследова­
телей, он далек и от идеала человека вообще [см.: Лосский Н., 1994: 188;
Бердяев, 1923:120-123].
При помощи изложенного здесь метода можно принять и настолько
же успешно отбросить все определения или «символические имена»,
соотносимые с «идиотом» князем Мышкиным. Перечислим имена воз­
можных прототипов литературного происхождения, которые предлагает
критика: Дон Кихот, «рыцарь бедный», герои «Пиквикского клуба», Жан
Вальжан, Акакий Акакиевич, князь Дмитрий Нехлюдов, Пьер Безухов,
наивные и естественные герои романов XVIII в. и т. д. Или же историчес­
ких прототипов: А. С. Пушкин, граф Л. Н. Толстой, архитектор Мыш­
кин (в «Истории» Карамзина) и т. д. Если мы катафатически (положи­
тельно) соотнесем все прототипы с Мышкиным, они будут «вращаться»
вокруг его образа как «символические имена» — никакое из них, однако,
243
Ч а с т ь 3 • Поэтики и герменевтика
Пятикнижия
не будет в состоянии выразить его полностью. Более того, взятые в сво­
ей совокупности, они неизбежно «завалят» его личность определениями,
и таким образом потеряется ее абсолютная индивидуальность. К это­
му приводят выводы некоторых исследователей, которые, по существу,
пользуются этим методом и дают следующие определения образа князя
Мышкина: «многосоставный», «протеистически-синтезный». С другой
стороны, если приложить апофатический (отрицательный) подход, также
нельзя достичь желаемого эффекта, так как последовательное отбрасыва­
ние перечисленных выше «имен» (Мышкин — не Дон Кихот, не Акакий
Акакиевич, не граф Лев Толстой и т. д.) приведет к тому, что образ князя
Мышкина нельзя будет сравнить ни с чем, что могло бы определить его,
изъяснить (через сходство) его личность. В этом смысле обоснованно
возникает вопрос: как это возможно, чтобы образ бесспорно приближал­
ся с одному или к целой системе художественных и исторических прото­
типов и одновременно с тем был бы их противоположностью? Почему он
такой же, как они, а в следующий момент — совершенно иной?
Ответ на этот вопрос (как наиболее принципиальный) можно найти
также в свете ортодоксальной догматики. Он восходит к христианскому
пониманию двойственной природы Богочеловека. Отношение человечес­
кого естества (являющееся «совершенной другостью») к Божественному
в единой личности Христа было определено на Халкидонском соборе
(451 г.) формулой «неслитное и нераздельное» (dcruyxUTcoq, абюирётсос;)
[см.: ДВС, 4: 50-52]. Как правило, это определение задает парадигму
христианской личности, и им, очевидно, пользовался Достоевский как
общей формулой при построении образа, который «неслитно и неразде­
льно» соотносится с «символьными именами» (перечисленными выше
прототипами), являющимися этим «совершенно другим» в отношении
его уникальной сущности126.
Названная проблема, однако, характеризуется и другим важным ас­
пектом. Для Достоевского полным воплощением идеала является единс­
твенно Божественный Образ. Следовательно, для верующего сознания
писателя Христос не может быть равнопоставлен со всеми остальными
«символьными именами» (прототипами), к которым близок и от которых
отталкивается образ князя Мышкина, так как только он, Христос, совер­
шенно безгрешен. Это делает допустимым отделение от Божественного
всех прототипов как принадлежащих греховной человеческой природе.
В таком случае возникает другой вопрос. Как это возможно, чтобы князь
Мышкин являлся воплощением Христа (бесспорные свидетельства этого
мы находим в тексте, притом на всех уровнях), а в следующий момент
244
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
был бы обыкновенным грешным человеком (что также очевидно)? Как
он может буквально принимать образ идеала и не быть этим идеалом?
Такая возможность действительно существует и обнаруживается в
мистике православной богослужебной практики. Единственно только
священник в момент литургического действия таинственно воспринима­
ет образ Иисуса Христа, а в другое время является только молящимся
грешным человеком. Например, на малом входе с Евангелием архиерей
«входит от западных врат ... тогда знаменует воскресение из мертвых и
вознесение от земли Христа Господа Иисуса ... Когда архиерей выходит
к западным вратам облачаться, тогда образует воплотившегося Господа,
нисшедшего ... на землю и даже ... до ада» [Вениамин, 1992, 1: 167].
В знамение того, что Иисус является на земле, чтобы найти заблудшую
овцу (отпавшее человеческое естество) и понести ее на своих плечах,
архиерей накладывает на плечи омофор [Там же: 168]127. Но «при чтении
Евангелия он снимает с себя омофор в знак личного присутствия Иисуса
Христа» [Нестеровский, 1931: 67], показывая свое рабство перед Госпо­
дом. Так и при великом входе, где «перенесение св. даров в таинствен­
ном смысле означает перенесение тела Господня со креста ... до места
погребения... И поелику архиерей носит образ Христа, то он не выносит
св. даров, но передает их священнику и диакону, которые тогда изобра­
жают Иосифа и Никодима» [Вениамин, 1992, 1: 184,185]. Когда св. дары
освящаются в алтаре, они претворяются в истинный образ Иисуса Хрис­
та, а священник делается смиренным молителем и грешным человеком.
Божий служитель последовательно принимает образ Христа и грешника
и в других местах литургического действия.
Этот литургический принцип хорошо известен Достоевскому. Он
не только лег в основу образа князя Мышкина, но и оказывает влияние
на композицию всего романа. Рассматриваемое в указанном контексте,
действие в «Идиоте», которое концентрируется вокруг главного героя,
несет точно определенное значение. Мышкин покидает «сцену» романа
только один раз (в конце 1-й и начале 2-й части), и этим произведение
композиционно разделяется на две части, символика которых в общем
совпадает с символикой двух основных частей литургического дейст­
вия — малого и большого входа. Приезд Мышкина из Швейцарии в Пе­
тербург соответствует первому явлению Христа в мире (евангельская
проповедь о спасении), т. е. малому входу, а второй приезд из Москвы
в Петербург — евхаристиинои жертве во имя спасения, т. е. большому
входу в литургии.
245
Часть
3 • Пошика
и герменевтика
Пятикнижия
Текст дает серьезные основания для такого толкования. Действия
князя Мышкина совпадают до мельчайших подробностей с действиями
священнослужителя во время литургии. Герой покидает Россию (Восток)
и едет в Швейцарию (на Запад), так же как священник выходит из алтаря
(Восток) и направляется в западную часть храма. Это мистическое дви­
жение изображает явление Христа в мире и посещение ада (Запада как
страны видимой инфернальной темноты). Странная «западная» одежда
Мышкина, в которой он въезжает в Россию (возвращается снова на Вос­
ток), равнозначна надеванию омофора архиереем — действию, соверша­
емому в западной части храма — и возвращению на Восток (в алтарь).
Это действие изображает принятие Христом человеческого естества,
взятие на себя и искупление грехов мира. До этого момента князь Мышкин, подобно священнику в литургии, принимает образ Иисуса Христа.
За этим следует несколько притч, рассказанных героем и очевидно вос­
ходящих к евангельскому тексту. В литургии перед чтением Евангелия
совершаются два символических действия, цель которых— показать,
что слово Божие уже яляется образом Христа, а архиерей принимает
функцию обыкновенного служителя. Первое из них — каждение «в знак
подаваемой всему миру чрез Евангелие благодати Духа». Второе — сло­
жение омофора, «потому что в это время представляется Сам Господь,
вещающий чрез Евангелие» [Вениамин, 1992, 1: 176-178]. Это объясняет
желание Мышкина непосредственно перед первой притчей (о насильс­
твенной смерти) «здесь где-нибудь покурить», воспринятое лакеем как
греховный акт, что и провоцирует ответ князя: «.. .в чужой монастырь...»
[8: 17]. Снимание же «западной» верхней одежды, после чего Мышкин
остается в обычной светской одежде, символически восходит к снятию
архиереем омофора. Оба действия ставят акцент на содержании и значе­
нии рассказанных притч как словесном образе Божественного Логоса.
После этого герой снова принимает Христов образ. Например, поще­
чина, которую он получил, символизирует предательство и насилие иуде­
ев над Христом — не случайно Ганя сравнивается с Иудой [Там же: 95]
и «королем Иудейским» [Там же: 105], а Мышкин, которого Рогожин на­
зывает «овцой» [Там же: 99], недвусмысленно восходит к образу новоза­
ветного агнца. Этим заканчивается малый вход.
Тот же литургический (не мистериальный) принцип применил До­
стоевский и при описании второго появления героя в Петербурге, пред­
ставленного как падение с неба [Там же: 155]. Во время большого входа
вторичный выход священника из алтаря (неба) буквально представля­
ет образ погребения Христа. Покушение Рогожина и то, что в момент
246
Глава
2 • Экзегетические
примечания
в связи с доминантной
системой романов
Пятикнижия
припадка Мышкин достигает высшей степени гармонии и красоты
[Там же: 188], является своеобразным воздвижением его духа в Царс­
твие Небесное. Здесь герой романа еще раз, подобно архиерею во время
литургии, принимает образ Христа как искупительной жертвы. А нож,
орудие убийства, которому в тексте уделено специальное внимание, явно
изображает нож для просфоры, который, со своей стороны, символизи­
рует копье, проколовшее на кресте ребро Господне. Конец великого входа
знаменуется новым входом архиерея в алтарь и установлением неосвя­
щенных еще св. даров на престол, символизирующий в этом случае фоб
Господень. Это действие объясняет, почему князь Мышкин вошел в ал­
тарь в ожидании Настасьи Филипповны.
С этого момента, однако, наступает новая перемена, так как св. дары
воплощают буквально плоть и кровь Христа, а архиерей является толь­
ко служителем таинства. В романе «Идиот» это представлено убийс­
твом Настасьи Филипповны Рогожиным. Как уже подчеркивалось, она
не случайно несет фамилию Барашкова, восходящую к представлению
об агнце («барашке»). Поэтому и принесение ее в жертву совершается
тем же ритуальным ножом. Она принимает буквальный образ жертвы,
а Мышкин является снова в роли заступника и молителя (как архиерей)
за грехи человеческие. Таким образом, символическое представление
таинства евхаристии превращется в литургический доминантный центр
произведения.
Можно привести и другие примеры, но и этих достаточно, чтобы
приобрести хотя бы общее представление о том, как осуществляется
связь Мышкина с образом идеала.
Используя «поэтику» ортодоксальной литургической модели,
Достоевский строит образ своего героя как литургический символ
(^ercoupytKOC, oujiPoXov). В «идиоте» князе Мышкине он воплощает пра­
вославную идею о харизматическом служении человека в мире — по ана­
логии с миссией житийного героя, которая восходит к представлению о
«русском иноке», осуществленному позже в образе Алеши Карамазова,
и которая непосредственно корреспондирует с верой Достоевского в рус­
ское мессианство. В романе «Идиот» получил художественную реализа­
цию таинственный процесс, известный в православии как «обожение
души» (вершина в жизни святого), осуществимый единственно в мис­
тике литургической практики, превращающей обыкновенную жизнь в
«житие». Это процесс, о котором св. Григорий Палама говорит: «Божия
сущность непричастна и каким-то образом причастна. Мы приобщаем­
ся к Ней и вместе с тем никак не приобщаемся к Ней» [Migne, 150, col.
247
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
9320]. Таким образом, средствами литургического реализма Достоевс­
кий представляет нам в лице князя-«идиота» образ человеческой души,
устремленной к своему идеалу, и в основе совершаемого ей пути стоит
агиографическая доминанта произведения.
В духе сказанного можно обобщить, что роман «Идиот» эксплици­
рует упорядоченную доминантную систему, построенную на основании
точно определенных литургических, агиографических и храмовых ак­
центов. Во-первых, он развертывает литургическую символику таинс­
тва евхаристии. Во-вторых, ставит акцент на важнейшем этапе в жизни
агиографического героя — «вертикализме», восхождении к небесному
и проникновении человека в Божественную благодать, т. е. достижении
обожения (теосиса). В-третьих, эти литургические и агиографические
элементы архитектурно визуализируются в небесной символике купола
как самого высокого вертикального топоса в конфигурации храма. В этом
смысле знаменитый роман Достоевского несет на абстрактном уровне
те же функции словесного неба-«купола» (символом которого является,
например, высокое Божественное «сумасшествие» «идиота» 1Мышкина),
что и купольная зона в визуальной архитектонике храма. Напомню толь­
ко, что внешний облик героя во многом напоминает иконографическое
изображение Христа, которое, со своей стороны, занимает точно опре­
деленное место в контексте стенописей храма, а именно купол. Можно
заключить, что роман «Идиот» «занимает» купольную зону в цельном
построении Пятикнижия (см. условное изображение на схеме 11).
Этим «положительно прекрасным» героем, однако, показан только
один из топосов вертикальной бинарной оппозиции «небесное — под­
земное» — возможность души возвыситься к Божественному. Другой же
топос, представляющий трагедию павшего человеческого духа, Достоев­
ский раскрывает в романе «Бесы». Об этой другой ужасной возможнос­
ти — не полете к небесному, а провале в бездну небытия — пойдет речь
ниже.
2.4. Доминантные акценты в романе «Бесы» —
инфернальное «житие», крипта храма,
таинство елеосвящения
Мои критические примечания о «Бесах», так же, как и предыдущие,
несут конспективный облик, т. е. характер именно экзегетических схо­
лий. Тем более, что этому исключительному по своей метафизической
глубине произведению посвящены общие и специальные работы мно­
гих блестящих исследователей. Достаточно перечислить, например, ве248
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в снят с доминантной системой романов
Пятикнижия
ликолепные критические опусы К. Мочульского, Л. Гроссмана, А. Бема,
Дж. Фарино и др. 1Мои экзегетические схолии имеют, однако, и другую
цель. Они подчиняются специфической для предлагаемого исследования
точке зрения, согласно которой внимание направляется только к особым
смыслам, которые данное произведение генерирует в контексте осталь­
ных романов Пятикнижия. Согласно этому критерию, названному «до­
минантные акценты», роман «Бесы», очевидно, является своеобразным
контрапунктом «Идиота».
Роман «Бесы» организован аналогичным образом — в центре нахо­
дится один основной персонаж, по первоначальному замыслу — также
князь. «ИТАК, ВЕСЬ ПАФОС РОМАНА В КНЯЗЕ, он герой. Все осталь­
ное движется около него, как калейдоскоп». И ниже: «NB. Все заключа­
ется в характере Ставрогина. Ставрогин всё» [11: 136, 207] (курсив авто­
ра. — И. И.). Образ Ставрогина — не меньшая загадка, чем образ князя
Мышкина; тот же герой-тайна, которую все время пытаются разгадать
все окружающие. Но различие между его тайной и тайной «положитель­
но прекрасного» героя огромна, и проблема не только в глубине, а в суб­
станциальной противоположности смысла — во всех своих проявлениях
тайна Ставрогина выступает как негативный образ тайны Мышкина.
Во-первых, Мышкин наделен исключительным даром оратора; он
владеет в совершенной полноте как звучащим, так и письменным словом,
и это не проявление внешней книжной премудрости, а выражение сло­
весной силы его души, внутреннего ума. Мышкин — это образ-символ
самого воплощения Логоса, эманация и действие спасительного Слова в
мире. Ставрогин в этом отношении — полная его противоположность.
На протяжении большей части романа он погружен в таинственное
безмолвие. Выясняется, что когда-то в своей житейской предыстории он
владел могущественной силой словесной проповеди. Но это было стран­
ное, искусительное и удивительно неединое слово. Оно черпало свои
силы не из светлого источника словесного Логоса, а из мрачного колодца
духовной преисподней. Оно губило каждого, кто поддавался его влас­
ти, уничтожало свободу и порабощало личность принявших его в себя.
Ставрогин произносит вдохновенное славословие и Богу, и русскому народу-«богоносцу», и оно в корне меняет жизнь Шатова, превращает его
из атеиста в «верующего» и одновременно с тем вливает в сердце влюб­
ленного в жизнь и в Бога горемыку Кириллова маниакальный яд идеи о
«человекобоге» [см.: 10: У 97]. Из уст Ставрогина, как из рупора, выходят
прельстительные слова «премудрого змия», которые вносят смятение в
души Шатова и Кириллова. Одному из них так и не удается «заменить
249
Часть
3 • /IOWHIKCI и герменевтика
Пятикнижия
боги» социализма православным Богом; Шатову до конца не удается уве­
ровать по-настоящему — он верует «насильно», его вера похожа на веру
«московского славянофила» [Там же: 32]. Другому же не удается сохра­
нить свою веру и истинный смысл жизни. Сам герой все время находится
во власти инфернального. Не случайно он говорит Тихону: «...я верую в
беса, верую канонически, в личного, не в аллегорию» [11: 10]. Твердая
уверенность находит опору в личном мистическом опыте Ставрогина, в
постоянном его общении с «поднебесными духами злобы». В мгновение
демонического транса его видит мать: «Ее как бы поразило ... Лицо было
бледное и суровое, но совсем как бы застывшее ... он решительно похо­
дил на бездушную восковую фигуру ... вдруг ее обнял страх» [10: 182].
В сцене с Дашей (которая не была включена в последующие издания
романа) раздвоение героя действительно углубляется метафизически.
Ставрогин видит привидения, и его реально посещает бес. Согласно пер­
воначальному замыслу, он должен был символически восходить к образу
Гадаринского бесноватого, в которого входят легионы бесов [см.: Марк,
1: 9; Лк., 26: 30]. Поэтому Ставрогин искренне говорит Тихону, что ему
совсем не нужно расспрашивать, чтобы увериться в существовании бе­
сов. Его настоящая трагедия, однако, состоит в том, что он совершенно
не верует в Бога, но парадоксальным образом верует в дьявола. В этом
смысле герой далек от полного атеизма, а это, по мнению отца Тихона,
еще горшая беда, так как «полный атеизм почтеннее светского равноду­
шия ... совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до
совершеннейшей веры» [11: 10].
Выполнив демонический заказ и влияв яд неверия и сомнения в сер­
дца окружающих, слово вдруг иссякает у Ставрогина, и в его душе раз­
верзается безмолвная бездна пустоты. Таким молчаливым и неразговор­
чивым мы видим его еще в начале романа. Особый смысл несет сцена, в
которой Николай Ставрогин кусает в ухо губернатора Ивана Осиповича.
«Укус в ухо, — отмечает исследователь, — может ассоциироваться с искусительным анти-Словом змия-искусителя ... очевидная замена "слова"
укусом красноречивее всего говорит о том, что Ставрогин только играет
роль "зверя"-3мия и что на самом деле он — второстепенный дериват,
не имеющий самостоятельности даже в пределах своего "царства" — он
может только укусить, причинить боль, но не искусить. Параллельно в
романе идет и постепенная его демифологизация от "премудрого змия",
"гада", "змеи" до "червяка", "ничтожества"» [Faryno, 1991: 252]. Для
Ставрогина роль «искусителя» давно кончена, но в мире остаются жить
его духовные «чада» — Шатов, Кириллов, Петр Верховенский, Федька250
Г i а в а 2* Экзегетические примечания в свят с доминантной системой романов
Пятикнижия
каторжный — которые теряют свою личность, вынашивая «ставрогинские» мысли и превращаясь в идеи-дериваты и в его ипостасные инфер­
нальные эманации. Наподобие богов языческого Олимпа, они безнадеж­
но вращаются вокруг этого угасшего «солнца», не подозревая о том, что
их «бог», их «Иван Царевич» — просто «самозванец», новый «Гришка
Отрепьев», фикция. Они обречены погибнуть, так как трагически связа­
ны с этим «центром», у которого нет субстанциального основания, имя
еМ у — небытие. Идейное опустошение Ставрогина заканчивается, герой
достигает полной деперсонализации. После духовной смерти ему оста­
ется только ждать физической. Такова символика его безмолвия. Ставрогин бессилен во всех формах словесности. Настоящую его духовную
нищету и окончательно наступившую внутреннюю деградацию автор
демонстрирует и в письменной «исповеди» героя. Это действитель­
но недужное, косноязычное слово с изувеченной стилистикой и беспо­
мощным синтаксисом. Оно свидетельствует о нравственном крушении,
о катастрофических потрясениях, о внутренней гибели наступающего
уже небытия. Духовный тлен — вот формула ставрогинской стилистики
[см.: Гроссман, 1996: 114]. Здесь мы сталкиваемся не просто с обычным
невежеством. Словесное убожество героя говорит о деформированной
уродливой душе, окончательно потерявшей свой благообразный вид.
Другая доминанта, также противоположная роману «Идиот», заклю­
чена в смысле, который несет красота в «Бесах». Знаменитые слова кня­
зя Мышкина «красота спасет мир» [8: 317] в этом «небесном» романе
очевидно связаны с ее надмирным, потусторонним происхождением. Ее
можно постичь, созерцать, пережить только в надмирном экстазе, в мгно­
вение священного Божественного безумия. Князь-«идиот» полностью и
«в высшей степени непосредственно» проникается этой Божественной
красотой и гармонией; молитвенно сливается «с самым высшим синте­
зом жизни» и постигает «высшее бытие». Когда «ум и сердце озаряются
"необыкновенным светом", он, "юродивый", видит настоящую Красоту»
[Там же: 188]. Это мгновение реального обожения (теозиса) человека,
души, лично восстановившей в себе «образ и подобие Божие», потому
что, как пишет сам Достоевский (в полном соответствии с православ­
ным учением), «Дух Святый есть непосредственное понимание красоты,
пророческое сознавание гармонии, а стало быть, неуклонное стремление
к ней» [И: 154].
Ставрогин тоже характеризуется личной красотой. Но она — пол­
ная противоположность созерцаемой «идиотом» духовной реальности.
Это красота ослепительная, внешне осязаемая, телесно-земная и по251
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
рочно прельстительная. Вот каков ее облик: «...поразило меня тоже его
лицо: волосы его были что-то уж очень черны, светлые глаза его что-то
уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, ру­
мянец что-то уж слишком ярок и чист, зубы как жемчужины, губы как
коралловые — казалось бы писаный красавец, а в то же время как будто и
отвратителен» [10: 37]. Это редкая, совершенная, почти неземная красо­
та, переходящая, однако, в свою противоположность. Она превращается
в маску, в красивую телесную оболочку, пытающуюся прикрыть пустоту
лишенной благообразия демонической души. Но это продолжается не­
долго — антихристова красота оказывается призрачной, без-образной;
маска Ставрогина сползает, и становится очевидным, что он — «ложь
и отец лжи»128. И действительно, «прошло несколько месяцев, — пишет
хроникер, — и вдруг зверь показал свои когти» [Там же]. Идолоподобная телесная красота Ставрогина — словно «неземная», скорее, даже
«подземная» и представляется полярным антиномическим топосом, про­
тивоположным «небесной» красоте, которую созерцал Мышкин в своей
душе. Это красота, о которой было бы кощунством сказать, что она «спа­
сет мир», потому что сама она нуждается в спасении.
В тесной связи с проблемой красоты находится и антиномия «безу­
мие («Идиот») — рассудочность» («Бесы»). С начала до конца «Бесов»
категорически подчеркивается рассудок, разум Ставрогина — «в пол­
ном рассудке» [Там же: 43, 44], «настойчиво отвергли помешательство»
[Там же: 575]. Он совершенно лишен Божественного сумасшествия кня­
зя Мышкина. Ум, рационально-рассудочное, всегда был специальным де­
моническим периметром, цель ума — власть над «эвклидовым простран­
ством» земного ограниченного бытия, а не бескрайний Дух, который пос­
тижим только через сердечное Божественное безумие. Действительно, и в
романе «Бесы» в образе Кириллова (как одной из ипостасей Ставрогина)
будто дублируется над-умный мистический опыт Мышкина. Описание
пережитого Кирилловым мгновения «вечной гармонии» перед эпилеп­
тическим припадком почти идентично рассуждениям юродивого князя
[см.: 10: 450-451], но это «почти» — только видимость. Как правильно
пишет критик, из одной и той же мистической предпосылки Мышкин и
Кириллов выводят разные заключения [см.: Мочульский, 1995: 444]. Пер­
вый направляет свою духовную энергию на восстановление в душе обра­
за и подобия Богочеловека, на обожение души и превращение ее в храм
гармонии и красоты. Цель другого — не обожение, а обожествление,
превращение индивида в человекобожество. Это ведет не к восстановле­
нию, а к открытому отбрасыванию образа и подобия Божия — к «унич252
[ i а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
гожению Бога», акту, по мнению Кириллова, несомненно требующему
«перемены земли и человека физически» [10: 94]. Здесь обнаруживается
важная особенность: напряжение при соприкосновении человеческой
души с Божественной энергией у Кириллова не приводит к духовному
преображению земли и человека, они не становятся «новым небом и но­
вой землей», о которых говорится в Апокалипсисе [Откр., 21: У]. Душа
не претворяется в духовное небо, наоборот — «душа не выдержит и
должна исчезнуть» [10: 450]. Не одухотворение души, а ее уничтожение
проповедует эта ипостась Ставрогина. Герой-богоборец считает, что зна­
менательное мгновение, разделяющее историю человечества на две час­
ти, — это «от гориллы до уничтожения Бога и от уничтожения Бога до ...
перемены земли и человека физически» [Там же: 94]. Иными словами,
«до гориллы», как иронически вставляет рассказчик. Как раз доминанта
трансформации человека, сбросившего со своей души Божественный об­
раз, которая приводит его к постепенному преобразованию и сближению
с обликом животного, проведена яснее всего в романе «Бесы». Кириллов
не замечает, что эта ужасная трансформация уже начала совершаться и в
нем самом. Не ощущает, что сам он уже постепенно теряет свое челове­
ческое слово, что говорит «отрывисто и как-то не грамматически, как-то
странно переставляя слова» [Там же: 75], что синтаксис его перепутан, а
мысли не закончены. За те пять лет, за которые им овладела сатанинская
идея, он будто начал забывать свой родной язык, говорит все неправиль­
нее [Там же: 94] и не склонен встречаться и общаться с другими людьми,
словно они для него уже представители другого вида. Еще страшнее и
очевиднее, однако, физические деформации других «бесов». Они видо­
изменяются преимущественно хтонически — вырождаются в особые
змеиные метаморфозы. Даже глава, с которой в романе начинается дейс­
твительное представление Ставрогина, озаглавлена «Премудрый змий»
как открытая аллюзия героя с образом змия из Апокалипсиса [ср.: Откр.,
12: 3-17 и далее]. Еще в самом начале нашей встречи с этим централь­
ным персонажем он неоднократно назван «зверем»: «зверь вдруг выпус­
тил свои когти» [10: 38], «зверский поступок» [Там же: 35], Шатов его об­
виняет в «сладострастной, зверской шутке» [Там же: 201] и т. п. Он даже
буквально назван «премудрым змием» [Там же: 83]. Выходит, что это не
просто метафора. Подозрение, что человеческая оболочка Ставрогина —
только маска, видимость, скрывающая, как тонкая пленка, чешуйчатую
его змеинную природу, превращается у окружающих в навязчивое пред­
ставление. Видя его выходящим из комнаты, Лиза ужасается: «...в лице
ее было какое-то судорожное движение, как будто она дотронулась до
253
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
какого-то гада» [Там же: 147]. Встречая Ставрогина, самоуверенный ка­
питан Лебядкин «весь вдруг съежился пред ним и так и замер на месте,
не отрывая от него глаз, как кролик от удава» [Там же: 755]. «Как увидала
я твое низкое лицо, — говорит хроменькая его "невеста" Марья Лебядкина, — точно червь ко мне в сердце заполз» [Там же: 219].
Осязаемое преобразование затронуло и телесный облик Петра Верховенского — демонического слугу Ставрогина. «Никто не скажет, что
он дурен собой, — пишет повествователь, — но лицо его никому не нра­
вится. Голова его удлинена к затылку и как бы сплюснута с боков, так что
лицо его кажется вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки;
глаз вострый, носик маленький и востренький, губы длинные и тонкие»
[Там же: 143]. Представление о ящероподобном виде этой головы уси­
ливается его змеиным языком: «Вам как-то начинает представляться,
что язык у него во рту, должно быть, какой-нибудь особенной формы,
какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, ужасно красный и с
чрезвычайно вострым, беспрерывно и невольно вертящимся кончиком»
[Там же: 144]. Особенно, не по-человечески говорит этот словно «упав­
ший с неба господин» [Там же: 148]. Он не просто говорит, он трещит.
Ремарки показательны: «затрещал» [Там же: 776], «залепетал» [Там же],
«затараторил» [Там же: 777], непрерывно нанизывает бесконечный «би­
сер вечно готовых слов» [Там же: 144, 147,148 и др.].
Гротесковые деформации распространяются в той или иной степени
на телесный облик почти всех персонажей романа, начиная с уродливых,
неестественно больших ушей Шигалева, теоретика «безграничного де­
спотизма», и до «бараньего» взгляда фон Лемке и воловьего характера
Блюма. Мимоходом отмечу, что не случайно автор связывает указанных
представителей губернской администрации, тех, кто должен бы защи­
щать от «бесов» и охранять порядок, с баранами, буйволоми или телятами
(ср., напр., фамилию близкого губернаторской семье чиновника Алеши
Телятникова), т. е. с «чистыми» в библейском смысле, но предназначен­
ными для жертвоприношения животными, показывая таким образом их
уязвимость и беспомощность перед демоническим. В этом смысле все,
кто не согласен с шигалевщиной, представлены как бараны на заклание
[Там же: 314]. Характерно то, что анималистическая образность бесов­
ских персонажей в романе также не константно связана только с «змийским» или «змеиным», а претерпевает изменения в плане снижения, про­
фанации и пародирования. Уже упоминалось ускоренное обессиливание
Ставрогина. В конце романа самоувереный «змий» Верховенский сам
себя называет «червяком» [Там же: 324] и принимает откровенно шутов254
I л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
ской облик. При последней встрече с ним Кириллов называет его «обе­
зьяной» [Там же: 470], и это показательно. В лице юного Верховенското
проповедник идеи о двух этапах человеческой истории — от гориллы до
уничтожения Бога и от уничтожения Бога до человекобога — встречает­
ся с настоящим продуктом последнего этапа: отбросивший Бога человек
возвратился в свое животное, «обезьянье» состояние. Этот процесс, как
я уже сказал, можно считать одной из главных экзистенциальных доми­
нант в романе «Бесы». В художественном ее воплощении Достоевский
полностью придерживается канонической православной антропологии и
эсхатологии, согласно которой «падением изменились и душа и тело че­
ловеческие ... наше тело вступило в один разряд с телами животных»,
а душа — «с духами отверженными» [Игнатий Брянчанинов, 1991: 8-9].
Ближе всего к демонической сущности находятся «скорпионы и змии»
[Там же: 29], поэтому телесные деформации демонических персонажей в
романе тяготеют к их виду. Со своей стороны православное учение нахо­
дит опору для подобного понимания в библейском тексте. Моделью пре­
вращения отпавшего от Бога человека в животное становится случай с
вавилонским царем Навуходоносором. Из-за своей непомерной гордости
он возомнил себя человекобогом и этим отбросил настоящего подателя
славы. Последствия для Навуходоносора были ужасающими — он пре­
вратился в животное, в зверя: «...и отлучен он быч от людей, ел траву,
как вол ... волосы его выросли как у льва, и ногти у него — как у птицы»
[Дан., 4: 30]. Только после искреннего покаяния, после того как он возвел
глаза к небу, он получил прощение — его разум и человеческий облик
восстановились, и он возвратил свою власть над царством [Там же 4:
31-34].
В романе «Бесы» Достоевский рисует величайшую трагедию чело­
веческого духа — отказ от образа и подобия Божия и принятие животнобесовского образа. Это также самая низкая ступень в экзистенции чело­
века — открытое непринятие возможности претворения жизни в житие.
В прямой зависимости со сказанным обнаруживается знаменательная
подробность. Возраст Ставрогина («князя тьмы») точно соответству­
ет возрасту Мышкина («князя света») — обоим 26-27 лет [см.: 8: б;
10: 37, 41]. Это также особый период, и в некотором смысле — возраст
окончательного определения. В плане интертекстуального анализа ука­
занная особенность тесно связана с кризисной экзистенциальной ситу­
ацией, развертывающейся в «Преступлении и наказании». Раскольников
совершает преступление в 23-24 года129 — второй кризисный возраст пос­
ле инициационного, который показан в романе «Подросток» (19-20 лет).
255
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
В этом аспекте Мышкин и Ставрогин раскрывают две точно противопо­
ложные возможности, открывающиеся перед человеком, — вертикаль­
ную доминантную ориентацию к одному из двух противоположных
топосов («небесное — подземное», «божественное — демоническое»).
Такова инфернальная область в «житии» великого грешника, которую
маркирует роман «Бесы».
Достоевский обрекает на смерть всех демонических персонажей.
«Смерть» Петра Верховенского символична, она принимает форму бегс­
тва с родины и полного бессилия после смерти Ставрогина — это, одна­
ко, и намек на возможность будущего возрождения и возвращения этого
беса в Россию. Уничтожением «бесов» в романе находит воплощение
таинство елеосвящения. Суть этого таинства состоит в исцелении боль­
ного через действие Божией благодати, очищающей от греха, от нечис­
тых духов, действительных причинителей телесных и духовных болез­
ней. Связь бесов с болезнями подчеркивается и в Писании: «И призвав
двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами»
[Мф., 10: У; см. также: Мк., 6: 7]. «Они пошли и проповедовали пока­
яние; изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исце­
ляли» [Мк., 6: 12-13]. «Связь власти, данной апостолам Господом (над
нечистыми духами. — И. И.), с помазанием елеем очевидна ... причина
исцеления скрывается не в природе елея, а в самом Господе ... елей в
случае передает излечивающую Божью благодать. Излечивающая Божья
благодать связана и с прощением грехов и восстановлением гармонии
между Богом и человеком» [Чифлянов, 1996: 310-311]. Поэтому и мо­
литва в начале помазания начинается со слов: «Оме стын, врлм^ дйш
н T^/UCZ» («Отец святой, врач душ и тел») [см.: Требник, 1981: 176], а
после отпущения грехов больной кланяется и три раза произносит: «Кл_
гословнт* отцы стш, простит* /MA гр^'шнлго» («Благословите, святые
отцы, простите меня, грешного») [Там же: 223]т. Следовательно, цель
елеосвящения —уничтожение власти демонов. В ирмосе седьмой пес­
ни к кондаку (глас 2) св. таинства елеосвящения это сказано предельно
ясно: «ЛЬ'чь £сть над дслиины, сп«, ТВОА ПМД'ТЬ» («Меч для демонов,
Спаситель, Твоя печать») [Требник, 1981: 159].
В своем романе Достоевский раскрывает действие этого таинства не
только в индивидуальном аспекте (в покаянии и спасении одержимого бе­
сом Степана Трофимовича Верховенского, который, хотя и очиствишись,
тоже умирает), но и в несравненно более обобщенном плане. В «Бесах»
показан процесс очищения и исцеления России в целом и возрождения
ее воскрешенного тела. «Эти бесы, выходящие из больного и входящие
256
I '.i а в а 2 • Эк {еретические примечания в свят с Оомипаитпой системой романов
Г/ятик/ии,п
в свиней, говорит прозревший истину Степан Трофимович, — это... все
бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном,
в нашей России, за века, за века! ... Это мы, мы и те, и Петруша ... и я
может быть первый, во главе ... Но больной исцелится и "сядет у ног
Иисусовых"» [10: 499].
Роман «Бесы» противопоставлен роману «Идиот» (да и всем осталь­
ным произведениям в составе Пятикнижия) не только по житийным и
литургическим особенностям, и по своей храмовой доминайте. У князя
Мышкина особая архитектурная интуиция. Он наделен способностью
разгадывать скрытую в архитектурных сочетаниях тайну [8: 170], и это
теснейшим образом связано с концепцией образа, а именно: духовное
сближение с Логосом как архитектоном вселенной131. Цель автора — по­
казать в образе героя сооружение духовного, небесного храма, который
присутствовал бы незримо и одновременно с тем незаметно осуществлял
бы спасительный для человечества церковный принцип соборности.
В образе инженера-строителя Кириллова в «Бесах» проявляется аб­
солютно противоположная архитектурная символика. Кириллов приехал
«из-за границы», чтобы строить «мост» в губернском городе. Понятия
«строительство» и «мост», несомненно, надо понимать не только бук­
вально — они раскрывают особые духовные топосы. В контексте миссии
Кириллова и осуществления его идеи о человекобоге выясняется, что
«инженерство» его, как правильно отмечает исследователь, «воздвига­
ется в ранг сверхъестественного, чуть ли не Божественного, миростроительства. Поэтому и предполагаемый "мост" — не только конкрет­
ный объект, сколько специальная категория, вариантное наименование
миссии Кириллова... Иначе говоря, он действительно сооружает для
человечества "мост" из самого себя, из своего самоубийства» [Faryno,
1991:264]. Надо также подчеркнуть, что антихристова символика Ки­
рилловского мостостроительства усиливается ассоциативной аналогией
с римско-католическим папским титулом «pontifex maximus» («верхов­
ный жрец», буквально «великий мостостроитель», pons, -tis («мост») +
facere («делать»)). О том, что «строительство» Кириллова несет имен­
но демонический смысл сооружения подземной церкви, свидетельству­
ет следующий факт: именно таких «недоконченных людей» (вследствие
Петровской реформы вообще), как инженер в «Бесах», имеет в виду
автор, определяя суть «подполья» (преисподней) словами «нет ничего
святого» [16: 330] (курсив автора. — И. //.). Достоевский с гордостью
называет себя «певцом подполья» и, несомненно, именно он определя­
ет Кириллова как совершенного представителя и строителя подземной
257
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
«соборной» «церкви» человекобожиаков. Таким образом, роман «Бесы»
связывается единственно с подземной храмовостью и выполняет функ­
цию, аналогичную криптуальной зоне храма.
Еще раз хочу подчеркнуть, что роман «Бесы» не представляет единс­
твенно демоническое, наоборот — наряду с инфернальной символикой,
в нем присутствуют светлые и яркие положительно-прекрасные герои и
идеи (притом в такой же степени, как и в остальных романах Пятикни­
жия). Таковы, например, сказочный народно-монашеский образ «идиот­
ки» Марьи Лебядкиной (развенчавшей самозванство «князя» Ставрогина), и обаятельный в своей смиренной святости отец Тихон, и возвра­
тивший через покаяние свой человеческий облик Стефан Трофимович,
и скромная подвижница и распространительница Евангелия Софья, и
многие другие. Не эти образы, однако, и не темы покаяния, смирения и
спасения являются определяющими для данного романа Достоевского, а
только экзистенциальная трагедия в житии отпавшего человеческого
духа, духовная брань в литургическом елеосвящении, криптуальность
храма. Именно эти три основные доминантные линии придают харак­
терный облик «Бесам» и точно определяют специфические уникальные
функции, которые это произведение выполняет в контексте гигантского
пятикнижного романа (см. схему 11).
2.5. «Братья Карамазовы» — завершающий
агиографический этап: алтарная храмовость
и таинство священства
Как и остальные произведения в составе Пятикнижия, последний
роман Достоевского содержит в себе все основные этапы жизни агио­
графического героя. Детство, или начальный этап подвижнического
пути, представлено в романе в образе «русского инока» Алеши Карама­
зова, юностью Зосимы и детскими образами. Юность, пора искушений,
или кризисный этап, ведущий к двум возможностям по вертикали «не­
бесное — подземное», — к победе над страстями, возвращению веры и
обожению (Митя Карамазов, юный Зосима, Грушенька, колеблющийся
Алеша и др.)132 или к отпадению от веры и впадению во власть демо­
нического (старый Карамазов, Смердяков, Иван Карамазов). Смерть и
чудеса после смерти — третий, завершающий этап (конец старца Зоси­
мы, чудо «Кана Галилейская», мученическая смерть Илюшеньки, чудо с
возрождением Церкви).
Как и остальные романы, «Братья Карамазовы» представляют все
зоны храма и все таинства, точно соответствующие указанным выше эта258
Глава 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
пам жития агиографического героя (об этом уже шла речь при типологи­
ческом анализе храмового вида романной структуры). Это замечательное
произведение, однако, также характеризуется ясно выраженным метабо­
лизмом, который дает ему возможность, с одной стороны, демонстриро­
вать весь идейно-тематический компендиум Пятикнижия, а с другой —
менять эту общую идейно-тематическую основу цикла таким образом,
который превращает роман «Братья Карамазовы» в уникальную и незаме­
нимую доминантную компоненту метаромана. Именно эта доминантная
компонента является здесь объектом критического внимания и анализа.
С этой точки зрения сразу бросается в глаза, что «Братья Карама­
зовы» — естественное продолжение горизонтальной житийно-храмовой
линии, начатой «Подростком» и «Преступлением и наказанием». В обра­
зе центрального персонажа Алеши Карамазова «дублируется» начальный
момент подвижнического пути (оглашение Алеши старцем Зосимой),
т. е. основная доминанта романа «Подросток». Алеша Карамазов в том
же возрасте, что и Аркадий — ему 20 лет [см.: 14: 17]. «Дублируется»
и кризисный момент в житии: духовные сомнения, терзания Алеши и
почти утерянная после смерти Зосимы вера — все это вызвано «духом
разложения», охватившего тело его старца. Эта же «потеря веры» (ра­
зумеется, показанная в более грубом варианте) является доминантной
линией романа «Преступление и наказание». Хотя и «дублирующие»,
эти моменты не развиты пространно и не акцентируются с такой силой в
образе «русского инока». Приоритетом его является что-то иное, что со
своей стороны намечается в образах Аркадия и Раскольникова, а имен­
но — отстаиваемая до конца святость. Святость, однако, в плане гори­
зонтального, земно-житийного, а не в вертикальной юродивой крайнос­
ти мистика-«идиота» князя Мышкина. Это объясняет категорически под­
черкнутую автором характеристику героя — «даже и не мистик вовсе»,
Алеша — реалист [Там же: 17]. В плане горизонтального бытия агиогра­
фического героя «Братья Карамазовы» знаменуют специфическую только
для этого произведения доминанту, которая в контексте Пятикнижия по
смыслу своему соответствует агиографическому окончанию (ш^ато^) как
осуществившейся человеческой соборности «во Христе», какова симво­
лика «детской» церкви, основанной Алешей в конце романа, и алтарю
как архитектурному окончанию и духовному eoxaxoq-y по горизонтали
храма (а не по небесной вертикали храма, которой соответствует купол,
символически изображенный в романе «Идиот») (см. схему 11).
Последние этапы земного жития и храма неотделимы и семиотичес­
ки идентичны, поэтому их следует рассматривать одновременно. Мне
259
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
кажется, что объяснение этой агиографическо-храмовой доминанты в
романе «Братья Карамазовы» тесно связано с так называемой каменной
(гемологической) символикой, четко проведенной как в рассматриваемом
романе, так и в Пятикнижии в целом.
Я уже говорил о том, что камень выполняет особые функции в пос­
ледней сцене «Братьев Карамазовых» — он знаменует каменный престол
в алтаре, вокруг которого (или, в духовном смысле, в основании кото­
рого) совершается священнодействие при сооружении нововозрожденной христианской церкви. Камень знаменует конец романа наподобие
престола в алтаре, который также является последним восточным топосом по горизонтальной канонической оси храма. Из этого следует, что
камень, который является еще в начаче романа, несет там принципиаль­
но иную символику, чем тот же камень в конце книги, и она объяснима
только в контексте проблемы святости. Эта проблема, со своей стороны,
находится в тесной связи со стремлением Достоевского разрешить давно
уже терзающую его дилемму: как разорвать порочный круг, как восста­
новить утерянные духовные связи «отцов» и «детей», как преобразовать
«случайное семейство», претворить его (в литургически-евхаристийном смысле этого слова) в христианское — церковное? Естественно, эта
тема не нова для писателя. В той или иной форме она присутствует во
всех романах пятикнижного цикла, однако в «Братьях Карамазовых» ей
придается принципиально иная трактовка. Постараюсь разъяснить, что я
имею в виду.
О семейной проблематике романа, как известно, написано немало,
• но кажется, что основное внимание до сих пор всегда было направлено
только к «случайному семейству» Федора Карамазова. Такая ориента­
ция, на первый взгляд, обоснованна. Действительно, и в буквальном, и
в метафизическом смысле семья Карамазовых — это семья искалечен­
ная, разрушенная, странная, разладившаяся, поссорившаяся, фактичес­
ки несуществующая (отсутствие матери в данном случае несет особое
значение). Духовные связи сыновей с отцом, а также в большой степени
и самих сыновей прерваны, и словно ничто уже не в состоянии восстано­
вить и объединить их в общую идею — превратить их в семью. Наоборот,
идейный разлад усиливается, переходит в открытую вражду, перерастает
в бунт и доходит до отцеубийства.
В религиозном контексте романа отцеубийство — не только кри­
минально-социальный акт, оно несет глубинные мистические основа­
ния. В соответствии с известным толкованием «Братьев Карамазовых» в
свете патерналистической теории, убийство старого Федора Карамазова
260
Г'л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
следовало бы понимать как символическое и восходящее к генеральным
обобщениям. Во-первых, это убийство отца (главы семейства), во-вто­
рых — убийство барина, государя (батюшки-царя) и, наконец, посяга­
тельство на самого Бога-Отца. Оно, таким образом, является покушени­
ем на фундаментальные устои бытия, так как отец, барин, царь (каждый
на своем уровне) являются символическими воплощениями сверхот­
ца— Бога [см.: Стоянов, 1988, 1: 427-434, 564 и далее]. Я не отрицаю,
что это критическое наблюдение имеет основания, но мы должны так­
же спросить себя: неужели в своем романе Достоевский задается целью
описать — в который уже раз — очередное «случайное семейство» (хотя
и в новой, последней фазе духовного и физического распада), не пытаясь
дать ответа на вопрос, как можно его спасти, каков выход из создавшей­
ся смертельной опасности не только для человеческого общества, но и
для космического порядка в целом? Нет, Достоевский не забывает дать
свою формулу спасения, и эта «формула», как можно предположить, не
в духовном усыновлении Алеши его религиозным отцом Зосимой (эта
модель предложена еще в «Подростке» (ср. духовное усыновление Арка­
дия Макаром)), а представлена на примере другого семейства — семьи
штабс-капитана в отставке Николая Ильича Снегирева.
Действительно, как ни отличалась семья Федора Карамазова харак­
тером и остротой углубившихся конфликтов, семью капитана Снегире­
ва не в меньшей степени можно определить как «семейство в кризисе».
Снегирев, хотя и в другом масштабе, так же, как и старый Карамазов, не­
сет в себе примету ярко выраженного неблагообразия. В нем есть что-то
ужасно деформированное, что-то «угловатое, спешащее и раздражитель­
ное». «Лицо его изображало какую-то крайнюю наглость и в то же вре­
мя ... видимую трусость ... он похож был на человека, которому ужасно
бы хотелось вас ударить, но который ужасно боится, что вы его ударите».
Голос у него пронзительный, и в нем улавливается какой-то «юродливый
юмор, не то злой, не то робеющий» [14: 181]. В семье Снегирева с трудом
можно найти уважение и взаимопонимание. В некотором смысле и здесь
отец, подобно старому Карамазову, — «шут» и «паяц», как все время пре­
зрительно и гадливо называет его «слишком умная» курсистка Варвара
Николаевна, его дочь [Там же: 182-188].
И все же мы сталкиваемся с важной особенностью. Маленький
Илюшенька, девятилетний сын капитана, независимо от всего безумно
любит своего неблагообразного отца-неудачника, любит «униженного»
и «посрамленного своими пороками» слабого отца. Илюша, оказывается,
не «слабый сын» и «обыкновенный мальчик», который бы «смирился,
261
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
отца своего застыдился», а такой, который «один против всех восстал
за отца. За отца и за истину-с, за правду-с» [Там же: 181, 187]. Сильный
сын заступается за слабого отца, приносит себя в жертву за отца. Разни­
ца с семьей Карамазовых действительно огромна — жертвенная смерть
сына является контратезой убийства отца. Формула найдена. Инициатива
по восстановлению утерянного благообразия исходит не от отцов (будь
они кровными или духовными), а от их сыновей. Религиозно-метафизи­
ческий аспект этого действия эксплицируется в романе на нескольких
уровнях.
Во-первых, подчеркивается, что Илюша совершает духовный под­
виг— ополчается против всех, чтобы защитить честь отца («...воспря­
нул в Илюше благородный дух» [Там же: 187]). Во-вторых, это акт само­
пожертвования (ср. рассказ отца: «.. .да уж и попало-с, не в голову, так в
грудь-с, повыше сердца-с, сегодня удар камнем, синяк-с, пришел, плачет,
охает, а вот и заболел» [Там же]). Удар, как физический, так и моральный,
ускоряет развитие болезни (туберкулез), и очень скоро Илюша умира­
ет. Сцена с шестью школьниками, бросающимися камнями в одинокого,
находящегося по ту сторону канавки Илюшу, символически восходит к
библейскому мотиву о толпе иудеев, убивающих камнями своих проро­
ков, которых они считали грешниками (ср. слова Алеши к противникам
Илюши: «...шестеро на одного, да вы убьете его!» [Там же: 767]). Этот
крик усиливает ассоциативную связь, тем более что в некотором смысле
пророчество Алеши действительно сбылось — в тот же день Илюшенька
заболел и больше не встал с кровати [Там же: 485]). Забрасывание правед­
ника камнями — одна из наиболее частых в Писании форм наказания и
убийства [см.: Матф., 21: 35; 23: 37; Лк., 13: 34; 20: 6; Ин., 8: 5; 10: 31, 32,
33; 11: Я; Деян., 5: 26; 2 Кор., 11: 25; Евр., 11: 37 и др.]. Илюша совершает
противоположное всем ожиданиям действие: он открыто защищает честь
своего отца, неблагообразия которого любой иной бы стыдился. Этим он
первым осуществляет на практике свое пророческое служение. Несом­
ненно, имя героя также символично: Илюша — уменьшительное от Илья,
имя самого великого библейского пророка и ветхозаветного ревнителя
веры в Единого Бога. Имя Илия (древнеболг. Нлшд; греч. ЕАлск; из древнеевр., означает «Яхве — мой Бог»; Яхве, Иегова — «Бог-Отец»). За свое
пророчество во имя Отца герой терпит огромные духовные и физичес­
кие страдания. За любовь и преданность к отцу он принимает мученичес­
кую смерть. В связи с этим значимо также то, что первый христианский
мученик, св. Стефан, также был убит камнями, а одни из последних слов
первомученика, мне кажется, имеют прямую связь со сказанным здесь:
262
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с Оомипантиой системой романов
Пятикнижия
«Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! Вы всегда
противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы» [Деян., 7: 51].
Илюшу ударили в грудь, «повыше сердца», и это несет особый
смысл — затронут мистический центр души. Мальчик умирает, но с лю­
бовью к бывшим «врагам», и именно эта любовь зажигает в их серд­
цах огонь веры. Маленький мученик превращается в священное воспо­
минание для всех них. И это самое главное, к чему призывает и Алеша
Карамазов в конце романа: «Будем помнить и лицо его, и платье его, и
бедненькие сапожки его, и гробик его, и несчастного грешного отца его,
и о том, как он смело один восстал на весь класс за него\» [15: 196]. О на­
стоящем смысле воспоминания пойдет речь в дальнейшем, теперь я хочу
обратить внимание на другое.
В образ Илюши писатель вкладывает огромный духовный потен­
циал. С одной стороны, самопожертвование сына искупает греховное
неблагообразие отца — восстановлены честь семьи и нарушенная гармо­
ния бытия. С другой стороны, совершенный маленьким героем страдаль­
ческий акт венчает его мученическим венцом святости. Через его образ
Достоевский, несомненно, проводит идею о новой сыновней святости.
Даже тленные останки Илюши как-то ближе к канонической модели,
чем мощи старца Зосимы: «Черты исхудалого лица его почти совсем не
изменились, и, странно, от трупа почти не было запаху. Выражение
лица было серьезное и как бы задумчивое» [Там же: 190]. Другой факт,
недвусмысленно подтверждающий святость маленького тероя-мученика, — это совершенное им еще при жизни чудо. Он становится основной
причиной покаяния грешника Мити Карамазова, который видит сон-от­
кровение о «плачущем дитя». Еще во сне Мити сказано: «...и чувствует
он еще, что подымается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в
нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то
такое, чтобы не плакало больше дитё» [14: 456-457]. Этот разбередив­
ший его душу сон провоцирует слова признания, полные слез и покая­
ния: «...все плакать заставляем людей, матерей и грудных детей, но из
всех ... из всех я самый подлый гад» [Там же: 458]. Второе великое чудо
ребенка-мученика совершается после его смерти — на нем я останов­
люсь впоследствии. В этом контексте исключительно важен смысл сле­
дующей ситуации: после похорон Алеша идет с группой детей ведущей
за город дорогой, в конце которой стоит большой камень — любимое мес­
то усопшего Илюши. И здесь Смуров, один из мальчиков (точнее, левша),
кидавшихся камнями в Илюшу, вдруг восклицает: «Вот Илюшин камень,
под которым его хотели похоронить!» [15: 194]. В духе предложенного
263
Часть
3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
здесь анализа эти слова несут точно определенный сакральный смысл.
Несомненно, они восходят к эпиграфу романа о пшеничном зерне, ко­
торое своей смертью приносит много плода [Ин., 12: 24]. Такую же евхаристийную символику несет и смерть Илюшеньки, которая приносит
богатую духовную жатву — обращение в веру всех его «противников».
Подвиг героя-мученика ложится в основу строящейся обновленной хрис­
тианской церкви. Об ассоциации с мотивом «встраивания» и «строитель­
ной жертвы» я говорить не буду — по этому вопросу написано доста­
точно [см.: Ветловская, 1978: 103; Жечев, 1985: 373-374], остановлюсь,
однако, на других наблюдениях, прямым образом связанных с духом цер­
ковного предания.
Я сказал, что смерть Илюши является следствием мученического
подвига, подвига святости для восстановления имени, достоинства и
веры в отца. Согласно преданию, «в память того, что во времена гонений
христиане совершали богослужение над могилами мучеников» [Нестеровский, 1931: 95], устанавливается требование полагать мощи святых
под церковный престол, являющийся «.могшой, помещающей останки
святых, души которых находятся перед алтарем небесного Иерусали­
ма» [Там же: 60]. Совершать богослужение не позволено в храме, где
алтарный престол не освящен, т. е. под ним не положены мощи святых
[Там же: 63, 64, 343-345 и др.]. Именно такой смысл несут и слова о
захоронении тела («мощей») Илюши («мученика-святого») под камень,
стоящий в конце пути (т. е. обозначающий «Vo^aio*;» ЖИТИЙНОГО И под­
вижнического пути, в начале которого находятся «двери» отчего дома, а в
конце — место сыновней Голгофы). От жертвенника и Голгофы (в начале
романа) камень (в конце) приобретает значение Гроба и Престола, вокруг
которого собирается молодая новозаветная церковь. Таким образом, от­
вергнутый вначале всеми Илюша становится в конце романа основанием
объединения («Камень, который отвергли зиждущие, стал головою угла»
[14: 336; см. также: Псалт., 117: 22; Мф., 21: 42]). И это самое большое
посмертное чудо маленького святого мученика. Таким образом, Илюшин
камень сравнивается по значению с каменным престолом храма и фикси­
рует главный сакральный топос в алтаре. Не случайно место, где он на­
ходится, названо в романе «местом пустынным и прекрасным» [14: 188],
и это прямая ассоциация со спасением в духовной пустыни и царствии
небесном. Вышеуказанная семантика не меняется от того обстоятельства,
что маленький герой похоронен не буква!ьно под камнем, а на кладбище
«с крестом» [15: 190]. Это обстоятельство только способствует переме­
щению толкования от плоскости буквального к духовному смыслу. Ины264
Гл а в и 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов
Пятикнижия
ми словами — от конкретной видимой символики материального храма
(как эманации физической аскетической практики) к духовным реалиям
невидимого храма в душе человека (эквивалента внутренней аскезы).
Эта особенность прямым образом связана с идеей Достоевского о
«русском иноке» и его миссии — возрождении христианской церкви в
мире. Вот что я имею в виду Линией «Зосима — Алеша» в романе До­
стоевский раскрывает таинство священства (основную литургическую
доминанту в произведении). Святой отец буквально рукополагает и по­
сылает своего любимого ученика служить в мире («...улыбнулся старец,
положив правую руку свою на его голову» [14: 258], «...тебя, Алексей,
много раз благословлял я мысленно ... изыдешь из стен сих, а в миру
пребудешь как инок» [Там же: 259]). И «русский инок» покидает монас­
тырь и кладет основы своего дела — возрождения церкви в мире через
придание ей нового, духовного облика. Уклон к внутреннему типу аскетики, противопоставленный внешней (представленной в физическом
изуверстве отца Ферапонта), очевиден. «Русский инок» придает новый
образ священнодействию. Этот образ — «напоминание и пророчество»
о будущей церкви, осуществившей полноту в Богообщении через перихорезис видимого и невидимого, материального и духовного — через
единство внешнего и внутреннего подвижничества. Здесь проявляется
стремление автора, сохранив все ортодоксальные ритуальные действия,
показать не только их внешний облик, но раскрыть также и их скрытый
духовный смысл. Плавный переход от видимого к невидимому является
постепенным восхождением от реалистической конкретики образа к его
теофанически-спиритуальной символике. Например, камень, о котором
я уже говорил, — это не просто реальный объект, он несет знаковые ха­
рактеристики видимого престола в алтаре материального храма, но не
в этом основная цель Достоевского. Как я уже говорил, видимый храм
воплощает физическую аскетику. Для писателя этот образ несет иной,
эпифаническии смысл — в нем высвечивается надмирный реликт духов­
ной реальности. Чтобы понять вложенную в него настоящую символику,
приходится рассмотреть еще раз последнюю сцену романа.
Итак, после восклицания Смурова: «...вот Илюшин камень, под ко­
торым его хотели похоронить!» — все останавливаются «молча у боль­
шого камня», и Алеша вдохновенно произносит символ веры новосформированной «детской» церкви. Ключевым понятием в этом «верую» яв­
ляется слово «воспоминание». «Знайте же, что нет ничего выше и силь­
нее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь
воспоминание, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского
265
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика
Пятикнижия
дома ... И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас ос­
танется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во
спасение» [15: 195]. С восклицаниями: «Вечная, вечная», «Будем, будем
помнить», «Вечная память» — ученики подтверждают слово своего учи­
теля. Алеша особо настаивает на том, чтобы сказать именно здесь, «пе­
ред Илюшиным камнем», самое главное: «...не будем никогда забывать
друг об друге». Четко намечается процесс, в котором значение камня как
памятника (т. е. алтарного престола) усопшему герою-мученику (камень
назван «Илюшин») отодвигается от конкретного материального объек­
та и направляется к духовному субституту — воспоминанию о личности
Илюши. То есть каменный престол (в алтаре видимого храма) превраща­
ется в мысленный престол (важнейший топос духовного храма). И еще
нечто особенно важное. Воспоминание вселяется именно в сердца юных
подвижников новосформировавшейся церкви. Это подчеркивается неод­
нократно: «.. .вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во
веки веков!», «...всех вас заключу в мое сердце, а вас прошу заключить
и меня в ваше сердце]» [Там же: J96]. Только рассмотренные в контексте
учения о внутренней аскетике, эти выражения могут адекватно раскрыть
свой смысл. Сердце, ум, мысленная молитва — вот составляющие по­
нятия духовного подвижничества. Сердце — это сакральный центр лич­
ности, алтарь антропологического духовного храма. В нем ум, как свя­
щенник, совершает богослужение и приносит бескровную жертву перед
расположенным в сердце-алтаре мысленным жартвенником (престолом).
По этому вопросу уже было сказано достаточно. Именно в таком смыс­
ле, который вкладывает в них внутренняя аскетика, понятия «сердце»,
«память», «камень» употребляются и Достоевским. Камень, описанием
которого заканчивается роман, меняет свое первоначальное значение ви­
димого престола в алтаре материального храма и превращается (точнее,
претворяется) в воспоминание, в мысленный, спиритуальный жертвен­
ник-престол, «заключенный» в сердце (алтаре) духовного храма лич­
ности. Это воспоминание (жертвенный престол), подобно каменному
престолу (под который полагаются мощи святых), становится основой и
гарантией для спасения души (в двойном значении «наоса» и цельного
духовного «храма»), иными словами, спасения внутреннего человека, а
тем самым и будущего его телесного воскресения.
Достоевский мастерски пользуется принципом эпифании в описа­
нии и словесном воплощении всех элементов духовного храма человека;
он не забывает и церковный звон колоколов. Именно последний является
классическим примером, иллюстрирующим то, как профанно-бытийное
266
Г'л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной системой романов Пятикнижия
значение сцены или предмета трансцендентирует, возвышаясь к мета­
физическому. Я рассмотрю его вкратце. Ситуация следующая: Илюша
совершил «зверскую», «подлую шутку». По наущению лакея Федора Ка­
рамазова, демонического Смердякова, он подбросил голодной дворовой
собаке Жучке мякиш с воткнутой в него булавкой. Несчастное животное
проглотило кусок и завизжало от боли, побежало и скрылось от взгляда
пораженного мальчика. Эта сцена мгновенно потрясла его. Решив, что
стал причиной смерти собаки, Илюша стал мучиться угрызениями со­
вести. Весь в слезах, он исповедуется в своем грехе перед другом Колей
Красоткиным, и позже, уже сваленный в постель болезнью, не перестает
повторять отцу: «...это оттого я болен, папа, что я Жучку тогда убил,
это меня Бог наказал». Огромный грех давит юную чувствительную
душу — разверзает в ней болезненную духовную рану. Его друг, Коля
Красоткин, находит уцелевшую Жучку и, никому не сказав, запирает у
себя дома и начинает тайно и упорно обучать и перевоспытывать ее. Его
цель — показать собаку страдающему Илюше, но во всем ее блеске — пе­
ревоспитанную и дисциплинированную, одним словом, преображенную.
И действительно, перед неверующими и счастливыми глазами больного
умирающего мальчика является «новая» Жучка — «его же» с виду, но все
же будто вполне переменившаяся, ничего общего не имеющая с прежним
жалким и отвергнутым всеми существом. Вместо безличной клички Жуч­
ка («Жучка, кличка черной собаки» [Даль, 1989, 1: 547]) она получила
достойное, внушительное и, как подчеркивает его «крестный отец» Коля,
настоящее «славянское имя» — Перезвон [14: 490]. Вся сцена несет глу­
бокий подтекст. Вот один из важнейших «номеров» вымуштрованного
Колей Перезвона: перед постелькой смертельно больного Илюши после
приказа «Умри!» собака ложится на спину и прикидывается «умершей»,
и только после крика «Иси, Перезвон!» снова «оживает». Символика
ясна. Во-первых, действие изображает смерть бездомной собаки Жуч­
ки и воскресение ее уже в новом облике — в облике Перезвона. Жалкая
«безымянная» собака «Жучка» превратилась в достойного своего имени
Перезвона. Это первый ассоциативный уровень. Второй, более сущест­
венный: превращение Жучки в Перезвона несет глубинный смысл, за­
ключенный в новом имени. Перезвон — действительно «славянское имя»,
но не личное, а производное от церковного термина с точно определен­
ным смыслом. Понятие «перезвон» в православии именует специальный
звон колоколов, при котором в них бьют последовательно — от самого
большого к самому маленькому. Перезвоном знаменуются вечерня Вели­
кого Пятка перед выносом плащаницы; утреня Великой Субботы и в про267
Ч а с т ь 3 • Полпика и герменевтика Пятикнижия
должение всего крестного хода с плащаницей; на самой пасхальной ли­
тургии во время чтения Евангелия; на утрене в день Воздвижения Креста
Господня; в Неделю Крестопоклонную; перед малым освящением воды;
перед посвящением в сан епископа [см.: ЗБ, 1987: 707-709; ППЭС, 2:
1793-J794]. Этот звон символизирует «истощание» («умаление», «кенозис») Сына Божия Иисуса Христа во имя нашего спасения (как, напри­
мер, поется в ирмосе 4-й песни, 5-го гласа: «Божественное Твое разумевъ
истощаше... во спасете людей Твоихъ...»).
В этом смысле сцена, изображающая «умирание» и «оживание»
Жучки-Перезвона (а также ассоциативная связь имени Перезвон с цер­
ковным перезвоном), знаменует близкую смерть Илюшеньки, но сим­
волизирует также предчувствие его будущего воскресения (как и смерть
и воскресение человечества в целом): «...неужели и взаправду религия
говорит, что встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга, и
всех, и Илюшечку?» — спрашивает взволнованный Коля. «Непременно
восстанем, непременно увидим», — радостно отвечает Алеша. Перезвон
возвещает в конечном итоге победу жизни над смертью и вечную нескон­
чаемую радость будущей жизни в Царствии Христовом.
Из вышеизложенного становится ясно, насколько мастерски До­
стоевский пользуется эпифаническим принципом, чтобы воплотить при
помощи слова все «элементы» внутреннего духовного храма человека.
Однако настоящей целью писателя (как, впрочем, неоднократно под­
тверждалось сказанным здесь) является не одностороннее утверждение
духовно-аскетического пути. Наоборот. Его заветная цель — единство
и полнота Богообщения, видимого и невидимого, духовного и телесно­
го подвижничества. В этом смысле многократно повторяющееся в конце
романа восклицание «Вечная память!» является прямым отголоском по­
хоронной службы в храме, на которой смиренно присутствуют Алеша
и его последователи [15: J92]. Ведь только за несколько минут до вдох­
новенной речи Алеши перед Илюшиным камнем все они неоднократно
слышали в храме и перед могилой возглас и пение «Ксчндга пдлшть»,
которым заканчивается отпевание покойника и после которого следует
закрывание гроба [см.: Требник, 1981: 272,273]. Слово Алеши призывает
не к отделению, наоборот — к единению с ритуальной традицией Церк­
ви. Поэтому и последние слова к юным его последователям проповедуют
единение с древним ритуалом: «Ну, а теперь кончим речи и пойдемте на
его поминки. Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное,
вечное, и тут есть хорошее, — засмеялся Алеша. — Ну пойдемте же!»
[15: 197].
268
Г л а в а 2 • Экзегетические примечания в связи с домгшаитиой системой романов Пятикнижия
Следовательно, идейно-эстетическая доминанта романа «Братья Ка­
рамазовы» дает формулу тотального перихорезиса духовных и матери­
альных форм; внутренней и внешней аскетики; видимого и невидимо­
го храма. И этот перихорезис возможен прежде всего в алтарной зоне,
где властвует принцип символического реализма и где камень в конце
пути — не просто камень, он превращается в каменный алтарный пре­
стол, а из престола — в мысленные скрижали памяти, на престоле кото­
рой приносятся бескровные жертвы любви; это и есть соборное единение
людей во имя будущего светлого воскресения. Путь к этому «алтарному»
превращению долог, и роман «Братья Карамазовы» фиксирует только его
крайний эсхатологический этап. Посмотрим, как обстоят дела с началь­
ным этапом.
Образ камня присутствует и в «Подростке» — романе, отмечаю­
щем начаю литургической агиографической храмовой горизонтали.
Этот камень упоминается в анекдоте, который расположен почти в цен­
тральной части романа [см.: 13: 165-167] и который Петр Ипполитович
(домовладелец подростка) рассказывает Версилову и Аркадию. В анек­
доте говорится об огромном камне, лежащем посреди улицы, который
мешал проезду, и император приказал убрать его. Никто, однако, не мог
справиться с этой задачей — ни англичане, ни французский архитектор
Монферан. Тогда обыкновенный русский мещанин сразу нашел ответ:
нанял несколько «обыкновенных русских мужичков», таких же, как он,
они вырыли достаточно глубокую яму непосредственно у камня, ка­
мень в нее толкнули и зарыли. Этим дело и кончилось. Мещанина сразу
удостоили медали, он, однако, не выдержал славы и спился. Версилову
по-настоящему забавен «патриотически-непорядочный рассказ», и он
говорит Аркадию: «Этот камень, кажется, и теперь стоит, если только
не ошибаюсь, и вовсе не зарыт в яму» [Там же: 165-167]. В контексте
идейно-религиозного анализа этот рассказ несет особый смысл, который
не исчерпывается анекдотическим. Камень как символ веры, на фунда­
менте которого зиждется здание Церкви, в данном случае несет в себе
оба смысла: он представлен как исчезнувший, потонувший и зарытый в
землю (поглощение хтоническим) и как все так же гордо возвышающий­
ся над земным. В первом случае он символизирует утерянную (Версиловым), а в втором — отстаиваемую (Макаром) веру. Амбивалентность
занимаемого камнем положения (подземное — надземное) раскрывает
колебание религиозного чувства подростка, сложные испытания, через
которые должна пройти его вера.
269
Ч а с т ь 3 • Поэтика и герменевтика Пятикнижия
Образ «большого неотесанного камня» встречается и во втором ро­
мане, «продолжающем» горизонталь «Подростка», — «Преступлении и
наказании». Здесь он является в начале и в конце книги [см.: 6: 85, 410] и
превращается в своеобразную рамку текста. В отличие от «Подростка»,
однако, его положение здесь устойчиво (как следствие этапа духовного
крещения Аркадия) и выполняет уже функцию духовной «мацебы» (куль­
товой зоны) для героя — в религиозном символе веры. Различие между
первым и последним появлением камня в «Преступлении и наказании»
очевидно. Первоначально в основу этого «символа веры» Раскольников
кладет овеществленное выражение своего мировосприятия— золото
(прячет украденные золотые предметы под камень [см.: 6: 85]) — как
следствие своего отпадения от новозаветной веры и обращения к вет­
хозаветному принципу иудаистского талионного права («око за око, зуб
за зуб») и стремления через «кесарево» (золото) достичь Божественного
(насильно творить добро). В конце романа тот же камень несет другой
символический смысл и выполняет принципиально иную роль. Духовная
голгофа, через которую проходит герой, приносит богатые плоды пока­
яния. Они меняют в очередной раз его ментальную сущность и возвра­
щают прежний образ веры (именно это символизирует в конце романа
изъятие золота, лежащего под камнем). Момент настоящего восстанов­
ления, однако, еще далек. К нему герой придет после «великого, будуще­
го подвига», который заменит золотые основания камня веры мощами
святости — но это далеко впереди, как уже говорилось. Герою предстоит
преодолеть «кризисный этап» окончательного определения — верти­
кальный этап «pro» и «contra», который не всегда заканчивается высшим
подвигом самопожертвования (как это показано в «Идиоте»), а может за­
вершиться и окончательным отпадением жидовствующей человеческой
природы в бездну небытия («Бесы»). Не случайно этим же камнем веры
как основым примером пользуется Кириллов: «...представьте камень та­
кой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним ... В камне
боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль страха смерти.
Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог» [10: 93-94]. Для атеисти­
ческого сознания вера из камня созидания и спасения превращается в
апокалиптический ужас — в камень раздавливающего неверия, уничто­
жения и смерти.
Настоящий смысл образа камня как алтарного фундамента и опо­
ры Церкви раскрывается, как я отметил выше, третьим этапом литургическо-агиографическо-храмовой горизонтали', он воплощен в романе
«Братья Карамазовы». Именно здесь преодолевается пустота, образовав270
Глава
2 • Экзегетические примечания в связи с доминантной
системой романов
Пятикнижия
шаяся под камнем веры (в конце «Преступления и наказания»). Она вос­
полняется при помощи верховного духовно-физического мученического
подвига сыновнег) святости и любви, во-первых, к конкретному земно­
му отцу (восстанавливая утерянное им благообразие), во-вторых, к его
духовному измерению (земному образу Небесного Отца). Этот подвиг
сначала превращает камень в сыновнюю Голгофу, затем — в алтарный
престол будущей Церкви, и, наконец, в мысленный жертвенник и залог
всечеловеческого спасения. Следовательно, смысловой эквивалент камня
в «Братьях Карамазовых» — результат не только сюжетного развития в
границах конкретного произвединия, но и прямое следствие цельной гемологической (лат. gemma - камень) системы Пятикнижия. Иными сло­
вами, гемологическая символика добавляет новый важный акцент к про­
блеме соборного единства и раскрывает еще раз таинственные взаимоот­
ношения между отдельными произведениями в составе Пятикнижия.
Таким образом, роман «Братья Карамазовы» превращается в естест­
венное окончание всего Пятикнижия — в литургическом, агиографичес­
ком и храмовом эсхатосе метаромана.
Заключение
Необыкновенная тишина окружает уже более чем столетие одну
из важнейших проблем в творчестве Ф. М. Достоевского — всеобъем­
лющее влияние исторического канонического православия на личность,
креативный процесс и окончательный творческий продукт великого пи­
сателя. Причины этого молчания многочисленны, разнообразны, и не­
которые из них я попытался раскрыть в своем исследовании. Одна из
наиболее существенных причин, как мне кажется, это духовный мрак,
в который надолго погрузился сам Восток в начале XX века (сбылось
предсказанное Достоевским в «Бесах»). Поэтому этот великий автор ос­
тается недоступным для давно отошедшего от ортодоксальной религиоз­
ной ментальности зараженного языческим гуманизмом западного мира.
В последнее время холодный туман непонимания, кажется, начинает
подниматься, и все яснее предощущается огромное значение православ­
ной религиозности для проникновения в личность и творческое наследие
писателя. Независимо от этого положительного процесса, однако, многие
тайны поэтики и идейного содержания посланий произведения христи­
анского творца и по сей день остаются загадкой для нас.
Предложенный труд не претендует на исчерпывающую глубину.
В нем представлена попытка высветлить лишь некоторые существенные
вопросы в области формальной поэтики и содержательной экзегетики
романа Достоевского исключительно с точки зрения догмшпо-мыстического ортодоксального учения. Я стремился к наибольшей чистоте
анализа, избегая всех форм спекулятивного синкретизма. Иными сло­
вами, здесь обращено внимание преимущественно на те явления, кото­
рые в творческом мире Достоевского берут свое начало в ортодоксии
и могут, следовательно, быть адекватно объяснены только при помощи
православного учения. Примененный в данном случае метод опирается
на святоотеческое наследие, и с его помощью проверяется возможность
прочитать произведения писателя как канонические сочинения, эстети­
чески воплотившие в себе постулаты ортодоксально-мистического уче­
ния. В исследовании применяются частично и приемы, сходные по духу
с позитивистским сциентизмом: анализ проводится со строгой опорой
272
Заключение
на фактологическую картину с целью «сжать» и притупить, насколько
это возможно, агрессию субъективистского критического восприятия
жизни, искажающего и деформирующего изучаемый объект в соответ­
ствии со своей предвзятой точкой зрения. Эти требования и определили
в целом трехчастную структуру труда. В первой части книги наши уси­
лия были направлены на раскрытие сложной проблемы связи личности
автора с формами и мистическим содержанием православной церковной
обрядности. При рассмотрении конкретных фактов оказалось, что в про­
изведениях Достоевского нет ни одного серьезного свидетельства, под­
тверждающего наличие какой бы то ни было открытой или латентной
формы обструкции в отношении традиционной литургичности. Наобо­
рот — автор «Братьев Карамазовых» питает постоянный пиетет ко
всем экклезиологически.м предписаниям и церковным ритуалам, строго
придерживаясь в особенности исполнения литургических таинств.
С другой стороны, рассмотренное sub specie historia orthodoxa, на­
следие Достоевского демонстрирует удивительное единство со святооте­
ческим преданием (7штршшра5ото<; лкггк;). Это важное обстоятельство
касается не только личности писателя, но и конкретного художественно­
го продукта, так как Достоевский (в согласии со святоотеческим учени­
ем) не отделял своей жизни во Христе от творчества; наоборот, он счи­
тал, что писательский труд непосредственно вытекает из личной веры,
характеризуется сакральными функциями и призван служить апологией
православного христианства. Поэтому сказанное касается конкретного
мировоззрения автора.
Детальный анализ антропологии Достоевского показал существен­
ную особенность — связь его мировосприятия с одним из двух основных
идейных потоков единой реки православия; раскрыл, что он является ес­
тественным продолжателем традиционной духовно-аскетической прак­
тики. Оказалось, что такие понятия, как «внутренний человек», «душа»,
«сердце», «ум», «молитва», «сновидение», «рассудок» и т. д. в антро­
пологической системе Достоевского полностью сходятся значениями и
содержанием с основными терминами в учении и практике внутренней
аскезы. Предубежденные исследователи обвиняют Достоевского в ду­
ховном уклоне, но это имело бы основание лишь в том случае, если рас­
сматривать мировоззрение и творчество писателя вне цельного событий­
ного и временного контекста. При рассмотрении их, однако, в парамет­
рах ясного исторического дискурса истина оказывается иной: личная и
творческая деятельность Достоевского не нарушает, а восстанавливает
целостность православия — она направлена на возвращение этого единс273
Заключение
тва, утерянного на предыдущем этапе усиленной активности внешне-те­
лесной аскетической практики. Цель Достоевского — достижение полно­
ты Богообщения, и этот перихорезис видимого и невидимого, телесного
и духовного, внешнего и внутреннего возможен, по его мнению, при по­
мощи метафизической силы художественного слова. Поэтому и романы
великого писателя направлены на духовное возрождение православной
«церкви в мире» и на миссионерскую службу для новой христианизации
затемнившей чистоту образа Христа Западной Европы. И это невиданная
со времени Евангелия катехизация мира через книгу.
Специфические задачи, которые ставит перед собой автор, предо­
пределяют и особую поэтику его художественного мира. Достоевский
понимает, что для духовного формирования человеческой души ей надо
помочь открыть «в человеке человека», иными словами — восстановить
в человеке утерянные «образ и подобие Божие», надо сначала познать и
постичь «тайну» — тайну «внутреннего человека». Именно это импе­
ративное требование интуитивно направляет личный мистический опыт
автора «Преступления и наказания» к истокам духовной аскетики, рас­
сматривающей внутренний мир человека, его душу как невидимый храм
Божий. Потому что для аскетического учения душа является не чем-то
аморфным, относительным и бесформенным — она подчиняется стро­
гим внутренним законам, обладает ясным духовным архитектонизмом,
именно храмовым, т. е. находит точные соответствия в архитектонике
видимой культовой модели — христианском храме. Это таинственное
откровение о человеке, чреватое значимыми последствиями для творчес­
кого пути Достоевского, ложится в основу его метафизической поэтики.
Углубленный анализ доказывает, что основные параметры организа­
ции ортодоксального купольно-базиликального типа храма воплощены
писателем в идейно-композиционной структуре его поздних романов.
Все три фундаментальных канонических требования, как то: идея «цен­
тра», сакральная ориентация «восток — запад», иконостасно-алтарная
эсхатологическая граница — нашли свои точные соответствия во внут­
ренней архитектонике человека, а тем самым — и словесный эквивалент
в романах писателя. При помощи этого неповторимого художественного
языка, известного как «символический реализм», языка, универсально
присутствующего во всех формах церковного искусства, перед нами рас­
крывается сотворенный Достоевским духовный мир человеческой души
как храм Божий. Иными словами, каждый из последних романов Досто­
евского является своеобразным словесным храмом — адекватным отра­
жением видимой ортодокса!ьной храмовой модели.
274
3а ключен и с
Представленный текст дает ответ и на другой важный вопрос из об­
ласти интертекстуальной поэтики, а именно: каковы причины характер­
ного идейно-тематического единства последних романов Достоевского
или, иными словами, каким законам подчиняется этот феноменальный в
мировой литературе жанр, названный метароманом?
Оказалось, что в основе метароманной поэтики Достоевского ле­
жит один из важнейших догмато-мистических принципов правосла­
вия — принцип соборности. Эстетическое его приложение Достоевским
состоит в том, что хотя каждый из пяти романов в составе Пятикнижия
является фактически самостоятельной законченной цельностью (каждый
строится на принципах ортодоксальной храмовой архитектоники), все
они особым образом «несамостоятельны», так как представляют собой
только один точно определенный и незаменимый компонент в цельном
замысле метаромана. Это достигается путем сложной интертекстуальной
коммуникации на титрологическом, персонажном, идейном, тематичес­
ком и стилистическом уровнях. Каждый из романов характеризуется
своим доминантным комплексом житийных, литургических и храмовых
акцентов, органически вписывающихся в единую систему метаромана
как храма, жития и таинства. Таким образом, замысел ориентирован
на выражение общей идеи, поэтому и каждая встреча с колоссальным
творением Достоевского имеет значимые мистические последствия для
внутреннего мира человека, и это общее интуитивное ощущение склады­
вается у большинства читателей. В связи со сказанным даже Константин
Леонтьев, критик, которого нельзя заподозрить в симпатиях к писате­
лю, вынужден признать факт огромного религиозного влияния творчес­
тва Достоевского на читательское сознание: «Мы не можем, конечно,
счесть, скольких юношей и сколько молодых женщин он отклонил от
сухой политической злобы нигилизма и настроил ум и сердце совсем
иначе; но верно, что таких очень много» [Леонтьев, 1992: 45] (курсив
автора. — Н. И.).
Возрождение духовности, воскресение человека в человеке, восстанавление образа и подобия Божия — таков вклад великого романиста в
сокровищницу человеческого духа и такова его заслуга в будущем спасе­
нии и воскресении. В этом смысле догмато-мистическая ортодоксия явля­
ется той универсальной моделью, которая позволяет нам прикоснуться к
субстантной тайне личности и творчества Достоевского. Книга, которую
вы сейчас закрываете, — только начало движения в этом направлении.
Пловдив, 1997 г.
Примечания
1
Даже такой значимый, по-моему, труд в этой области, как «Достоевский и его
христианское миропонимание» выдающегося исследователя Н. О. Лосского, страда­
ет подобной односторонностью. Хотя во многих местах в тексте встречаются утверж­
дения, что писатель ни в чем не уклонялся от православия, сама книга Лосского вряд
ли выдержана в ортодоксальном духе. Достаточно отметить тот факт, что нигде в
своем труде ученый не ссылается на церковное учение и на авторитет святых отцов,
что стало канонической приметой всех православных исследований.
2
И это не осталось просто намерением. Вот что вспоминает его супруга: «Мы
жили вблизи Владимирской церкви, и приглашенный священник, о. Мегорский, чрез
полчаса был уже у нас. Федор Михайлович спокойно и добродушно встретил батюш­
ку, долго исповедовался и причастился. Когда священник ушел и я с детьми вошла
в кабинет, чтобы поздравить Федора Михайловича с принятием святых тайн, то он
благословил меня и детей...» [Достоевская, 1971: ч., 11, гл. 1].
3
Первый брак писателя с Марией Дмитриевной Исаевой тоже был заключен
по всем требованиям православной конфессии. Доказательством этого служит сохра­
нившийся текст «Обыска брачного, Одигитриевской церкви в Кузнецке о вступлении
в брак Феодора Достоевского и М. Д. Исаевой от 6 февраля 1857 г.» В метрической
книге Одигитриевской церкви г. Кузнецка Томской губернии против имен Достоев­
ского и Исаевой записано «православного вероисповедания» [см.: 28, кн. \:482].
О стремлении писателя к тому, чтобы свадьба состоялась перед Великим постом
(т. е. в позволенное церковью время), мы узнаем из ряда писем [Там же: 263, 266].
Кстати, уже в начале их знакомства Достоевский пишет о религиозности Марии
Дмитриевны [Там же: 261]. Есть также сведения, что и далее эта глубокая религиоз­
ность сохранялась (об этом говорит, например, факт исполнения таинств покаяния и
причастия [28, кн. 2: 88]).
4
Один из наиболее часто встречающихся в частной корреспонденции писателя
мотивов — это вера, что его жизнь «в Божиих руках», и все в ней зависит от «Божи­
ей воли», от «Божией благодати». Вот некоторые характерные выражения: «Пусть
все устроивается так, как угодно Богу ... верьте, что Бог это устроивает также для
нашего счастия ... Он не оставит нас» [28, кн. \: 43 — ниже цитаты из этого тома от­
мечаются только страницей]. «Ежели б мне Бог позволил» [Там же: 44]. «Так угодно
Богу. — А что от Его воли, то не переменится никакою силою» [Там же: 48]. «Заметь,
что поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога» [Там же: 54] и т. д. У Достоевско­
го практически нет писем, в которых не присутствовали бы выражения вроде «Бог
знает», «дай Бог», «ради Бога», «Боже упаси», «слава Богу», «Господь нас обрадо­
вал» и пр. И это характерно не только для его корреспонденции периода учебы в
инженерном училище, как отмечает Н. Лосский [Лосский Н., 1994: 38], но и для все-
276
го эпистолярного наследия писателя. Доказательства многочисленны. Рассмотрим,
например, письма 1844 г.: «Уж если мне суждено ... да будет воля Господня. Только
дай Бог счастья...» [28, кн. 1: 85]. «Я, слава Всевышнему, еще не дошел до подобной
крайности» [Там же: 93]. «Бог видит, что у меня такая овечья доброта» [Там же: 104]
и т. д.
Вера в Божественный промысел особенно усилилась у Достоевского после ка­
торги (1854 г.): «Меня Бог ... избавил» [Там же: 169], «Присылай ради Христа...»
[Там же: 171], «Бог посылает мне иногда минуты...» [Там же: 176], «Я уверен, что
Вас Бог избавил...» [Там же: 177], «Это мой крест, и я его заслужил... Впрочем,
все от Бога и у Бога» [Там же: 180], «...все в руках Божиих, а я, надеясь на Бога...»
[Там же: 269], «Выезжаю я, если только поможет Бог...» [Там же: 324], «На Бога и на
царя нашего ... я надеюсь» [Там же: 328], «...и я перекрестился, что привел наконец
Господь увидать обетованную землю» [Там же: 362], «...но если только Бог помо­
жет...» [Там же: 366] и т. д. [см. также: т. 28, кн. 2: 151, 174, 256, 290, 301 и др.; 29,
кн. 1: 41, 110, 138, 161,197, 201, 209, 354, 536 и др.; 29, кн. 2: / / , 39, 56, 166 и др.; 30,
кн. 1: 68, 82, 87, 148, 109, 227 и мн. др.].
Характерно то, что особенно часто Достоевский связывает Божию помощь и
благодать со своей прямой творческой деятельностью: «...если Бог поможет, — пи­
шет он, — то роман этот («Преступление и наказание». — Я. Я.) может быть велико­
лепнейшею вещью» [28, кн. 2: 151]. Почти те же слова он произносит и при работе
над «Идиотом» [Там же: 212]. И позже: «Но я опять-таки повторяю, что надеюсь,
главное, на то, что Бог поможет мне работать успешно...» [Там же: 256] (курсив ав­
тора— Я. Я ) . «Исполнение же зависит от Бога, — пишет Достоевский во время
работы над «Житием великого грешника» и «Бесов», — могу и испакостить, ... но
что-то мне говорит внутри меня, что вдохновение не оставит меня» [29, кн. 1: ПО].
«Молю Бога, чтоб удалось (речь идет о «Братьях Карамазовых». — Я. Я ) , вещь будет
патетическая, только бы достало вдохновения» [30, кн. 1: 68]. Работая над «Дневни­
ком писателя», Достоевский признается: «...часто и многократно на коленях молился
уже Богу, чтоб дал мне сердце чистое, слово чистое, безгрешное, нераздражительное,
независтливое» [30, кн. 1: 227].
Вообще Достоевский склонен воспринимать и представлять события своего
личного существования при помощи «житийных» понятий и категорий. Он использу­
ет выражения вроде «это мой крест, и я его заслужил» [28, кн. 1: 180], т. е. говорит об
искуплении грехов чрез страдание, об обращении в новую веру [см.: 21: 10]; из этого
вытекает неизбежно карающая «нравственная мука» [28, кн. 2: 336], как он сам назы­
вает каторгу: «4 года ... время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу»
[28, кн. 1: 181]; страдание и «перемена мыслей» [Там же: 224], т. е. важнейший мо­
мент в «кризисных житиях» — nEiavoia, или в латинской традиции — mutatio mentis,
«изменение мышления», «изменение пути»; за этим следует «светлое пробуждение
и воскресение в новую жизнь» [28, кн. 1: 181]. Но потом снова «мятеж страстей»
[28, кн. 2: 54], борьба с «бесом» искушения [Там же: 207] и «мистический страх в
сильнейшей степени» [27: 101]. Новые страдания, без которых «не поймешь счастья
... Царство небесное усилием достигается» [29, кн. 1: 137-138]; и опять жизнь и рабо­
та «анахоретом» — он воспринимает творческий труд как «каторгу» [28, кн. 2: 157].
Потом снова счастье в семье — «это великое и единственное человеческое счастье»
277
[28, кн. 2: 152]. Жизнь «по-монастырски», т. е. жизнь в семье, подобно религиозному
служению, есть образ церкви [28, кн. 2: 321]. И опять «мрак в душе» [29, кн. 2: 161],
новые испытания в «житии», воспринимаемые как «мытарства» [29, кн. 1: 7, 26],
чтобы прийти к ощущению, что «можно даже с вероятностью предсказать» [25: 71],
а затем и к пророческому самосознанию, что другие «не знают истины, а я знаю исти­
ну. Ох как тяжело одному знать истину\» [Там же: 104], «пусть смеются и бросают
камни, но зато мы первые об этом пророчествовали, и это остается за нами» [25: 248].
Свои мнения Достоевский начал открыто называть пророчествами [см.: 25: 196; 26:
22; 83; 27: 195] и видеть подтверждения, что они сбываются. К концу его жизни мно­
гие уверовали в его богоизбранную «святость» и «пророческое служение» [см.: 28,
кн. 2: 470; 30, кн. 1: 184]. Мы увидим, что это представление творца о его личном
бытии как о «житии», медленном и мучительном движении к святости, нашло свое­
образное художественное воплощение в агиографической структуре его больших ро­
манов постсибирского периода.
5
В этих словах Достоевского звучит дух патристического толкования: «И свя­
той Павел, желая показать предивное единение, какое имеем мы с Богом, говорит
после приведенных слов: сего ради оставит человек отца своего и матерь, то есть
ради Христа оставит человек кровное родство свое, и прилепится к жене своей, то
есть к Церкви, и будет два в плоть едину, то есть в плоть Христа и Бога ... сие явс­
твует из слов Апостола, которые он говорит вслед за сим: тайна сия велика есть: аз
же глаголю во Христа, и во Церковь. И воистину тайна сия есть и пребудет великою,
и превыше всего великого. Какое единение, общение, освоение и сроднение имеет
жена с мужем и муж с женою, такое же единение и сроднение имеет и Владыка наш и
Творец всяческих со всею Церковью» [Симеон Новый Богослов, 1993, т. 1: 388].
«Под именем этого таинства (брака. — Н. Н.) разумеется такое священнодейс­
твие, в котором лицам брачущимся по объявлении перед Церковью обета взаимной
супружеской верности преподается свыше чрез благословение священнослужителя
Божественная благодать, освящающая их брачный союз, возвышающая его в образ
духовного соединения Христа с Церковью» [Макарий, 1857, т. 2: 365-366]. В последовании святого таинства брака священник произносит следующую молитву: «11н
£Ш
НДШ2, W « З Ы К 2 ПрЕд'шЕраЧМВЫН ЦрКОБЬ Д^Бй ЧТДМ, БЛГОМОБМ ШЕрДЧСШ* Ш, Н Ю_
сдннн» («Господи, Боже наш, Который среди народов предобручил чистую деву. Цер­
ковь, благослови это обручение и соедини») [Требник, 1981: 99-100]. И еще: «Оомднн
А гдн £ш ндш2, «коже сододннлз @ш НША Б2 КОБЧЕ'З'Ь) («Сохрани их, Господи Боже
наш, как сохранил и Ноя в ковчеге») [Там же: 115]. Спасение человечества в ковчеге
рассматривается как прообраз крещения [2 Петр. 2: 5], но в святоотеческой экзеге­
зе ковчег толкуется и как образ Церкви, так как социум мира подобен бушующе­
му морю, а Церковь - - спасительному кораблю [см.: Бичков, 1981: 249-250]. И еще:
«...3<iHt л\ажз глдвд £сть ЖЕНЫ, мко;к1 н « т о ю ГЛДБД Ц'АККЕ^» («• • так как муж есть
глава жены, как и Христос есть глава церкви»...) [Требник, 1981].
6
Толкования такого рода действительно являются общим местом у святых отцов
и восходят к цитированным в предыдущем примечании словам ап. Павла [см.: Еф. 5:
23, 24, 25, 32]. Об отношении отцов и учителей церкви — святых Игнатия Богонос­
ца, Василия Великого, Григория Богослова, Амвросия, Иоанна Златоуста, Августина,
Тертуллиана и др. [см.: Макарий, 1857, т. 2: 363-374]. Здесь уместно упомянуть, что
278
я не случайно и ниже буду опираться на это сочинение, так как «Богословие» Макария (1816 1882) было наиболее авторитетным, а также самым распространенным
догматическим трудом во времена Достоевского [см.: ППЭС, 2: 1546 1547]. Оно вы­
ходило с 1849 по 1853 г. и, вероятнее всего, было известно писателю, хотя после
Сибири Достоевский интересовался прежде всего оригинальными сочинениями
святых отцов (на чем я остановлюсь специально). Независимо от этого он, очевид­
но, интересовался богословской проблематикой еще в период учебы в инженерном
училище, о чем косвенно свидетельствует и его отличная оценка но Закону Божию
[см.: 28, кн. 1: 52].
7
«Крещение, —• пишет Макарий, — занимает первое место в ряду седми та­
инств православной Церкви: потому что оно служит для людей как бы дверию в са­
мую Церковь, по слову Спасителя: аще кто не родится водою и духомь, не можешь
впиты въ ifapcmeie EoDicie (1оан. 3: 5) ... и следовательно служит вместе дверию ко
всем другим таинствам, которые сохраняются и законно совершаются только в Церк­
ви ... Под именем Крещения разумеется такое таинство, в котором человек грешник,
родившийся с наследственной от прародителей порчею, вновь рождается водою и
духом (1оан. 3: 5) ... соделывается наследником вечной жизни» [Макарий, 1875, 2:
243, 253]. Потому что, как пишет св. Амвросий, «никто не входит в царство небес­
ное иначе, как только через таинство Крещения» [Там же: 258]. И так как «младены
не чужды прародительского греха, и не иначе могут очиститься от него и войти в
царствие Божие, как только чрез Крещение» [Там же: 258]. В связи с этим понятны
терзания Достоевского о смерти сына Алеши, умершего вследствие приступа эпилеп­
сии — болезни, унаследованной от отца [см.: Достоевская, 1971: ч. 9, / / ] .
s
Константин Мочульский утверждает, что религиозность Достоевского мало
похожа на православную религиозную веру и что восторженная его любовь к челове­
ческому лику Христа еще далека от церковного православия [см.: Мочульский, 1995:
292, 294]. Другой выдающийся представитель западной русской диаспоры, Н. Бердя­
ев, высказывает еще более крайнее мнение: «Христианство Достоевского есть новое
христианство ... в своем понимании христианской свободы [он] как бы выходит за
пределы исторического православия» [Бердяев, 1923: 207].
9
Донатистская ересь возникла в IV веке во время гонений Диоклетиана. Суть
этого учения состоит в следующем: 1. Настоящей церковью может быть только та,
которая не допускает общения с явными грешниками. 2. Действительность таинств
находится в зависимости не только от правой веры, но и от нравственной чистоты,
от личной святости совершителя. Поэтому все переходящие из других христианских
обществ должны креститься заново. 3. Донатисты считали себя «церковью мучени­
ков» в противоположность «церкви предателей» (православной церкви). 4. Все же
они допускали покаяние в тяжелых ipexax. 5. Они всячески противопоставляли себя
императору и предпочитали смерть подчинению [см.: Поснов, 1933, ч. 2: 331-332].
Это течение привело к расколу в Африканской церкви, просуществовавшему до
VII века, до нашествия сарацин в Африку [см.: ППЭС. 1: 764-765]. Для нас в данном
случае важен тот пункт учения донатистов, согласно которому «таинства, соверша­
емые порочными священниками, не сообщают никакой благодати» [Малинки, 1994,
2: 273], т. е. зависят от личных качеств священнослужителя [см.: Мейендорф, 1982:
220-245].
279
" О святоотеческом учении, утверждающем антиномией как главный принцип
православного мышления в противовес опасному латинскому рационализму, писал
В. В. Бичков [Бичков, 1992: 53]. На этот фундаментальный принцип я буду опираться
и далее.
" Очевидно, Достоевский имел в виду не А. С. Хомякова, а следующий рассказ
И. В. Киреевского об иконе, приведенный А. И. Герценом в автобиографической кни­
ге «Былое и думы»: «Я раз стоял в часовне, смотрел на чудотворную икону Богома­
тери и думал о детской вере народа, молящегося ей; несколько женщин, больные,
старики стояли на коленах и, крестясь, клали земные поклоны. С горячим упованием
глядел я потом на святые черты, и мало-помалу тайна чудесной силы стала мне уяс­
няться. Да, это не просто доска с изображением... века целые поглощала она эти
потоки страстных возношений, молитв людей скорбящих, несчастных; она должна
была наполниться силой, струящейся из нее, отражающейся от нее на верующих. Она
сделалась живым органом, местом встречи между творцом и людьми ... — тогда я
сам увидел черты Богородицы одушевленными, она с милосердием и любовью смот­
рела на этих простых людей... и я пал на колени и смиренно молился ей» [Герцен,
1958: ч. IV, гл. XXX].
Достоевский отрицал такое отношение к иконе, так как святой образ изначаль­
но несет (благодаря связи с первообразом) благодать, которая через молитвы нис­
ходит к молящимся. Благодать почиет на образе, и таким образом «иконы служат
посредниками между изображенными и молящимися в силу благодатного общения,
ибо благодать, стяжанная при жизни святым, пребывает в его иконах» [Успенский Л.,
1989: 106].
Писатель категорически не принимает «насильственную» веру славянофилов в
икону (понимание, восходящее к интеллигентскому ее восприятию как простой «до­
ски» [см.: 25: 168]), потому что она доказывает их оторванность от «непосредствен­
ной» веры православного народа в икону. Эта позиция Достоевского подтверждается
и тем фактом, что в подготовительных материалах к «Бесам» мнение славянофилов
высказывает Грановский (использованный писателем в качестве пародийного прото­
типа), а критикует его Шатов, называя «барской затеей» [см.: 11: 64, 120, 185, 186].
Достоевский считает, что по-настоящему православно относится к иконе только
простой русский народ: «нет ни одного русского мужика или бабы — пишет он, — ко­
торые, поклоняясь иконе, в то же самое время хоть сколько-нибудь смешивали «до­
ску» с самим богом, несмотря на то, что православный народ в то же время верует
в чудотворность иных икон. Но нет ни одного русского, который чудотворную силу
иконы приписал бы самой иконе, а не соизволению божию. А это уже совсем другое»
[25: 168] (курсив автора. — //. Н.).
12
Эта знаменитая формула, выражающая мнение о связи между образом и
прообразом, встречается многократно в деяниях Седьмого Вселенского Собора
[см.: ДВС, 1891, 7: 215, 227, 228, 235, 236, 269, 285 и др.] и восходит к известной мыс­
ли св. Василия Великого: «Кто на торжище смотрит на царский образ и говорит, что
изображение на картине есть царь, тот не двух царей признает, то есть образ и того,
чей образ; и если, указав на писаного на картине, скажет: "это царь", не лишит пер­
вообраз царского наименования; вернее же сказать, признанием образа подтверждает
280
честь воздаваемую царю. Ибо если образ — царь; то тем паче следует быть царем
тому, кто послужил причиною образа» [Василий Великий, 1993, 4: 382].
" О расколе см.: 21: 56-58; 23: 47-48; 25: //; 11: 88; 20: 12; 21: 315, 24: 184 и
др. Хлыстовцы: 8: 453; 14: 82; 24: 176-177; 25: У/, 226, 229 и др. fevww: 6: 347; 28,
кн. 2: 170-171. Скопцы: 10: Ш , 325-326. Скакуны: 22: 0Я-00. Трясуны: 22: SW--00; 24:
/76. Квакеры: 22: 98-99 и др. Беспоповцы: 16: /37 и др. Очищенцы: 24: 255. Редстокисты: 22: 0Я-09; 24: /ДО, 202, 205, 218-220, 232 и др.; 30, кн. 2: 22-24. Спиритизм:
10: / / / ; 22: 32-37, Яб, 00-70/, 126-132; 16: 366; 24: 03-04, 06, 0<У, /20, 121, 126, 147,
158, 159, 160, 172, 176, 199; 25: 265-266; 30, кн. 1: /92 и др. Армянско-грегорианская ересь: 24: 121. Масонство: 14: 239; 16: 367; 24: 159, 162 и др. Сведеноорг: 25:
262-263; 26: 96. Здесь хочу отметить, что будучи защитником православия, Досто­
евский встает категорически против опасного для единства Церкви филетистского
уклона, наметившегося в зародившейся в это время бол rape ко-грече с ко и церковной
распре. Достоевский подозревает в филетизме (т. е. в ставлении национально-поли­
тических интересов выше религиозных) представителей обеих сторон спора [см.: 25:
70-71 и др.]. Но как ни дорога была для него славянская идея (и в частности, свобода
болгар), оценивая религиозно-догматическую сторону вопроса, он встал на позицию
греков, говоря: «В каноническом, или, лучше сказать, в религиозном отношении я
оправдываю греков. Для самых благородных целей и стремлений нельзя тоже и ис­
кажать христианство, то есть смотреть на православие, по крайней мере, как на
второстепенную вещь, как у болгар в данном случае» [29, кн. 1: 263] (курсив авто­
ра.—Я Я).
Это примечание только иллюстрирует широкую ересиологическую деятель­
ность Достоевского и далеко не претендует на исчерпывающую глубину.
14
Насколько фундаментально значение восстановления иконопочитания для пра­
вославия, свидетельствует факт, что икона является центром установленного в марте
843 г. на созванном в Константинополе в 842 г. Соборе (при патриархе св. Мефодии,
842-846 г.) праздника Торжества православия. С тех пор каждый год воздвижение
икон отмечается в первое воскресенье Великого поста во всех церквях с торжествен­
ным песнопением из кондака в неделю Торжества православия: «НЕШПНШШОС СЛОВО
OMEf, НЗ ТСЕС ЕЦ*, ШПНШ/fc БОПЛОШЛШЬ, Н WfKRipHLUIHf A
WEjI.^Z ДКБПК BOWE|U3HBZ,
БЖЕСТБЕННОМ ДОЕрОТОЮ f/WEfH: НО НШОБ'Кд.МОШЕ (ПИМС, Д&ЮЛ\2 Н МОБОЛШ tit
BOWEfU.
jK.i'tAiz». И поэтому в «Стихирах на хвалитех» поется: «... светлю прлммшн СШЕ'ГШОС
возстдБЛЕтс IKWHZ, н рд'дзюшшА ТА norrz, н 1ЛДБНТ2 B'fc'jiHw» [ЦБВ, 1943: 389].
15
См.: 16: 12,14, 33 (дважды), 35 (дважды), 38, 40 (трижды), 57, 65, 86 (дважды),
105, 114 (дважды), 118, 119 (дважды), 122 (четырежды), 125, 131, 133, 146, 160, 162,
185, 225, 249, 260, 261, 269, 342, 343 (дважды), 346, 352, 359, 367, 369, 370, 372, 377,
378, 379, 380, 388, 389 (дважды), 395, 406 (дважды), 413 (дважды), 438.
16
См. комментарии к черновикам романа [17: 271-272], и в частности А. ВаличKn[Walicki, \964: 446].
17
Н. М. Никольский считает, что двоеверие — не чисто русское явление и что
у него был прецедент еще на византийской почве [см.: Никольский, 1988: 24-31]; по
вопросу о двоеверии в России см. также работу Я. Н. Щапова [Щапов, 1989: 7-58].
IS
Естественно, эта зависимость была хорошо известна Достоевскому, как можно
догадаться по его словам к Е. Опочинину: «У народа Богу всегда первое место, — пе-
281
редний угол (красный угол. - //. Я ) ; там у него божница, боговня. Ему надо иметь у
себя святыню, видимую, как отображение Божества ... Надо веровать, устремляться
к невидимому Богу, но и почитать Его на земле...» Щит. по: Лосский Н., 1994: 65].
14
Даже в черновых вариантах романа «Подросток» Достоевский ссылается на
сочинения русских святителей XV в. — преп. Кирилла Белозерского и преп. Нила
Сорского [см.: 15: 143]. Как уже упоминалось, преп. Нил вместе с преп. Иосифом Волоцким руководили антижидовским собором 1490 г., кроме того, Нил Сорский внес
значительный вклад в составление «Просветителя».
:
" Примером эстетической направленности является желание Достоевского при­
обрести фотографии бронзовых ворот капеллы Del Battistero во Флоренции, работы
выдающегося Джильберти, «если возможно, в натуральную их величину, и повесит
у себя в кабинете, чтобы на них любоваться» [Достоевская, 1971: ч. 4, VI]. Очевид­
но, такую же функцию выполняла и репродукция рафаэлевой Мадонны в кабинете
писателя (на самом деле подарок от почитательницы — вдовы Ал. Толстого). Показа­
тельно то, что возвышенные тирады о Мадонне Рафаэля Достоевский вложил именно
в уста Т. Н. Грановского, сатирического прототипа Степана Трофимовича в «Бесах»
[см.: 11: 101, 121; см. также: 10: 264]. Этот персонаж символизирует старое поколе­
ние («первый бес»), эстетически прельстившееся европейскими «осколками святых
чудес», по словам Версилова (другого тезки Степана Трофимовича). В «Зимних за­
метках о летних впечатлениях» Достоевский говорит об этих «умирающих от скуки»
русских европейцах, этих «общечеловеках» и «гражданах мира», ищущих уютный
уголок в Европе и считающих, что им там лучше; они «глазеют на говядину Рубен­
са и верят, что это три грации ... бросаются на Сикстинскую Мадонну, стоят перед
ней с тупым ожиданием: вот-вот случится что-то» [5: 62]. В романе «Подросток»
показательно противопоставление в доме Версилова — с одной стороны, гравюра
дрезденской Мадонны и фотографии литых бронзовых ворот флорентийского собо­
ра (предметы, очевидно не вяжущиеся с сохранившимися «остатками некоторого,
когда-то бывшего комфорта», т. е. с «наследством» Версилова) и, с другой стороны,
иконостас со старыми иконами — христианский уголок, который недвусмысленно
принадлежит к религиозному «наследию» Макара и Софьи. И если Версилов явно
преклоняется перед «осколками святых чудес» Ренессанса (так же, как Мадонна Ра­
фаэля образно представляет его духовный мир), этого нельзя сказать об отношении
его к сакральным ортодоксальным образам (которые, со своей стороны, являются ви­
димым эквивалентом христианской православной веры Макара Долгорукого и Сони).
Наоборот, он «к образам, в смысле их значения, был очевидно равнодушен и только
морщился иногда ... от отраженного от золоченой ризы света лампадки» [13: 82]. Не
случаен факт, что о Сикстинской Мадонне как о «скорбной юродивой» говорит и дру­
гой демонический персонаж в «Преступлении и наказании» — Свидригайлов [6: 369\
см. также подготовительные материалы к роману: 7: 158, 202]. Из приведенных при­
меров видно, что отношение к рафаэлевой Мадонне типологично для инфернальных
характеров Достоевского. Поэтому вполне объяснимо, почему молодые бесы, про­
поведующие «право на бесчестие», на кровь и пожары, все же намереваются спасти
от будущего огня именно Сикстинскую Мадонну и языческую Венеру Милосскую
[см.: 16: 15].
282
21
Имеется в виду книга «Сказание о странствш и путешествш по Росаи, Мол­
давии Typnin и Святой землЪ постриженника Святой горы Афонской Инока Парфешя» (М., 1856. Ч. 3. С. 63-64). У Достоевского была эта книга [см.: Гроссман,
1919: 155].
22
И здесь Достоевский буквально ссылается на свидетельство инока Парфения
[см.: прим. 25, ч. 2: 189-190\ см. также: ч. 4: 232, 241, 245-246]. Как пишет иссле­
дователь нетленных мощей Д. И. Протопопов, благодаря неисповедимой судьбе Божией, благодатного нетления не бывает на Афоне. Более того, там нетление считают
признаком греховности — если тело усопшего по истечении трех лет обнаружится
нетленным, его снова зарывают в землю и на всю братию накладывают особый канон
за непрощенные грехи умершего. Затем читается над ним разрешительная молитва
и бывает, что только через несколько дней, отрывая усопшего, находят только кости
[см.: Протопопов, 1991: 21-22].
23
Есть многочисленные свидетельства, подтверждающие сказанное нами. Они
начали появляться сразу после ареста писателя в самом начале его «крестного пути»
в Сибирь. Это, конечно, не означает, что как раз тогда у Достоевского пробудился
интерес к такому виду литературы, но до того момента к тому существовали только
косвенные данные [см. примеч. 9]. В письме из Петропавловской крепости (18 июля
1849 г.) он сообщает брату, что прочитал «...два путешествия к святым местам и со­
чинения святого Димитрия Ростовского» [28, кн. 1: 157]. По всей вероятности, речь
идет о последнем издании сочинений знаменитого русского святого (М., 1842), куда
были включены его проповеди, речи и поучения. Писатель связывает имя св. Дмитрия
Ростовского и с его трудом, Четьими-Минеями, над которыми святитель работал всю
жизнь. Этому исключительно распространенному на Руси памятнику святоотеческой
литературы XVII в. Достоевский посвятил одни из самых проникновенных страниц
«Дневника писателя» за февраль 1876 г., за июль-август 1877 г. и др. Одновременно
с тем, однако, в сочинениях писателя упоминается и о другом сборнике, а именно:
«Великие Четьи-Минеи, составленные всероссийским митрополитом Макарием»
(1528-1563) [см.: 21: 259; 27: 106 и др.]. В библиотеке Достоевского был именно
этот житийный корпус: «Избранныя жит1я святыхъ, кратко изложеныя по руководс­
тву Четьихъ-Миней, по мЪсяцамъ, въ 12 книгахъ» (М., 1860-1861) [см.: Гроссман,
1919: 154]. Четьи-Минеи упоминаются (без указания на авторство) и в художествен­
ных произведениях писателя — «Идиоте» [8: 10] и «Братьях Карамазовых» [14: 42].
Надо отметить, что каждое упоминание в его творчестве отдельных имен или житий
святых можно считать явной или глухой ссылкой на эти Четьи-Минеи. Житие Алек­
сея, человека Божия, например [см.: 24: 285; 16: 232 и др.], названо писателем «идеа­
лом народа» [27: 55]. Святой занимает основное место и в построении образа Алеши
Карамазова [см.: 15: 475-476] и имеет прямое отношение к образу Аркадия в «Под­
ростке» [16: 232]. Со своей стороны, житие св. Ефрема Сирина является агиографи­
ческой основой образа Мити Карамазова [15: 476-477]. В «Братьях Карамазовых» на­
ходим и скрытую цитату из св. Ефрема Сирина, данную путем цитирования стихот­
ворения Пушкина «Отцы пустынники и жены непорочны...», которое в поэтической
форме претворяет молитву Ефрема [Там же: 80, 592]. Но у Достоевского встречаются
и открытые ссылки на св. Ефрема — буквально приведена, например, его молитва
283
«Господи, владыко живота моего», которая, по мнению писателя, выражает «всю
суть христианства, весь его катехизис, а народ знает эту молитву наизусть. Знает он
тоже наизусть многие из житий святых» [26: 151]. В библиотеке Достоевского нахо­
дится следующее издание: «Псалтырь, или Богомысленныя размышлешя св. Отца
нашего Ефрема Сир1анина» [см.: Гроссман, 1919: 155].
Другой излюбленный писателем житийный герой, победивший «все эгоисти­
ческое, все враждебное человечеству ... неслыханным страданием», — это святая
Мария Египетская [30, кн. 1: 192], чье имя является у Достоевского еще в 1847 г. в
рассказе «Ползунков». Ряд женских характеров у писателя неизменно соприкасается
в некоторых своих чертах с образом этой христианской святой. Например, Дуня в
«Преступлении и наказании» [5: 418], Грушенька в «Братьях Карамазовых» [15:476].
Аллюзия между Марией Египетской и Грушенькой возникает также в словах Зосимы [14]; в притче о луковке [Там же: 310]: повторение мотива о луковке наблюдаем в
главе «Кана Галилейская» [Там же: 325]. Именем бывшей блудницы, ставшей впос­
ледствии строгой пустынножительницей, пестрят и страницы черновых материалов
к роману «Подросток» [ 16: 342,488,420], встречается оно также в самом тексте рома­
на [13: 309], описывая в некотором смысле черты характера матери Аркадия, Софьи.
Особый интерес проявляет Достоевский и к подвижническим житиям великих
русских святых вроде «большого печерского великомученика» св. Афанасия Затвор­
ника [см.: 26: 123, 197, 202] и св. Феодосия Печерского — одного из «сильных и свя­
тых идеалов» русского народа, как называет его Достоевский [см.: 22: 42]. Из образа
последнего почерпнуты многие черты отца Тихона в «Бесах». Писатель буквально
опирается на отрывки из сочинений св. Феодосия [см.: 11: 305-307]. Имя святителя
присутствует и в черновиках к роману «Подросток» [16: 17], в статье «Наши мо­
настыри», опубликованной в газете «Гражданин» [см.: 21: 139], в подготовительных
материалах к «Дневнику писателя» за 1873 г. [Там же: 296] и др.
Огромную роль в создании одних из самых обаятельных образов в творчест­
ве Достоевского — старца Зосимы, отца Тихона и Макара Долгорукого — сыграли
два великих русских подвижника — святитель Тихон Задонский и основатель само­
го большого монастыря в России, Троице-Сергиевой лавры (которую неоднократно
посещал писатель), преп. Сергий Радонежский. Образы «мудрых сердцем» старцев
Достоевского построены как синтез жизненных дел преп. Сергия и глубокой поу­
чительной мудрости, выраженной в писаниях святителя Тихона. Но об этом пойдет
речь позже.
В обширном творчестве писателя встречаются имена и других христианских
подвижников — знак, что автор знал их агиографию. Таковы, например, преп. Си­
меон Столпник [15: 317], святые мученики Флор и Лавр [24: 192], неоднозначные
образы католических святых Дионисия Парижского [15: 530-531 и др.] и Францис­
ка Ассизского (в одном из возможных значений «Pater Seraphicus») и др. [14: 241:
см. также: 15: 563-564]
Продолжим, однако, изложение доказательств в пользу тезиса об интересе До­
стоевского конкретно к памятникам святоотеческой литературы. После каторги он
пишет из Омска своему брату Михаилу: «Но вот что необходимо: мне надо (крайне
нужно) историков древних... и отцов церкви. Выбирай дешевейшие и компактные
издания» [28, кн. 1: 171-172]. И ниже в том же письме подчеркивает: «И не забудь же
284
меня книгами... Главное: историков, экономистов ... отцов церкви и историю цер­
кви» [Там же: 173]. Снова пишет, на сей раз из Семипалатинска: «...пришли мне
европейских историков, экономистов, святых отцов... Пойми, как нужна мне эта ду­
ховная пища!» [Там же: 179]. По мнению исследователей, книги не доходят до писа­
теля [Там же: 455, 460], но его стремление к духовному самообразованию не иссяка­
ет. Позже, уже в Флоренции, готовясь к огромному роману «Атеизм», он упоминает:
«...но прежде чем приняться за который, мне нужно будет прочесть чуть не целую
библиотеку атеистов, католиков и православных» [28, кн. 2: 329].
Интерес к религиозной литературе и особенно к сочинениям восточных святых
отцов возрастал у Достоевского пропорционально работе над каждым следующим
произведением. В связи с этим определенный приоритет сохраняют русские святые
во главе с «величавой, положительной и святой фигурой» св. Тихона Задонского
(1724-1783), которого писатель «принял в свое сердце давно с восторгом». В 1870 г.
он «исповедуется» А. Майкову, что, может быть, именно Тихон «составляет наш рус­
ский положительный тип, который ищет наша литература ... я ничего не создам, я
только выставлю действительного Тихона ... я сочту, если удастся, и это для себя уже
важным подвигом» [29, кн. 1: 118], потому что Тихон Задонский для писателя «иде­
ал», «Святитель» [Там же: 142]. В творчестве Достоевского к этому святому восходит
ряд прямых или скрытых цитат, аллюзий и ссылок. В подготовительных материалах
к «Идиоту» встречаем следующее примечание: «Ясные рассказы Тихона о жизни и
земной радости. О семье, отце, матери, братьях ... о своих прегрешениях против до­
машних, относительно гордости, тщеславия...» [9: 138-139]. В письме Н. А. Люби­
мову от 1879 г. Достоевский сам подчеркивает, что «главка под рубрикой "О священ­
ном писании в жизни отца Зосимы" ... прототип взят из некоторых поучений Тихона
Задонского» [30: 102]. Исследователь Р. Плетнев считает, что к поучениям св. Тихона
в «Братьях Карамазовых» восходят следующие пассажи: «...старое горе великою
тайной жизни человеческой ... сияет ум и радостно плачет сердце» [14: 265] (здесь и
ниже я привожу только начало и конец цитат. — Н. #.); «Если же отойдет с целова­
нием твоим ... вся вера святых» [Там же: 291]; «Но горе самим истребившим себя на
земле ... да и ныне на всяк день молюсь» [Там же: 293; подробнее см.: Плетнев, 1933:
75, 80, 82 и др.]. Об огромной роли образа этого русского святого для идейно-эсте­
тических отношений в романах «Идиот», «Бесы» или в «Житии великого грешника»
см.: 9: 505-507, 511-513, 517-518 и др.
Как уже упоминалось, в сознании Достоевского св. Тихон Задонский неотделим
от другого великого русского святого — Сергия Радонежского. Еще в «Житии вели­
кого грешника» чередуются на одних и тех же страницах эпизоды из жизни преп.
Сергия и поучения св. Тихона [см.: 9: 138]. Для Достоевского оба эти подвижника
дополняют друг друга и почти всегда присутствуют вместе не только в черновых
заметках к художественным произведениям, но и в письмах [см.: 30, кн. 1: 102] и на
страницах «Дневика писателя», потому что они представляют собирательный образ
русского народного «исторического идеала» [22: 43] — идеала, который писатель ле­
леял еще в «мечтах детства» [см.: 16: 329].
Особо пристрастен Достоевский к иноческой литературе в лице преп. Нила Сорского. В записных тетрадях за 1875-1876 г. он отмечает: «Сыскать историю. О святом
Ниле Сорском и о собственности» [24: 157]. Конкретная цитата из этого подвижника
285
[см.: 16: 143] восходит к сочинению Нила Сорского «Устав его в жительстве скит­
ском с приложением всех других писаний его, извлеченных из рукописей» (СПб.,
1864. С. 8) и свидетельствует о том, что Достоевский знал труды преподобного Нила
[см. также примеч. 23].
Детальные представления имел писатель и о жизни и литературном деле вы­
дающегося духовного последователя св. Нила — преп. Паисия Величковского, воз­
рождавшего внутреннюю аскетику и старчество в России в XVIII веке. Еще в начале
романа «Братья Карамазовы» автор приводит краткую историю старчества и конкрет­
но упоминает имя св. Паисия [см.: 14: 26]. Житие и писания Паисия Величковского
были изданы в 1845 году, и Достоевский имел доступ к ним. Крому того, сведения
об этом святом и о старчестве он мог почерпнуть из труда «Историческое описаше
Козельской Введенской Оптиной пустыни» (М., 1876) и из упоминавшегося выше со­
чинения Парфения [см. примеч. 25] — книг, которые Достоевский имел в своей биб­
лиотеке [см.: Гроссман, 1919: 154, 155]. В заключение надо подчеркнуть, что Досто­
евский, бесспорно, исследовал и творения св. отцов восточной православной церкви.
Имена святых Иоанна Лествичника, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория
Богослова, Иоанна Дамаскина и др. неоднократно встречаются в литературном твор­
честве писателя [см.: 15: 203. 230; 9: 249; 24: 202, 205; 11: 184; 14: 89 и др.].
Огромное наследие Востока претворено и воплощено Достоевским в неразде­
льный религиозно-эстетический синтез. Его произведения пронизаны общим духом
восточной патристики, но в нем трудно дифференцировать конкретные первоисточ­
ники. Все же отдельные реликты вроде сохранившихся фрагментов мыслей, тем,
идей, даже отрывков выражений служат ориентирами при реконструкции такого
рода. Это необозримо сложная задача, которая не является целью моей работы. Поэ­
тому я проиллюстрирую свою мысль только некоторыми примерами.
Исследователями отмечено, что в романе «Бедные люди» Макар Девушкин ис­
пользует выражение «благорастворение воздухов» [1: 24]. В духе героя и ситуации
эти слова несомненно восходят к «Великой ектений» — молитве, произносимой в
литургии св. Иоанна Златоуста [см.: 1: 480]. Мысль, высказанная Достоевским в под­
готовительных материалах к «Подростку» («И живут в послушании и в совершенном
отсечении своей воли» [16: 139]), — почти буквальная цитата из поучений преп. Па­
исия Величковского: «Послушание есть самая короткая лестница к небу, имеющая
только одну ступень — отсечение своей воли» [цит. по: Четвериков, 1926: 319]. Со
своей стороны, преп. Паисий заимствовал дух мысли у св. Иоанна Лествичника, ко­
торый говорит следующее: «Совлекись собственной воли, как срамной одежды ...
Послушание есть совершенное отречение от своей души ... послушание есть гроб
собственной воли и воскресение смирения» [Иоанн Лествичник, 1994: 20, 21, 37].
Далее в черновиках к «Подростку» Достоевский говорит следующее: «В этих сущес­
твах, как в Макаре, — Царство Божие» [16: 399]. Это примечание выражает в конс­
пективном виде ортодоксальную антропологическую концепцию, согласно которой
«Царствие Божие в нас есть, когда Бог бывает с нами в единении, благодатию Пресвятаго Духа» [Симеон Новый Богослов, 1993, I: 250]. Известно, что в библиотеке
Достоевского были «слова» преп. Симеона [см.: Гроссман, 1919: 156].
Мысль, что «и ангелы Божий несовершенны, совершенен и безгрешен один Бог
наш Иисус Христос» [16: 403], в синтезированном виде выражает догматическую
286
установку: «Тот же Самый, Кто по естеству
совершенный Бог, соделался по ес­
теству совершенным человеком» [Иоанн Дамаскин, 1992: 195]. Он один совершенен,
«ибо Он воспринял всего человека, кроме греха» [Там же: 257]. Позже в «Братьях
Карамазовых» Алеша и Иван говорят то же самое. Ллеша: «Но существо это Есть, и
Оно ... само отдало неповинную кровь Свою за всех и за всё»; Иван: «Л, это "единый
безгрешный" и Его кровь!» [14: 224].
Слова Макара Девушкина: «...и получил дар слезный» [13: 320], несомненно,
основываются на святоотеческой мысли: «...отцы сказали, что слезы суть дар Божий,
дар из числа великих даров» [Нил Сорский, 1991: 59].
Перечисление примеров, свидетельствующих об интересе и знаниях Досто­
евского в области догмато-литургической проблематики, можно продолжать беско­
нечно. Краткая библиографическая справка убеждает нас, что во времена писателя
в России уже был опубликован в переводе почти полный корпус сочинений святых
отцов. Достаточно припомнить хотя бы такие издания, как «Творения Тертулиана»
(СПб., 1847); «Творения иже во святых отца нашего Афанасия, архиепископа Алек­
сандрийского» (сб. «Творения св. отцов», 1851, 1854); Св. Василия Великого в 7 т.
(Изд. Моск. Дух. Акад., 1845-1848); «Творения Св. Григория Богослова» в 6 т. (Изд.
Моск. Дух. Акад., 1843-1846); «Творения Св. Григория, епископа Нисского» в 8 т.
(Изд. Моск. Дух. Акад., 1861-1872); «Псевдо-Дионисий. О церковной иерархии» (сб.
«Писания отцов, относящиеся к толкованию богослужения». СПб., 1855); «Св. Мак­
сим Исповедник, Тайноводство» («Писания святых отцов и учителей», т. 1. СПб.,
1855); «Сочинения Св. Иринея, еп. Лионского» (М., 1871) и др. Кроме того, в России
одновременно с тем выходит большое количество специализированных религиозных
газет и журналов, многие из которых Достоевский читает с интересом [см. список
периодики: 30, кн. 2: 137-382]. Нельзя обойти стороной и тот факт, что автор «Бра­
тьев Карамазовых» был знаком и с представителями раннего латинского богословия
в лице св. Августина Блаженного и с его «Исповедью» («Confessiones»), а также с
авторами периода поздней схоластики в лице Фомы Кемпийского и с его сочинени­
ем «О подражании Христу» («De Imitatione Christi») [см.: 27: 113]. Последняя книга
в переводе К. Победоносцева была найдена в библиотеке писателя [см.: Гроссман,
1919: 157].
Изложенные здесь аргументы даже внешне далеко не исчерпывают фактологи­
ческой стороны проблемы, касающейся отношения Достоевского к святоотеческо­
му литературному наследию. Бесспорно, эта связь значительно глубже. Она играет
основополагающую роль в понимании как личности автора, так и его творчества.
Возникает типичная герменевтическая ситуация: если каждое сочинение в огром­
ном массиве духовной литературы потенциально обладает хотя бы теоретической
возможностью попасть в поле зрения писателя, то никакое из этих сочинений нельзя
исключать — если, конечно, оно демонстрирует определенную степень изоморфиз­
ма с рассматриваемыми произведениями Достоевского, и его можно использовать в
качестве вспомогательного средства при конкретном анализе.
24
Подробнее о сложных личных и идейно-эстетических отношениях между
Н. С. Лесковым и Достоевским см.: 21: 431-433.
25
Для сравнения: в этом месте в болгарской службе Василиевой литургии вмес­
то молитвы из литургии Иоанна Златоуста: «...мнзпоын др ТВОЕГО СТД'ГО H.I НЫ, Н
287
нд ГШДЛККЛ'ШМА д.мЬ| tiA» [Служебник, 1985: 91] священник произносит: «...ил'го.
KCMEHIMIZ T B O f A
КЛГОС'ГН, ПрТнТН Д^У Т В О Ш З
CTO/Ua M.t НЫ, H ИД ГМЕДЛЕгКДШЫА ДДАЫ
ПА,
н кдпш'тн А, н илтн'тн, ri поюз^тн» [Там же: 143].
26
Возглас диакона «...и сотвори ндля (или ша, или in) в'Кчмзм ПД'Л\АТЬ», три
раза повторяемый и певцами, произносится перед последней молитвой священника:
«...люлнтвд Л1н iTbi^z отца...» в конце панихиды [см.: Требник, 1981:54/].
27
Достоевский не случайно ставит армян в один ряд с евреями, так как они при­
держиваются опасной христологический ереси, отрицающей основной догмат пра­
вославия (принятый на Четвертом Вселенском Соборе — Халкидонском в 451 г.), что
Иисус Христос — «одна Ипостась (Лицо) в двух природах»; они считают, что у него
одно естество. Иными словами, Христос не Богочеловек, а только Бог, так как чело­
веческая природа в Христе — в силу своей несоизмеримости с Божественной — ис­
чезала в ней. Это монофизитское учение отрицает догмат искупления, потому что
Божество не могло бы страдать на распятии, и страдания Христа были призрачными.
Но если это так, значит, подобные страдания не могут иметь какого бы то ни было
значения для человечества, так как в них не принимает участия именно эта природа,
которая нуждается в искуплении, — человеческая.
28
Суждение Бердяева, что Достоевский был «настоящим философом, вели­
чайшим русским философом», хотя и не вполне точное, в принципе верно, потому
что сам он имеет в виду широкий смысл этого понятия [Бердяев, 1923: 32; Бердяев,
1990:20/].
29
См. высказывание С. Л. Франка в книге «О России и русской философской
культуре» (М., 1990. С. 6), где в том же значении наряду с Ф. М. Достоевским он
ставит и Л. Н. Толстого.
10
В византийской гносеологии процесс, ограничивающий понятийное мышле­
ние, способствует переносу психической энергии от познавательных функций чело­
веческого разума к сфере эмоционально-эстетического и художественного мышления
[Бичков, 1989: 40]. Поэтому и образ у христианских мыслителей выполняет самые
важные гносеологические функции, поскольку, как пишет св. Максим Исповедник в
своей «Мистагогии», «для обладающих (духовным) зрением весь умопостигаемый
мир представляется таинственно отпечатленным во всем чувственном мире посредс­
твом символических образов» [Максим Исповедник, 1993, 1: 159].
31
На это можно возразить так: и до, и после Достоевского существовал ряд фи­
лософов и писателей, успешно использовавших художественно-эстетические сред­
ства для выражения той или иной идеи. Известна фраза А. Камю: «Если хочешь быть
философом — пиши романы». Здесь мы, однако, сталкиваемся с принципиально
иным феноменом. Руссо, Ницше, Сартр и ряд других мыслителей вводят понятие эс­
тетического как носителя субъективных философских конструкций, а у Достоевского
оно является функцией объективной христианской религиозности.
12
Речь идет о цикле романов «Житие великого грешника».
" Подробнее о методах см.: Сильвестр, 1: 162-179.
УА
Слова Тертуллиана в «De cama Christi» звучат так: «Et mortuus est dei Alius
prorsus credibile est, quia ineptum est et sepultus resussexit; certum est, quia impossi-
288
bile est!» To есть, «И Сын Божий умер, что вполне достоверно, потому что абсурдно.
И воскрес из гроба, по бесспорно, так как невозможно» [см.: Юнг, 1995: 43].
55
В раннем христианстве за философией и логикой (т.е. разумом) еще при­
знавалась некоторая, хотя и вспомогательная роль. По мнению Иустина Философа,
например, Логос, который распрострянял по частям лучи своей истины в древнее
язычество, полностью раскрылся в христианстве. Его действия, однако, в первом и в
последнем случаях совершенно отличны по своему характеру. В первом случае Логос
является опосредованным разумом естественным откровением, а во втором — не­
посредственным и сверхъестественным откровением [см.: Сильвестр, 1912, т. 1: 81].
Близок к идеям св. Иустина Философа и св. Ириней. Он допускает в некоторых слу­
чаях приложение деятельности разума в пользу веры — например там, где требует­
ся только разъяснение возникших недоразумений [Подробнее см.: Цоневски, 1989:
124-137].
7,6
Каппадокийская школа (святители Василий Великий, Григорий Богослов,
Григорий Нисский, Иоанн Златоуст) относится к IV-V вв. — периоду расцвета пат­
ристики и перехода к схоластике. Каппадокийцы заканчивают оформление христиан­
ских догм. Согласно св. Василию Великому, человеческому разуму доступны только
свойства, ноне и суть Бога [см.: Сильвестр, 1: 104; Бичков, 1984: 32; Цоневски, 1989:
251]. Св. Григорий Богослов считает, что как бы ни старался наш разум освободиться
от материального, чтобы постичь духовную природу Бога, в свои представления о
нем он неизбежно будет привносить и что-то телесное. Только после смерти, освобо­
дившись от тела, человек будет иметь истинное понятие о Боге [см.: Цоневски, 1989:
255-276]. Св. Григорий Нисский считает, что Бог не может быть объят ни именем, ни
мыслью, ни иной силой ума [Там же: 284]. Блаж. Августин говорит: мы веруем, что­
бы познавать, а не познаем, чтобы веровать [см.: Сильвестр, 1: 104]. Оформившись
таким образом, догмат о частичной познаваемости Бога у Псевдо-Дионисия Ареопагита доводится до крайности — до утверждения его абсолютной непознаваемос­
ти: «Бог же в Своем сверхъестественном бытии превосходит ум и сущее, и потому
вообще не есть ни что-либо познаваемое, ни что-либо существующее, а существует
сверхъестественно и сверхразумно познается ... полное неведение и есть познание
Того, Кто превосходит все познаваемое» [Дионисий Ареопагит, 1991: / / ] . Бог превос­
ходит любое ведение и видение и «запределен всему чувственно воспринимаемому и
умопостигаемому бытию», — пишет он в другом своем знаменитом сочинении «Бо­
жественные имена» [Там же: 17].
37
В 70-е гг. XX в. наблюдается явное возвращение от пропаганды «разумной»
веры (как следствия некоторого сближения русской церкви с католицизмом, где «ра­
зумная» вера является основной догмой) к традиционной для русского православия
апологии «сердечной» веры, которая освобождает от необходимости давать обосно­
вания и доказательства при решении религиозных проблем. «Веру мы -е доказываем,
а показываем», — говорится в «Журнале Московской патриархии» (1974. Л° 9. С. 11)
[подробнее об этом см.: Гордиенко, 1989: 676]. Сравните поразительное совпадение
приведенной цитаты с определением Флоровского, что Достоевский больше показы­
вает, чем доказывает.
289
38
Так считает Страхов: «Все внимание его было устремлено на людей, и он
схватывал только их природу и характер. Его интересовали люди ... с их душевным
складом и образом их жизни, их чувств и мысли» [цит. по: Бердяев, 1923: 36].
™ «У Достоевского нет ничего кроме человека: нет природы, нет мира вещей...»
[Бердяев, 1923: 36; подробнее об «идеалистическом антропологизме» Достоевского
см.: Кашина, 1989: 100]. Под тем же углом рассматривает художественный мир До­
стоевского и К. Мочульский, который считает, что замысел «Идиота» настолько же
персоналистичен, насколько и замысел «Преступления и наказания». В центре обоих
романов находится личность [см.: Мочульский, 1995: 393]. Встречаются, однако, и
противоположное мнение, что изображение внешнего мира — самая богатая сторо­
на творчества Достоевского, что у него значительно больше пейзажей, чем принято
предполагать [см.: Гроссман, 1996: 88, 91]. Подобное мнение, хотя и очень интерес­
ное, кажется мне преувеличенным и не соответствующим фактам и творческому духу
Достоевского.
40
О том, что Платон ставит знак равенства между телом и гробом (аоиа o£ua), a также о дуализме чувственного и умопостигаемого мира и, соответственно,
о принижении чувственного подробно написано в работах В. Лосского и Д. Ропса
[см.: Лосский В., 1991: 208; Rops, 1962: 772].
41
Об утонченной онтологии гностицизма как продолжителя платонизма, не­
оплатонизма и неопифагорейства удачно высказались В. В. Бичков и И. Мейендорф
[см.: Бичков, 1981: 34-50; Мейендорф, 1982: 28-31].
42
Поразительный пример жестокого физического самоистязания в России, при­
том в конце XVII и начале XVIII в., представляют хлыстовцы. Они истязали свое
тело до впадения в религиозный экстаз, который считали признаком того, что в них
вселился Дух Святой [см.: Никольский, 1988: 279-287; Клибанов, 1989: 571-576].
43
Процесс превозможения телесного прекрасно передан в книге А. Стойнева «Святитель Иван Рильский, официальное христианство и богомилство» (София,
1991).
44
«Сотворение мира из ничего» (creatio ex nihilo) было основополагающей иде­
ей и принципом еще у апологетов. «Бог единый ... всю вселенную ... сотворил из
ничего словом» [Тертуллиан, 2004]. Еврейский глагол бара — сотворил, хотя и обла­
дает двояким значением: и «сотворил из ничего», и «сотворил из наличной материи»,
употребляется Моисеем в первом смысле, так как он говорит: «Земля же была без­
видна и пуста» [Быт., 1: 2]. Само же выражение «В начале сотворил Бог» [Быт., 1: /]
пробуждает мысль, что он сотворил тогда, когда еще не было ничего. Св. отцы и писа­
тели Церкви — Ерма, Ириней, Ефрем Сирин, Златоуст, Григорий Богослов, Григорий
Нисский, Августин и др. всегда проповедовали сотворение мира из ничего [подроб­
нее см.: Макарий, 1868, 1: 356-359].
45
Согласно Бытописателю Моисею, при создании души Бог ничего не заимство­
вал с земли, а создал ее только творческим своим дохновением [Быт. 2: 7]. Она, сле­
довательно, является особым и высшим в мире существом, не земным, а небесным, и
поэтому полностью отличным от тела [см.: Макарий, 1868, 1: 448 и далее].
46
Об аналогии как важном принципе позднеантичной и средневековой культуры
см.: Бичков, 1981: 248.
290
47
«Душа знает, где престол живого Бога: из него и оттуда спустилась она» [Тертуллиан, 2004]. «Природа души — не земная, а небесная», — говорит Лактанций
[цит. по: Силвестр, 1914, 3: 206]. В сборнике «Духовные беседы» (приписываемом
преп. Макарию Египетскому) говорится, что не об Архангелах Михаиле и Гаврииле
сказал Бог: сотворим по образу и подобию Нашему; но сказал так об умной чело­
веческой сущности, о душе бессмертной. Поэтому кто может познать достоинство
своей души, тот может познать силу и тайну Божества [см.: Флоровский, 1933: 148].
4S
Очень подробно о свойствах Бога см.: Макарий, 1868, 1: 92-150; Сильвестр,
1913, т. 2.
49
Вот что пишет, например, блаж. Августин: «И, однако, я люблю некий свет
и некий голос, некий аромат и некую пищу и, некие объятия — когда люблю Бога
моего; это свет, голос, аромат, пища, объятия внутреннего моего человека-— там, где
душе моей сияет свет, который не ограничен пространством, где звучит голос, кото­
рый время не заставит умолкнуть, где разлит аромат, который не развеет ветром...»
[Августин, 2000, кн. 10].
50 По Юрию Карякину, цель Достоевского, выраженная словами «найти в чело­
веке человека», означает конкретно раскрыть человеческое «я» в читателе [см.: Карякин, 1989: 285]. Я считаю, что точнее будет сказать не «раскрыть душу» (так как
для него «я» — символ человеческого эгоизма), а раскрыть чистую, внеличностную
субстанцию мировой души (в понимании души Адамовой), присутствующей в каж­
дом из нас, но выявленной и осознанной в разной степени.
51
См. также примеч. 48.
52
См. также: Евр., 4: 12; 1 Сол., 5: 23.
53
Как раз это дает основания Бердяеву называть Достоевского не психологом,
а «пневматологом», т. е. занимающимся не душой, а духом [см.: Бердяев, 1923: 22].
Такое определение, однако, кажется мне неприемлемым, так как разделение людей на
«земных», «пневматиков» и «психистов» свойственно гностицизму, а не христианс­
тву, тем более не православию, в контексте которого я рассматриваю слова Достоев­
ского. Надо подчеркнуть также, что тотальная троичность вообще характерна для
гностицизма, и эксплицируется она не только в делении людей на три категории, но
и на всех уровнях. Например, в антропологии: дух, душа и тело. В космологии они
также различают три мира: огдал — высшие сферы, подвластные верховному богу;
ебдомад — царство Яхве, и зелию — находящуюся под властью дьявола, «князя мира
сего» [см.: Мейендорф, 1982: 29-30].
54
О свойствах Божественного существа, например, можно судить по анало­
гии с ним человеческого духа, несущего в себе отпечеток его образа [см.: Силь­
вестр, 2: 114-120 и др.]. Св. Иероним считает, что вера в бытие Бога проистекает
от обожествленного семени, всеянного самим Богом в природу человеческого духа
[Там же: 178]. О mutatio mentis (изменении духа) человека как основной цели учения
Иисуса см.: Rops, 1962: 510.
55
Относительно античной части исследуемой проблематики я опираюсь на со­
чинение Цочо Бояджиева «Античная философия как феномен культуры» (София,
1990).
56
Гераклит утверждает, что скрытая гармония лучше явной, и это может нас
ввести в заблуждение. Названная «скрытость» не метафизическая, а только ситуатив-
291
ная. Она состоит в перегруженности тяжелой массой человеческих мнений, т. е. в за­
темнении, а не в принципиальной скрытости, так что для древних «скрытая истина»
является contradictio in abjecto [см.: Бояджиев, 1990: 122].
57
Характерная «гнома» Гераклита: «Этот космос, одинаковый для всех, не ка­
кой-то бог и не какой-то человек создал; он всегда был, есть и будет вечно живым
огнем, разгорающимся мерно и мерно угасающим» [Цит. по: Бояджиев, 1990: 84].
5S
«Откровение Божественных тайн, как правило, происходит во сне или в виде­
ниях» [Лившиц, 1967: 120].
54
Часто сам Бог является во сне: «И пришел Бог к Авимелеху ночью во сне и
сказал ему: вот, ты умрешь...» [Быт., 20: 3-7]. Или люди умышленно ищут эту связь:
«И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне, ни чрез урим, ни
чрез пророков» [1 Цар., 28: 6]. Более того, видение снов — это способность, данная
Богом: «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчес­
твовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши
будут видеть видения» [Иоиль, 2: 28]. В Новом Завете именно во сне является ангел,
который сообщает Иосифу о чудесном рождении Иисуса [Мф., 1: 20].
60
Св. Иероним, например, рассказывает, что услышал во сне слова Господа:
«ты не христианин, а цицеронист», после чего он перестал заниматься «языческими
книгами» [см.: Гуревич, 1985: 46]. Явление во сне матери Григория Турского также
изменило его жизнь [Там же: 47].
61
Христианский идеал — это не умерщвление плоти, а ее «очищение», «про­
светление», «преображение». Преображенный человек становится впоследствии
идеалом византийского искусства [см.: Бичков, 1984: 66-67].
62
Последнее предложение — неточная цитата из Евангелия по Матфею [Мф.,
11: 12].
63
В дневнике за 1863-1864 г. Достоевский пишет: «.. .человек беспрерывно дол­
жен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением ис­
полнения закона, то есть жертвой» [20: 175].
64
Подробно об этом см.: Соина, 1990: 9-25.
65
Например, сон Голядкина в «Двойнике» [см.: 1: 184-188], сон Прохарчина в
«Господине Прохарчине» [Там же: 248-252] или сон Нелли в «Униженных и оскорб­
ленных» [3: 433-434] и др.
66
То же ощущение высшей гармонии и блаженства находит яркое художествен­
ное воплощение в описании эпилептического припадка князя Мышкина в «Идиоте».
«Что же в том, что это болезнь! — спрашивает себя герой. — Какое до того дело,
что это напряжение ненормальное, если самый результат ... оказывается в высшей
степени гармонией, красотой ... дает неслыханное чувство ... примирения и встрево­
женного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?» [8: 188] (курсив
автора. — Н. //.).
67
Существуют, разумеется, разные версии, когда именно с ним произошли пер­
вые припадки. Дочь писателя, Л. Ф. Достоевская, ссылаясь на семейные разговоры,
сообщает, что первый припадок писателя случился, когда он получил известие о
смерти отца. Другую версию принимает Л. С. Суворин — что Достоевский заболел
эпилепсией еще в детстве. Это, однако, отрицает брат писателя, Андрей Михайлович,
утверждая, что его брат заболел на каторге. Но доктор Яновский, близкий знакомый
292
Достоевского, свидетельствует, что за три (а может быть, и более) года перед арестом
по делу петрашевцев у Достоевского были эпилептические припадки в легкой форме
[см. об этом подробнее: Бурсов, 1979: 396-398 и далее]. И хотя некоторые специалис­
ты считают, что нельзя доверять воспоминаниям невротиков, так как они склонны
к фальсификациям с целью разорвать нежелательные причинные связи [см. мнение
Фрейда о болезни Достоевского: Фрейд, 1991: 575-576], мне все же кажется, что не
надо пренебрегать словом самого Достоевского. В последнее время популяризиру­
ется идея, что писатель вообще не страдал эпилепсией. Скрупулезные исследования
свидетельствуют, что поставленный диагноз был ошибочным. У Достоевского до
конца его жизни не замечается никаких признаков деградации личности, характерных
для эпилептика, подверженного частым припадкам (известно, что писатель пережил
сотни таких). Припадки Достоевского объясняются как следствие «динамических на­
рушений кровоснабжения мозга» и «множественных поражений сердечно-сосудис­
той системы», которые «не сказались ни на психическом здоровье Достоевского, ни
на его творческом потенциале, ни на высоких свойствах его уникальной личности»
[Моисеева, 1996: 321-332]. Но даже если это так, это нисколько не меняет общего
характера концепции: от болезни через страдание — к откровению.
68
Вообще в жизни Достоевского встречались весьма странные совпадения фак­
тов. После ареста (в ночь с 22 на 23 апреля 1849 г.), например, в письмах из Петро­
павловской крепости, адресованных брату Михаилу, он впервые упоминает о посе­
тивших его сновидениях, притом сочетавшихся с повышенным интересом к Св. Пи­
санию и другой литературе духовного содержания, а также о необычных явлениях
вроде описанного в письме от 27 августа 1849 г.: «...с недавнего времени мне все
кажется, что подо мной колышется пол, и я в моей комнате сижу, словно в пароход­
ной каюте» [28, кн. 1: J57-159]. На Достоевского надевают кандалы, и он вступает на
заснеженные дороги своей Via Dolorosa ровно в 12 часов ночи на Рождество Хрис­
тово (с 24 на 25 декабря 1849 г.) [Там же: 167]. Затем приходит очередь встречи с
Фонвизиной и лет, проведенных с подаренным ей Евангелием, — и он воскресает из
«гроба» («Мертвого дома»), и сбываются знаменитые его слова, произнесенные еще
до каторги: «Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь ... Я перерожусь к лучшему.
Вот вся надежда моя, все утешение мое» [Там же: 164]. И наконец момент «эпи­
лептического» припадка ночью в миг Воскресения Христова [о вере Достоевского в
мистическую роль Божиего промысла см. примеч. 7]. О некоторых других явлениях
вроде пророческого значения его снов речь пойдет в дальнейшем.
69
Описанный Достоевским момент проникновения, слияния с Богом весьма ин­
тересен, так как в некоторой степени напоминает последний этап сверхчувственного
и сверхразумного экстаза при созерцании Божественной славы у исихастов — Фа­
ворского света, нетварного света, Божественной энергии, высшей формы световой
информации (св. Григорий Палама). Концепция, исходящая из «световой эстети­
ки» Филона, представлена позже у его христианских последователей; например, у
св. Василия Великого Бог — «неприступней свет» [см.: Сильвестр, 1913, 2: 32-33].
У св. Дионисия Ареопагита эта концепция переплетается со световой мистикой как
одним из способов постижения Первопричины. И важнее всего то, что таким образом
Божия благодать позволяет избранным видеть этот Фаворский свет не только духов­
ным, но и чувственным своим зрением.
293
7!:
Считалось, что единственная разница между шаманом и эпилептиком состо­
ит в том, что последний не может войти в транс по собственной воле [см.: Гачев,
1973: 119].
71
Согласно мистическому богословию св. Дионисия Ареопагита, душа движет­
ся по спирали в том случае, когда устремляется к свету Божественного знания пу­
тем сложных, разнообразных и пространных рассуждений. Прямо же к Прекрасному
и Благому она устремляется только «сосредоточив воедино свои духовные силы».
Именно тогда она движется по кругу и приобретает свободу от множественности
внешнего мира [Дионисий Ареопагит, 1991: 40-41].
72
Эта проблематика стоит в центре внимания исследования А. М. Буланова
«"Ум" и "сердце'' в русской классике. Соотношение рационального и эмоциональ­
ного в творчестве И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, А. Н. Толстого» (Саратов,
1992), а также в другой работе того же автора: «Святоотчсская традиция понимания
"сердца" в творчестве Достоевского» (Христианство и русская литература. СПб.,
1994). Мои наблюдения не опираются на эти труды, так как, к сожалению, они оста­
лись недоступными для меня.
71
К. Г. Юнг выдвигает sacrificium intellectus в общий принцип средневековой
христианской культуры. Именно через использование интеллектуальной самокас­
трации Тертуллиан, например, достиг полной дискредитации рассудочного за счет
непосредственного, глубинно-интуитивного и иррационального в акте познания
[см.: Юнг, \995: 41-44].
74
В библейском тексте встречаются сотни упоминаний сердца. В соответ­
ствии с «Конкордансом» С. Банкова их насчитывается около 770 [см.: Банков, 1987:
1747-1753]. Сердцем думают [см.: Ис, 10: 7; Пс, 140: 4; Притч., 6: 14, 18; 19: 21;
Мф., 9: 4; 13: 15; Лк.,1: 15; Ин., 12: 40; Евр., 4: 12; Рим., 1: 21; Еф., 1: 18 и др.].
Сердцем принимают решения — оно волевой центр [см.: Деян., 5: 4; 7: 23; 11: 23;
1 Кор., 4: 5; 2 Кор., 7: 9; 8: 16; Рим., 10: У, 28; Апок., 17: 16; Лк. 24: 38; 1 Кор. 2: 9;
7: 37 и др.]. Сердцу приписываются разнообразнейшие чувства [см.: Ин., 14: /, 27;
16: 6, 22; Деян., 2: 26; 14: 17; 21: 13; Рим., 9: 2; 2 Кор. 2: 4; Иак., 5: 5; Иов., 23: 15 и мн.
др.]. На сердце изливается Божественная любовь [см.: Мф., 13: 19; Мк., 4: 15; 7: 9;
Лк., 8: /2, 15; 24: 23 и др.].
Многочисленны библейские цитаты, которые находят буквальные соответствия
в мыслях Достоевского. Вот некоторые из них: Иисус, сын Сирахов, говорит, что
Господь положил Свой глаз в их сердца (Адама и Евы) [см.: Сир., 17: 7], сравним:
«Господь смотрит на сердце» [1 Цар., 16: 7]; «Больше всего хранимого храни сердце
твое, потому что из него источники жизни» [Притч., 4: 23]. Формула эта неизменна и
в Новом Завете: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» [Мф., 5: 8]; «пото­
му что сердцем веруют к праведности» [Рим., 10: 10]; «дело закона у них написано в
сердцах» [Рим., 2: /5] и т. д.
Здесь уместно обратить внимание на неоценимое значение Библии в жизни и
творчестве Достоевского. Присутствие буквальных и скрытых цитат Св. Писания,
разбросанных на всем пространстве огромного его письменного наследия, исчисля­
ется сотнями [о библейских цитатах у Достоевского см. далеко не полный список в
т. 30, кн. 2: 157-160]. Это свидетельствует о том, что писатель знал в совершенстве
священный текст и свободно пользовалься им.
294
Интересные сведения как о позднем, так и о наиболее раннем интересе Досто­
евского к Библии находим в письме Анне Григорьевне из Эмса (1875 г.): «Читаю об
Илье и Эпохе (это прекрасно)... Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезнен­
ный восторг: бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача... Эта книга,
Аня, странно это — она из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тог­
да почти младенцем!» [29, кн. 2: 43] (курсив автора. — Я Я). Брат писателя, Ан­
дрей Михайлович, вспоминает: «Первою книгою для чтения была у всех нас одна.
Это Священная история Ветхого и Нового Завета на русском языке» [Там же: 214].
В письме брату Михаилу (18 июля 1849 г.) из Петропавловской крепости Достоев­
ский пишет: «...но всего лучше, если б ты мне прислал Библию (оба Завета). Мне
нужно» [28, кн. 1: 158]. Вот что он говорит о Евангелии после сибирской каторги:
«Четыре года пролежала она (эта книга. — Я Я ) под моей подушкой в каторге. Я чи­
тал ее иногда и читал другим» [21: 12]. Значительно позже, в записной тетради за
1875-1876 г., Достоевский отмечает: «Библия принадлежит всем ... Это книга чело­
вечества» [24: 123]. И ниже: «Библия. Эта книга непобедима» [Там же: 125] (курсив
автора. — Я. Я). Это глубокое уважение и интерес к Библии сохранились до конца
его жизни.
75
Свидетельства об этом многочисленны. В письме из Висбадена от 16 (28) июня
1871 г. Достоевский пишет Анне Григорьевне: «.. .я сегодня ночью видел во сне отца,
но в таком ужасном виде, в каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая
грозную беду, и два раза сновидение сбылось» [29, кн. 1: 197]. Такое же свидетельс­
тво мы находим и в письме Анне Григорьевне из Эмса от 14 (26) июля 1874 г.: «Мне
все снятся дурные сны, брат, отец, а их явления никогда не предвещали доброго. Ты
знаешь, я этому давно уже принужден верить, по грозным фактам» [Там же: 354].
76
Немаловажно отметить, что остановка часов как предзнаменование смерти
тети Достоевского полностью сходится со средневековым представлением: «Остановление часов считалось верной приметой того, что наступил последний час его
обладателя...» [Бояджиев, 1991: 16; о пророческом сне писателя см.: 29, кн. 1: 209].
77
То же самое говорит и Тертуллиан. Он ссылается на то обстоятельство, что
душа во время сна освобождается от тела и непрерывно работает, мечтает, дума­
ет, путешествует по земле и морям, отличает дозволенное от недозволенного и пр.
[см.: Силвестр, 1914, т. 3: 204].
7S
Coincidentia oppositorum означает внепространственное, вневременное, внереальное совпадение и единство неборющихся противоположностей. В полном
совершенстве этот принцип существует в Божественной глубинности. Как пишет
М. Элиаде, coincidentia oppositorum — один из наиболее архаичных способов выра­
жения парадокса Божественной реальности [см.: Элиаде, 1999]. Бог, например, пос­
ледовательно или одновременно доброжелателен и ужасен, добр и гневлив. Попытку
применить этот принцип в отношении мировоззрения Достоевского сделали Бердяев
и Кирпотин [см.: Бсрдя.Ь, 1923: 10-11; Кирпотин, 1983: 100].
79
В аскетической литературе встречаются и другие определения этой духовной
практики: чистая молитва, умная молитва, сердечная молитва, умно-сердечная мо­
литва, непрерывная молитва, внимание сердца, умное делание (деяние), сердечное
делание, духовное делание, сокровенное поучение, тайное поучение и др. [см.: Лепа295
хин, 1992: 19; Янкова, 1994: 69]. Но, как пишет преп. Никифор, все эти наименования
«одно суть» [Никифор Уединенник, 1992: 248].
к
" В глазах преп. Нила полное «нестяжательство» (т. е. отказ от обладания, вла­
дения имуществом) включает отречение не только от личной, но и от коллективной
собственности монастыря. По убеждению Нила Сорского, это обязательное условие
для того, чтобы идти истинным путем спасения [см.: Кожинов, 1995: 62]. «...Дабы
ежедневную пищу и прочее ... (приобретали) мы себе от праведных трудов свое­
го рукоделия и работы. Если же в нуждах наших не удовлетворимся мы от работы
своей ... то можно принимать немного милостыни ... необходимое, а не излишнее»
[Нил Сорский, 1991: 71]. Устав преп. Нила дает немногосложные правила внешней
жизни — труд и подвиг скитского жития состоит преимущественно во внутреннем
подвижничестве [ИРЦ, 1991: 325].
К1
Приведем некоторые примеры из жизни монахов в основанном преп. Иосифом
Волоцким Волоколамском монастыре: кроме обычных монашеских правил, некото­
рые клали и по тысяче, даже и больше поклонов в день; чтобы усилить умерщвление
плоти, один носил железную броню, другой — тяжелые вериги, третий — грубую
власяницу; большую часть ночи проводили в молитвах; сну уделяли немного време­
ни, притом некоторые сидели, а другие стояли [ИРЦ, 1991: 316-317].
S2
Верным признаком экспансии государства по отношению к Церкви является
ее отрицательное отношение к монашеству. «Петр, с его ограниченными религиоз­
ными понятиями, не мог понять, что аскетическое монашество, молитвенно-созерца­
тельное, служит громадную службу обществу, представлаяя собой прибежище для ...
людей ... которые задыхаются среди лжи, неправд и жестокостей мира и идеальные
стремления которых находят себе пылкое удовлетворение лишь в пустыне, молитве,
посте и уединении». Незадолго до смерти Петр I даже издал указ, которым закрыл
ряд московских монастырей: Чудов, Вознесенский, Новодевичий, Андреевский и др.
Этим актом он «думал стереть съ лица земли» «путь молитвенно-созерцательнаго
монашества» [Поселянин, 1905: 20, 23].
83
Созданный Достоевским образ монаха, подвизающегося в мире, интерпрети­
руется слишком свободно и в художественной литературе XX в. Типичный пример
этого — образ монаха Мельхиседека в романе писателя-эмигранта Бориса Зайцева
«Дом в Пасси» (Берлин, 1935).
*4 Творчество Достоевского является естественным продолжением общей для
русской литературы XIX в. тенденции к все более категорически проявляющемуся
изоморфизму языка литературы с языком Церкви. Эта традиция, начавшаяся с Пуш­
кина и Лермонтова [см.: Котельников, 1995: 5-26], целенаправленно усиливается в
творчестве Гоголя, у которого ясно наблюдаются «сближение с традициями свято­
отеческой литературы» и «любовь к литургическому слову» [Воропаев, 1992: 8, 9,
33 и далее].
к5
Концепция о «едином мире» является топосом для всей патристики. В своей
«Апологии» Тертуллиан говорит то же самое: «Бог сотворил целость мира Словом,
Разумом и Могуществом Своим» [Тертуллиан, 2004].
S6
Подробнее о скинии см.: ЕЭ, 14: 360-365; ББР, 1884: 474-478; БЭ, 1991:
655-657; ППЭС, 2: 2071-2073; Шиваров, 1992: 407-411.
296
s7
К. Г. Вагнер утверждает, что скиния Моисея в своих двух частях — святом мес­
те и святой святых — отражает «двухэтажный образ мира» [Вагнер, 1986: 168-170].
Я не могу согласиться с таким мнением, так как скиния организована троично, по­
тому что двор является самостоятельной и необходимой зоной образа ветхозаветного
храма. Следовательно, она воплощает идею троичности.
кк
Эти рассуждения раскрывают писателя в новом свете, не исследованном достоевсковсдами, — как участника в идейных исканиях времени, занимающихся про­
блемами архитектурной формы храма и в некотором смысле духовно связывающих
Достоевского с эпохой только что зарождающегося русского модерна, неорусского
стиля, стремящегося передать дух, внутреннее содержание русской архитектуры, не
столько копируя внешние формы памятников, сколько постигая глубокие закономер­
ности древнерусского искусства [см.: Борисова, Каждая, 1971: 144]. Но к сожалению,
эта интересная проблематика выходит за пределы рассматриваемой темы.
89
Комментаторы считают, что Достоевский имеет в виду другое стихотворение
поэта Майкова — «Клермонтский собор» (1857) из цикла «Картины», которое также
посвящено храму, следовательно, не вступает в противоречие, а скорее подтверждает
наш тезис [см.: 29, кн. 1: 406; см. также примеч. 5].
9(1
У Достоевского, однако, не только проявляется исконный смысл литератур­
ного творчества как «строительства» (значение выводится из этимологии похш —
«образовать», «формировать», собственно «строить» [см.: Веселовский, 1989: 254]).
Характер литературного «строительства» (созидания «словесного христианского
храма») связывает его творчество конкретно с христианской догмато-мистической
традицией.
91
Поистине удивительно разнообразие жанровых определений: «роман-траге­
дия» [Иванов, 1916: 19-23], «полифонический роман» [Бахтин, 1976: 3-53], «романмистерия» [Бицилли, 2004], «авантюрно-философский роман» [Гроссман, 1996:5],
«социально-философский роман» [Этов, 1972: 320-343], «роман-прозрение» [Ковач,
1984: 112-143], «социально-экспериментальный философский роман» [Поддубная, 1976: 245], «роман-житие» [Ветловская, 1971: 325-354], «полицейский роман»
[Bleitreu, 1973: 683] и мн. др.
92
Эти размышления Августина относятся к девятому псалму Давидову. Текст
девятого стиха в новом синодальном переводе (а также в новом болгарском сино­
дальном издании), однако, содержит неточность, которая меняет весь смысл. Он зву­
чит так: «...повсюду ходят нечестивые» (болг. «навред ходят нечестивци» [Библия,
1993]). Слово «повсюду» (болг. «навред») вместо «около» или «кругом» уничтожает
как раз ассоциацию с кругом, которая существует в церковно-славянском переводе:
ижштз НЕМЕСГНБТН ^ОДАТХ [Б1бл1а, 1900], где WKOCCTZ, OKAECTZ недвусмысленно несет
значения «кругом», «около» [Дьяченко, 1900: 380\ Младенов, Бакалов, 1924: 123] и
вызывает мысль о том, что нечестивые движутся по кругу.
93
Эта зависимость неоднократно исследована при помощи геометрического
анализа. Очень подробно указанные, а и другие соотношения раскрыты, например, в
храме ортодоксального мира — храма Св. Софии в Константинополе. Купол выпол­
няет определяющую роль во всей его архитектонике. Как подчеркивает исследова­
тель, мы можем вполне обоснованно утверждать, что, исходя из размеров главного
купола, можно определить все размеры храма [см.: Афанасьев, 1952: 211]. Важно
297
здесь то, что эта зависимость — не нечто неповторимое и свойственное только храму
Св. Софии, она прослеживается и в плане других византийских храмов и превраща­
ется вообще в метод работы византийского строительства [Там же: 209]. Этот метод
распространяется на русскую архитектуру и на восточное храмостроительство в це­
лом [Там же: 210].
94
Сохранившиеся планы к романам Достоевского свидетельствуют о десятках
комбинаций, посредством которых автор стремится найти наиболее удачное, точ­
ное место для снов в огромных словесных конструкциях. Примечания о сновиде­
ниях проходят как настоящий лейтмотив через черновые записки писателя: «План.
После сна»; «Сон»; «Начало. Сон»; «Ночь (сон)»; «Нота бене! Сновидение» и др.
Только в плане «Преступления и наказания» примечания вроде приведенных выше
присутствуют на многих страницах [см.: 7: 7, 78, 79, 80, 82, 89, 90, 139, 166, 167,
177 и пр.].
95
Более того — этот переход не осуществляется раз и навсегда. Если по какой-то
причине христианин отпадет от веры и потом искренне раскается, его путь в храме не
прерывается окончательно — он становится труднее, так как все начинается сначала.
Согласно девятому правилу, принятому на Первом вселенском соборе, на него нала­
гают следующую епитимью: «...три года быть слушающим, т. е. стоять вне храма —
в притворе (нартексе (см. схему 3)) ... семь лет быть припадающим, т. е. входить в
церковь, но останавливаться позади амвона (амвон находится под куполом. — //. Н.)
и выходить с оглашенными; два года молиться вместе с верными, но не причащаться
святых тайн» [ППЦ, 1912, 1: 313-314].
96
В романе «Идиот» описан только один из этих «сотен» дурных снов Ипполита.
Таким образом автор намекает на его идентичность с остальными, а тем самым — и
на отсутствие внутренней эволюции героя до встречи с кн. Мышкиным, который пре­
вращает его кошмары в «приятные сны». Снов Раскольникова насчитывается четыре,
и каждый из них фиксирует степень его духовной эволюции.
97
Купол обособлен от остального пространства не только в силу своей высоты,
но и как световой акцент, так как это единственное место, откуда в храм поступает
рассеянный вертикальный свет. То же самое бывает и ночью, так как под ним распо­
ложен самый большой из церковных канделябров.
98
Приведем три показательных примера. В письме от 29 октября 1859 г. Досто­
евский пишет брату Михаилу: «...12-я глава — единственная, где можно кончить.
Эффект пропадает» (речь идет о том, где должна кончиться первая и начаться вторая
часть «Села Степанчикова» в «Отечественных записках». — Н. Н.) [28, кн. 1: 368].
Через 16 лет (24 декабря 1875 г.) он пишет из Эмса Анне Григорьевне: «...та же про­
блема ... уведомил его (Некрасова. — Н. Н.), что более 2 ХА листа на августовскую
книжку доставить не могу, а главное — уничтожится всякий эффект» [29, кн. 2: 56].
И еще: «Если разбить на три книги, то для эффекта романа (речь идет о «Подрос­
тке». — Н. И.) ... будет не совсем выгодно ... При 5 печатных листах, то есть как
я сам проектировал сначала, кончилось бы несравненно любопытнее и яснее»
[Там же: 25].
99
По другому поводу Топоров пишет, что разрешение задачи возможно только в
сакральном центре пространства — он максимально семиотичен, в сакральной вре-
298
мснной точке на грани различных состояний, когда профанная продолжительность
исчезает и время останавливается [см.: Топоров, 1973: 227].
'"" Первые мистерии восходят к XIII в. в Германии, к XIV в. •— во Франции и
Англии, к XV в. — в Италии и Испании [см.: Андреев, 1994: 42].
1:11
В дневниках и в эпистолярном наследии писателя мы находим множество
мест, где в той или иной форме затронуты отношения «Восток — Запад»: [см., на­
пример: 20: 178; 24: 147,155,162-164,180-181,
258; 26: 300, 324-325,334; 27: 56-57,
59, 62, 80-81, 195; 28, кн. 2: 39, 53, 226, 243, 248; 29, кн. \;40и мн. др.].
1:12
Акцент на левом глазу откровенно восходит к средневековому христианскому
представлению, что дьявол метит посвященных ему детей елевый глаз кончиком рога
[Шевалие, Геербрант, 1995, 1: 309].
'м В болгарском иконостасе влево от иконы Христа (или справа, если стоять
лицом к алтарю), располагается образ св. Ионна Предтечи, в то время как в русской
церкви икона храма стоит непосредственно рядом с иконой Спасителя [см.: Нестеровский, 1931: 92]. Очевидно, что в данном случае Достоевской соблюдает эту осо­
бенность русского иконостаса.
1(!4
Мерлушка — мех, выделанная шкура ягненка (в возрасте до двух недель)
грубошерстной породы овец.
105
Средневековая экзегетика в принципе различает два основных уровня пони­
мания Св. Писания: низший (временный, буквальный) и высший (вечный, духовный).
Сравнивая Писание с человеком, например, св. Максим Исповедник называет Ветхий
Завет телом, а Новый — душой. Соответственно, к этим основным частям относятся
те или другие аспекты, которые их дополнительно дифференцируют на целом ряде
разных степеней. Ориген, например, видит три смысловых уровня библейских тек­
стов, соответствующих трем органам восприятия (тело, душа, дух): соматический,
психический и пневматический [см.: Бичков, 1984: 175; Цоневски, 1986: 149]. Ав­
густин, со своей стороны, рассматривает четыре способа изъяснения Писания: ис­
торический, аллегорический, аналогический и этиологический; кроме них, однако,
он перечисляет и другие способы. Гуревич говорит, что западное средневеквье при­
нимает четыре наиболее распространенных способа: исторический, аллегорический,
тропологический и анагогический [см.: Гуревич, 1972: 75-76]. Согласно средневе­
ковой схеме четырех толкований, значение, например, Иерусалима, следующее: бук­
вальное (историческое) — город в Иудее, аллегорическое —- христианская Церковь,
моральное — душа верующего, анагогическое — Царствие Небесное. Эту теорию
в подробной разработке можно увидеть в письмах Данте к Кан Гранде де ла Скала
[см.: Данте, 1968:5*7].
106
Термин «анагогия» (от avctXoyza «ввысь» + «водить») как один из трех основ­
ных смысловых уровней я применяю в значении, которое он несет у св. Дионисия
Ареопагита и св. Максима Исповедника, а именно: восхождение от чувственного
восприятия и образов к реальности Божественного бытия. При конкретном содер­
жательном анализе, однако, в большинстве случаев под анагогией я буду понимать
восхождение от мифологически-языческого, социально-атеистического к христианско-религиозному мировоззрению, выраженным соответствующей символикой.
1(17
Вяч. Иванов проницательно отмечает, что это ужасное открытие разверза­
ет перед Достоевским еще одну бездну, страшную и озаряющую одновременно:
299
он начал понимать, что все человечество — это один человек [см.: Роднянская,
1980:225].
!1)К
Не случайно в первоначальном замысле произведение носило заглавие «Пья­
ненькие». Кабак как символ бездуховности ясно эксплицируется и в творчестве Го­
голя. Эта идея продолжена Достоевским с особой силой. У него кабак превращается
в топос с отрицательным значением почти во всех романах Пятикнижия. В «Братьях
Карамазовых», например, буквально сказано: «Тут есть одно нехорошее место, один
трактир» [14: J76]. В связи с этим я не могу согласиться с утверждением П. Флорен­
ского: «чтобы высказаться, Достоевскому не годится наш дом, не годится монастырь,
не годится, может быть, храм. Достоевскому нужен кабак или вертеп» [цит. по: Кравец, 1990: 38]. Справедливее было бы сказать, что для Достоевского только храма
недостаточно, нужен и кабак.
!(1<;
Писарев, например, считал, что Раскольникова довела до преступления нуж­
да [см. об этом: Шкловский, 1957: 206].
110
Речь идет о том, что инициационные обряды связаны с продолжительным уе­
динением неофита в лесу, а также с данным им обетом молчания [см.: Тернер, 1983:
107, 179]. Этот период мог длиться тридцать дней, сто дней, пять месяцев и т. д.
[см.: Пропп, 1986: 132; об инициации см. также: МНМ, 1, 1987: 543-544].
111
Неофиты, совершающие обряд инициации, могли носить только лохмотья
[см.: Тернер, 1983: 109]. Посвящаемому также запрещалось мыться [см.: Пропп,
1986: 132].
112
В качестве исключения можно указать на С. М. Соловьева и В. Н. Топорова.
Первый рассматривает образ преимущественно в контексте психологического. Для
него он — «грустно-радостный пейзаж» с применением «шаблонных приемов и стан­
дартных элементов» [Соловьев С , 1979: 148-183]. Второй рассматривает его как об­
раз мифологический: для него это чистая схема мифологического мышления, которая
постоянно воспроизводится в художественном и религиозном сознании [Топоров,
1913:238-240].
113
Представление о солнце как глазе восходит к так называемым легендам о про­
исхождении (legendedesorigines) [см.: Веселовский, 1989:152,305; Пропп, 1986: 277].
Совершенный синтез жертвенного коня и солнца как его глаза находим еще в «Брихадараньяке»: «...утренняя заря — это голова жертвенного коня, солнце — его глаз,
ветер — его дыхание» [Брихадараньяка, 1964: 67].
114
В XII в. в своей «Великой книге чудес» Ибрагим бен Весиф Шах писал: «...не­
которые славяне исповедуют христианскую веру, а другие — язычники и кланяются
солнцу». Как я уже отметил в начале, в России скрытое двоеверие сохранилось как
обычная практика даже в новейшее время.
115
«Русские люди, хотя и крещеные, кланяются или приносят жертвы грому и
молнии, Солнцу и Луне» [Крывелев, 1975, 1: 345].
116
Помимо Змия, эквивалентом Яги является также старик, и убийство Федора
Карамазова можно рассмотреть в таком же смысле (как и в случае с убийством Алены
Ивановны, в основе всего здесь «сокровище» — деньги).
!17
А. Снисаренко пишет, что чаще всего Баба Яга является как космический
персонаж — вильктак или кудлак — вурдалак, родственный скандинавскому волку,
поглощающему солнце [Снисаренко, 1989: 209].
300
1!S
О том, что лошадь была постоянным атрибутом славянского языческого бога
Перуна, см., например: Щапов, 1989: 12; МММ, 1988, 2: 306-307.
119
О топоре как символе Перуна см.: Даркевич, 1961.
1:11
Несовместимость солнца и луны проявляется в связи с так называемой «не­
бесной свадьбой» [см.: Топоров, 1983: 264]. После свадьбы месяц покидает солнце,
за что ему мстит бог-громовержец, рассекая его наполовину [МНМ, 1988, 2: 78-79].
О солнце как символе мужского, положительного начала, а луны — женского, отри­
цательного, см. там же: 79.
121
М. М. Бахтин дал запоминающееся толкование этого сна Раскольникова, в ко­
тором представляет его как «карнавальное» переворачивание духовного космоса ге­
роя. К сожалению, оно направлено на решение некоторых проблем в сфере формаль­
ной поэтики жанра (более конкретно — «рефлекса» менипповой сатиры в творчестве
Достоевского), и несмотря на то, что содержит интересные наблюдения (например,
насчет связи этого сна Раскольникова с пушкинской «Пиковой дамой» и в особеннос­
ти со сном самозванца в «Борисе Годунове» — сцена в келье в Чудовом монастыре
[см.: Пушкин 2000, т. 4]), все же оно реализовано вне цепочки снов в романе, которые
очевидно образуют единую систему. Изолированное рассмотрение его приводит в
большинстве случаев к ряду искажений мысла. Разумеется, у нас возникает еще мно­
жество возражений к анализу такого рода, объясняющему если не все, так почти все
в данном сне «карнавальной логикой» [см.: Бахтин, 1976: 191-193].
122
В подтверждение сказанного хочу привести интересное рассуждение С. В. Бе­
лова: «В течение всей сцены убийства лезвие топора было обращено к Раскольникову
и угрожающе глядело ему в лицо, как бы приглашая стать на место жертвы. Не топор
во власти Раскольникова, а Раскольников стал орудием топора ... топор жестоко от­
платил Раскольникову. Бессилие совладать с орудием убийства становится началом
крушения Раскольникова» [Белов, 1985: 103].
123
Не только плащ (аллюзия с монашеской рясой), но и капюшон в одежде
Мышкина восходят к иноческому куколю (символу невинности и детского чистосер­
дечия) монаха. Само слово «куколь» происходит из лат. cucullus — капюшон, ина­
че он именуется «покрывалом беззлобия» [см.: Вениамин, 1992, 2: 410-411]. Фелон
(греч. yaivco/jfe) — это пятая священная одежда пресвитера, покрывающая как пок­
рывалом все остальные (из гр. (рагУЕтш — покрывать, и До<; — все) [см. там же: т. 1:
138].
124
см.: Лепахин, 1984: 65-92; Фридлендер, 1964: 245; Лотман Л., 1974: 251-282
и др.
125
О глубинном смысле этой связи у Христа (с некоторыми оговорками)
см.: Фрайденберг, 1978: 491-531.
126
Бесспорным доказательством того, что Достоевский при построении образа
имеет в виду именно эту ортодоксальную формулу, могут послужить каллиграфичес­
ки выведенные имена величайших восточных богословов, занимавшихся решением
данной проблематики — это святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий
Богослов. Мы находим их в рукописных вариантах романа, притом как раз на той
странице, где зафиксирован замысел, о князе Христосе [см.: 9: 249].
127
Омофор — специальная архиерейская одежда из шерсти, которая лежит на
плечах священника. Омофор символизирует (по толкованию св. Симеона Солунско-
301
го) нашу павшую природу («заблудшую овцу»), которую Спаситель берет на свои
плечи, чтобы излечить и спасти ее [подробнее см.: Вениамин, 1992, 1: 141-142].
12s
Для Достоевского несомненно, что «будущий антихрист будет пленять кра­
сотой» [16: 363].
124
Это мы узнаем из эпилога романа, где выясняется, что Раскольников приго­
ворен к восьми годам каторжной работы [6: 411] и что «через восемь лет ему будет
только тридцать два года» [Там же: 417].
ш
В этом смысле таинство елеосвящения не совершается над младенцами, так
как у младенца не может быть сознательно совершенных грехов [см.: ЗБ, 1987: 558].
П!
Не случайно всезнающий Лебедев в «Идиоте» уверенно заявляет, что имя
Мышкина -— «имя историческое, в Карамзина "Истории" найти можно и должно»
[8: 8]. Это — важное сведение об исторической этимологии и символике имени, так
как у Карамзина эту фамилию носит только один из русских зодчих Успенского собо­
ра в Москве [см.: Карамзин, 1989, кн. 2; 6, примеч. 101 к с. 47]. Следовательно, древ­
нерусский храмостроитель является одним из прототипов князя Мышкина, что, со
своей стороны, связывает героя Достоевского со строительной символикой в романе
и объясняет его развитое архитектурное чутье.
132
Кризисный этап в агиографии обычно связан с прохождением святых через
какое-либо земное или небесное мытарство, т. е. через особую область земного или
спиритуального мира ( так называемая TEXCOVIOV — «мытница», отсюда и TsXcovia —
«мытарство»), находящуюся в области «поднебесных духов злобы» — демонов
[см.: Кирилл Александрийский, 1909]. В той или иной степени все основные персо­
нажи в «Братьях Карамазовых» проходят через такие духовные испытания. В романе
этот этап обозначен буквально как «Хождение души по мытарствам». Митя Кара­
мазов переходит через три духовных испытания, буквально несущих название «мы­
тарства» [14: 412, 419, 425]. Они точно соответствуют трем встречам Ивана Кара­
мазова с дьяволом. Даже Алеша проходит через свои мытарства, описанные в главах
«Тлетворный дух», «Такая минутка», «Луковка». Мотив «мытарств души» фиксирует
область верховного напряжения — духовный кризис героя, когда совершается неви­
димая брань с поднебесным и наступает mutatio mentis (изменение духа), ведущее
или к небесному, или к подземному.
Список литературы
Аввы 0аласая о любви, воздержании и духовной жизни къ пресвитеру
Павлу//Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергисва Лавра, 1992. Т. 3.
Аввы Исаака Сирина слова подвижнические. М., 1993.
Аверинцев С. С. Поэтика ранневизантийской литературы / С. С. Аверинцев. М., 1977.
АлексЬевъ Н. И. Х р и с т н с т в о и идея монархш / Н. Н. АлексЬевъ //
Путь. 1927. Хо 6.
Альтман М. С. Достоевский. По вехам имен / М. С. Альтман. Саратов,
1975.
Андреев М. Л. Второе рождение европейской драмы / М. Л. Андреев //
Проблема жанра в литературе Средневековья. М., 1994.
Анненков П. В. Заметки о русской литературе прошлого года / П. В. Ан­
ненков // Современник. 1849. № 1.
Архиеп. Вениамин. Новая Скрижаль, или Объяснение о Церкви, о Ли­
тургии и о всех Службах и Утварях Церковных : в 2 т. / Архиеп. Вениамин.
М.,1992.
Архим. Илариоы (Троицкий). Христианства нет без Церкви / Архим. Иларион (Троицкий). М., 1992.
Афанасьев К. Н. Геометрический анализ храма Св. Софии в Константи­
нополе / К. Н. Афанасьев // Визант. временник. М., 1952. Т. 5.
Байбурин А. К. К описанию структуры славянского строительного риту­
ала / А. К. Байбурин // Текст: семантика и структура. iM., 1983.
Банков С. Славянски библейски конкорданс и енциклопедия / С. Банков.
Glendale, 1987.
Баршт К. А. Федор Достоевский. Тексты и рисунки / К. А. Баршт. М.,
1989.
Бахтин М. Въпроси на литературата и естетиката / М. М. Бахтин. Со­
фия, 1983.
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / М. М. Бахтин. М. ;
Аугсбург. URL: http: //imwerden.de/pdf/bachtin_poetika_dostoevsky.pdf
Бахтин М. М. Проблемы творчества Достоевского/М. М. Бахтин. Киев,
1994. URL: http://www.vehi.net/dostoevsky/bahtin/04.html
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. М ,
1986.
Бекъ С. Еврейска история от края на библейския периодъ до днесъ /
С. Бекъ, М. Бранъ. София, 1922.
303
Белов С. В. Роман Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» :
комментарий / С. В. Белов. М., 1985.
Бем А. Л. Личные имена у Достоевского / А. Л. Бем // О Dostojevskem :
Sbornik statH a materialu. Praha, 1972.
Бемъ А. Л. Развертыван1есна(«ВтэЧный мужъ» Достоевского)/Л. Л. Бем
// Ученыя записки, основанныя русской учебной коллепей въ Прагъ\ Прага,
1924. Т. 1,вып. 2.
Бемъ А. Л. Эволюция образа Ставрогина (К спору об «Исповеди Ставрогина») / А. Л. Бем // Труды V съезда рус. академич. организаций за грани­
цей. София, 1931. Т. 1.
Бердяевъ И. М1росозерцанше Достоевского / Н. Бердяевъ. Прага, 1923.
Библ1я сирЪчь Книги Священнаго Писания Ветхаго и Новаго ЗавЪ та //
Библия. СПб., 1900.
Библейская энциклопедия. М., 1991.
Библия сиреч книга на Свещеното Писание на Ветхия и Новия Завет.
София, 1993.
Бицилли П. М. Почему Достоевский не написал «Жития великого греш­
ника» / П. Бицилли // Бицилли П. Салимбене и Пушкин. Варна, 2004. URL:
http: //liternet.bg/publish6/pbicilli/salimbene/greshnik.htm#*a
Бичков В. В. Византийска естетика. Теоретически проблеми / В. В. Бичков. София, 1984.
Бичков В. В. Иконата. Феноменален синтез / В. В. Бичков // Фiлocoфia.
1992. № 5 .
Блаженный Августин. Исповедь / Блаженный Августин // Библиотека
«ВЪхи». URL: http: //www.vehi.net/avgustin/ispoved/01.html
Блаженный Августин. О граде Божием, в двадцати двух книгах : в 4 т.
М., 1994.
Блаж. Д1адоха, епископа Фотики подвижническое слово, разделенное
на сто главъ д+эятельныхъ, исполненныхъ в дЪшя и разсуждешя духовного //
Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 3.
Блаж. Каллиста naTpiapxa главы о молитвъ- // Добротолюбие. СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 5.
Борисова Е. А. Русская архитектура конца XIX - начала XX века /
Е. А. Борисова, т. П. Каждан. М., 1971.
Бочаров С. Холод, стыд и свобода (История литературы sub specie Свя­
щенной истории) / С. Бочаров // Вопр. лит. 1995. Х° 5.
Бояджиев Ц. Античната философия като феномен на културата / Ц. Бояджиев. София, 1990.
Бояджиев Ц. Ренесансът на XII век. Природата и човекът / Ц. Бояджиев.
София, 1991.
Брахадараньяка упанишада. М., 1964.
Булгаков С. М. Автобиографические заметки / С М . Булгаков. Париж,
194б/
304
Бурсов Б. И. «Подросток» - роман воспитания / Б. И. Бурсов. Аврора.
1971. № И.
Бурсов Б. И. Личность Достоевского : роман-исследование / Б. И. Бур­
сов. Л., 1979.
Български библейски речник. Цариград, 1984.
Бичков В. В. Православная эстетика в период позднего византийского
исихазма / В. В. Бичков // Вестн. рус. христ. движения. Париж Нью-Йорк
- М , 1992. № 164.
Бичков В. В. Эстетика / В. В. Бичков // Культура Византии (вторая поло­
вина VII-XII в.). М., 1989.
Бичков В. В. Эстетика поздней античности (II-III века) / В. В. Бичков.
М., 1989.
Вагнер К. Г Византийский храм как образ мира / К. Г. Вагнер // Визант.
временник. М. - Л., 1986. Т. 3.
Веселовский А. Н. Историческая поэтика / А. Н. Веселовский. М., 1989.
Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы» / В. Е. Ветлов­
ская. Л., 1977.
Ветловская В. Е. Способы логического опровежения противника в
«Преступлении и наказании» Достоевского / В. Е. Ветловская // Рус. лит.
1994. №4.
Ветловская В. Е. Творчество Достоевского в свете литературных и
фольклорных параллелей. «Строительная жертва» / В. Е. Ветловская //Миф Фольклор - Литература. Л., 1978.
Ветловская В. Е. Литературные и фолкльорные источники «Братьев Ка­
рамазовых» / В. Е. Ветловская //Достоевский и русские писатели. Традиции.
Новаторство. Мастерство. М., 1971.
Волгин И. Л. Достоевский и Менделеев: антиспиритический диалог /
И. Л. Волгин, В. Л. Рабинович // Вопр. философии. 1971. № 11.
Воропаев В. «Монастырь ваш — Россия!» / В. Воропаев // Гоголь Н. В.
Духовная проза. М., 1992.
Вышеславцевъ Б. П. Значеше сердца въ релипи / Б. П. Вышеславцевъ //
Путь. 1925. № 1.
Гачев Г Д. Космос Достоевского / Г. Д. Гачев // Проблемы поэтики исто­
рии литературы. Саранск, 1973.
Герцен А. И. Былое и думы. М., 1958 / А. И. Герцен. URL: http: //az.lib.
ni/g/gercen_a_i/text_0130.shtml
Гоголь И. В. Собрание сочинений : в 7 т. / Н. В. Гоголь. М., 1976-1979.
Гоготишвили Л. А. Коммуникативная версия исихазма / Л. А. Гоготишвили // А. Ф. Лосев. Миф. Число. Сущность. М, 1994.
Голейзовский Н. Рублев и его школа / Н. Голейзовский, С. Ямщиков. М.,
1978.
Гордиенко Н. С. Православие в советском обществе. Основные этапы
эволюции / Н. С. Гордиенко // Русское православие: вехи истории. М., 1989.
305
Григорий Назиански. Пет богословски слова / Григорий Назиански. Со­
фия, 1994.
Гроссман Л. Поетиката на Достоевски / Л. Гросман. София, 1996.
Гроссманъ 77. Библютека Достоевского. По нсизданнымъ матер1аламъ.
Съ приложешемъ каталога библютеки Достоевского / Л. Гроссманъ. Одесса,
1919.
Гроссманъ Л. П. Семинарж по Достоевскому. Матер1алы, библюграф1я
и комментарш / Л. П. Гроссманъ. М. ; Пг., 1922.
Гуревич А. Я. Проблеми на средновековната народна култура / Л. Я. Гуревич. София, 1985.
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М.,
1989.
Данте Алигьери. Малые произведения / Алигьери Данте. М., 1968.
Даркевич В. Топор как символ Перуна в древне русском язычестве /
В. Даркевич // Сов. археология. 1961. Лг9 4.
Днепров В. Идеи, страсти, поступки (из художественного опыта Досто­
евского) / В. Днепров. Л., 1978.
Днепров В. С единой точки зрения / В. Днепров. Л., 1989.
ДЪяшя Вселенскихъ Соборовъ. Казань, 1891.
Достоевская А. Г Воспоминания / А.Г.Достоевская. М., 1971. URL:
http: //az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0610.shtml
Достоевски Ф. М. Събрани съчинения : в 12 т. / Ф. М. Достоевски. Со­
фия, 1981-1994.
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений : в 30 т. / Ф. М. Достоев­
ский. Л., 1972-1990.
Еврейская энциклопедия : в 16 т. Репр. изд. М, 1991.
Еписк. Силвестръ. Православно догматично богословие (съ историческо изслЪдване на догмите): в 3 т. / Еписк. Сильвестр. София, 1912-1914.
Ерофеев В. Русская проза Владимира Набокова / В. Ерофеев // Набо­
ков В. Собр. соч. : в 4 т. М, 1990. Т. 1.
Жечев Т. Българският Великден или страстите български / Т. Жечев.
Пловдив, 1985.
Законъ Божш. Jordanville, 1987.
Захаров В. Н. Система жанров Достоевского / В. Н. Захаров. Л., 1985.
Звезданов Н. За скиталчествата на духа и за златните сънища на човечеството / Н. Звезданов//Ф. М. Достоевски. Събрани съчинения : в 12 т. Со­
фия, 1983. Т. 8.
Зеньковский В. Принципы православной антропологии / В. Зеньковский //Русское зарубежье в год тысячилетия крещения Руси. М., 1991.
Иванов Вяч. Родное и вселенское / Вяч. Иванов. М., 1994.
Иванова М. Форма и композиция в средновековната архитектура. Про­
блеми на историческата теория / М. Иванова. София, 1988.
Ивановъ Вяч. Борозды и межи. Опыты эстетические и критичесюе / Вяч.
Ивановъ. М., 1916.
306
Иеромонах П. Стефанов. Неизвестен ръкопис от школата на преп. Паи­
сий Величковски / Иеромонах П. Стефанов // Паисий Величковски и неговата книжовна школа. Велико Търново, 1994.
История зарубежного искусства. М., 1983.
История Русской Церкви. Спасо-Преображенский Валаамский монас­
тырь, 1991.
Карамзин //. М. История Государства Российского / Н. М. Карамзин. М.,
1989.
Караянопулос Й. Е. Политическата теория на византийците / Й. Е. Караянопулос. София, 1992.
Корякин Ю. Достоевский и канун XXI века / Ю. Карякин. М., 1989.
Кашина Н. В. Эстетика Ф. М. Достоевского / Н. В. Кашина. М., 1989.
Кирпотин В. Я. Мир Достоевского / В. Я. Кирпотин. М., 1983.
Ктбанов А. И. Народные противоцерковные движения / А. И. Клибанов // Русское православие: вехи истории. М., 1989.
Ковалевская С. В. Из «Воспоминаний детства» / С. В. Ковалевская //
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2 т. М, 1990. Т. 1.
Ковач А. Жанровая структура романов Ф.М.Достоевского. Романпрозрение / А. Ковач // Проблемы поэтики русского реализма XIX века, Л.,
1984.
Колейное В. В. Двуединый свет. Размышления о преподобных Иосифе
Волоцком и Ниле Сорском / В. В. Кожинов // Рус. лит. 1995. № 1.
Комеч А. И. Символика архитектурных форм в раннем христианстве /
A. И. Комеч // Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978.
Кони А. Ф. Ф. М. Достоевский / А. Ф. Кони // Ф. М. Достоевский в вос­
поминаниях современников : в 2 т. М., 1990. Т. 2.
Котельников В. А. Оптина пустынь и русская литература / В. А. Котель­
ников // Рус. лит. 1989. j\9 1, 3, 4.
Котельников В. А. Язык Церкви и язык литературы / В. А. Котельни­
ков//Рус. лит. 1995. № 1.
Кочев Н. Ц. Философската мисъл във Византия IX-XII в. / Н. Ц. Кочев.
София, 1981.
Кравец С. Л. О красоте духовной : (П. А. Флоренский: религиознонравственные воззрения) / С. Л. Кравец. М., 1990.
Крывепев И. А. История религии / И. А. Крывелев. М.,1975. Т. 1.
Культура Византии (вторая половина VII—XII в.). М., 1989.
КупърДж. К. Илюстрована енциклопедия на традиционните символи /
Дж. К. Купер. София, 1993.
Лазарев В. И. Этюды о Феофане Греке. Биография Феофана Грека /
B. Н. Лазарев // Визант. временник. М., 1953. Т. 7.
Леонтьев К. И. Наши новые христиане / К. Н. Леонтьев // О великом
инквизиторе. Достоевский и последующие. М., 1992.
307
Лепахин В. Умное делание : (О содержании и границах понятия «исихазм») / В. Лепахин // Вестн. рус. христ. движения. № 164. Париж - НьюЙорк - М . , 1992.
Лепахин В. Христианские мотивы в романе Достоевского «Идиот» /
В. Лепахин // Dissertationes Slavicae. Szeged, 1984. Т. 16.
Лившиц Г. М. Происхождение христианства. В свете рукописей Мертво­
го моря / Г. М. Лившиц. Минск, 1967.
Лихачев Д. С. «Готические окна» Достоевского / Д. С. Лихачев // Лиха­
чев Д. С. Избр. работы : в 3 т. Л., 1987. Т. 3.
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы / Д. С. Лихачев. М.,
1979.
Лихачёва В. Д. Искусство Византии IV-XV веков / В. Д. Лихачева. Л.,
1986.
Лихачева В. Изкуството на Византия IV-XV в. / В. Лихачова. София,
1987.
Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Дог­
матическое богословие / В. Н. Лосский. М., 1991.
Лосский Н. О. Достоевский и его христианское миропонимание /
Н. О. Лосский // Н. О. Лосский. Бог и мировое зло. М., 1994.
Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века /
Л. М. Лотман. Л., 1974.
Лотман Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. М.,
1970.
МакаршД. Б. Православно-догматическое богослов1е
в 2 т. /
Д. Б. Макарий. СПб., 1857, 1868.
Малицки П. И. История на християнската Църква : в 3 т. / П. И. Малицки. София, 1994.
Мейендорф И. Введение в святоотческое богословие : (конспект лек­
ций) / И. Мейендорф. М., 1982.
Мейендорф И. Византийское богословие / И. Мейендорф. Минск, 2001.
Мифы народов мира : энциклопедия : в 2 т. М., 1987-1988.
Младеновъ Ст. Кратка граматика на църковнославянския езикъ съ сборникъ и речникъ / Ст. Младенов, Г. Бакалов. София, 1924.
Многополезное сказаше объ АввЪ ФилимонЪ / Авва Филимон // Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 3.
Моисеева Н. Ошибка в биографии Ф. М. Достоевского / Н. Моисеева //
Вопр. лит. 1996. Июль - август.
Мончева Л. К. К проблеме символьного образа в древнерусской литера­
туре / Л. К. Мончева // Dissertationes slavicae. Szeged, 1984. Т. 16.
Мочульский К. Достоевский. Жизнь и творчество / К. Мочульский // Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
Наставлен1я Марка подвижника о духовной жизни // Добротолюбие.
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 1.
308
Наставлешя св. отца нашего Антошя Великаго о жизни во Христъ\ извлеченныя изъ слова его въ жизнеописанш св. АОанаая, изъ его 20 посланш
и 20 словъ / Антоний Великий //Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева
Лавра, 1992. Т. 1.
Наставлешя святого Макар1я Великаго о хриспанской жизни, выбранныя изъ его бесьдъ / Макарий Великий // Добротолюбие. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 1992. Т. 1.
Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений : в 3 т. / Н. А. Некрасов.
Л., 1967.
Нестеровский Е. Литургика (или наука за богослуженисто на Православната църква) / Е. Нестеровский. София, 1931.
Никифора уединенника слово о трезвенш и храненш сердца многопо­
лезное / Никифор Уединенник // Добротолюбие. Свято-Троицкая Сергиева
Лавра, 1992. Т. 5.
НикольскийН. М. История Русской Церкви / Н.М.Никольский. М.,
1988.
О вниманш и молитвЪ. Собрано изъ святыхъ отцевъ / Аноним // Добро­
толюбие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 5.
Объ умной или внутренней молитве: Сочинеше блаженнаго старца схи­
монаха и архимандрита Паюия Величковскаго. М., 1902.
Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика / Э. Панофский //
Богословие в культуре Средневековья. Киев, 1992.
Пентикостарюнъ, сиречь пятидесятница : (Трюдь цветная). М., 1893.
Петканова Д. Средновековна литературна символика / Д. Петканова.
София, 1994.
Письмо Епифания Премудрого к Кириллу Тверскому // Библиотека ли­
тературы Древней Руси. Т. 6: XIV - середина XV века. Санкт-Петербург,
1999 // ИРЛИ РАН [Официальный сайт]. URL: http: //www.pushkinskijdom.
ru/Default.aspx?tabid=4992
Плетнев Р. Сердцемъ мудрые : (О «старцах» у Достоевскаго) / Р. Плет­
нев // О Достоевском : в 3 т. Прага, 1929-1936.
Поддубная Р. Н. Законы романного бытия героев в художественной
структуре «Преступления и наказания» Достоевского / Р. Н. Поддубная //
Литературные направления и стили. М., 1976.
Покровскш И. Происхождение древнехриспанской базилики. Церковно-археологическое исследование. / Н. Покровский. СПб., 1880.
Полный православный богословскш энциклопедически словарь : в 2 т.
СПб., б. г.
Поселянинъ Е. Русская Церковь и руссюе подвижники XVIII втэка /
Е. Поселянин..СПб., 1905.
Посновъ М. М. История на християнската Църква. До разделението на
църквите (1054 г.) / М. М. Посновъ. София, 1933.
Правилата на св. Православна Църква съ тълкуванията имъ : в 2 т. Со­
фия, 1912-1913.
309
Преп. Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова против порицающих
святые иконы или изображения / Иоанн Дамаскин. Свято-Троицкая Сергиева
Лавра, 1993.
Преп. Иоанна Лествичника. Лествица / Иоанн Лсствичник. Свято-Ус­
пенский Псково-Печерский монастырь, 1994.
Преп. Иосиф Волощий. Просветитель / Иосиф Волоцкий. М., 1993.
Преп. Нил Сорский. Устав о скитской жизни / Нил Сорский. Свято-Тро­
ицкая Сергиева Лавра, 1991.
Преп. Симеон Новый Богослов. Творения : в 3 т. / Преп. Симеон Новый
Богослов. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1993.
Преподобнаго Исих1я, пресвитера 1ерусалимскаго, къ 0еодулу. Душепо­
лезное и спасительное слово о трезвенш и молитвЪ // Добротолюбис. СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 1992. Т. 2.
Преподобнаго отца нашего 1оанна Карпатского. О трезвенш и храненш
сердца / Иоанн Карпатский // Добротолюбис Свято-Троицкая Сергиева Лав­
ра, 1992. Т. 3; 5.
Прокопий из Кесарии. Война с готами / Прокопий из Кесарии. М., 1950.
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки / В. Я. Пропп. Л.,
1986.
Пропп В. Я. Фольклор и действительность / В. Я. Пропп. М., 1976.
Протопопов Д. И. О нетлении Святых мощей /Д. И. Протопопов. Тверь,
1991.
Пушкин А. С. Собрание сочинений : в 10 т. / А.С.Пушкин. РВБ:
2000-2004. URL: http: //www.rvb.ai/pushkin/toc.htm
Роднянская И. Б. Вячеслав И. Иванов. Свобода и трагическая жизнь.
Исследование о Достоевском / И. Б. Роднянская // Достоевский. Материалы
и исследования. Л., 1980.
Розанов В. В. О легенде «Великий инквизитор» / В. В. Розанов // О вели­
ком инквизиторе. Достоевский и последующие. М., 1992.
Ръководство за изучаване пророческите книги на Ветхия Завет. София,
1990.
Св. Афанасии Великий. Творения : в 4 т. / Св. Афанасий Великий. М.,
1994.
Св. Григорий Палама. Триады в защиту священно-безмолвствующих /
Св. Григорий Палама. М , 1995.
Св. Григорий Синаит. Главы о запов+эдяхъ и догматахъ; Наставлеше
безмолствующимъ / Св. Григорий Синаит // Добротолюбис. Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, 1992. Т. 5.
Св. Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. Божественные име­
на / Св. Дионисий Ареопагит. Киев, 1991.
Св. Иоан Златоуст. Тълкувание на Евангелието от Матфея / Св. Иоанн
Златоуст. София, 1935. Беседы 16-44.
Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры / Св. Иоанн
Дамаскин. Репр. изд. 1894 г. М. ; Ростов н/Д, 1992.
310
Св. Ириней Лионский. Против ересей / Св. Ириней Лионский // Ранне­
христианские Отцы Церкви. Брюссель, 1978.
Св. Кирилл Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственые / Св. Кирилл Иерусалимский. М., 1991.
Свящ. loan и Ковал евскш. Юродство о Христе и Христа ради Юродивые
Восточной и Русской Церкви / Свящ. Иоанн Ковалевский. М., 1902.
Свящ. Григорш Дьяченко. Полный церковно-славянскш словарь /
Свящ. Григорш Дьяченко. М., 1900.
Семенов Е. И. У истоков романа «Подросток» / Е. И. Семенов // Рус.
лит. 1973. JVO3.
Сильвестр (Малеванский). Опыт православного догматического бого­
словия (с историческим изложением догматов): в 5 т. / Сильвестр (Малеван­
ский). Киев, 1878-1891. URL: http: //wvvw.kroto v. info/hi story/19/1890_10_2/
malevansky.htm
Сказашя о земной жизни Пресвятой Богородицы. М., 1904.
Служебник. София, 1985.
Снисаренко А. Третий пояс мудрости (Блеск языческой Европы) /
А. Снисаренко. Л., 1989.
Соина О. С. Этика самосовершенствования: Л. Толстой, Ф. Достоевс­
кий, Вл. Соловьев / О. С. Соина. М., 1990.
Соколов М. И. Христос у подножия мельницы-фортуны (к интерпре­
тации одного пейзажно-жанрового мотива Питера Брейгеля Старшего) /
М. Н. Соколов // Искусство Западной Европы и Византии. М., 1978.
Соловьев Вс. С. Воспоминания о Ф. М. Достоевском / Вс. С. Соловьев //
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников : в 2 т. М., 1990. Т. 2.
Соловьев С. М Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевс­
кого / С. М. Соловьев. М.,1979.
Сочинения еп. Игнатия Брянчанинова. Слово о смерти. М., 1991.
Спюйнев А. Българските славяни — митология и религия / А. Стойнев.
София, 1988.
Стойнев А. Св. Иван Рилски, официалното християнство и богомилството / А. Стойнев. София, 1991.
Стоянов Цв. Геният и неговият наставник / Цв. Стоянов // Цв. Стоянов.
Съчинения : в 2 т. София, 1988.
Творешя иже во святых отца нашего Васшня Великого, арх1епископа
Кесарш Каппадокшсюя : в 4 т. Репр. изд. 1845 г. М., 1993.
Творешя иже во святых отца нашего Григор1я Нисского : в 2 т. М., 1861.
Т. 1.
Творения преподобного Максима Исповедника. М , 1993. Т. 1.
Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольскаго, в русском переводе : в 12 т. Т. 7, кн. 1. Толкование на свя­
таго Матфея Евангелиста. URL: http: //www.ccel.org/contrib/ni/Zlatmatl/Matl.
html
Тернер В. Символ и ритуал / В. Тернер. М., 1983.
311
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс. Апология / Тертуллиан Квинт
Септимий Флоренс. URL: http: //www.biblcstudy.m/pub/apologiatertullian.
shtml
Топоров В. //. О структуре романа Достоевского в связи с архаичными
схемами мифологического мышления / В. Н. Топоров // Structure of Texts and
Semiotics of Culture. The Hague - Paris, 1973.
Топоров В. If. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика
и структура. М., 1983.
Требник. София, 1981.
Улф В. Руската гледна точка / В. Улф // Улф В. Смъртта на еднодневката.
София, 1983.
Успенский Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. М., 1995.
Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви / Л . А. Успен­
ский. М., 1989.
Флоренский П. А. Иконостас / П. А. Флоренский // Библиотека «Втэхи».
URL: http: //www.vehi.net/florensky/ikonost.html
Флоренский П. А. Обратная перспектива / П. А. Флоренский // Филосо­
фия русского религиозного искусства XVI-XX вв.: антология // Библиотечка
«Икона. Иконография. Иконопочитание». URL: http: //nesusvet.narod.ru/ico/
books/philos/no.htm
Флоровскш Г. В. Богословские отрывки / Г. В. Флоровский // Путь. 1931.
№31.
Флоровскш Г. В. Византшсюе Отцы V—VIII в. / Г. В. Флоровский. Па­
риж, 1933.
Флоровскш Г. В. Восточные Отцы IV-ro в+эка/ Г. В. Флоровский. Париж,
1931.
Флоровскш Г. В. Пути русского бoгocлoвiя / Г. В. Флоровский [Фототип.
изд.]. Париж, 1991.
Фрейберг Л. А. Византийская литература / Л. А. Фрейберг. М., 1974.
Фрейд 3. Достоевский и отцеубийство / 3. Фрейд // 3. Фрейд. Худож­
ник и фантазирование. М., 1995. URL: http: //www.freudlacan.org/index.
php/2005/08/08/47Фрейденберг О. М. Миф и литература древности / О. М. Фрейденберг.
М., 1978.
Фридлендер Г. М. Реализм Достоевского / Г. М. Фридлендер. М. ; Л.,
1964.
Халина Б. Поэтика как средство изложения содержания и метода фи­
лософии (к характеристике творчества Достоевского) / Б. Халина // Russian
Literature. 1982. JY» 11. North Holland.
Хомяков А. С. Сочинения богословские / А. С. Хомяков. СПб., 1995.
Цоневски И. Патрология / И. Цоневски. София, 1986.
Църковно-богослужебен встэкидневникъ. София, 1943.
312
Чанева-Дечевска II. Развитие на църковната архитектура по българските зами през XI -XIV в. / Н. Чанева-Дечевска // АТИ (Архитектура, теория,
история). 1988. № 4 .
Четвериковъ С. Изъ исторш русскаго старчества / С. Четвериков // Путь.
1925.-У» 1.
Четвериковъ С. Путь умнаго дЪлашя и духовнаго трезвен\я (Старчествоваше Архимандрита ПаиЫя Величковскаго на АоонЪ и въ Молдовлахш) /
С. Четвериков // Путь. 1926. N° 3.
Чифлянов Б. Литургика / Б. Чифлянов. София, 1996.
Шевалие Ж. Речник на символите : в 2 т. / Ж. Шевалие, А. Геербант. Со­
фия, 1995.
Шиваров II. Библейска археология / Н. Шиваров. София, 1992.
Шкловский В. Б. За и против. Заметки о Достоевском / В. Б. Шкловский.
М., 1957.
Щапов Я. II. Церковь в Древней Руси: (До конца XII в.) / Я. Н. Щапов //
Русское православие: вехи истории. М., 1989.
Элиаде М. Космос и история / М. Элиаде. М., 1989.
Элиаде М. Трактат по истории религий / М. Элиаде. СПб., 1999.
Этов В. И. О художественном своеобразии социально-философского
романа Достоевского / В. И. Этов // Достоевский - художник и мыслитель.
М., 1972.
Юнг К. Г. Психологические типы / К. Г. Юнг. СПб., 2001 // Библиотека
Максима Мошкова. URL: http: //lib.ru/PSIHO/JUNG/psytypes.txt
Языкова И. К. Богословие иконы / И. К. Языкова. М., 1995.
Яыакиев К. Религиозно-философски размишления / К. Янакиев. София,
1991.
Янкова В. Аскетичната традиция в средновековна България и делото на
преп. Паисий Величковски / В. Янкова. Велико Търново, 1994.
Bleitreu С. Revolution der Literature / С. Bleitreu // Лит. наследство. Т. 86.
М., 1973.
Faryno J. Wstej) do literaturoznawstwa. Wydawnictwo Paristwowe / J. Faryno. Warszawa, 1991.
MigneJ.-P. Patrologia cursus completus / J.-P. Migne. Graeca, б. г.
Rops D. Iesus en son temps / D. Rops. Paris, 1962.
Walicki A. U kr^gu konserwatywnej utopii. Struktura i przemiany rosyjskiego
slowianonTstwa /A. Walicki. Warszawa, 1964.
Список принятых сокращений
Авва Фалассий: Аввы Оаласая о любви, воздержанш и духовной жизни
къ пресвитеру Павлу.
Авва Филимон: Многополезное сказаше объ АввЪ Филимоне
Аноним: О вниманш и молитво.
Антоний Великий: Наставлешя св. отца нашего Антошя Великаго о
жизни во Христе...
ББР: Български библейски речник.
Библия: Библ1а сирЪчь Книги Священнаго Писания Ветхаго и Новаго
Завэта. СПб., 1900.
Библия: Библия сиреч книга на Свещеното Писание на Ветхия и Новия
Завет. София, 1993.
Брихадараньяка: Брахадараньяка упанишада.
БЭ: Библейская энциклопедия.
Василий Великий: Творешя иже во святых отца нашего Васшпя Вели­
кого...
Григорий Нисский: Творешя иже во святых отца нашего Григор1я Нис­
ского.
Диад ох: Блаженного Д1адоха, епископа Фотики, подвижническое сло­
во...
ДВС: Д-БЯШЯ Вселенскихъ Соборовъ.
Епифаний Премудрый: Письмо Епифания Премудрого к Кириллу Твер­
скому.
ЕЭ: Еврейская энциклопедия.
ЗБ: Законъ Божш.
Игнатий Брянчанинов: Сочинения епископа Игнатия Брянчанинова...
ИЗИ: История зарубежного искусства.
Иоанн Златоуст: Творения святаго отца нашего Иоанна Златоуста, архи­
епископа Константинопольскаго, в русском переводе...
Иоанн Лествичник: Преп. Иоанна Лествичника. Лествица.
ИРЦ: История Русской Церкви.
Исаак Сирин: Аввы Исаака Сирина слова подвижнические.
Исихий: Преподобнаго Исих1я, пресвитера 1ерусалимскаго, къ
0еодулу...
314
Иоанн Карпатский: Преподобнаго отца нашего Гоанна Карпатского.
О трезвенш и храненш сердца.
Каллист Патриарх: Блаженного Каллиста Патр1арха: Главы о молитве.
KB: Культура Византии.
Макарий Великий: Наставлешя святого Макар1я Великаго о христ1анской жизни...
Максим Исповедник: Творения преподобного Максима Исповедника.
Марк Подвижник: Наставлешя Марка подвижника о духовной жизни.
МНМ: Мифы народов мира.
Никифор уединенник: Никифора уединенника слово о трезвенш и хра­
ненш сердца многополезное.
Паисий Величковский: Объ умной или внутренней молитвЪ...
Пентикостарион: Пентикостарюнъ, сиречь пятидесятница...
ППЦ: Правилата на Св. Православна Църква съ тълкуванията имъ.
ППЭС: Полный православный богословскш энциклопедическш сло­
варь.
РИПКВЗ: Ръководство за изучаване пророческите книги на Ветхия За­
вет.
Сказание: Сказашя о земной жизни Пресвятой Богородицы.
ЦБВ: Църковно-богослужебен всЪкидневникъ.
