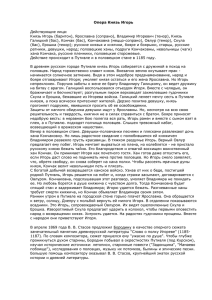Е.Л. Тюрин, г. Москва Мифологема о походе князя
реклама

1 Е.Л. Тюрин, г. Москва Мифологема о походе князя Игоря на половцев в 1185 году До сих пор в российском обществе наблюдается повышенный интерес к истории драматического похода дружины князя Игоря Святославича на половцев весной 1185 г., и вызван он прежде всего очевидной недостаточностью его мотивации. В самом деле, зачем незначительному и, следовательно, слабому в военном отношении новгород-северскому князю понадобилось в одиночку совершать с дружиной разбойный по сути набег в центр половецкого «дикого поля», безводного и практически необитаемого, куда русские прежде не осмеливались заглядывать? На серьезную добычу князь заведомо рассчитывать не мог, а вот риск погубить себя и все небольшое русское войско был огромен, поскольку совокупная сила половецких орд слишком велика для ведения с ними войны на их же территории. Недоумение усугубляется тем, что князь Игорь – не едва оперившийся юнец, а опытный в военном деле 34-летний воевода, хорошо осведомленный о реальной боеспособности войск половецких ханов, и прежде всего знаменитого Кончака – главного противника Киевской Руси. Куда конкретно вел свое войско князь Игорь – неизвестно, где принял бой с половцами – тоже неизвестно, как и дальнейшая судьба разгромленной русской дружины. Сам князь попал в плен, но жил в нем на правах знатного гостя, ни в чем не нуждаясь. Его побег из плена тоже окутан тайной: бежал он в одиночку, без каких-либо шансов пройти сотни верст по степи не замеченным половецкими отрядами. Видимо, его и не хотели ловить? Но вот что уж совсем странно: неудачная вылазка в степь мелкого южно-русского князька была описана сразу в двух солидных летописных сказаниях; кроме того, именно ей было посвящено «Слово о полку Игореве», – шедевр древнерусской литературы, единственный в своем роде, само появление которого в отечественном раннем Средневековье труднообъяснимо. Историк из сказанного выше, вообще говоря, обязан сделать очевидный для ученого вывод: в древних сказаниях содержится нарочито мифологическое изложение каких-то реальных и необычных для того времени событий, поэтому задача исследователя – по-возможности выявить намеренно утаиваемую первоисточниками историческую реальность. Сведения первоисточников о походе и предварительные выводы Первоисточников, из которых мы черпаем всю информацию о знаменитом походе князя Игоря Святославича на половцев в апреле – мае 1185 г., всего три: «Слово о полку Игореве» неизвестного автора конца XII в. (1, 2); киевская летопись в составе Ипатьевского летописного свода (список первой четверти XV в.) (3, т. II; 2); владимиро-суздальская летопись в составе Лаврентьевского летописного свода (список 1377 г.) (3, т. I; 2). События указанного 2 времени, описанные в них, в общих чертах совпадают, но существенно разнятся в деталях, причем эти детали и разночтения таковы, что их значимость в полной мере могут выявить и оценить только специалисты по истории, лингвистике и источниковедению вообще. Но выявить и оценить – это еще не значит прийти к общему мнению относительно реальной исторической истины, скрытой от нас за восемью с лишним веками, из которых более половины приходится на так называемую «тьму Средневековья». Общими, согласованными и потому ставшими каноническими положениями признаются сейчас следующие: сепаратный военный поход северских князей против половцев во главе с князем Новгород-Северским Игорем Святославичем начался 23 апреля 1185 г.; протяженность похода до неоднозначно определяемого места встречи с войсками половцев составила не менее 500 км от столицы княжества; боевое столкновение между русскими и половцами длилось три дня и закончилось полным разгромом русского войска и взятием в плен всех северских князей; князь Игорь через некоторое время сумел бежать из плена и благополучно добраться до своих земель; его старший сын Владимир, участник похода и битвы, пробыл в плену еще около двух лет, женился на дочери главного половецкого хана Кончака и затем с женой и сыном-младенцем без помех вернулся к отцу. Уже вышеприведенные, самые общие сведения о походе третьестепенного князя в степь с очевидно разбойными целями вызывают, мягко говоря, недоумение. Вот уже два столетия подряд его пытаются рассеять тысячи казенных специалистов и любителей-славянофилов, обожествление которыми старины буквально лишает их необходимого любому исследователю здорового скептического разума, иначе говоря, здравомыслия. В самом деле, русские совершили набег на половецкие кочевья, уже заранее готовясь к тому, что их там наверняка перебьют. Выходит, что десять тысяч здоровенных княжеских дружинников не самых простых сословий добровольно легли костьми в землю ради поганых вонючих курток и бабьих побрякушек? Идем далее. Князь Игорь в плену у Кончака устроился еще лучше, чем дома: соколиная охота, вино, девки – и никаких надоедливых государственных забот! Да полно, плен ли это был? И побег он совершил какой-то необыкновенный: верст двести пешком по степи, в которой рыскали во всех направлениях конные половцы, знавшие родную местность как свои пять пальцев. В довершение всей этой абсурдной трагикомедии княжич Владимир женится на басурманке и заводит от нее потомство. Еще можно было бы такое оправдать принуждением пленного. Так нет: по возвращении домой половчанку окрестили, а затем отец организовал свадьбу сына с соблюдением строгого христианского обряда, хотя вполне мог презреть обеты, данные сыном в стане поганых. Собственно, женитьба Владимира – единственный не вызывающий морального неприятия итог злополучного похода. Но разыгрывать ради нее кровавую драму с тысячами трупов – это даже по средневековым понятиям слишком круто! Вот почему элементарное здравомыслие не может свободно и непринуж- 3 денно принять к сведению версию первоисточников. Не было бы летописей – и мы читали бы гениальное «Слово» как блестящий образец чисто светского средневекового эпоса, чуждого надоедливой христианской назидательности, и не придавали бы никакого серьезного значения его реальному историческому содержанию, поскольку всякий истинный эпос немыслим без выдумки и преувеличений. Но включение кем-то составленной явно позже «Слова» и на его основе обширной летописной повести в солидный киевский свод 1198 г. (он читается в Ипатьевской летописи), который компоновал и редактировал один из самых образованных и осведомленных людей своего времени – игумен придворного Выдубицкого монастыря Моисей – совершенно меняет ситуацию. «Слово о полку Игореве» необходимо рассматривать в качестве первого, изначального исторического документа о событиях 1185 г., написанного либо их очевидцем, либо со слов очевидцев, возможно, и самого князя Игоря Святославича. А поскольку летописные повести мы просто обязаны рассматривать в качестве исторических документов, пусть даже условно достоверных, то некоторая эпичность одного из документов не должна приниматься во внимание. О самой битве мы мало чего узнаем существенного. Решающее сражение 11−12 мая произошло на неизвестной реке Каяле, недалеко от которой протекала столь же неизвестная река Сюурлий. Исследователи до сих пор ищут их по всему огромному бассейну Дона – увы, без особого успеха. Русскими войсками во время битвы руководили князья Новгород-Северский Игорь Святославич и Трубчевский Всеволод Святославич, родные братья; а вот кто был предводителем половцев – неизвестно (но не Кончак и не Гза, подошедшие к месту решающего сражения, по мнению акад. Б.А. Рыбакова, когда битва уже началась). И это очень странно, если учесть то, что все предводители основных половецких родов были современникам хорошо известны, и русские князья не чурались брать из них себе жен; в частности, сам отец Игоря Святослав Ольгович был наполовину половцем по матери, да и его первая жена также была половчанкой. Численность русского войска неизвестна, а летописное сообщение о шести полках (2, с. 353) информации на сей счет не добавляет, поскольку в древние времена под полком понимали и сам боевой поход, и любой воинский отряд с отдельным воеводой. Правда, русский историк XVIII столетия В.Н. Татищев привел данные о 5000 русских воинах, попавших якобы в плен к половцам. Но, во-первых, историк почерпнул данные сведения из несохранившегося «Раскольничьего манускрипта» – летописи, сгоревшей при пожаре в его имении, которую, стало быть, видел только он сам; во-вторых, многие исторические сведения Татищева впоследствии были признаны недостоверными, вследствие чего полагаться на сделанные им добавления в историю похода князя Игоря не приходится; втретьих, в «Слове» неявно утверждается о почти полной гибели русского войска, легшего костьми в поле незнаемом. Неизвестен и состав русского войска, то есть остается неясным важнейший для воссоздания картины боя вопрос о том, имелась ли у князя Игоря пехота. 4 Странное впечатление оставляет описание завершающей стадии упорнейшего 30-часового сражения. В «Слове» говорится об этом очень кратко, но поэтично: «Бились день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы. Тут братья разлучились на берегу быстрой Каялы, и кровавого вина не хватило; тут и докончили пир храбрые русичи: сватов попоили, а сами полегли за землю Русскую». В Ипатьевской летописи не более пространно: «И уже схваченный, Игорь видел брата своего Всеволода, крепко бившегося с врагом, и стал просить душе своей смерти, дабы не видеть его погибели. Всеволод же бился столь яростно, что рукам его не доставало оружия. И бились, обходя вокруг озеро … (Далее следует покаянный монолог Игоря). И тогда окончилась битва, половцы пленников разлучили и повели в свои вежи» (2, с. 354−356). Создается впечатление, что авторы первоисточников либо не знали ничего о деталях боя, либо – что более вероятно – не желали на эту тему распространяться. Трудно поверить в то, чтобы древний эпический поэт легкомысленно прошел мимо предоставившейся возможности описать выгодную с художественной точки зрения драматическую картину гибели храброго русского войска, не посрамившего живота своего. Если, к примеру, перечитать еще раз описание гибели отряда графа Роланда в старофранцузской поэме «Песнь о Роланде», то можно обнаружить совершенно явное нежелание почти современного русскому французского поэта расставаться с представленной им трагической картиной, переполненной страстями людей, оказавшихся на краю жизни. Методика аналитического исследования требует детальной проверки соответствия сообщаемых первоисточниками исторических фактов общей картине события как непротиворечивого целого, если исходить из того, что данное событие действительно имело место в исторической материальной реальности, а не только лишь в идеальной, вооброжаемой нами. Прежде всего обратим внимание на вопрос о составе войск противников. То, что половецкое войско было исключительно конным, обсуждению не подлежит: кочевники с детских лет неразлучны с конем и воюют только верхом. Они умеют хорошо и метко стрелять из лука даже с дальних расстояний, и именно лук является их основным оружием. Кривой меч или сабля пускались в ход всадниками значительно реже, да и не у всех они имелись из-за их дороговизны; кочевник предпочитал сабле копье, которым также владел виртуозно, либо дубинку-палицу, не мешающую быстрой скачке и удобную в тесной рукопашной схватке. А вот в отношении состава русского войска в первоисточниках имеются противоречивые сведения. Судя по тексту «Слова», оно было конным. Таковой была Игорева княжеская дружина. «Сядем, братья, на своих борзых коней да позрим на синий Дон!» – с таким ободряющим призывом обращается князь к своим воинам во время затмения, смутившего их души. Затем Игорь соединился с несомненно конной курской дружиной брата Всеволода, который не без гордости хвастается своим отменным профессиональным воинством: «А мои куряне – опытные воины: под трубами рождены, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути 5 им ведомы, яруги известны, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли изострены; сами скачут, как серые волки в поле, ища себе чести, а князю славы». Б.А. Рыбаков в своем фундаментальном труде «Петр Бориславич: поиск автора «Слова о полку Игореве», утверждает не без оснований, что фразу из «Слова» «Рано утром в пятницу потоптали поганые полки половецкие, и рассыпавшись стрелами по полю, помчали красных девушек половецких…» следует понимать так: при первой стычке с половцами на реке Сюурлий с русской стороны в бою участвовала только легкая конница юных князей Святослава и Владимира, а также ковуи воеводы Ольстина Олексича, присланные черниговским князем Ярославом Всеволодичем в помощь кузену Игорю (ковуи – бывшие кочевники, перешедшие на постоянную службу к южнорусским князьям). Иные русские войска или их воеводы нигде не упомянуты, что вместе с другими косвенными данными, почерпнутыми из первоисточников, позволило Рыбакову сделать общий вывод о том, что русское войско, принимавшее участие в битве на Каяле, было исключительно конным (4, с. 88−89). Но не все так просто и однозначно, как хотелось бы уважаемому академику. Поскольку детальному рассмотрению подлежит центральный и определяющий для всего дальнейшего изложения сугубо военный вопрос, представляется совершенно необходимым привести полную, без купюр, цитату из упомянутой книги Рыбакова, содержание которой позволяет уточнить понимание им соответствующих фраз «Слова», относящихся к описанию самой битвы; тем более, что в летописях, писавшихся церковными книжниками, слабо разбирающимися в тонкостях военного дела, ничего, кроме дополнительной путаницы, почерпнуть не удается. Вот эта цитата (там же, с. 89, 93): «Дрожит земля; копытами половецких коней взбаламучены немногочисленные реки этого “поля безводного”; степь окутана пылью (“пороси” – от “прах”, “пыль”), слышно трепетание стягов на быстром бегу… Половцы окружили Игоря “от всех стран”, стремительно сужая огромное кольцо, охватывающее многотысячное русское войско. По всей степи несутся воинственные клики нападающих “бесовых детей”. Заключительная фраза: “а храбрые русичи преградиша (степь) чръвленными щиты”, в которой мчащимся с криком и гиканьем половцам противопоставлены русские, закрытые щитами, наводит на мысль, что русичи стояли на месте, поджидая противника и до последнего момента не бросаясь на него рассыпанной лавой. Несущимся над степью крикам скачущих половцев противопоставлена стоящая на месте стена храбрых и стойких русских всадников. В пользу этого говорит и летопись, где отмечено, что “изумешася князи рускии – кому их которому (против какого хана) поехати”. От общей картины, обрисованной как с птичьего полета, Автор переходит на поле сражения. Здесь Яр-Тур Всеволод ведет конный оборонительный бой. Это уже третья стадия конного боя, а вторая (наезд на противника с копьями) пропущена, очевидно, потому, что русские не “наезжали” в конной атаке, а поджидали половецких всадников, обороняясь. Для 6 первой встречи мчащейся конницы почти несомненно должны были быть устроены какие-то препятствия (воткнутые в землю копья, колья); для этого на какое-то время, вероятно, пришлось спешиться (“съседоша с коний”), но по остановке половецкой лавы началась основная рукопашная конная битва». Приятно иметь дело с историком, чуть ли ни единственным, снизошедшим с эпических небес до разбора незначительных для армии верхоглядов тонкостей собственно военной стороны дела. Да, фраза о том, что русские перегородили поле червлеными щитами, является центральной для всего описания битвы, и не согласиться здесь с Рыбаковым никак нельзя, как и не отдать должное его принципиально последовательной позиции, заключающейся в том, что «Слово» следует рассматривать в первую очередь как своеобразное историкополитическое произведение, а отнюдь не только художественно-эпическое. Если мы с такой позицией согласны, то фразе о «червленых щитах» следует дать вразумительное объяснение. Действительно, представим себе, что конница одной из сошедшихся на поле битвы сторон стоит неподвижно, а конница противоположной стороны несется на нее лавой с копьями наперевес, причем лавой, численно превосходящей стоящего противника. Не надо обладать специальными знаниями в области тактики средневекового конного боя, чтобы понять, что нападающая сторона приобретает очевидное и решающее преимущество в инерции движения: движущаяся конная масса неминуемо сомнет стоящую на месте и обернет ее вспять. Кроме того, всадник с копьем всегда старается нанести удар копьем с ходу, усиливая его движением коня и соединенной большой массой коня и всадника; тогда как удар копья всадника, стоящего на месте, более похож на неэффективный против щита и доспеха тычок. Таким образом произошедшая сшибка на поле русской и половецкой конниц неминуемо должна была привести к быстрому разгрому значительно меньшего по численности русского войска в первые же минуты битвы. Однако и «Слово», и летопись настаивают на том, что сражение длилось не менее тридцати часов: весь субботний день 11 мая, всю последующую ночь и воскресенье с утра до полудня. Отметим здесь, что многочасовая битва конниц на открытом поле вообще невозможна: либо один из противников обращается в бегство, не выдержав первого удара, либо всадники перемешиваются и начинают рубиться – тогда победа остается через полчаса-час обычно за стороной, обладающей численным перевесом (разумеется, при условии, что на лошадей не посадили совершенно необученных мужиков или пехоту). В любом случае конное сражение всегда скоротечно! Приведем наглядный пример из русской же истории. В 1223 г. русское конно-пешее войско вступило в бой на реке Калке с 20 тысячами монголов, ведомых полководцами Чингиз-хана Субудай-багатуром и Джебенойоном. Оба войска разделяла река. Князь Мстислав Удатный повел русскую конницу через реку в атаку на стоявшего на месте в некотором отдалении от берега противника. Монгольские воеводы подождали, пока часть русской конницы переправится на другой берег, и в 7 свою очередь начали встречную атаку тяжелой конницы. Ряды противников быстро перемешались, и уже через короткое время численное преимущество и лучшая организация дали преимущество монголам. Русская конница покатилась назад, смяла подходящие свои конные и пешие подкрепления и устремилась в беспорядочное бегство. Разумеется, этот исторический пример был хорошо известен и Рыбакову, поэтому ему пришлось предположить, что стоящая на месте в окружении русская конница, отказавшаяся от встречного боя, успела соорудить вокруг себя нечто вроде укрепленного лагеря, оградившись по периметру вбитыми в землю кольями и копьями. Легко понять, что сделать это в тех реальных условиях было попросту невозможно. Князь Игорь с воеводами только на рассвете смогли обнаружить, что они буквально окружены численно превосходящим противником. И не просто окружены: половцы сразу же бросились в атаку с громким боевым криком. Если русские увидели их и оценили обстановку версты за три (не более, поскольку линия горизонта в степи удалена всего на четыре версты от наблюдателя) от приближающейся к ним со скоростью 35−40 км/час половецкой конной лавы, то у их воевод было в распоряжении всего-навсего пять минут, чтобы принять решение об обороне, построиться, снять с повозок несколько тысяч кольев и, добавив к ним еще тысячи копьев, вбить их в землю хотя бы ряда в два по кругу с наклоном наружу. Очевидно, что успеть выполнить все перечисленные операции за считанные минуты просто невозможно. Мы даже оставляем в стороне вопрос о самом наличии кольев в безлесной степи: их князь Игорь должен был привезти с собой в обозе – но в таком случае он как бы заранее предполагал возможность ведения оборонительного сражения в голой степи, что в условиях организации внезапного и стремительного набега совершенно неразумно. Вывод из сказанного может быть только один: у русской конницы не было шансов продержаться в обороне от превосходящих сил половецкой конницы не только хотя бы до вечера, чтобы попытаться улизнуть из окружения в темноте, но и один утренний час. Следовательно, описанное в первоисточниках конное сражение не могло иметь места в реальности. Возможен, правда, такой оборонительный вариант для кавалерии: спешиться и укрыться за щитами, выставив вперед ряды копий. На стену из щитов и ряды копий могут пойти только специально обученные кони, прикрытые спереди железными либо толстыми кожаными доспехами. Однако подобная тяжелая конница таранного типа имелась только у западноевропейских рыцарей и в составе элитных монгольских войск времен Чингиза и Батыя. У половцев, по-видимому, подобной конницы не имелось, да она им и не была нужна, поскольку соперников в степных просторах у них в XII в. не было. В этой связи Рыбаков, предваряя приведенный выше текст из своей книги, делает следующее утверждение: «Ни о каком спешивании русских всадников в самом начале битвы нет и речи». То есть подобного в «Слове» нет. Но историк потому специально обратил на такую возможность внимание, что в Ипатьевской летописи имеется следующий текст, предваряющий начало утреннего субботнего 8 сражения: «И тогда, посоветовавшись, все сошли с коней, решив, сражаясь, дойти до реки Донца, ибо говорили: «Если поскачем – спасемся сами, а черных людей оставим, а это будет нам перед богом грех: предав их, уйдем. Но либо умрем, либо все вместе живы останемся». И сказав так, сошли с коней и двинулись с боем» (2, с. 355). Иными словами, мужицкая пехота у князя Игоря была, и конная дружина не захотела ее бросить на верную гибель. Во владимирской летописи утверждается несколько иное, а именно, что в ходе долгой битвы, продолжавшейся три дня, кони без воды изнемогли, и русским всадникам пришлось продолжать битву пешими, что и явилось причиной поражения (там же, с. 369). Как мы видим, два летописных рассказа явно противоречат друг другу при описании причин спешивания русских всадников и момента его осуществления. Примечательны и другие не бросающиеся в глаза разночтения. Киевский летописец сообщает, что в войске князя Игоря помимо конных дружин имелся и пеший полк, составленный из простонародья (черных людей); владимирский же, напротив, молчит о пехоте, но в два раза удлиняет длительность битвы. Вариант спешивания Рыбаков отверг без дополнительной аргументации по существу, хотя очевидной может быть только невозможность спешивания русских всадников уже в ходе битвы. Действительно, подобное равносильно самоубийству перед лицом конного противника, который может поражать копьем и мечом пешего врага сверху, что намного удобнее. А вот вариант спешивания перед началом битвы следует рассмотреть подробнее. Имели ли спешившиеся русские всадники возможность организовать отпор конной атаке половцев без дополнительных оборонительных средств и мероприятий, на которые, как мы уже выяснили, у русских воевод просто не было времени? В этом критическом случае для быстрого построения внешней оборонительной линии, способной напугать конницу, необходимо было использовать длинные копья и щиты. Копья у всадников имелись, а вот со щитами дело обстояло много хуже. Щит у всадника круглый, примерно 50 см в поперечнике и достаточно легкий. В походном положении щит висит у всадника за левым плечом, а в бою он перетягивает его вперед, на запястье левой руки (поскольку ладонь удерживает поводья лошади, а правая рука занята копьем или мечом). Таким щитом можно отбить удар копья противника, нанесенный спереди, и удар меча; для надежной защиты от стрел подобный небольшой щит не предназначен – наездник может рассчитывать только на прочность доспеха и умение не попадать под прицельную стрельбу лучников. Ясно, что строй пеших всадников, защищенных только доспехами и небольшими круглыми щитами, слишком уязвим и для броска копья вражеского всадника, и в особенности для стрел. Половецкой коннице достаточно было бы просто приблизиться к такой оборонительной линии и постепенно расстрелять ее из луков. Если бы пешие русские конники, бросив лошадей и разбившись на сотни, построенные в виде небольших квадратов, попытались под защитой столь ненадежных щитов отойти к Донцу, как описано в киевской летописи, то, не имея возможности отстреливаться из луков и уязвимые са- 9 ми для стрел половецких всадников, кружащих вокруг них, не продвинулись бы к цели и на версту и несомненно были бы истреблены. А ведь, по данным Рыбакова, от Каялы до Донца было около 80 верст! Мне могут возразить, что, мол, в XVIII и XIX столетиях пехота в открытом поле эффективно оборонялась от нападения от кавалерии, построившись в квадраты – каре. По периметру квадрата выстраивались ряды солдат, держащих наперевес ружья с примкнутыми штыками. Лошади на штыки не шли, а солдаты без помех могли в упор расстреливать каварелистов. Солдаты внутри квадрата занимались перезарядкой ружей и передачей их в передние ряды. Подобные каре могла разбить только артиллерия. Но в Средние века каре было совершенно неэффективно, если у кавалерии противника имелись луки, что характерно именно для половецкой и татарской конницы. Передние ряды пеших стрелять из луков не могли, поскольку их руки были заняты щитами и копьями, а из задних рядов каре вести прицельную стрельбу в снующих перед строем вражеских всадников было трудно. Таким образом, мы подтвердили точку зрения Рыбакова, утверждавшего, что русские конные дружинники добровольно ни перед боем, ни в его процессе с коней не сходили. Остается последний вариант рассмотрения самой физической возможности ведения полками князя Игоря длительного оборонительного боя против превосходящих сил конного половецкого войска, а именно вариант возможного присутствия в составе русского войска пешего полка, на что прямо указывает киевский летописец. Ответим сначала на следующий вопрос: а способно ли было вообще русское пешее войско тех времен эффективно защищаться от конницы наподобие легкой половецкой? Хорошо вооруженный по тем временам пеший русский ратник имел большой, почти в человеческий рост щит миндалевидной формы, заостренный к низу; длинное копье со стальным широким наконечником, которым можно было поражать противника и прямыми, и боковыми ударами; длинный нож и далеко не всегда меч; копье и меч вполне могли заменить рогатина, с которой ходят на медведя, и топор на длинной ручке. Щит делался из доступных легких материалов: дерева, кожи и т. п., а также крепился по краю железным ободом и в центре снабжался круглым металлическим выступом (умбоном). Деревянная основа щита обычно красилась червецом, отчего она приобретала яркий красно-малиновый оттенок (отсюда и пошли названия червленые щиты и червленые ладьи). Такой большой и довольно тяжелый щит пехотинца был удобен и в обороне, и в наступлении. В случае обороны передний ряд ратников становился плечом к плечу и вбивал перед собой щиты острыми концами в землю, выставив в промежутки между щитами длинные копья. Таких рядов могло быть несколько, вперемежку с лучниками, которые могли прицельно стрелять как бы из-за крепостной стены. Это оборонительное построение и называлось «стена». Конница кочевников против него была бессильна, к тому же «стена» надежно прикрывала ратников от стрел. Подобное построение использовалось в еще более глубокой древности римскими легионами. При атаке против пешего противника русские 10 ратники тяжелыми щитами с умбонами с силой ударяли по передним рядам вражеских воинов, оглушали их и валили наземь, давая возможность задним рядам прорваться во внутрь неприятельского построения. Летописи и предания донесли до нас описания использования русскими ратниками построения стена в обороне. Приведем лишь один из них. В упоминавшейся выше битве 1223 г. на Калке киевский князь Мстислав Романович, не принимавший участия в неудачной конной атаке Мстислава Удатного, быстро оценив обстановку, построил свое пешее войско в оборонительный порядок «стены», успев натыкать в землю перед щитами острые колья. Три дня монголы кружили на конях вокруг киевлян, не имея никакой возможности прорвать их оборонительные порядки. Только отсутствие воды вынудило князя решиться на переговоры с монголами, которые якобы за окуп согласились выпустить русскую рать из окружения. Но как только строй киевлян был нарушен, монголы ворвались внутрь, всех ратников перебили, а князей и воевод положили под сооруженный для победного пира помост и пили кумыс, наслаждаясь воплями и стонами раздавленных рюриковичей. То обстоятельство, что даже Рыбаков не принял во внимание прямое сообщение киевского летописца о наличии пешей русской рати в составе полков князя Игоря, лишний раз свидетельствует о совершенно необоснованном, хотя и не всегда осознанном, игнорировании отечественными историками и уж тем более деятелями культуры специфически военной стороны исторического бытия наших предков. В качестве своеобразного курьеза позволю себе привести такой наглядный пример. В книге «Слово о полку Игореве» издательства РОССПЭН (5), снабженной обширной вступительной статьей известного российского историка А.А. Горского, на обложке воспроизведена картина знатока русской древности художника И.Я. Билибина «Князь Игорь». Левой рукой князь опирается на вышеописанный древнерусский щит миндалевидной формы, только без умбона, но с заостренной нижней частью. Щит небольшой, достает князю всего лишь до пояса. Очевидно, что князь, путешествующий и воюющий только верхом, использовать его не может: щит слишком высок, чтобы возить его за спиной; но нельзя им пользоваться и в бою, держа в левой руке, поскольку длинный острый низ может поранить лошадь или ногу самого седока; при этом им невозможно по той же причине отбить удар врага справа. Острие необходимо щиту пешего ратника, но сам щит при этом должен быть высотой не менее полутора метров, иначе его размер и форма теряют всякий смысл. Истинное назначение изображенного на обложке красивого древнерусского червленого щита оказалось неизвестным русскому художнику; но прискорбнее то, что подобную нелепость не заметил и столь уважаемый современный специалист по древней истории Руси! Вернемся, однако, к более серьезным вещам. Мы убедились в том, что щиты пеших русских ратников вполне могли дать шанс на спасение большей части Игорева войска. Так может быть, именно эту ситуацию и имел в виду автор «Слова», когда упомянул о червленых 11 щитах, которыми храбрые русичи перегородили поле утром 11 мая, собираясь отсидеться за их стеной? Да, он говорил только о русских всадниках, но ведь он не говорил, что не было пеших русских ратников, о присутствии которых прямо утверждается в Ипатьевской летописи. Теперь, казалось бы, становится понятным, почему в Лаврентьевской летописи говорится именно о трех днях решающей битвы, а не полутора, как в Ипатьевской летописи и «Слове»: окруженные русичи просто не смогли продержаться за щитами более трех суток без воды под палящими лучами степного солнца. Воины стали падать от изнеможения наземь, становясь легкой добычей половцев. Не эту ли понятную теперь обиду на жаркое языческое божество высказала небу плачущая на стене Путивля Ярославна? Мы, однако, уважаемые читатели, стоим на той неколебимой точке зрения, что ни один из привлекаемых к рассмотрению фактов не должен противоречить выстраиваемой нами гипотетической картине реально имевших место в прошлом исторических событий, пусть даже этот факт или факты носят косвенный характер. К сожалению для возникшей у нас гипотезы, но подобные факты в отношении ее имеются. Рассмотрим их. Общие соображения можно отнести к разряду косвенных аргументов, или фактов идеального характера, именуемых иногда факторами. Подобный контраргумент в отношении гипотезы присутствия в войске князя Игоря полка пешей рати – полка мужицкого, из «черных людей» – состоит в следующем. Северские князья задумали осуществить скоротечный внезапный набег на половецкие кочевья, находящиеся на значительном удалении от границ южнорусских земель (естественно, по меркам того времени, когда русские княжеские дружины опасались заходить далеко в степь). Каковы бы ни были причины, подвигнувшие левобережный клан Ольговичей на подобное очень рискованное мероприятие, но очевидно, что запланирован был именно стремительный набег с целью грабежа кочевых становий, не ожидавших столь отчаянной дерзости со стороны третьестепенных князей. (Если первостепенными считать великих князей Всеволода Юрьевича Владимирского и Святослава Всеволодича Киевского, а второстепенными, к примеру, князей Ярослава Всеволодича Черниговского и Давыда Ростиславича Смоленского, которые, правда, тоже именовались великими как правители крупнейших уделов, то князья Новгород-Северский Игорь Святославич и Переяславский Владимир Глебович могли претендовать только лишь на третью степень важности в сложившейся к тому времени иерархии князей рода Рюриковичей.) Ничего иного Игорь осуществить бы все равно не смог, поскольку для ведения более серьезной войны со степью у него не было ни средств, ни людских ресурсов. В набеги пешком не ходят, тем более в степь, где единственное и универсальное средство передвижения – лошадь. Спрашивается: зачем мог понадобиться Игорю медлительный и неповоротливый пеший полк, если князь собирался совершить стремительный конный рейд на половецкие вежи и столь же быстро уйти с добычей восвояси? Окружение в безводной степи – верная гибель, поэтому у 12 князя, конечно же, и мысли не было об обороне. Мы, следовательно, приходим к выводу, что пешая рать северским князьям в их майском рейде в половецкую степь не только не была нужна, но и свела бы на нет все преимущества в маневренности опытных княжеских конных дружин, ставя под угрозу самый замысел похода. Другой аргумент, направленный против версии о найме князем Игорем для своего похода простонародья в пеший полк, основывается на редко используемом историками летописном факте, не вызывающем каких-либо возражений. Великий князь Киевский Святослав Всеволодич и его соправитель в Киевщине Рюрик Ростиславич после осуществленного ими прошлым летом успешного похода на днепровские половецкие кочевья, завершившегося разгромом юрта Кобяка, решили закрепить достигнутое в слишком уж затянувшейся русскополовецкой войне и осуществить летом 1185 г. большой и длительный поход на юрт Кончака, располагавшийся в бассейне Дона, точнее, Северского Донца. В целях подготовки похода и сбора необходимых войск Святослав в апреле 1185 г. отправился речным путем (разумеется, не верхом, поскольку в это время ему было уже 65 лет) из Киева через Чернигов и Новгород-Северский в Корачев, расположенный в землях Вятичей (см. рис. 1). Киевский летописец фактически утверждает, что князь Святослав не заметил в Новгород-Северском никаких приготовлений своего кузена к сепаратному походу в степь, поставившему крест на летнем общерусском походе. И князь Игорь, и князь Ярослав Черниговский, конечно же, имели возможность соблюсти режим секретности, готовя к походу собственные служилые полки. Но если бы Игорь кликнул «охочих» по городкам и селам княжества в пешее войско, то утаить подобное от ушлых слуг и подсылов великого князя, очень опытного в деле управления государством, было бы невозможно, и Святославу уже на его пути в Вятичи конечно бы донесли о подозрительных сборах мужиков в землях своего кузена. Однако, если верить летописи, ничего подобного великий князь не заподозрил, считая, что все идет по ранее согласованному плану. Следовательно, сбора ополчения в северских землях, судя по всему, действительно в то время не было. Обратимся, наконец, к даказавшему свою эффективность методу соотнесения расстояний и времени, потраченного на их преодоление – методу совершенно объективному и бесспорному. В качестве исходных данных примем, во-первых, описание маршрута движения войск Игоря, данное в реконструкции Б.А. Рыбакова (см. его книгу «Петр Бориславич»); вовторых, временные ориентиры, приведенные в Ипатьевской летописи. По Рыбакову, маршрут похода можно разделить на две части (рис. 2): девятидневный переход из НовгородСеверского к реке Уды («Донец» в «Слове о полку Игореве») с 23 апреля по 1 мая (день солнечного затмения) протяженностью по прямой в 260 км, и шестидневный переход со 2 по 9 мая, за вычетом двух дней ожидания подхода Всеволода из Курска, от Уды до верховьев реки Самары, где, по мнению Рыбакова, и произошла встреча войска князя Игоря с половцами, 13 переход протяженностью 230 км, рассчитанной по спрямленным отрезкам. Получается, что русское войско до затмения на Удах преодолевало в день в среднем по 29 км, а после затмения по степи в среднем по 38 км. Разница в скоростях передвижения объясняется легко: до границы со степью войскам на походе пришлось переправляться через несколько рек и обойти десятки оврагов, которыми столь богато Черноземье; по степи же кони пошли намного резвее. А пешие ратники? Скорость их передвижения на марше составляет примерно 4 км/час, не более, притом по ровной дороге. Семь-восемь часов ходьбы – это физический предел, тем более, что столько приходится «топать» каждый день; следовательно, 30 км за день без преодоления препятствий – физически предельное расстояние, одолеваемое пешим войском за день. Фактически, с учетом движения по бездорожью, по пересеченной местности, необходимости организации переправы людей и военного снаряжения следует снизить величину дневного перехода пехоты до 20−25 км. Получается, что предполагаемое пешее русское войско реально не вписывается в необходимые ему 29 км в день на первом участке похода, а на втором разница становится почти двукратной. Не бежали же, в самом деле, мужики по густотравью раскаленной степи или по ночному полю, спотыкаясь о неровности и кочки! Вывод очевиден: за указанную в летописях продолжительность похода пешее войско дойти до Каялы не могло! Данный вывод не изменится, если принять любой из альтернативных принятому выше маршрутов похода, поскольку расстояния только увеличатся. Кстати, имеется летописный же «проверочный» вариант правильности наших оценок. Игорь и Овлур бежали из мест содержания князя в плену в районе реки Тор на правобережье Северского Донца до пограничного русского городка Донец, преодолев не менее 200 км. Сначала они мчались на конях, стремясь уйти как можно дальше, затем бросили загнанных скакунов и 11 дней добирались пешком. Если принять, что им удалось проскакать галопом 25 км, то оставшиеся 175 км они проходили, преодолевая в день или за ночь не более 16 км. Комментарии, как говорится, излишни: ни о каких 30 и тем более 40 км в день и речи идти не может! К чему же мы пришли? Во-первых, пеших полков в войске князя Игоря быть не могло, что вполне согласуется с позицией Рыбакова. Во-вторых, не могло быть решающей битвы между русским и половецким войсками в том виде, как она описана в первоисточниках; не могло быть ни по способам ведения боя, ни по его длительности. Следовательно, все три имеющихся в поле зрения историков первоисточника совершенно недостоверны в центральном пункте своих повествований. Если мы все же хотим восстановить хотя бы приблизительные очертания очевидно искаженной первоисточниками исторической истины, то необходимо провести критический анализ всей иной информации, имеющей отношение к столь неожиданно злополучному походу князя Игоря – неожиданно и для современников князя Игоря, и для нас, вдруг засомневавшихся в истинности того, во что мы безусловно и искренне верили до сих пор. 14 Рис. 1 Рис. 2 15 Критика традиционных взглядов Поскольку серьезные сомнения вызывает теперь существование самого факта военного похода северских князей на половцев в 1185 г. и его трагического завершения разгромом русского войска, нам предстоит критически исследовать в рамках возможного достоверность совокупности сведений, почерпнутых из первоисточников, «обрамляющих» возможно недостоверный факт самой битвы. Повествование о походе князя Игоря Святославича на половцев киевский летописец начинает с незначительного, на первый взгляд, сообщения о том, что Игорь выпросил у своего сюзерена, черниговского князя Ярослава, Ольстина Олексича с черниговскими ковуями, который присоединился к войску Игоря не позднее 23 апреля и, стало быть, отправиться из Чернигова должен был еще раньше. Однако в той же летописи выше приведено сообщение об отказе еще в феврале Ярослава Черниговского своему брату Святославу Киевскому в просьбе принять участие в весеннем походе на Кончака. Якобы Ярослав заявил брату следующее: «Азъ есмь послалъ к нимъ (к половцам. – Е. Т.) мужа своего Ольстина Олексича, а не могу на свой мужь поехати!» (2, с. 350). Послал же Ярослав своего боярина к Кончаку с предложением заключить между ними мир, и этот мир Ольстин Олексич в Чернигов привез. А уже спустя полтора месяца тот же Ольстин Олексич повел конную черниговскую дружину воевать половецкие кочевья рядом с юртом Кончака, с которым договорился о мире. Это уж слишком даже для средневекового коварства! К тому же и безрассудно: ведь всесильный Кончак, узнав, что ему приходится сражаться с тем самым русским воеводой, с которым он только что сладил мир между ним, ханом, и князем Черниговским, крепко оскорбится и начнет мстить всей Черниговщине за подлость ее князя. Зачем, спрашивается, это нужно Ярославу? Поссориться одновременно и с великим князем Киевским, и с великим ханом половецким способен только очень недальновидный князь-юнец, а не седовласый правитель одного из сильнейших княжеств Руси. Да быть этого не может, а эпизод с посылкой ковуев на помощь Игорю, скорее всего, просто выдуман летописцем. Вызывает недоумение согласие наших историков с ничем не подтвержденным сообщением В.Н. Татищева о большой численности северского войска. Татищевские 5 тысяч плененных на Каяле русских воинов превратились у Рыбакова в 10–15 тысяч всадников, выступивших в поход. С точки зрения разумности соотношения между погибшими и плененными цифры Рыбакова, может быть, и обоснованы, а по существу ничего общего с реальностью они иметь не могут. Представим себе, что князь Игорь захотел бы приобрести 10 тысяч воинов, чтобы затем одеть, обуть их, вооружить, посадить на коней и отправить в гибельный поход. Сколько ему на это потребуется средств? Стоимость холопа на Руси в XII в. можно оце- 16 нить по сумме штрафа за его незаконную продажу, которая составляла 12 гривен серебра, при этом один вол стоил 1 гривну (6, с. 195), и столько же князь Ярослав Мудрый уплатил каждому новгородскому ратнику за участие в победном походе на Киев в 1015 г. Следовательно, наем свободных и приобретение холопов обошлись бы князю в огромную сумму не менее чем 15−20 тыс. гривен! Сколь велика эта сумма, можно оценить при сравнении ее со стоимостью общинного праздничного пира, устраиваемого одной из купеческих гильдий Новгорода середины XII столетия для своих членов, которая равнялась 25 гривнам. Купеческий новгородский пир не беднее великокняжеского, поэтому стоимость тысячи пиров для третьестепенного князя совершенно неподъемна. А ведь еще нужно учесть стоимость вооружения, боевых коней, припасов и много чего прочего, потребного для военного похода. Совершенно очевидно, что подготовка 10−15 тыс. всадников соответствует общегосударственному масштабу военных мероприятий, а никак не скромным возможностям вассала черниговского князя. Но если согласиться с нашими уважаемыми историками и принять к сведению их оценки численности северского войска князя Игоря, то каким же по количеству должно было бы тогда быть все войско десятков княжеств, собираемое под знаменами великих князей Киевщины? Уж никак не менее ста тысяч! Странно, что тот же Рыбаков не обратил внимание на ранее опубликованную статью М.Г. Рабиновича «Военное дело на Руси эпохи Куликовской битвы» (7), в которой совершенно обоснованно утверждалось, что все Киевское княжество в период своего наибольшего расцвета в конце XI в. имело войско численностью в пределах 8 тыс. человек. Даже такое наиболее мощное на Руси конца XII в. государственное объединение, как Великий Новгород, могло набрать для осуществления важного военного похода войско не более чем в 12 тыс. человек! И это еще не все несуразицы при вольном оперировании столь большими числами. Рыбаков строит свою концепцию Игорева похода, исходя из необходимости соблюдения князем скрытности похода и от Святослава Киевского, и от половцев. Вряд ли можно было бы утаить столь значительный масштаб военных приготовлений от Киева. А вот что касается скрытности от вражеской степной разведки, то можно предложить вниманию читателей наглядную картинку. Армия в 10 тыс. всадников, построенная в походную колонну по десять, растягиватся на пять километров плюс километр-два на повозки. Пыль поднимается неимоверная, а топот копыт десятков тысяч лошадей (с учетом заводных) разносится кругом верст на десять. Половцам надо было быть совершенно слепыми и глухими, чтобы уже в районе затмения на Удах не засечь столь большое русское войско и не предпринять контрмеры. Не мог не понимать этого и опытный воевода князь Игорь. Но, пожалуй, самое поразительное в древнеруской истории то, что несуразные выдумки подневольных и заказных летописцев не подвергаются современными историками хотя бы сравнительному критическому анализу, тем более, что до нашествия Батыя кровопролитных сражений на территории самой Руси было предостаточно. Вспомним 17 хотя бы знаменитую Липицкую битву 1216 г. близ Юрьева-Польского (древний город восточнее Москвы), в которой решался вопрос о новом разделе земель всей Руси между кланами князей Рюриковичей. Друг против друга встали войска самых богатых и сильных в военном отношении земель: Суздальской, Владимирской, Переяславской, Муромской, Ростовской, Новгородской, Псковской, Киевской, Смоленской, Галицкой. Знаменитыми были и предводители: князь Новгородский и Галицкий Мстислав Удатный; сыновья Всеволода Большое Гнездо Юрий, великий князь Владимирский (через 22 года погибший на реке Сити в сражении с Батыем), и Ярослав, впоследствии тоже великий князь, отец Александра Невского. Битва была непродолжительна, но на редкость кровопролитна, поскольку озверевшие ратники бросавших оружие в плен не брали. С обеих сторон, как сообщает летопись, погибло 9233 человека, в подавляющем большинстве черных людей из мужицких полков. Следовательно, вооруженные силы почти всей Руси составили, вероятно, 25–30 тысяч человек, преимущественно пеших ратников, что разумно соответствует общим людским ресурсам славянских земель. Кстати говоря, та же летопись отмечает, что в ходе липицкого сражения «погоду» сделали всего два княжеских конных полка Мстислава Удатного и Владимира Псковского, посекших мужиков. Ну как можно поверить в то, что какой-то северский князь имел конное войско, раз в десять превосходившее конницу великого Мстислава, о котором наслышан был даже Чингиз-хан! А теперь, уважаемые читатели, зададимся следующим вопросом: куда и зачем все-таки вел свое могучее войско князь Игорь? Просто в бескрайнюю и маловодную степь, дышащую изнуряющим полдневным жаром, чтобы молодецки погонять сарацина, как в старой народной сказке? Разумеется, это не так, огромные и дорогостоящие армии для забавы не собираются. Послушаем, что говорит по этому поводу академик Рыбаков, один из наиболее сведущих в вопросах истории Древней Руси ученый. На с. 84 цитируемого нами его труда «Петр Бориславич» читаем: «… Игорь… напал на окраинное кочевье, о котором в летописи ничего не сказано о принадлежности его тому или иному хану… В “Слове” нет обычного для эпоса противопоставления двух враждующих полководцев; есть Игорь, есть Буй-Тур Всеволод, а кто возглавлял тогда, в процессе битвы, половецкие войска, нам (а, может быть, и русским людям XII в.) неизвестно». И далее академик так подытоживает свое исследование (с. 85): «Игорь не нападал на юрт Кончака. Кончак не организовывал окружение Игоря». Прямо как слова известной сказки: иди туда, не знаю куда; принеси то, не знаю что! Кто-то из читателей может возразить с недоумением: на кого шел Игорь войной – неизвестно, а вот куда именно шел, знают даже школьники: на реку Каялу, где и приняла смертный бой с половцами героическая русская дружина. Вот только как узнать, где эта проклятая Каяла протекает, в каких землях? За ответом снова обратимся к академику (с. 135): «Летопись не дает нам точного местоположения Каялы. В “Слове” есть разночтения: с одной стороны, “Игорь к До- 18 ну вои ведет”, битва должна произойти “на реце на Каяле у Дону Великаго”, а с другой стороны, “Половцы идут от Дона и от моря”, “Идти дождю стрелами с Дону Великаго”. Целый ряд исследователей ищет Каялу в бассейне Дона, опираясь на приведенные примеры. Замечу, что эти примеры не дают еще права решать вопрос так однозначно…». Сам Рыбаков считает, что пресловутая Каяла вовсе не река правобережного бассейна Северского Донца, а река левобережного бассейна Днепра! Ее и рекой-то назвать сейчас нельзя: это почти пересохшая от безводности пустыни Скелька, приток грязной речки Бык в верховьях реки Самары. И что только в таком гиблом месте искал князь Игорь со своим могучим конным войском? Богатый полон и славу? Полноте, господа историки и прочие любители сказочных летописей! Ничего в этих Богом проклятых местах нисколько не страдавший безумием князь не искал, потому что никогда там и не был. А вот зачем летописцы послали своих легковерных потомков (т. е. нас с вами) искать ветра в поле – еще предстоит выяснить. (Заметим, что летописный ветер гуляет по широким степям очень вольно: А. Горский, к примеру, предлагает искать Каялу на левобережье Северского Донца.) Вообще, когда вчитываешься в текст «Слова» и сопоставляешь его с летописью, недоумение постепенно перерастает в неприятие смысла всего того, что нам пытается всучить в качестве исторической реальности хитрющий древний иноверец. Нет, я не оговорился: вы попробуйте отыскать в «Слове» имя Христа. Оно начисто отсутствует, как нет и упоминания о Боге; зато автор твердит нам о Стрибоге и Даждьбоге, идолища которых двести лет назад святой Владимир свергнул с киевской кручи в Днепр; да и не просто твердит, а прямо считает русичей «внуками Даждьбожьими» и тычет князьям былым титулом, более почетным, нежели великий князь – хазарским каганом (1, с. 19). Возникает подозрение, что «Слово» писал явно не православный боярин, а иудей хазарин или космополит грек, бежавший на Черниговщину от ужасов крестовых походов. Уж им-то незачем стесняться, раздавая упреки и назидания владетельным русским князьям-варварам. И талантливых книжников уже в те глухие времена было полно среди евреев и греков, имеющих представление об изящном, художественном письме. А мы, зашорив свои умы и души ложно понятым патриотизмом, до сих пор ищем гения средневековой словесности среди отечественных варваров. Да опуститесь же, господа, на землю с виртуальных патриотических высот: не было в те времена отечественного литературного детства высокой и мудрой поэзии слова на Руси и быть не могло; как, очевидно, не было и художников слова среди беспросветного русского полуазиатского Средневековья. И давайте обратим более пристальное внимание именно на наше понятное, привычное и потому не замечаемое нами доморощенное варварство, в котором иногда высокой нравственности побольше, чем у закордонного продажного рационализма в изящной словесной обертке. Поверим поэту и летописцам, что битва Игорева войска с половцами всетаки имела место, и в окровавленном степном ковыле навеки уснули многие тысячи русских 19 воинов. А что было дальше? Вспомним «Сказание о Мамаевом побоище» или «Задонщину». Их авторы, несомненно православные люди, даже в наверняка выдуманных текстах не посмели не почтить память якобы павших русичей и уверили нас, что все они были отделены от поганых и погребены по христианскому обычаю. Автору же «Слова» на христианские традиции глубоко наплевать. Он ни словом не обмолвился о погребении тел христиан. Вспомним его последние слова о несчастных воинах: «Тут пир окончили храбрые русские: сватов напоили, а сами полегли за землю Русскую. Никнет трава от жалости, а дерево с тоской к земле приклонилось». О загубленных христианских душах, о непогребенных телах сожалели только травы да деревья. А сожалел ли о них, попав в плен, виновник их гибели князь Игорь, или хотя бы его героический брат Всеволод? Автор «Слова» все эти христианские глупости попросту проигнорировал. Летописец тоже ничего не сказал, поскольку списывал сюжет с языческого «Слова», однако счел нужным поддержать если не моральный, то хотя бы княжеский имидж Игоря, сообщив, что жилось ему в плену вольготно, ездил князь с ястребами на охоту, имел полдюжины слуг и даже вызвал к себе попа. Либреттист оперы «Князь Игорь» намек летописца понял правильно: охота, вино, девки да дружба с Кончаком. Если бы у князя по прихоти поэта-иноверца была не языческая душа варяжского варвара, а христианская, совестливая, то он вымолил бы у Кончака разрешение похоронить своих валявшихся под открытым небом дружинников хотя бы руками русских же пленников, которых, если верить Татищеву, имелось немало. Но ни в «Слове», ни даже в летописях на это и намека нет. Если «Слово» сочинил за деньги нехристь, то подобное равнодушие понятно и в глубине души иноверца оправдано: ему ли сожалеть о непогребенных неверных! Но если все же допустить, что гений отечественной словесности был христианином, то хотя бы косвенным оправданием его совсем нехристианской бесчувственности может послужить только лишь одно: битвы в действительности не было, ему пришлось ее выдумать; стало быть, никакого подобного греха ни он, ни реальный князь Игорь за душой не имеют и не имели. Умные поймут, а для дураков и так сойдет! Если рассмотреть вместе всю совокупность детально разобранных нами предположений, то наиболее вероятным и при этом очевидным в своей простоте представляется итоговое утверждение о том, что вообще никакой битвы 10−12 мая 1185 года войск князя Игоря с половцами не было. Но тогда возникает следующий большой и требующий от нас определенного ответа вопрос: а имел ли тогда место в указанный в летописях период времени какойлибо поход северских князей в половецкую степь, и если да, то с какой целью? Как это ни странно, но отвечать на поставленный вопрос в том логически естественном порядке, в каком он поставлен, вряд ли возможно. Допустим, что нами отыщутся какие-то достаточно убедительные аргументы в пользу версии, отрицающей сам факт похода – ни военного, ни «свадебного» (в исторической литературе имеется и такая гипотеза) и вообще никакого. То- 20 гда придется признать, что летописные сведения о большой русско-половецкой войне 1183−1187 гг. совершенно недостоверны при описании событий, как раз приходящихся на самый интенсивный и по времени сердцевинный ее период. Вряд ли киевский игумен Моисей мог опуститься до того, чтобы предложить современникам и потомкам перечень эпических фантазий вместо исторических сообщений, да и независимые от киевских и черниговских властей летописцы Северо-Восточной Руси распознали бы слишком обширную фальшивку. Разумеется, подобные скорее эмоционально-психологические, нежели объективнофактологические аргументы не могут приниматься в качестве доказательства, и о них не следовало бы даже упоминать при рассмотрении столь общего вопроса. Увы, серьезные документальные основания для подобных сомнений все же имеются: как отметил Рыбаков, «в новгородских летописях поход 1185 г. не только не комментируется, но даже не упоминается» (4, с. 157). Данный неопровержимый факт можно интерпретировать двояко: либо действительно такого похода не было, либо новгородские летописцы просто сочли подобную историческую мелочь не достойной их внимания. Следовательно, объективности ради нам все же целесообразно начать анализ поставленного выше вопроса именно со второй его части и попытаться выявить возможные цели и задачи похода князя Игоря как принимаемого a priori реального исторического события. Предыстория злополучного похода и вероятное его завершение Нам потребуется освежить в памяти и даже уточнить содержание и суть тех исторических событий, без учета которых выявление вероятных причин осуществления князем Игорем своего столь знаменитого в потомках похода невозможно. Вспомним, прежде всего, кто был кем на политической арене 1180-х гг. в Южной Руси. Более всех интересующий нас деятель – князь Игорь – происходил из знаменитого своей воинственностью и усобицами рода черниговских князей Ольговичей, получившего свое наименование от князя Черниговского Олега Святославича (ум. в 1115 г.), которого автор «Слова» прозвал «Гориславичем» за его непримиримость в борьбе с родичами за более почетное место в сложившейся княжеской иерархии; в борьбе, которая стоила многой крови простому народу Руси. Олег Черниговский фактически завершил обособление Чернигова и всего левобережья Днепра от Киева, которое началось еще во времена Ярослава Мудрого, когда тот вынужден был временно уступить Чернигов своему брату Мстиславу Тмутараканскому. Впоследствии на Черниговщине властвовали только сыновья и племянники Олега, образовавшие разветвленный клан Ольговичей, который стал соперничать с кланом потомков Мстислава Великого, сына Мономаха. Игорь, сын Святослава Ольговича Черниговского (ум. в 1164 г.), как и его старший брат Олег (ум. в 1180 г.), после смерти отца были оттеснены в Черниговском великом княжении на вторые роли сыновьями дяди Всеволода Святославом и Ярославом. Именно двоюродный брат Игоря 21 Святослав Всеволодич до своего вокняжения в Киеве в 1181 г. был князем Черниговским, передав затем титул брату Ярославу. Олегу же, а после его смерти Игорю дастался на Черниговщине Северский удел (Новгород-Северский, Курск, Трубчевск, Путивль), поэтому Игорь формально оказался вассалом своих двоюродных братьев, как и младший брат Игоря Всеволод, князь Трубчевский. Впрочем, ничего обидного здесь быть не могло, поскольку Игорь, появившийся на свет в 1151 г., был много моложе своих двоюродных братьев Ольговичей: Святослав, родившийся предположительно в 1120 г., вполне мог считаться отцом Игоря и потому звал его «сыновцем». В 1180 г. Ольговичи затеяли усобную войну с Ростиславичами, потомками Мстислава Великого, за право владения Киевщиной. Игорь принял в ней активное участие. Поскольку он успел, видимо, установить союзнические отношения с половцами, земли которых непосредственно граничили с владениями северских князей, то приглашенные Святославом половецкие ханы Кобяк (западный, поднепровский юрт) и Кончак (восточный, донской юрт) как главные владетели степи согласились выступить совместно с дружиной Игоря в качестве авангарда армии Ольговичей. Этот авангард был, однако, разгромлен войсками Рюрика Ростиславича. Игорь с Кончаком едва спаслись, переплыв в одной лодке Днепр и бежав в Чернигов, а хитрый Святослав заключил мирный договор с Рюриком, в соответствии с которым Святослав стал великим князем Киевским, а все земли Киевщины вне самой столицы отошли к Рюрику. Ярослав Всеволодич сел на освободившийся черниговский престол и тоже сделался великим князем, хотя и более низкого ранга, а Игорь не приобрел ничего, кроме дружбы с Кончаком, которому он, видимо, уже тогда пообещал женить на его дочери своего старшего сына Владимира, когда тот подрастет. Ярослав Черниговский наверняка остался недоволен союзом своего старшего брата с кланом смоленских выскочек Ростиславичей и поэтому начал проводить в жизнь политику сближения с половецкими ханами, надеясь тем самым не только оградить Черниговщину от их набегов, но и ослабить слишком высоко вознесшегося с его же помощью старшего брата. Разумеется, новгород-северский Игорь в данном вопросе был полностью солидарен с Ярославом, втайне надеясь, что великий Святослав когда-нибудь споткнется, и его заменит на киевском столе младший брат, а он, Игорь, переселится владетелем в богатый Чернигов. Святослав Всеволодич, понимая, что отсиживаться в боярском Киеве без дела не только стыдно, но и опасно, презрел свои лета и занялся подготовкой общерусских военных походов на половецкую степь, чтобы не просто отодвинуть подальше от Киевщины кочевья Кобяка и Кончака, но и разгромить их совсем. В этом благом и масштабном деле Святослав в полной мере проявил себя энергичным и талантливым организатором. Большинство южнорусских земель поддержало инициативу киевского князя и, забыв былые распри, охотно участвовало в его военных мероприятиях. В 1184 г. соправители Киевщины Святослав и Рю- 22 рик организовали и возглавили большой поход 11 русских князей на юрт Кобяка (см. рис. 3). Близ реки Орели, левого притока Днепра, 30 июля половцы потерпели сокрушительное поражение, а хан Кобяк попал в плен. Ярослав с Игорем от участия в походе отказались, не без скрытой издевки сославшись на большую удаленность кочевий Кобяка от их владений. Следующий, 1185 г. начался с постыдной дипломатии коварства и обмана. Святослав наверняка рассчитывал на то, что уж в новом походе на Кончака его родной брат Ярослав примет участие, поскольку юрт Кончака непосредственно примыкал к Черниговским землям, в состав которых входили северские уделы его двоюродных братьев Игоря и Всеволода. Необходимость в новом большом походе была всем очевидна: Кончак по снегу пошел воевать пограничное Посулье, стремясь перехватить у Святослава Киевского военную инициативу. Ярослав затеял с Кончаком мирные переговоры, послав к нему боярина Ольстина Олексича, и якобы теперь ожидал ответа. Однако выставлять себя явным сепаратистом Ярослав все же побоялся и, видимо, договорился с Игорем о том, чтобы новгород-северский князь разыграл роль громоотвода от назревавшей грозовой опалы Киева. Дальше произошли совершенно непонятные события. Войска Святослава и союзных с ним князей преградили путь коннице Кончака и даже потрепали 1 марта его арьергард на реке Хорол. Погода была неблагоприятной для сражений: начал интенсивно таять снег, и передвигаться верхом или пешим ходом было равно тяжело. Игорь с конной дружиной выступил на соединение с войском Святослава, но в тумане потерял ориентировку и застрял где-то на Суле. Кончак тоже не спешил уходить с той же Сулы. Трудно поверить в то, чтобы два конных войска могли пройти друг мимо друга, не высылая вперед и в стороны положенные дозоры. А ведь если бы Игорь обнаружил Кончака и поспешил известить об этом воевод Святослава, то все половецкое войско неминуемо было бы зажато русскими с двух сторон в труднопроходимой из-за весенней распутицы местности. Итог грядущего сражения нетрудно было бы предсказать, и половецкая угроза была бы на десятилетие снята, как говорится, с повестки дня. Вместо этого Игорь просто приказал возвращаться домой, и не подумав продолжать поиски половцев или идти на соединение с войском Киева. Рыбаков, подробно разбирая данный эпизод, прямо не обвинял князя Игоря в предательстве, однако и не счел возможным скрывать свои подозрения на данный счет. Вот что он пишет в книге «Петр Бориславич» на с. 60: «Нельзя пройти мимо того факта, что, когда Игорь в апреле этого же года отправился в степной поход, он уже был сватом Кончака. Дочь Кончака уже была просватана за княжича Владимира, сына Игоря. Такие браки обычно скрепляли важные дипломатические союзы. Комфортабельная жизнь Игоря в плену у Кончака, подробно описанная летописцем, подтверждает наличие союза между князем и ханом». Борис Александрович, конечно, был абсолютно прав, когда выдвинул гипотезу о том, что над всеми действиями Игоря довлел заключенный ранее негласный союз между ним и Кончаком, правда, с одной существенной поправкой: существовал 23 более широкий именно «дипломатический» союз между коалицией левобережных князей во главе с князем Черниговским Ярославом и главным ханом донских половцев Кончаком. Этот союз преследовал далеко идущие цели, в ряду которых брак между детьми Игоря и Кончака занимал важное, но не первое место. После разгрома Кобяка у Кончака появилась реальная перспектива объединить под своей рукой всю половецкую степь от Днестра до Волги. Конечно, у Кончака имелись серьезные внутренние проблемы с управляемостью десятков свободолюбивых половецких ханов, но в 1185 г. наиболее серьезной для его лидирующего положения являлась перспектива длительного военного противостояния с коалицией южнорусских князей во главе с киевским князем Святославом, который проявил неожиданные для его преклонных лет волю и энергию в деле окончательного решения для Руси «половецкой» проблемы. Возможность отрыва от южнорусской коалиции богатого и сильного великого черниговского княжения представлялась Кончаку счастливым подарком судьбы, которая когда-то свела его в одном боевом строю с молодым князем Игорем, близким родичем Ярослава и вторым после него лицом в Черниговском княжестве. Без участия Ярослава и Игоря поход Святослава на Дон был трудноосуществимым мероприятием по чисто военностратегическим соображениям. Но не менее важным формирующийся союз с Кончаком представлялся и княжескому тандему Ярослав − Игорь, укрепляя его позиции в противостоянии Святославу, фактически изменившему клановым интересам Ольговичей в пользу Ростиславичей в обмен на титут великого князя Киевского. Правоборежная Русь растрачивала свои ресурсы в борьбе с половцами, тогда как Черниговщина, используя дружбу с Кончаком, не только сохраняла, но и накапливала их. Кроме того, Ольговичи могли вполне надеяться и на прямую военную помощь со стороны Кончака в случае нового обострения отношений с Ростиславичами. Мы видим, что союз черниговских князей с Кончаком содержал много дипломатических тонокостей, которые подлежали обсуждению и согласованию на высоком посольском уровне, но при этом его истинные задачи и конкретные мероприятия должны были оставаться вне поля зрения Киева. Именно такую посольскую миссию в стан Кончака и осуществил боярин Ярослава Ольстин Олексич. Из летописи становится ясно, что его посылка к Кончаку скрывалась от Святослава, пока факт отправки посла Ярославу не пришлось дезавуировать, чтобы как-то оправдать свое демонстративное бездействие. При этом Ярослав хитроумно дезориентировал брата относительно истинных намерений Чернигова согласием на участие в весенних военных действиях против Кончака своего вассала Игоря. Данную ему роль в разыгрываемой Ярославом политической пьесе Игорь сыграл превосходно; к тому же он ничем не рисковал, поскольку заранее знал, что Кончак в январе или начале февраля был предупрежден боярином Ярослава, и потому никаких неприятностей от хана дружине Игоря не предвидилось. 24 Рис. 3 25 Промежуток времени от февраля до 23 апреля изложен в летописях торопливо и маловразумительно, поэтому Рыбакову понадобилось все его выдающееся мастерство исследователя и комментатора «Слова», чтобы углядеть в нем некие параллели с летописью. Если русское войско 1 марта разбило на Хороле арьергард Кончака, то, следовательно, половцы уже отходили в Посулье. Значит, они совершили в январе-феврале зимний набег на Русь, когда снег наиболее глубок, из-за чего проезд и проход сквозь леса и перелески невозможен. Зимой с Русью воевать сложно из-за морозов и снегов; и это со стороны половцев тем более странно и непонятно, когда в стане Кончака в феврале обретался посол черниговского князя, привезший хану какие-то предложения не то о мире, не то о совместных действиях на весну и лето. Если Кончак задержался на Суле до весны, до тяжелой распутицы, из-за которой вывоз награбленного в степь просто невозможен, то, значит, он вообще не собирался уходить до лета из Посулья, которое, видимо, уже считал своей территорией. Далее, наши историки летопись понимают буквально и даже с запасом. Например, Горский так говорит о битве 1 марта: «В начале 1185 г. в поход на Русь выступил Кончак. Его войска дошли до реки Хорола, притока Псла, и были отброшены 1 марта соединенными силами южнорусских князей» (5, с. 9). Следовательно, на Кончака ополчилась большая союзная армия, которая, правда, из-за распутицы и тумана половцев не нашла. Большая война окончилась пшиком! В это же время Кончака искала небольшая княжеская дружина Игоря. Значит, и у Кончака силы были небольшие, достаточные для набега, но никак не для серьезной войны. Для отражения небольших половецких набегов у Киева всегда имелись под рукой «черные клобуки» (кочевники русской службы). Откуда тогда и зачем на границе Киевщины успели разместиться эти пресловутые «соединенные силы южнорусских князей»? В апреле воевода князя Святослава Роман Нездилович успешно повоевал каких-то половцев и взял много полона и коней. Рыбаков с трудом нашел в «Слове» очень спорное соответствие данному сообщению летописца, при этом счел поход воеводы Романа «разведкой боем». Данное событие киевский летописец пометил 21 апреля, не уточнив, что именно произошло в этот пасхальный праздник: успешное для русских сражение, получение в Киеве известия о нем или возвращение победителей с добычей? Очевидно, что великий князь должен был бы дождаться своей разведки, узнать от нее последние новости о половцах, отпраздновать вместе с народом главное христианское торжество и уж потом отправляться в Вятичские земли для сбора войск для летнего похода (это при том, что в его распоряжении уже имелись внушительные союзные силы!). Но вот ведь накладка: князь Святослав, по мнению академика, миновал Новгород-Северский до 23 апреля на пути в Корачев («Игорь протрубил сигнал похода, похода сепаратного, утаенного от великого князя, недавно проехавшего через Новгород-Северский» (4, с. 62)) – а ведь от Киева до Новгород-Северского триста верст по прямой, а по реке существенно больше. Триста верст для старика – это не менее двух недель пути в ладье на веслах вверх против тече- 26 ния Десны. Несостыковка с разведывательным походом воеводы Романа очевидна, а вот дата начала похода князя Игоря вполне соответствует православным обычаям: отметить как подобает самый великий праздник христиан, и уж потом отправляться в поход на басурман. Нельзя признать правоту Рыбакова и в другом: а именно в его предположении, что великий князь Киевский должен был застать своего «сыновца» в северской столице и, следовательно, еще раз заручиться его словом о непременном участии северских князей в летнем походе на Кончака под руководством киевских князей. Чтобы не давать лживых обещаний и клятв (ведь это грех великий!), князю Игорю, напротив, надо было уйти из Новгород-Северского до приезда Святослава, а не после. Но уйти только с ближней дружиной, чтобы не возбудить подозрений у недоверчивого старого киевского князя. Если верить летописи, то вся весна прошла в активных боевых действиях между русскими и половцами без каких-либо ощутимых итогов для обеих сторон. Спрашивается, зачем им было истощать себя бесплодными стычками в весеннюю грязь и холод, когда даже днем изза тумана ничего не было видно? Думается, что все это нужно было летописцу, но не воинам и их опытным и разумным воеводам. Исходя из исторической ситуации, сложившейся к концу апреля, у князя Игоря не возникало необходимости в организации военного похода в степь на половцев; более того, подобный поход не объясняется никакими разумными соображениями. В самом деле, Святослав военных действий от Игоря весной не требовал, даже наоборот; Ярослав фактически установил сепаратный мир со степью в лице Кончака, поэтому отправлять Игоря в разбойный поход было бы с его стороны нелепо и безрассудно; сам Игорь, ставший сватом хана, не имел никаких причин для вражды с ним или его соседями; никакой усобицы между половецкими ханами весной 1185 г. летописи не отмечали, да и не до этого им было в ожидании продолжения большой войны со Святославом и Рюриком. А вот князь Черниговский Ярослав к лету неизбежно попадал в сложную и опасную для него ситуацию. Отказав брату Святославу в военной помощи в феврале, вторичным отказом весной от участия в подготовке общерусского похода на Кончака Ярослав фактически объявлял себя прямым союзником половцев и, следовательно, врагом Киева и долгосрочных интересов всего Поднепровья. В этой ситуациии он вполне мог ожидать репрессивных действий со стороны коалиции Ростиславичей с киевским боярством, и вряд ли Святослав в подобной ситуации рискнул бы встать на защиту родного брата, запятнавшего себя предательским сговором с половцами. Наивно полагать, что всего этого опытный политик Ярослав и его бояре не осознавали и не искали выхода из создавшейся ситуации. И выход был найден – простой и вместе с тем оригинальный. Святослав, проезжая мимо Чернигова и Новгород-Северского в апреле, направляясь на север к вятичам, потому не заметил ничего подозрительного в землях своего брата, что ничего там и не происходило: ни военных сборов, ни переговоров между князьями, о чем великому князю непременно бы сообщили осведомители и подсылы, без ко- 27 торых получать объективную информацию от соседей было бы попросту невозможно. Ярослав был посвящен в планы брата и поэтому сумел все обговорить с северскими князьями и Кончаком задолго до приезда Святослава с очевидной инспекционной проверкой (ну не дело же старому великому князю самому ездить по закоулкам Руси и клянчить у местных феодалов холопов для войны!). Как только великий князь покинет пределы северского удела, все его четыре князя, взяв собственные княжеские конные дружины, якобы самовольно, не посоветовавшись с князем Черниговским, уходят в степь в набег на половцев (разумеется, без ковуев Ярослава!). Князь Игорь с ближайшими родичами якобы просто взяли да ускакали в неизвестном направлении, а не пошли в военный поход. Когда Святослав будет возвращаться по Десне из Корачева в Киев в начале мая, то получит крайне неприятное известие, что его взбалмошные двоюродные братья Игорь и Всеволод, взяв с собой двух юных несмышленышей Владимира и Святослава, сына покойного брата Олега, отправились в лихой молодецкий набег на половецкую степь со своими дружинами. Приплыв в Чернигов, Святослав получит тому подтверждение из уст брата Ярослава, который якобы даже не догадывался о глупой затее молодежи. Но теперь как бы с чистой совестью черниговский князь все серьезные разговоры о грядущем общерусском походе на Кончака мог отложить до выяснения ситуации со своими сбежавшими за добычей в степь удельниками. Итак, князь Игорь со товарищи отправились в половецкую степь не за военной добычей, ища честь себе и славу, а сбежали от киевской рекрутчины сами и увели с собой боевые конные дружины, чтобы не только не участвовать в готовящейся большой войне с Кончаком, сватом и другом Игоря, но и своим уходом попытаться сорвать спланированный Киевом грандиозный общерусский наезд на степь с целью окончательного устранения надоевшей половецкой угрозы. Апрельский поход был в сложившейся ситуации необходим северским князьям, и они его осуществили без какой-то особенной и длительной подготовки, поскольку поход на самом деле был просто уходом из дому на время пребывания в нем владетельного ревизора в лице самого великого князя Киевского, вдохновителя и организатора будущей войны с Кончаком. Выйдя за пределы русских земель, Игорь не торопился (два дня оставался у Оскола, поджидая брата Всеволода из Курска), хотя сразу же попал под надзор половецкой разведки в верховьях Северского Донца. Этот хитроумный план наверняка был детально обговорен с Кончаком еще Ольстином Олексичем, поэтому на маршруте следования дружественных русских конных дружин никаких столкновений с половецкими отрядами не было, и они благополучно добрались до кочевий хана на Торе, правом притоке Северского Донца, где и должны были дожидаться его возвращения из Посулья. Свой стратегический побег в степь князь Игорь намеревался объединить с еще одним полезным делом, которое нельзя было афишировать перед Святославом: нужно было познакомить пятнадцатилетнего сына Владимира с назначенной ему половецкой невестой и с будущим тестем и обговорить орга- 28 низацию грядущей торжественной свадьбы, которая укрепила бы родственными узами формирующийся военно-политический союз межде кланами Ярослава с Игорем и Кончака. Но совершенно неправомерно и даже наивно предполагать, чтобы именно сватовство было главной и единственной целью похода Игоря в степь, превращая его в свадебное мероприятие. Во-первых, ни русские, ни иные средневековые владетели никогда не подчиняли брачным интересам интересы государственные; наоборот, браки всегда рассматривались ими как инструмент продолжения внутригосударственной и международной политики. Во-вторых, в сложившейся на 1185 г. ситуации Святослав Киевский бракосочетания двоюродного внука с принцессой из вражьего стана попросту не допустил бы, а тайная женитьба русского принца, не освященная с подобающим торжеством высшими иерархами церкви и не сыгранная с соответствующим сану и роду отца размахом, противоречила бы вековым обычаям и была бы расценена знатью как унизительная для горделивого клана Ольговичей. И уж, конечно, ни о какой официальной женитьбе Владимира Игоревича в стане Кончака тем более не могло быть и речи: на Руси подобную свадьбу сочли бы в народе поганой. Плен и побег князя Игоря Что же могло произойти далее? К сожалению, до этого места достаточно определенно просматриваемая с помощью летописей исследовательская тропа выходит в открытую степь, где не то что троп – мало и вообще каких-либо примет, поэтому заплутать очень даже легко. Каким же ориентирам для определения своего местоположения в далеком историческом бытии мы вполне можем довериться? Один из них твердо установлен нами в процессе вышеизложенного исторического анализа: а именно, что никаких боевых столкновений сопровождавшей князя Игоря дружины с половцами не было, и поэтому он беспрепятственно прошел вдоль правого берега Северского Донца к стану хана Кончака. Другой, опирающийся на сообщение Татищева и явно не опровергаемый первоисточниками, предполагает пленение Игоревой дружины половцами. Еще один неопровержимый ориентир – это факт летнего нашествия половецких орд одновременно на южные рубежи Черниговских и Киевских владений. И, наконец, утверждение, что первым на Русь вернулся один князь Игорь, оставивший в стане половцев своих родичей и сына. Правда, последний исторический ориентир может показаться наименее достоверным, поскольку как бы вытекает из выдуманной автором «Слова» и поддержанной летописцами концепции военного поражения русского войска и захвата всех князей в плен. Имеется, однако, очевидное соображение, позволяющее считать летописную версию побега князя Игоря вполне достоверной. Счастливое возвращение из плена правителя Северских земель – слишком заметное и знаковое событие, чтобы его можно было каким-то образом сфальсифицировать; на такое не решился бы ни один летописец и уж тем более составитель солидного Киевского летописного свода 1198 г. игумен Моисей, 29 современник событий десятилетней давности. Да и не позволил бы подобное тогдашний полновластный правитель всей Киевщины Рюрик Ростиславич, принадлежавший к клану, исторически враждебному Ольговичам. Видимо, такой факт действительно имел место, и именно на него и опирался творец «Слова», создавая свою гениальную историческую подделку под эпос. Теперь попытаемся восстановить, опираясь на указанные четыре основных ориентира, реальность которых не вызывает больших сомнений, в самых общих чертах и с большой долей неопределенности последовательность событий, происходивших после прибытия северских князей в стан Кончака. Предположим, что хан либо уже находился в это время на Торе, поджидая свата с будущим зятем, либо, как предполагается традиционной версией, поспешил уйти из Посулья, где находился с начала весны, узнав, что Игорь с дружиной объявился поблизости от его родных кочевий по среднему течению Северского Донца. В таком случае реконструировать в самом общем виде дальнейший ход событий не представляет труда. Авторитет хана и его собственная боевая сила были таковы, что другие половецкие ханы не посмели бы осуществить в отношении ненавидимых ими русских какие-либо враждебные действия. Игорь с князьями и дружинниками без забот и хлопот разбили бы свой собственный гостевой стан поблизости от стана Кончака, благо места в степи хватало всем. Игорь, Кончак, их сородичи и знать дни напролет проводили бы время в соответствующих их высокому положению забавах. На веселом пиру высокородные отцы по обычаю отпраздновали бы обряд обручения княжича Владимира Игоревича с половецкой принцессой и обговорили бы довольно сложный вопрос об организации в Новгород-Северском православной свадьбы жениха и невесты, предварительно окрестив половчанку, без чего совершение церковного брачного обряда было бы невозможно. Разумеется, обговорили бы при этом не только размеры приданого и выкупа за невесту, но и будущую совместную политику двух владетелей по отношению к надоевшему всем старому киевскому князю и Киеву вообще, а также в отношении создававшейся на их глазах степной державы великого хана Кончака, преемника могущества былых хазарских каганов. Месяца отдыха Игоря на донских берегах вполне бы хватило, чтобы вопрос о коалиционном походе южнорусских князей на Дон в текущем году отпал сам собой, что, собственно, и требовалось для реализации долгосрочных планов союза Игоря с Кончаком. Затем Игорь с родичами и дружиной возвратились бы домой, порассказав всяких небылиц о том, как попрятались от них половцы, испугавшись боевого соперничества с ними, в доказательство чего дружинники представили бы много всякого половецкого барахла, якобы взятого на вежах разбежавшихся кочевников. Униженный подобным поворотом в своей военной политике Святослав растерял бы весь нажитый ранее авторитет в глазах молодых князей, чего, собственно, и добивались черниговские Ольговичи. 30 Но, как нам достоверно известно, все обернулось по-иному, что можно объяснить только одним: Кончак ни в апреле, ни в мае в свой стан на Торе с Сулы не вернулся. Измыслив битву на Каяле, автору «Слова» пришлось подкрепить эту выдумку упоминанием печально известных на Руси имен половецких ханов Кончака и Гзы (Гзака), соблюдая известное правило мистификаторов от литературы: лгать надо масштабно, иначе не поверят! Киевский летописец, принявший на исполнение концепцию истории, изложенную в «Слове» (Рыбаков выразил увереннность в том, что фабула «Слова» была использована при составлении годичных летописных статей), вынужден был буквально гонять по полям взад-вперед уже пожилого хана Кончака, отец которого Отрок воевал с Мономахом еще в начале XII в. В самом деле, если верить летописи, то Кончак сперва по зимним сугробам преодолел около пятисот верст от Северского Донца до правоборежья Сулы, затем вернулся обратно, чтобы выкупить Игоря, пойманного каким-то Чилбуком; после этого снова отправился в Посулье и еще далее, в направлении Киева; навоевавшись, не позже начала осени вернулся в родной стан на Торе, едва не застав сбежавшего за день до этого князя Игоря. Получается две с лишним тысячи верст по зимнему и летнему бездорожью на пожилого хана, отца большого семейства, бывшего фактическим главой всей Половецкой степи! Безвестные авторы псевдоисторических источников об этом и не задумались, а вот нам бы не помешало. Более вероятно, что Кончак отсиделся на Суле, а затем, взяв подкрепления от днепровских кочевий Кобяка, жаждавших отмщения за прошлогоднее поражение от Святослава, вновь пошел на Киевщину, не опасаясь удара со стороны северских князей, гостевавших в его собственном становье. Возможно, что соседним ханам присутствие русских князей в сердце их донских кочевий не понравилось, и, к примеру, Гза, стан которого располагался на левобережье Северского Донца, и другие более мелкие половецкие вожди презрели гарантии безопасности, данные Игорю Кончаком, и пленили всех четырех князей и их дружинников – без боя или в результате короткого сражения, в котором у русских не было никаких шансов. Князья были как бы задержаны до возвращения Кончака из похода на Русь и содержались половцами в достаточно хороших условиях, чтобы не навлечь на себя гнев великого хана. А вот с пленными дружинниками обошлись по обычаю: отвели на берег Каспия и продали работорговцам, выручив хорошие деньги за крепких молодых русичей. Во всяком случае, о дальнейшей судьбе пленных русских воинов в летописях ничего не сообщается, что позволяет судить о том, что их участь оказалась печальной. Игорь не мог не понимать, что оказался жертвой собственного хитроумия, более похожего на предательство. Он оставил северские земли без лучших и опытных воинов и без военного руководства, и теперь Гза с другими ханами отправились грабить по существу беззащитные княжества юга Черниговщины. По возвращении Кончак, без всякого сомнения, навел бы порядок в собственном стане и отпустил домой Игоря и остальных князей, а также 31 оставшихся в живых и не проданных еще в рабство дружинников, хотя, конечно же, пленившим их жадным до серебра ханам не было никакого смысла ждать возвращения Кончака. Игорь, разумеется, мог договориться с родичами о сокрытии всех позорных обстоятельств фактической сдачи ими в плен врагу собственного войска; а вот рассчитывать на молчание самих бывших пленников из простонародья князь не мог. Соплеменники стали смертельно опасными свидетелями предательства и позора своего князя, поэтому Игорю просто необходимо было от них избавиться. Он мог бы их спасти от угона в рабство или казни до прихода Кончака – если не всех, то хотя бы часть, – пообещав уплатить за них выкуп; однако не сделал этого. Татищев на основании не дошедших до нас источников считал, что Игорь бежал из плена до прихода Кончака потому, что не в состоянии был уплатить требуемый с него огромный выкуп в 2000 гривен. Если действительно мог возникнуть вопрос о каком-то выкупе из плена, то, конечно, речь шла не о плате за самого князя как собственности Кончака, а за освобождение плененных дружинников, которым только и грозили в случае отказа продажа в рабство или смерть. За дружинников половцы вполне могли затребовать оптом по гривне за голову, что составило бы примерно названную Татищевым сумму. Однако князь Игорь не только отказался от спасения пленных русских воинов, но и решил бежать до прихода Кончака, чем обрекал их на погибель. В подтверждение именно такого объяснения причины бегства Игоря из стана Кончака приведем отрывок из Ипатьевской летописи, имеющий прямое отношение к рассматриваемой ситуации: «Но, как говорилось прежде, возвратились от Переяславля половцы (где как раз воевал Кончак. – Е. Т.). И сказали Игорю думцы его: “Мысль высокую и не угодную Господу имеешь в себе: хочешь взять с собой мужа (половца Овлура или Лавра. – Е. Т.) и бежать с ним. А о том не думаешь, что придут половцы с войны и – как слыхали мы – перебьют всех князей, нас, бояр ваших, и всех русских. Да не будет тебе ни славы, ни живота”. Запал князю Игорю в сердце совет их. Устрашившись возвращения половцев, решил он бежать» (2, с. 362). Источниковеды давно уже отмечали явную противоречивость указанного отрывка. То ли в нем говорится о том, что хотя бы одному князю следует бежать потому, что все равно всех перебьют с приходом Кончака; то ли, напротив, его просят отказаться от мысли от побега, поскольку именно его присутствие и спасает пока всех остальных от гибели. Не только летописцы, но и их редакторы не посмели ясно изложить на пергамене действительно сложную и позорную ситуацию предательства князем собственной дружины. Факты же говорят сами за себя: князь бежал один, не взяв с собой никого из русских – потенциальных свидетелей, и тем самым обрек оставшихся (кроме князей, разумеется) на погибель. Бежал или ушел – сути дела не меняет. Скорее всего, именно ушел, поскольку наивно полагать, что пущенные в погоню половцы не догнали бы и не вернули назад шедших 11 дней пешком на север беглецов. Да и в летописи ведь ясно говорится, что князь с Лавром на заходе солнца проехали через половецкие вежи, и никто их не остановил. Князь 32 Игорь бежал именно от своих, а не инородцев, совсем ему не опасных. Всеволод остался дядькой при Владимире, закрутившим любовь с Кончаковной, поскольку и на доблестном брате Игоря лежал позор глупой потери своей прославленной курской дружины. А вот что касается четвертого князя – племянника Святослава Ольговича Рыльского, то о нем ничего в летописях с 1185 г. не известно, так что и нам гадать о его дальнейшей судьбе не имеет смысла. Всеволод же мог вернуться только после того, как Игорь уладил бы дело на родине с помощью заинтересованного в том черниговского князя. Игорю действительно удалось все уладить, изложив последовательно князьям и боярам Новгород-Северского, Чернигова и Киева вымышленные подробности своего опрометчивого военного похода на юг и героической гибели всего войска в центре половецкой степи. Опровергнуть ложь было некому, поскольку не было ни одного свидетеля, кроме преданного Игорю половчанина Овлура, молчание которого вполне объяснимо. Летописец, правда, сообщает, что ковуй Беловолод Просович чудом вырвался из окружения и прибежал в Чернигов как раз в то время, когда там находился возвращавшийся на ладьях из Корачева великий князь Киевский Всеволод, и что беглец и рассказал князю «о том, что случилось от половцев». Но, во-первых, как мы установили выше, Ярославу Черниговскому, у которого служили ковуи, не было никакого смысла дискредитировать себя в глазах брата Святослава посылкой без его ведома части своего войска в степь с Игорем, поэтому все, что связано в летописи с ковуями, следует полагать вымыслом. Во-вторых, сама возможность прорыва из окружения при свете солнца единичных конных ковуев на уставших после суточного боя лошадях сквозь толпы половцев абсолютно фантастична; тем более, что беглецам спрятаться в открытой степи было негде. В-третьих, ковуи, согласно той же летописи, бежали с поля боя на рассвете 12 мая, поэтому счастливец Беловолод не мог знать, что именно случилось с князьями и их войском, и поэтому у Святослава еще не было оснований, чтобы плакать по своим сородичам, как об этом утверждает летописец. Басня про спасшегося ковуя понадобилась киевскому монаху для того, чтобы придать видимость существования независимого от рассказа самого князя Игоря свидетельского показания. Прискорбно, что этой басне всецело поверил даже умудренный исследовательским опытом Борис Александрович. Поставив перед собой задачу непременно состыковать «Слово о полку Игореве» и киевскую летопись, что явилось бы подтверждением достоверной историчности первого, во что академик уверовал a priori, он, в частности, написал следующее: «Святослав рассказывает боярам, что видел в своем дворце на киевских горах мрачный, предостерегающий, “мутен сон”. От Чернигова до Киева 140 километров; плыть по извилистым протокам Нижней Десны нужно было долго, и, по всей вероятности, Святослав, получив весть от Беловолода Просовича, поскакал в Киев на подменных конях, подобно своему прадеду по матери Владимиру Мономаху, покрывавшему этот же самый путь из Чернигова в Киев “от заутрени до вечерни”. Весть о разгроме, крушение планов похода на Кончака, то- 33 ропливая скачка в Киев, все, что бояре истолковали тем, что “туга ум полонила” – все это вполне объясняет мрачные предсказания этого вещего сна» (4, с. 114). Написано красиво и убедительно, но ссылаться на подвиги Мономаха Рыбакову не следовало бы. Знаменитому воину князю Владимиру Всеволодичу во времена его черниговского правления – 1080-е гг., на которые ссылается Рыбаков, было лет 30−35, и находился князь в самом расцвете физических сил. Святославу же Киевскому в 1185 г. стукнуло уже 65 лет, и был он стар и сед, хотя, судя по его делам, еще не дряхл, как отец Мономаха в 60 лет. Право, неприлично старому русскому академику заставлять старого русского государя скакать на перекладных без роздыху с рассвета до ночи, наслушавшись трепатни сказочно спасшегося трусливого ковуя. Нелетописная версия событий 1185 года Нелетописный и, как представляется, значительно более реалистичный ход событий 1185 г. в общих чертах выглядит следующим образом. Зимой половецкий хан Донского юрта Кончак осуществил набег на южные окраины Киевской Руси в районе реки Сулы. Войска Поднепровья в начале весны половецкий набег отразили, но из-за наступившей распутицы вынуждены были вернуться домой. Войско же Кончака также вследствие неблагоприятных природных условий застряло вплоть до мая в Посулье. Князь Черниговский Ярослав и князь Новгород-Северский Игорь проводили политику полного обособления всего днепровского левобережья от Киева. Ярослав заключил мирный договор с Кончаком, а Игорь стал сватом хана, и брак княжича Владимира с ханской дочерью считался делом решенным. Ярослав отказал брату Святославу, великому князю Киевскому, в военной помощи в борьбе против половцев, а Игорь только делал вид, что он является участником коалиции южнорусских князей во главе с дуумвирами Киевщины Святославом и Рюриком. Святослав с апреля 1185 г. начал готовиться к длительной летней кампании против Кончака, которая должна была привести к полному разгрому половцев, кочевавших в степях между Днепром и Доном. Чтобы не только избежать втягивания Черниговщины в грядущую войну против своего стратегического союзника, но и сорвать намечавшийся летний общерусский поход на половцев, Ярослав с Игорем спланировали уход всех северских князей с их дружинами на Северский Донец, заранее предупредив Кончака о мирном характере подобной политической акции, направленной против интересов их общего врага – Святослава Киевского. В конце апреля князь Игорь с братом Всеволодом, сыном Владимиром и племянником Святославом увели все княжеские конные дружины с территории северских земель в половецкую степь. Переход в район становья хана Кончака на реке Тор, правом притоке Север- 34 ского Донца, занял около трех недель и прошел без каких-либо столкновений с половецкими отрядами. Кончак в это время оставался со своим войском в Посулье, готовясь к летней военной кампании и перекрывая пути возможного выдвижения войск Святослава и Рюрика в половецкую степь. В нарушение договоренности с Кончаком местные половецкие ханы внезапно захватили в плен всех русских князей и их дружинников, намереваясь продать последних в рабство как свою военную добычу. Игорь и его сородичи содержались на положении заложников в стане Кончака до возвращения хана. Гза и другие половецкие ханы, кочевавшие на Северском Донце и сохранявшие относительную самостоятельность от Кончака, решили воспользоваться тем, что юго-восточные области Черниговщины остались без военного руководства и постоянного конного войска, и предприняли широкомасштабный набег на северские земли, едва не захватив Путивль. Одновременно Кончак, подтянув силы из приднепровской степи, находившейся ранее под управлением его соратника хана Кобяка, плененного князем Святославом во время прошлогодней военной кампании, начал наступление на Киевщину, создав непосредственную угрозу захвата ее столицы. Святослав и Рюрик, оставив мысли о походе в половецкую степь, все имевшиеся под рукой силы направили на оборону русского Поднепровья, с большим трудов отбив половецкое наступление. В конце лета Кончак, захватив большую добычу и множество пленных из числа мирных русских жителей, решил завершить свой длительный и на редкость удачный поход на Русь и повел войско домой, на Северский Донец. Игорь, палец о палец не ударивший для вызволения из неволи своих несчастных и ни в чем не повинных дружинников, решил окончательно бросить их на произвол судьбы и в одиночку сбежать от половцев, чтобы окончательно не запятнать себя в глазах русских князей откровенным соглашательством и дружбой с главным врагом Руси. С одним лишь половецким коноводом, игравшем роль проводника, Игорь беспрепятственно покинул охраняемый ханский стан до возвращения в него хозяина и, затратив полторы недели на путешествие по степи, благополучно достиг южной окраины своего княжества. В отсутствие живых русских свидетелей злополучного похода князь Игорь в Чернигове, а затем в Киеве представил в оправдание своего предательства общерусского дела вымышленную версию о якобы неудачном сепаратном военном походе на Кончака северских князей и геройской гибели всей дружины в неравном и жестоком бою в центре безводной половецкой степи. Князь Черниговский Ярослав, заинтересованный в сохранении тайны относительно истинных намерений и действий Игоря, вымысел своего двоюродного брата поддержал. Князь Всеволод Святославич с княжичем Владимиром остались в стане Кончака на положении его не то заложников, не то гостей и даже сватов. Владимир разделил ложе со своей 35 половецкой невестой и прижил от нее сына. Через два года новая княжеская семья с дядей Всеволодом благополучно вернулась в Новгород-Северский. Что сталось с князем Рыльским Святославом, племянником Игоря, неизвестно; его имя после 1185 г. навсегда исчезло со страниц русских летописей. Судьба плененной северской дружины, скорее всего, сложилась трагично, что вполне соответствовало жестоким обычаям раннего Средневековья. Скорее всего, молодые и сильные русичи пополнили собой рабские команды гребцов на персидских и генуэзских кораблях. Скандал в великокняжеских семействах Ольговичей и Ростиславичей так и не разразился, хотя он, конечно, очень бы даже позабавил правителя Владимиро-Суздальской Руси Всеволода Большое Гнездо. Поверили Святослав и Рюрик рассказам Игоря или только сделали вид – этого мы никогда не узнаем, но выносить сор из избы им было совсем не с руки, не говоря уже о князе Черниговском Ярославе, закулисном дирижере плачевно завершившейся интриги. В обмен на забвение киевскими и смоленскими князьями былого предательства Ярослав и Игорь предали забвению свою прежнюю политику сепаратизма, примкнули к союзу южнорусских князей и уже зимой 1187 г. ходили со всеми вместе в поход на степь. Кончак, видимо, не особенно обижался и прожил еще около двух десятков лет, не досаждая зятю своими разбойными привычками. Всеволода и Владимира с дочерью и внуком он в 1187 г. (или 1188) милостиво отпустил на Русь; может быть, те и сами не спешили возвращаться, давая возможность главам их княжеского клана нейтрализовать общественный негатив и в отношении самого похода, и в отношении женитьбы Владимира. Во всяком случае, все прошло гладко, Кончаковну крестили и свадьбу сыграли под звон церковных колоколов с подобающим торжеством и размахом. В семействе Ольговичей все устроилось как нельзя лучше, да и Киевская Русь почти на три десятилетия, вплоть до кончины великого князя Киевского Рюрика Ростиславича, обрела столь чаемую уставшими народами тишь. Правда, природный авантюризм и беспринципность характера князя Игоря унаследовали его младшие сыновья, но уж они-то от судьбы получили взбучку по полной программе. Игорь как-то дал приют бежавшему из Галича княжичу Владимиру, сыну Ярослава Осмомысла, бузотеру и пьянице (по слишком пристрастному мнению Карамзина), и тем самым невольно ввязался сам и приобщил к галицкой политической интриге своих детей. После смерти в 1202 г. отца, бывшего в то время князем Черниговским, трое Игоревичей, оттесненные сынами Святослава от черниговского стола, ввязались в галицкую усобицу, изумив галичан невиданными доселе коварством и жестокостью. В конце концов вся троица попала в руки жителей Галича и была ими повешена на городской площади. Даже привередливые летописцы сочли столь позорную казнь представителей древней и высокородной знати вполне заслуженной. Так история сполна воздала князю Игорю в его потомках за предательски загубленные им души своих верных дружинников. 36 Создание «Слова»: свободное творчество или великокняжеский заказ? Надо думать, Ярослав и Игорь прекрасно понимали, что выдуманная ими устная история злополучного похода должна обрести обязательное письменное выражение, которое, собственно, и будет единственным реальным документом для современников и потомков. Но прямо обратиться к церковным летописцам было нельзя из-за опасности, что под пером дотошных книжников может неожиданно всплыть неприглядная правда, которая, возможно, уже кочует в виде слухов в недоступной князьям монашеской среде. Кроме того, летописные своды готовились только в крупнейших центрах, где и находились достаточно образованные и умелые писатели – в Киеве, Новгороде и Владимире. Последние два, естественно, отпадали, а для использования столичных монастырей требовалась санкция великого князя Святослава, обращаться к которому по такому щекотливому делу было опять-таки нельзя. Нужно было придумать нечто оригинальное, наподобие эпических сказаний франков, германцев и скандинавов, о которых князья наверняка имели представление. Трудность заключалась в том, что никто из русских книжников вне монастырей не был в состоянии изобразить нечто похожее, поскольку отечественная светская письменность находилась еще в младенческом возрасте. Среди монахов имелись редкие пока дарования, способные написать какое-нибудь христианское житие на заказ, но как раз форма житий данному случаю явно не соответствовала. К тому же пришлось бы грех лжесвидетельства умножать упоминанием имени Божьего, чего несомненно верующие Ольговичи должны были бы опасаться. Выход все же нашли: по-видимому, для влиятельного князя Ярослава бояре отыскали потребного ему для неизвестного им дела книжника из бывших хазар-иудеев, которых на Руси в те времена осело немало (к примеру, в ближнем окружении великого князя Владимирского Андрея Юрьевича Боголюбского находился бывший иудей из хазар Анбал, впоследствии соучастник убийства князя заговорщиками в 1174 г.), или терпимых к иноверию византийцев, или еще кого-либо из некрещеных западных славян. Этот неведомый нам книжник-иностранец справился с высоким заказом блестяще, сотворив на заданную ему тему «Слово о полку Игореве», ставшее вскоре образцом для подражания будущих отечественных сочинителей сказаний. Нечто христианское, да и то в косвенной форме, появилось у него только в самой концовке, которую многие современные исследователи «Слова» не без оснований считают позднейшим добавлением в изначальный совершенно языческий по форме текст. О самом князе Игоре в поэтическом сказании говорится кратко и без выкрутас, так что у читателя создается впечатление, что князь не герой безусловно эпического произведения, а жертва собственных простодушных страстей безвестного периферийного князька, которому опостылела скукота жизни без подвигов и который совершенно не способен предвидеть очевидные последствия своих молодецких деяний. Если бы не упоминание о сыне, то князю никак нельзя было бы дать более 37 двадцати лет. Многословное и высокохудожественное историческое обрамление рассказа о самом походе и битве прекрасно исполнило роль отвлекающего от них очень смелого для своего времени размышления о политике бывших и настоящих владетелей земли Русской; размышления, которое свойственно только иностранцу и тем более иноверцу, лишенному внутреннего пиетета в отношении истории и правителей той страны, где ему пришлось жить и работать. Видимо, «Слово» вполне удовлетворило заказчиков и сделалось известным в кругах черниговской знати; от нее информация быстро перекочевала в монастыри, чья братия умела читать и оценивать уровень написанного. После кончины в 1194 г. великого князя Киевского Святослава отпали всякие препятствия для составления уже киевского летописного рассказа на основе письменного же «Слова» и включения его в свод игумена Моисея. Очевидно позднейший владимирский летописец, как бы он ни был критически настроен по отношению к деятельности всяких там Ольговичей, уже никак принципиально изменить киевские тексты не мог: бумага всегда сильнее и правдивее любого слуха! Единственно, что он позволил себе – так это сократить существенную часть летописного повествования более чем в четыре раза. В результате редчайшего в Древней Руси феномена – посвящения рядовому событию светского эпического сказания-поэмы и двух отдельных и довольно пространных летописных сообщений – историческая выдумка или, если выражаться точнее, мастерски сработанная заказная фальсификация реальных исторических событий, порочащих высшую родовитую знать, получила статус официальной и со временем общепризнанной истории одного из эпизодов из жизни южнорусских княжеств с их непростыми отношениями со своими половецкими соседями. Даже совершенно независимые и свободолюбивые новгородские писатели не посмели поставить под сомнение достоверность киевской версии, просто умолчав в своих общерусских летописях о походе князя Игоря. Разумеется, «Слово» как литературное явление, совершенно чуждое специфически православной русской традиции, не могло получить благословения церковных властей для последующего распространения путем составления многочисленных списков с оригинала и их рассылки по монастырям. Поэтому следует признать истинным чудом уже то, что хотя бы один из редких позднейших списков произведения (вероятно, XVI столетия) сохранился и побывал в руках столь уважаемого знатока древности графа А.И. Мусина-Пушкина, успевшего обработать его и издать в 1800 г., прежде чем оригинал списка погиб в московском пожаре 1812 г. Исторические мифологемы против реальной истории Разумность стратегии и тактики средневековых полководцев является весомым аргументом в пользу достоверности анализируемых исторических сообщений, в которых упоминаются походы и битвы. Справедливо и обратное: очевидная неразумность государей и воевод, проявленная ими в военных вопросах, свидетельствует о наличии в соответствующих исторических сообще- 38 ниях недостоверности. Проведенный выше анализ сообщений о походе 1185 г. наглядно иллюстрирует сказанное. К примеру, утверждение первоисточника о наличии пеших полков в войске князя Игоря, якобы отправившегося воевать далеко в степь, указывает на его недостоверность, поскольку со стороны Игоря − достаточно опытного 34-летнего полководца − в данном случае брать в поход малоподвижную пехоту для борьбы с конным противником было бы крайне неразумно. Но ведь хорошо известно, что подобную же незазумность якобы проявили безусловно опытные воеводы и через 40 лет, что привело к известным трагическим событиям 1223 года на Калке, связанных с первым в истории Руси столкновением с татарами. Поставим перед собой только один вопрос: какое войско привели русские князья на Калку, которая расположена еще дальше от русских земель, чем пресловутая Каяла, – конное, пешее или смешанное? Учтем, что от Киева до Калки более 600 км, от Днепра около 200, а приазовские степи совершенно пустынны (см. рис. 4). Следовательно, русские многоопытные князья – один Мстислав Удатный чего стоит! – должны были сообразить, что гоняться за конными татарами в голой степи можно только верхами, и пешие полки им совсем не нужны. В летописях прямо не говорится, какие именно русские войска отправились бить татар и имелись ли в их составе пешие полки. Но вот два считающихся вполне достоверными факта рассматриваемых событий. Во-первых, часть воинов прибыла на место общего сбора русских войск на правом берегу Днепра вблизи переправы через него из Галича, добравшись оттуда на ладьях по Днестру, Черному морю и Днепру, покрыв при этом расстояние свыше тысячи километров. Лошадей на ладьях не возят, поэтому дружинники галицкого воеводы Домаречича намеревались воевать с татарами пешими. Вариант пересадки на чужих лошадей в месте сбора отпадает, поскольку рубиться насмерть на чужом коне – это верный способ подставить свою голову под вражеский меч. Во-вторых, киевский князь Мстислав Романович в первоначальной атаке русской конницы на татар участия не принимал, стоя со своими полками вблизи берега реки на возвышении и огородив импровизированный стан кольями. После поражения и бегства войск Мстислава Удатного и других князей вместе с союзными половцами татары окружили киевлян и три дня пытались с ними расправиться, но безрезультатно. Очевидно, что конные дружинники кольями себя в случае общей неудачи не огораживают, а просто галопом покидают поле боя. Да и какой смысл им стоять за кольями, если татары могут расстрелять их из луков, поскольку воину на коне или коню за щитом от стрел не спрятаться. Значит, Мстислав Романович привел из Киева пешее войско, которое сумело быстро перестроиться в оборонительный порядок «стена», чтобы попытаться отсидеться за рядами больших пехотных щитов и копий. Так что же, старый и опытный князь, отправляясь в поход из Киева, собирался с пехотой гоняться по степи за конной ордой безвестных варваров? Это совершенно неразумно – а, значит, сообщения летописцев о битве далеко не во всем правдивы. Дальнейшую проверку данного события на достоверность желающие могут продолжить сами… 39 Рис. 4 40 Увы, мифологемы, созданные историческими и литературными произведениями – явление для Руси более привычное и распространенное, чем обычно принято думать. Первая масштабная литературно-историческая фальсификация была введена в исторический оборот при изложении трагических событий 1015 года. Неведомый нам монах-книжник (возможно, Иаков мних) не просто состряпал клеветнический сказ о деяниях якобы окаянного душой великого князя Киевского Святополка, но и превратил этот сказ в замечательную, отмеченную многими литературными достоинствами первооснову для создания впоследствии христианского мифа о первых отечественных мучениках за веру Борисе и Глебе. Конечно, молодой государственной религии нужны были собственные святые мученики – и их создали из князей, не успевшиз запятнать свои имена кровью соплеменников. Но более серьезная причина – это желание потомков династии Ярославичей отвести от основателя династии подозрение в фактической организации убийства братьев Бориса и Глеба, которые были, видимо, не прочь признать права на великое княжение за старшим в роду Святополком. Впервые глухое изустное предание было оплодотворено довольно тонкой исторической фальсификацией, дав последующим книжникам дурной пример для подражания. Отныне историческая мифология, «косящая под эпос», стала использоваться в качестве фона или полотна, на котором помещалась историческая фальшивка. В рассматриваемом примере она со временем переросла свои первоначально узкие рамки и превратилась в национальную идеологическую милогему. Вплоть до начала XIX столетия в нашем родном отечестве не было создано сколь-нибудь весомых произведений, которые можно было бы отнести к научно-историческим произведениям. Н.М. Карамзин заложил основы научного источниковедения, и с тех пор в России история как наука дала крен в сторону самого широкого анализа первоисточников, а не тех событий, которые они описывают. В результате литературно-художественные достоинства первоисточника оказывали сильное психологическое давление на оценку его исторической достоверности, наподобие знаменитой Пушкинской формулы «Гений и злодейство несовместны!». Ну как, в самом деле, можно сметь сомневаться в реальной достоверности исторической картины, изображенной на гениальном художественном полотне «Слова о полку Игореве»! Конечно, историки не должны были бы путать историю с соседствующим с ней источниковедением, но в России во все времена истинные ученые всегда работали в неблагоприятном идейно-политическом климате, когда истина рассматривалась в качестве рабыни государственного прагматизма, будь то прагматизм феодального, крепостнического или тоталитарно-партийного характера. Российская власть всегда рассматривала ученых в качестве слуг, а излишне свободолюбивые мыслители третировались или попросту уничтожались, как в совсем недавние советские времена. Узаконенные государством исторические мифы стали со временем неотъемлемыми частями того, что мы понимаем под историческим самосозна- 41 нием русского народа, формирующим и его национальный менталитет, и самый дух нации; стали идеологическими мифами на исторической основе − мифологемами на фоне во многом мифического описания древней истории. И как в этом случае поступать ученому-историку, профессия которого – выявление истинной картины реального исторического процесса? Развенчивая историческую фальшивку, неприемлемую с точки зрения науки, честный историк вынужден заодно способствовать разрушению сложившегося духовно-патриотического или, что еще болезненнее, религиозного стереотипа. Настоящий ученый обязан именно так и поступать в своих исследованиях, руководствуясь только профессиональной научной честностью, но не околонаучными соображениями лояльности, корпоративности, народности и прочими, и прочими, перечислить которые не представляется возможным. Но эта естественная профессиональная обязанность применительно к суровым российским условиям сопряжена не только с отчуждением такого честного историка от всевозможных государственных благ, но и обрекает его на отчуждение от народной обывательской массы. Российскую историю приватизировали власть и послушный ей народ, которые желают видеть отечественную историю такой, какой им хотелось бы ее видеть, а не такой, какая она есть на самом деле. Хотеть, конечно, никому не возбраняется, но так ли это полезно или хотя бы безобидно в отношении собственной истории и для народа, и для представляющей его власти? Литература 1. Древнерусские повести / Под ред. А.Курилова. Приокское книжное изд-во, 1987. 2. Памятники литературы Древней Руси. XII век. М., 1980. 3. Полное собрание русских летописей. Т. I−II. М, 1962. 4. Рыбаков Б. Петр Бориславич. М., 1991. 5. Слово о полку Игореве, сына Святъславля, внука Ольгова / Под редакцией А.Горского. М., 2002. 6. Рыбаков Б. Мир истории. М., 1987. 7. Рабинович М. // Вопросы истории. 1980. № 7. С. 103−116.