_________Северо-Кавказский государственный институт искусств_________ Специальность 24.00.01 – Теория и история культуры
реклама
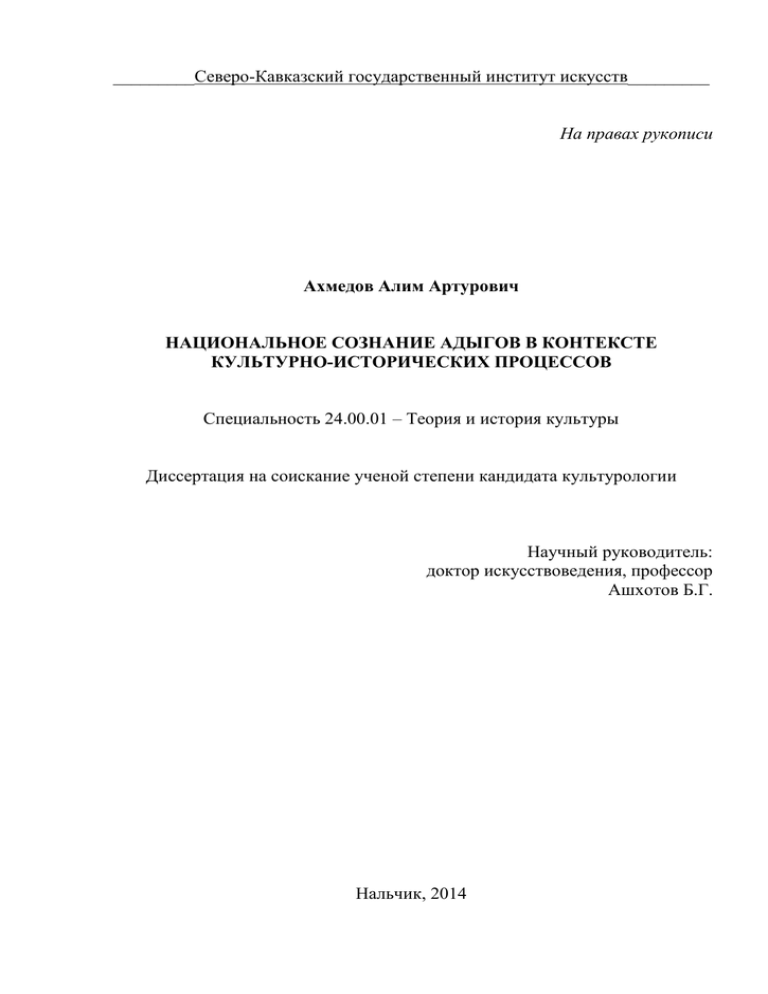
_________Северо-Кавказский государственный институт искусств_________
На правах рукописи
Ахмедов Алим Артурович
НАЦИОНАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ АДЫГОВ В КОНТЕКСТЕ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Специальность 24.00.01 – Теория и история культуры
Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии
Научный руководитель:
доктор искусствоведения, профессор
Ашхотов Б.Г.
Нальчик, 2014
2
Содержание
Введение……………………………………………………………………. с. 3-15
Глава 1. Национальное сознание адыгов как предмет культурологического
исследования ……………………………………………………………... с. 15-59
1.1. Нация как суверенная историческая общность: развитие концептуальных
представлений ……………………………………………………………. с. 15-22
1.2. К вопросу о времени и географическом ареале формирования адыгской
идентичности …………………………………………………………….. с. 22-35
1.3. Модели развития национального сознания адыгов в контексте культурноисторических процессов в XVIII – XIX вв. ………….…………………. с. 35-59
Глава 2. Культура и социальное пространство: к вопросу о генезисе
современной адыгской идентичности...……………………….….……. с. 59-90
2.1. Культурная основа адыгской этничности …….…………………… с. 59-82
2.2. Социокультурная автономия как фактор развития политического
сознания адыгов в конце XIX - первой половине ХХ вв. ………….….. с. 82-90
Глава 3. Проблемы формирования национального сознания адыгов в
контексте культурно-исторических процессов в ХХ – XXI вв. …..… с. 90-138
3.1. Проблемы адыгской идентичности на современном этапе …...… с. 90-108
3.2. Вектор развития российской государственности и перспективы адыгской
идентичности ……………………………………………………..…… с. 108-117
3.3. Этническая общность как национальная идея: кризис культуры как
фактор этнического национализма ..…………………………………. с. 117-128
3.4. Адыгская идентичность в культурологической перспективе …. с. 128-138
Заключение ...………………………………………………………..… с. 138-147
Список использованных источников и литературы .………….……. с. 147-168
3
Введение
Актуальность
обострением
проблемы.
национальной,
Современный
этнической,
мир
характеризуется
цивилизационно-культурной
проблематики в жизни государств и обществ. В условиях глобализации
специфика
государственного
и
социального
развития
определяется
взаимосвязью политического суверенитета с экономическими основами
жизни общества и состоянием его культуры.
Особого
внимания
заслуживают
вопросы
формирования
национального сознания, его взаимосвязь с этничностью, проблемы
российской идентичности в условиях адаптации к новым социальноэкономическим и социокультурным реалиям, роль в данных процессах таких
факторов как состояние информационной среды и культурное наследие.
В данной связи важное научное и общественное значение имеет
изучение
особенностей
формирования
этнического
и
национального
сознания народов Северного Кавказа. С учетом исторической динамики
социально-экономических и культурных трансформаций в указанном
регионе, одним из актуальных направлений подобных исследований является
изучение вопросов, связанных с национальным сознанием дисперсной
этнокультурной общности адыгов.
Хотя данная тематика интересна в различных аспектах, мы полагаем
целесообразным
проводить
подобное
исследование
в
рамках
культурологического анализа. Это объясняется тем, что социокультурная
динамика особенно явно отражает взаимодействие индивидуального и
массового
сознания
с
социально-экономическими
процессами
и
информационной средой, поэтому может служить индикатором состояния и
тенденций развития той или иной общности. Способствуя лучшему
пониманию происходящего, подобное исследование может повысить
эффективность прогностических и когнитивных возможностей, важных для
культурологии и современной гуманитарной науки и образования в целом.
4
Степень научной разработанности.
Взаимосвязь культуры и национального сознания, в её различных
аспектах, является одним из ключевых вопросов большого количества
различных исследований. Для нашей работы особое значение получили
взгляды и аргументы таких авторов как Э. Геллнер, Э. Хобсбаум, Б.
Андерсен, Э. Смит, Н. Элиас, уделявших внимание вопросам формирования
наций, становления и развития национального сознания, связи этих
процессов с этничностью, с представлениями о цивилизации, с социальноэкономическим устройством и его динамикой.
В работах указанных исследователей наше внимание привлекли прежде
всего вопросы о роли представлений и дискурсов властных элит и
интеллектуалов
в
формировании
национального
сознания,
а
также
механизмы утверждения этого сознания в обществе и их культурный
компонент. В частности, движение от государства к единому культурному
пространству в этатическом национализме и от общей культуры к общему
государству в этническом национализме (Э. Геллнер), роль массового
образования
и
информационных
технологий
в
формировании
и
распространении национального дискурса (Б. Андерсен, Э. Геллнер),
значение этносимволизма (Э. Смит) и изобретения традиций (Э.Хобсбаум и
Т. Рейнджерс), роль элит в формировании культурного пространства и
идентичности масс в условиях глубоких трансформаций общественного
устройства (Э. Геллнер, Н. Элиас).
Во взглядах Э. Геллнера для нас также особое значение имеет
обоснование уникального характера современного процесса модернизации и
глобализации, его тесная связь с рядом дискурсов сознания, приобретших, во
взаимосвязи с экономическими и мировоззренческими трансформациями,
ключевое значение для превращения человеческой ойкумены в мир
национальных государств. В данном отношении мы также опирались на
выводы таких авторов как М. Вебер, А. Тойнби, Ф. Бродель, Э. Балибар, И.
Валлерстайн и некоторых других. Определённое значение для нашего
5
исследования имели обзоры зарубежных концепций нации и национализма
В.В.Коротеевой, К. Калхоуна и М. Мишевича, обзоры зарубежных
антропологических теорий и этнологических концепций В.А.Белик и
С.В.Лурье.
Среди отечественных авторов мы опирались в первую очередь на
исследование
семиосферы
национального
дискурса
М.Ю.Тимофеева,
обобщающее результаты работ зарубежных и российских специалистов по
вопросам специфики процессов формирования и развития национального
сознания. Определённое значение для нашего исследования имели обзор
советской этнографической мысли Э.Г.Александренкова, исследования по
социологии культуры Л.Г.Ионина и А.В.Матецкой.
Что
касается
вопросов
формирования
национального
сознания
конкретно адыгов, то существующие работы касаются преимущественно
современного периода. Мы, в частности, использовали выводы таких авторов
как Г. Дерлугьян, И.Л.Бабич, Ч. Брам, а также исследования более общего
характера, посвященные проблемам формирования идентичности народов
России, в работах Р. Брубэйкера, С.Ю.Ивановой, В.А.Шнирельмана,
А.Г.Здравомыслова,
А.И.Миллера,
И.В.Олейниковой,
С.В.Рыжовой,
В.А.Тишкова, А.А.Цуциева и др. Исключением является статья Ч. Кинга,
посвященная роли британцев в формировании черкесского национализма в
XIX веке.
В то же время, существует большой пласт посвященных адыгской
идентичности исследовательских работ, в которых она рассматривается
одновременно и как этническая, и как национальная. В нашей работе мы
опирались на
сведения
и
выводы,
Б.Г.Ашхотова,
Б.Х.Бгажнокова,
содержащиеся
З.Бесленея,
в
исследованиях
Р.Ж.Бетрозова,
А.Х.
и
З.Х.Бижевых, А.Х.Борова, К.Ф.Дзамихова, З.Я.Емтыль, В.Х.Кажарова,
З.П.Кардангушева,
Дж.Н.Кокова,
Т.Х.Кумыкова,
Б.К.Мальбахова,
З.М.Налоева, Н.А.Нефляшевой, А.Д.Панеш, М.В.Покровского, Ю.В.Чирга,
Л.Х.Шауцуковой и других авторов. Отдельного упоминания заслуживает
6
такое посвященное прошлому и настоящему адыгов издание как «Адыгская
(черкесская) энциклопедия». Важное значение для нашего исследования
имели также посвященные различным аспектам этнической и социальной
истории
адыгов
работы
В.А.Дмитриева,
Я.А.Гордина,
А.В.Сивера,
Л.Д.Федосеевой.
Однако в целом пока не существует комплексных исследований,
которые бы раскрывали перипетии взаимосвязи содержания культурноисторических процессов с этнической идентичностью адыгов, а также время
и обстоятельства проявлений в прошлом того, что можно было бы назвать
национальным сознанием этого народа. Более того, в настоящее время в
адыговедении скорее преобладает тенденция рассматривать адыгскую
культуру и адыгскую идентичность как нечто статично-древнее, не
подверженное динамике вплоть до критических процессов новейшего
времени.
Противоречивость
подобной
позиции
очевидна
в
самом
содержании многих адыговедческих работ, особенно в отношении вопросов
истории государственных институтов, социокультурной динамики и отличий
этнической идентичности от национальной.
Поэтому в своей работе мы стремились, с одной стороны, разграничить
концепты «нации» и «этноса», с другой – определить, что из себя
представляет адыгское национальное сознание и как оно связано с
этнической идентичностью, в прошлом и настоящем. Подобный подход
предопределил структуру работы и постановку проблем, до сих пор не
становившихся предметом целенаправленного изучения в адыговедении либо
затрагивавшихся косвенно или в частных аспектах.
Методологической основой и принципом нашего исследования
явился мультидисциплинарный подход. Использование современных методов
позволяет продуктивно осмыслить генезис общественного сознания адыгов, а
также представить новые модели его эволюции в ходе исторического
развития.
7
Как за рубежом, так и в России содержание понятий «нация» и «этнос»,
а также вопросы соотношения национального сознания и этничности
остаются
предметом
острых
дискуссий.
Такое
положение
дел
предопределило наше стремление определить смыслы концептов «нация»,
«этнос», «цивилизация» и «культура» на основании существующих в
мировой и отечественной науке подходов и культурно-исторического
материала. Важность данных концептов для адыговедения определяется их
актуальностью в России и мире, связью с активно развивающимися
событиями и процессами глобального значения. Это объясняется тем
историческим содержанием, которое стоит за указанными понятиями.
С опорой на принципы семиотического исследования, на основании
анализа
содержания
источников,
мы
попытались
дифференцировать
содержание имён «адыги» и «черкесы», выявив их взаимосвязь с этнической
идентичностью
и
национальным
историческому
подходу
нам
сознанием.
удалось
Благодаря
обозначить
культурно-
аксиологическую
значимость для социальных процессов таких концептов как хабзэ, хэку, напэ,
нэмыс, цIыхугъэ, адыгагъэ, жылэ и др. Эти понятия традиционно служили
маркерами коллективной и личной идентичности адыгов и продолжают
занимать важное место в общественном сознании в настоящее время.
Раскрывая взаимосвязь их семантической динамики с историческими
процессами, с характером социально-экономических трансформаций и
культурных изменений, мы смогли приблизиться к лучшему пониманию
основ самоидентификации адыгов, принципов и форм этого процесса в
прошлом и настоящем.
Теоретической базой нашего исследования стали труды представителей
школы культурно-исторического подхода в психологии (Л.С.Выготский,
А.Р.Лурия,
М.
Коул),
антропологические
исследования
факторов
обособления этнокультурных сообществ Ф. Барта, социологические и
культурологические концепции П. Бурдье (теория габитуса, топология
социального
пространства),
концепция
семиосферы
Ю.М.Лотмана,
8
концепция нациосферы М.Ю.Тимофеева, исследования адыгской этической
культуры
Б.Х.Бгажнокова,
концепция
«цивилизации
лектона»
Х.Г.Тхагапсоева, исследование Х. Карнера о соотношении роли и места
этничности в современной повседневности. На наше понимание исследуемой
проблематики оказали влияние те или иные аспекты концепции дискурса М.
Фуко,
дискурсивно-аналитического
подхода
Э.
Саида,
исследований
Т.М.Дридзе в области семасиологии, а также суждений о культуре К. ЛевиСтросса, Ю. Асояна и ряда других авторов.
Источниковая база исследования делится на:
- сборники архивных документов;
- записки и мемуары путешественников и участников тех или иных
исторических событий;
- публикации, отражающие динамику объекта исследования в
настоящее время.
В истории адыгов можно выделить эпоху относительной политической
самобытности, завершившейся с присоединением к Российской империи во
второй половине XVIII – XIX столетиях. При анализе данного периода мы
опираемся на известные источники, значительная часть которых была
опубликована либо переиздана в последние два десятилетия: свидетельства
путешественников, документальных архивов, российскую и европейскую
публицистику XIX века.
Основные исторические сведения предоставляют опубликованные
документы из российских дипломатических и административных архивов
(сборники
«Кабардино-русские
отношения»,
«Кавказ
и
Российская
империя…», «Кабарда: история и фамилии»), свидетельства состоявших на
российской службе военных и ученых, как непосредственно посещавших и
исследовавших регион в XVIII – XIX в.в., так и адыгов по происхождению
(К.И.Гильденштедт,
С.Н.Броневский, П.С.Паллас, Г.-Ю.Клапрот, С. Хан-
Гирей, Ш. Ногмов, А.-Г.Кешев, А.П.Ермолов, Ф.Ф.Торнау. Л.Я.Люлье,
Н.И.Дубровин, К.Ф.Сталь, Н.И.Карлгоф, К.А.Чхеидзе и др.). А также
9
сведения зарубежных путешественников и исследователей, как включенные
в состав ряда антологических сборников, так и опубликованные отдельно
(сборники «Античные источники о народах Северного Кавказ», «Адыги,
балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов XIII-XIX вв.»,
«Ислам и советское государство» и т.д., издания записок Э. Челеби,
Э.Спенсера, Дж. Бэлла, Г. де Монпере и других авторов).
В отношении диаспоры, помимо исследовательских работ А.А.Ганич,
А.В.Кушхабиева, М. Хафице, затрагивающих и современный период,
актуальная информация по вопросам идентичности представлена в работах
М. Ширдиевой, Б. Утижева, Ш. Хавжоко, Х.Х.Кауфова, в некоторых
публикациях СМИ, а также была нами почерпнута при личном общении с
представителями адыгской (черкесской) диаспоры из разных стран.
Отдельно можно отметить проведенный нами анализ известных
сборников
фольклорных
исследователями
материалов,
фольклора
и
личное
устные
общение
консультации
с
с
представителями
интеллигенции и вовлечённой в общественную активность молодёжи.
При анализе указанных групп источников целью являлось выявление
коннотативов понятий «нация», которые бы свидетельствовали о воззрениях
и представлениях носителей адыгской идентичности в тот или иной
исторический период.
Гипотеза
исследования:
понятие
о
национальном
сознании
подразумевает дискурс представлений о политическом суверенитете той или
иной человеческой общности, обладающей либо стремящейся обладать
собственной государственностью. Основанием для формирования и развития
национального сознания служат как ментальные абстракции, так и реальные
практики социальных отношений, в которых важную роль играет фактор
экономических ресурсов. Формы и способы организации и проявления
национального дискурса тесно связаны с культурой, как фактором сознания,
или,
другими
словами,
действительности [152].
как
фактора
восприятия
и
отношения
к
10
В определённом географическом ареале на территории Кавказа, в
условиях относительной политической и социокультурной автономии, на
определённом историческом этапе сформировались предпосылки для
проявления национального сознания у носителей адыгской идентичности.
Его развитие, трансформации и проявления связаны с переплетением или
контекстом комплекса обстоятельств исторических процессов нового и
новейшего времени. Фактором и средой проявления последствий данных
процессов выступает пространство культуры и идентичности.
По мере вхождения в контекст глобализации, адыгская идентичность
кристаллизовывалась как в первую очередь идентичность этнокультурная. В
то время как связанное с ней национальное сознание европеизировалось, в
той или иной мере превращаясь из повседневной практики отношений в
виртуальный дискурс воображаемого сообщества.
На сегодняшний день, на фоне общемирового кризиса социальности,
имеет место проблематизация традиционной адыгской идентичности,
наблюдается рост этнического национализма и других явлений, негативных
по своим последствиям для индивидуальной и общественной жизни. В то же
время, происходят процессы, связанные в том числе с цивилизационным и
национальным сознанием, которые, вовлекая в свое поле носителей адыгской
идентичности и её самое как ментальную реальность, ведут к развитию
новых форм государственности и общественного устройства. Критически
важным в таких условиях является наличие диалога – фактора переобретения
целостного сознания человечности в эпоху постпостмодернизма.
Объект исследования: генезис и трансформации национального
сознания адыгов в контексте культурно-исторических процессов.
Предмет
исследования:
социокультурная
детерминированность
формирования и проявления национального и этнического сознания адыгов в
прошлом и настоящем.
Цель исследования: изучение роли культуры в формировании
национального и этнического сознания адыгов в исторической динамике,
11
попытка создания модели эволюции общественного сознания адыгов,
отвечающей
состоянию
современного
гуманитарного
образования
и
культурологической науки.
Задачи исследования:
-
изучить
и
обобщить
данные
зарубежных
и
отечественных
исследований, раскрывающих понятия национального, культурного и
этнического в качестве категорий цивилизационных процессов;
- изучить процессы формирования национального и этнического
сознания адыгов в исторической динамике;
- представить соотношение проблем этнического и национального
сознания с гражданской идентичностью современных адыгов, их взаимосвязь
с факторами культуры;
- определить перспективы исследуемой проблематики в контексте
актуальных процессов.
Научная новизна определяется целью и задачами исследования и
заключается в следующем:
- обоснована роль культуры как медиатора процессов социальноэкономических и политических трансформаций в истории адыгов, выявлена
взаимосвязь адыгской идентичности со спецификой конкретно-исторических
условий социогенеза;
-
впервые
национализации
предложено
культурологическое
адыгской
этничности,
объяснение
выявлены
причин
различия
в
социокультурных основаниях этнокультурной общности и национальной
идентичности;
- впервые поставлен вопрос о соотношении традиционного и
посттрадиционного факторов в формировании этнического и национального
сознания адыгов с точки зрения культурологической перспективы;
-
обоснована
необходимость
формирования
новой
российской
идентичности на цивилизационных началах в интересах нейтрализации
12
негативных
тенденций
дезинтеграции
государства
и
последующей
гуманитарной катастрофы.
Теоретическая значимость работы определяется постановкой и
рассмотрением ряда проблемных положений:
-
о
культурной
обусловленности
адыгской
идентичности
и
темпоральном характере современной адыгской этничности;
- о детерминированности национального сознания адыгов культурноисторическими
процессами,
примате
традиционной
культурной
идентичности по отношению к национальному сознанию;
- о взаимосвязи формирования сознания адыгской общности со
специфическим социально-экономическим и социокультурным укладом в
прошлом и о виртуализации данного процесса в настоящем;
- о критическом переходном состоянии адыгской идентичности как
аспекте общероссийских и общемировых тенденций в гуманитарной сфере.
Практическая
значимость
исследования
заключается
в
подтверждении ряда теоретических положений и практических выводов в
области культурологии и других гуманитарных наук, успешной реализации
междисциплинарных методов исследования, а также в возможности
использования содержания диссертации как части учебных дисциплин и
специальных курсов в высших учебных заведениях. В частности, таких, как
«История и культура народов Северного Кавказа», «Традиционная культура
народов Северного Кавказа», «Социология культуры» и др.
Кроме того, материалы работы могут быть использованы для
выработки
практических
исследований,
по
общественно-политических
межнационального
наследия,
рекомендаций
диалога,
обеспечения
сохранения
гражданского
Федерации.
Положения, выносимые на защиту:
проведению
мероприятий
и
развития
единства
научных
в
сфере
этнокультурного
народов
Российской
13
- национальное сознание представляет собой ментальную реальность,
генерируемую полем культуры во взаимосвязи с актуальным социальным
укладом,
обусловленную
состоянием
информационной
среды
и
инфраструктурой общественных связей и основанную на представлении о
политическом суверенитете и исторической субъектности той или иной
общности;
-
современный
национальный
дискурс
формировался
в
русле
европейского цивилизационного развития и распространялся в ходе
глобализации,
в
контексте
кардинальных
социальных,
культурных,
экономических и политических трансформаций, вступая во взаимодействие с
другими цивилизационными традициями и культурами;
- понятие о «национальном сознании» имеет как партикулярное, так и
универсальное измерения, так как может относиться не только к
ментальности, подвергшейся воздействию европейского цивилизационного
дискурса,
но
и
употребляться
в
качестве
экспликативного
либо
компаративного научного определения;
- в самобытном прошлом адыгской общности, у определённых
социальных страт, можно обнаружить предпосылки формирования и
собственно
проявления
сознания
политического
суверенитета,
сопоставимого с национальным;
- современная адыгская идентичность носит этнокультурный характер
и основана на наследии самобытного социокультурного развития;
- усвоение представлений о «нации» в контексте европейской
цивилизационной традиции среди адыгов происходило постепенно, по мере
интеграции
элит,
а
затем
народной
массы
в
соответствующее
информационное пространство;
- сочетание этнического и национального сознания в адыгской среде
обусловлено воздействием ментальной реальности глобальной нациосферы и
особенностями национальной политики советского государства;
14
- активизация этнического национального дискурса в конце ХХ века в
адыгской
среде
обусловлена
спецификой
глобальных
процессов
в
социальном и информационно-культурном пространстве;
- национальная идентичность современных адыгов сочетает в себе
гражданское и этническое измерения, усиление влияния этнического
национализма
проявляющейся
происходит
также
в
в
меру
кризисе
социальной
неудовлетворённости,
традиционной
этнокультурной
идентичности;
- большую роль в связанных с адыгской идентичностью процессах
играет хабзэ – в прошлом тотальный универсум культуры, превратившийся к
настоящему времени в комплекс специфических черт менталитета и
ситуативных культурных практик;
- ключевое значение для будущего адыгской идентичности имеет
вопрос о векторе дальнейшего развития российской государственности;
-
тенденции
глобального
коллективные формы
сознания
общества
позволяют
современных
рассматривать
адыгов как
формы
и
инструменты приспособления к меняющемуся миру.
Апробация результатов исследования:
Основные положения диссертации, её концептуальность, методы
научных изысканий и выводы исследования обсуждались на заседаниях
кафедры культурологии СКГИИ.
Положения и результаты диссертационного исследования были
освещены
в
материалах
VI
Международной
научно-практической
конференции «Филология и культурология: современные проблемы и
перспективы развития» (г. Махачкала, 17.01.2014 г.), XXXII Международной
научно-практической конференции «В мире науки и искусства: вопросы
филологии, искусствоведения и культурологии» (г. Новосибирск, 20.02.2014
г.), X Международной научно-практической конференции «Традиционные
общества: неизвестное прошлое» (г. Челябинск, 21-22.04.2014 г.).
15
Структура исследования. Работа состоит из Введения, трех Глав,
Заключения и Списка использованных источников и литературы.
Глава 1. Национальное сознание адыгов как предмет
культурологического исследования
1.1. Нация как суверенная историческая общность: развитие
концептуальных представлений
Изначально слово natiо (лат.) означало происхождение, но уже в
период римских завоеваний оно ассоциировалось с культурой, как
состоянием верований, уклада жизни, нравов и обычаев населения той или
иной страны [88; 248]. Такого рода представления отчетливо проявляются в
описаниях народов как коллективных социально-политических и культурных
феноменов, обладающих набором специфических уникальных черт [3; 79].
Особость представителей той или иной общности воспринималась как
атрибут культурного или политического суверенитета. В таком значении
смыслосфера natio была воспринята средневековой христианской Европой
[79, с. 14; 255, с. 9]. Затем развитие представлений о нации в условиях
идеологических
экономических
(мировоззренческих),
трансформаций
привело
культурных
к
и
социально-
разработке
развёрнутых
теоретических концепций. Особую роль сыграло взаимодействие концепта
нации с представлениями о культуре и цивилизации.
По мнению исследователей, в новое и новейшее время европейские
общества объединяет контекст понимания цивилизации, культуры и
национальности как универсальных категорий с определённым содержанием
[132; 269]. Н. Элиас полагает, что субъективное представление о
цивилизации и культуре, выработанное придворными обществами и
интеллектуалами ведущих европейских держав XVII – XVIII вв., стало
национальным
сознанием
европейцев
(Запада)
[269].
Уникальную
взаимосвязь современного национального дискурса с контекстом и этапами
16
развития социальной и экономической истории Европы подчёркивают и
другие авторы: М. Вебер, Э. Хобсбаум, Б. Андерсен, Ф. Хэйес, Э. Кедури, Л.
Гринсфельд и др. [136; 170; 255; 289]. Такие разные исследователи как И.
Валлерстайн, Э. Геллнер, Э. Гидденс, А. Тойнби каждый по-своему отмечают
указанную
взаимосвязь
(мировоззренческих),
как
аспект
культурных
истории
и
идеологических
социально-экономических
трансформаций в странах Запада, привёдших к формированию современного
типа общества [98; 131; 214; 241].
Для нас важно выделить устойчивые семантические атрибуты, если не
сказать,
ядерные
элементы,
концептов
цивилизация,
культура
и
национальность. Последовательно их можно, квинтэссируя, выразить как
гражданственность, человечность и государственность [221; 233; 248].
Под гражданственностью при этом понимается взаимосвязь идентичности
со спецификой общественного уклада, состоянием социальной среды и
культуры, под человечностью – идеалистически мотивированное отношение
человека и общества к самому себе и окружающим, под государственностью
– наличие политического суверенитета у той или иной социокультурной
общности.
Национальное сознание, как сознание политической суверенности,
может распределяться между социальными группами в зависимости от их
символических и практических статусов, политических и экономических
позиций. Его распространение осуществляется посредством взаимодействия
интеллектуальных дискурсов с властными режимами и влиятельными
кругами, коррегируя с этнической либо социально-стратовой идентичностью.
Восприятие
формирующего
национальное
сознание
воздействия
предопределяется культурным состоянием (фондом), в свою очередь,
связанном с состоянием информационной среды и социокультурных
институтов.
В культурологическом отношении условно можно выделить две
модели развития национального сознания.
17
Первую являют собой исторические примеры обществ, в среде которых
в условиях социальных трансформаций и борьбы с внешними вызовами
проявилась
ментальность,
сопоставимая
с
национальным
сознанием
благодаря «лейтмотивам автономии, единства и идентичности» [236, с. 43].
Одной из характеристик относительности этой модели является проблема
недостатка исторических сведений, в том числе о возможных идеационных
влияниях «со стороны». Строго говоря, в данном случае рассуждения о
национальном сознании носят в большей степени экспликативный или
сравнительный
характер.
Иная
языковая
и
культурно-историческая
специфика предполагает и отличное от национального дискурса содержание
концептов сознания.
Вторую модель можно обнаружить при изучении специфического
контекста общественной истории Европы, где интеллектуальные и властные
элиты, различные социальные группы могли обращаться к интерпретации
интеллектуального
наследия
прошлого,
благодаря
преемственности
письменной культуры [81; 132; 253]. Разработанный на основании такой
интерпретации дискурс гражданской нации оказался в различной форме
востребован в условиях глубоких социально-экономических трансформаций.
Поле европейского дискурса стало основой для превращения всего мира в
мир наций, в условиях экспансии сформировавшейся в Европе (на Западе)
цивилизационной модели. «Универсальный национальный дискурс выполняет
функцию
системообразующего
основания,
создающего
возможность
структурных связей» между локальными «дискурсивными формациями»
[236, с. 42].
Формирование национального сознания как массовой идентичности в
рамках двух указанных выше условных моделей обладает фундаментом
общих закономерностей, но различается по конкретному содержанию
процессов социального и культурного развития. Чтобы лучше понять это,
следует обратиться к содержанию концепта традиционного общества и
специфике его трансформации в контексте исторических процессов. В
18
современной науке под традиционным обществом в целом принято
понимать общество, которое регулируется традицией. То есть множеством
представлений, обрядов, привычек и навыков практической и общественной
деятельности, передаваемых из поколения в поколение и выступающих
регулятором общественных отношений. Основа традиционного общества –
традиционная экономика, в которой традиции и обычаи определяют
практику использования ограниченных ресурсов [198, с. 100]. Для
традиционного общества характерны довольно жесткие формы социальной
стратификации, которые мы склонны рассматривать в контексте практик и
символических форм социального патронажа (как распределения социальной
ответственности). В процессе социальной эволюции, управляющие и/или
вовлечённые в специфические формы экономического и информационного
обмена социальные страты более мобильны в отношении смены парадигм.
Именно
они
выступают
в
качестве
проводников
модернизации,
превращающей традиционные общества в посттрадиционное.
Необходимо подчеркнуть, что традиционность того или иного
общества и специфика его устройства определяется историческими
условиями его формирования и существования, но закрепляется в
культурном менталитете (укладе). Обобщая выводы ряда концептуальных
исследований, П. Хаттон отмечал, что в основе традиционных форм
социальной идентичности лежит коллективная стратегия выживания, как
первопричина социогенеза [253, с.с. 55, 131]. Она также выступает как
основа культурогенеза, по крайней мере, - генезиса этики социального бытия
(человечности). Это объясняется тем, что под стратегией выживания следует
понимать не только стремление к физическому существованию, но и
комплексное отношение к материальной основе жизнедеятельности и
аспектам
человеческих
взаимоотношений,
самореализации
и
психологической целостности (целостности сознания). Э. Гидденс в этой
связи
использует
словосочетание
«онтологическая
безопасность»,
19
характеризуя доминантную установку традиции как фактора существования
общества [214, с. 253].
Генезис
национальным
того,
что
современный
сознанием,
происходит
исследователь
в
контексте
может
назвать
цивилизационного
(совокупности социального, экономического, политического, культурного)
развития, в ходе которого традиционное общество оказывается во
взаимодействии с той или иной формой государственности. Это может
происходить в условиях автономного развития, либо в условиях вхождения в
состав
иных
образований.
При
этом
решающим
фактором
для
распространения идей о суверенитете является поддержка со стороны тех
социальных слоёв либо сил, которые занимают или претендуют на позиции
власти/управления по отношению к основным ресурсам жизнедеятельности.
Формирование
сознания
массовой
национальной
гражданской
общности происходит в условиях функционального кризиса прежних
моделей социально-экономической и политической организации. По сути это
перераспределение социальных статусов и ролей во взаимосвязи с
перераспределением ресурсов. Необходимым условием подобных процессов
выступает
существование
относительно
единого
информационного
пространства. Его наличие обеспечивается социальными институтами и
культурными механизмами, которые способствуют распространению общих
планов сознания, идей и воззрений (стереотипов).
Важным аспектом формирования национального сознания выступает
интеллектуальная деятельность носителей «культурного капитала», «агентов
сознания» [124; 141]. Семиозис национального дискурса, то есть процесс. в
котором
национальное
сознание
обретает
своё
значение,
образует
идеационное пространство. Это пространство, в свою очередь, задаёт
импульс и содержание процессам формирования национального сознания,
взаимодействуя со сложившимися в данном обществе социокультурными
реалиями и происходящими в нём процессами [170; 236].
20
Постепенная трансформация социально-экономического устройства
Запада из феодально-сословного в национальное и капиталистическое,
упадок влияния религиозных институтов и кризис уклада, который Д. Тёрнер
и следом за ним Ф. Бродель назвали «крестьянской экономикой», вели в
условиях развития новой - национальной - формы государственности, к
становлению новой социальности [122; 131]. Последнюю ряд исследователей
характеризует как посттрадиционную [198, с. 15].
Существенной
характеристикой
новой
социальности
стала
произвольность социально-экономического положения, его зависимость не
от
собственного
государственного
хозяйства
строя
или
и
сословной
рыночных
принадлежности,
отношений.
Эти
а
от
явления
сопровождались кризисом и делигитимацией традиционных представлений и
связей,
поэтому,
с
точки
зрения
прежних
и
новых
ценностей,
интерпретировались противоположно: либо как деградация, либо как
прогресс [124, с. 114; 253, с. 49].
Перерождению стереотипов сознания, памяти и идентичности масс
способствовало
совокупное
воздействие
социально-экономических
процессов, политических мер и манипулятивных технологий в ходе развития
капиталистических отношений и национальных государств. Благодаря
образованию дискурсы интеллектуалов, властных элит, - а в некоторых
случаях
и
маргинальных
групп,
-
приобрели
характер
массовых
представлений [170; 286; 291].
В итоге, примерно ко второй четверти ХХ века сознание политической
общности и суверенитета как основы гражданской (государственной)
идентичности в Европе и США потеряло формальную связь с социальной
стратификацией. По меткому высказыванию Э. Геллнера, «нация сама стала
классом» [114, с. 252]. Подобная характеристика развития национального
дискурса в европейской цивилизационной традиции верна и в отношении тех
случаев, когда государственная (гражданская) и национальная идентичность
могут не совпадать, как это имело место в истории Советского Союза.
21
Представления об объемлющей все виды социальных различий
общности в рамках государственной либо этнической принадлежности,
благодаря экспансии европейской цивилизации, в течение XIX-ХХ столетий
распространились
по
всему
миру.
Существовавшие
ранее
формы
коллективной идентичности отступили на второй план либо были утрачены
вместе с прежними реалиями политического, экономического и культурного
уклада.
Помимо
представлений
о
политическом
(государственном)
суверенитете внедрялось новое цивилизационно-культурное сознание. Его
фундаментом стала социокультурная реальность, связанная с новыми
формами политических и социально-экономических отношений.
Частью мирового информационного пространства стала ментальная
реальность, которую отечественный исследователь М.Ю.Тимофеев называет
нациосферой.
Это
пространство
национального
метадискурса,
превращающего современный мир в «мир наций», пространство практик,
представлений и репрезентаций, без которых нация не может существовать
как феномен человеческого сознания и в контексте которых нации
формируются [236, с. 5-6]. Сам М.Ю.Тимофеев употребляет в отношении
процессов образования и существования наций термин «конструирование»,
так как обоснованно полагает, что нации представляют собой систему или
сферу
человеческих
взаимоотношений,
а
не
субстанциональные
внепсихические объекты.
Учёному удалось
обосновать функциональность
семиотического
подхода для исследования нациосферы. Семиотический подход позволяет
исследовать знаки и репрезентации, их взаимоотношения. В сочетании с
анализом
фиксируемых
проявлений
сознания
и
внесемиотических
контекстов это даёт возможность судить о состоянии, тенденциях и
перспективах развития нациосферы.
Сегодня нациосфера выступает сегментом ментального пространства
повседневной социализации индивидов, при этом на государственном уровне
превалирует концепт гражданской нации. Но в то же время специфика
22
современной нациосферы такова, что этническая идентичность также
воспринимается как национальная.
Не слишком очевидный для массового
восприятия вопрос о
взаимоотношении этнической и национальной идентичности остается
предметом дискуссий [308]. Но в любом случае национальная идентичность,
также как идентичность цивилизационная или культурная, может быть межили
надэтнической.
лингвокультурным
При
этом,
компонентом
хотя
любой
этнические
формы
корни
являются
идентичности,
сама
этническая идентичность может стать следствием существования (развития)
цивилизационных форм или национальных институтов и когерентного
(релевантного) им сознания.
Примером подобной взаимосвязи может быть и история адыгской
идентичности.
1.2. К вопросу о времени и географическом ареале формирования
адыгской идентичности
Первое известное упоминание о самоназвании «адыгэ» фиксируется в
сочинении Джорджио Интериано «Быт и страна Зихов, именуемых
черкесами», изданном в Венеции в 1502 году [1, с. 46]. Автор, по
собственному утверждению, сам побывавший в «стране зихов», однозначно
отождествляет с адыгами «черкесов» из турецких и арабских источников и
«зихов» из сведений европейских авторов. «Они живут [на пространстве] от
реки Таны до Азии по всему тому морскому побережью, которое лежит по
направлению к Босфору Киммерийскому, ныне называемому Восперо,
проливом Святого Иоанна и проливом Забакского моря, иначе - моря Таны, в
древности [называвшегося] Меотийским болотом, и далее за проливом по
берегу моря вплоть до мыса Бусси и реки Фазиса и здесь граничит с
Абхазией, то есть частью Колхиды. А всё их побережье, включая сюда
вышеназванное болото и [пространство] вне его - составляет около пятисот
23
миль. Через всю же их землю на восток можно проехать самое большее за
восемь дней» [1, с. 47].
Однако это единственное обнаруженное нами упоминание имени
«адыгэ» в письменных источниках вплоть до XVIII столетия, когда оно
появляется в работах российских и зарубежных авторов.
У кавказских народов имя «адыгэ», если и известно в лингвистических
и фольклорных материалах, то скорее лишь у абхазов, абазин и убыхов,
причем в фонетически неоднозначной форме (ср. атыхэ, адзыгъэ) [168, с.
89].
Известный
исследователь
адыгских
музыкальных
традиций
и
песенного фольклорного творчества профессор Б.Г.Ашхотов сообщил нам,
что первые эпизодические упоминания имени «адыгэ» появляются в
собственно адыгском фольклоре в содержании песен о сражениях с
«внешними врагами»: из Крыма, Дагестана и т.д. Согласно условной
хронологии сюжетов, этот период относится лишь к XVI-XVII вв. Но
значительный количественный рост упоминаний обнаруживается с конца
XVIII века, преимущественно в песенном фольклоре военной тематики и
песнях типа женских «плачей» - гъыбзэ.
В итоге нам не удалось выявить какие-либо фольклорные сюжеты,
посвящённые генезису имени «адыгэ». Начиная с «Истории адыхейского
народа» Шоры Ногмова известны лишь авторские гипотезы адыговедов [39,
с. 59-62; 168, с. 487-488].
Богатый фонд устных преданий, пословиц и поговорок, записанных со
второй половины XIX века, содержит большое количество упоминаний
имени «адыгэ», в его специфическом этнокультурном и этноисторическом
контексте.
Вместе
с
тем,
как
упоминалось
выше,
не
существует
исследований, которые были бы посвящены выявлению хронологических
границ семиотического присутствия имени «адыгэ» в фольклоре. Что же
касается преданий, присутствующих в фольклороведческих материалах и
исторических источниках, то вопрос о генезисе имени «адыгэ» в них также
24
не раскрывается. Самобытное прошлое культуры адыгов было связано с
идентификацией в контексте патронимических статусов и социальной
стратификации. Поэтому актуальными были мифы о происхождении
правящей знати, которые и фиксировались источниками [1; 232].
В этих свидетельствах, ориентированных на «внешнюю аудиторию»,
фигурировало в первую очередь имя «черкесов», но не «адыгов».
Вплоть до XIX века путешественники фиксировали у общавшихся с
ними представителей черкесской знати предания о происхождении от
«франков», сохранившиеся, видимо, со времён контактов с генуэзскими
колониями [1; 9]. Но уже в XVII веке становится известным и нарратив о
происхождении черкесской аристократии из Аравии, что указывает на
устанавливавшуюся ориентацию на мусульманский мир [1; 55]. Для
сравнения здесь уместно вспомнить сведения античных авторов Страбона и
Геродота о том, что знать горных народов Кавказа сообщала эллинам о своём
происхождении от фракийцев или египтян [3]. Вне зависимости от
исторических оснований для подобных преданий, очевидно, что они имели и
геополитическое значение.
Сам нарратив адыгского княжеского сословия репрезентирует его как
фамильную группу, происходящую от легендарного первопредка: Инала
Светлого (Инал Нэху или Нэф). Фигура Инала символизирует точку отсчёта
могущества адыгских-черкесских князей, отражённого в их семиотическом
статусе. История адыгов (черкесов) в нарративе адыгской знати XVIII-XIX
веков предстаёт историей рода Инала, его деяний и прав его потомков [36;
103; 232].
Здесь важно учитывать, что бесписьменную культуру местных обществ
в целом можно охарактеризовать как «мир устной памяти». Ю.М.Лотман
характеризует его следующим образом: «Письменность здесь не является
необходимой. Её роль будут выполнять мнемонические символы {…}
включенные в синкретический текст ритуала или мнемонически связанные с
устными текстами, приуроченными к данному месту и времени» [186, с. 104-
25
107]. Для такой культуры характерно цикличное, а не линейное восприятие
времени, коллективная память зиждется на мифах, являющихся актуальным
потенциалом
для
настоящего,
но
не
записью
прошлого.
Поэтому
коллективная память хранит лишь то, что является востребованным в
контексте настоящего и отбор «воспоминаний» осуществляется в актуальном
социальном контексте, определяемом референтными социальными группами
[253, с. 31].
Приверженность бесписьменных черкесских обществ к мифам, а не к
историческим
сведениям
(в
европейском
понимании),
привела
путешествовавшего среди них британца Дж. Бэлла в 1840-х годах к мысли о
том, что их познания о собственном прошлом «смутны и баснословны» [9, т.
1, с. 371]. Но, как заметил П. Хаттон, «ландшафт памяти» «зависит от
способов понимания мира и сам является способом конструирования
картины мира» [253, с. 133].
Всё это в известной мере объясняет, почему история семиосферы
имени «адыгэ» не прослеживается ранее периода установления в данном
хабитате власти рода Иналидов. Ядерным элементом данной семиосферы в
её известном нам прошлом являлась владетельная знать. Она была
сосредоточена лишь на тех взаимоотношениях, которые были для неё
актуальны. Так же можно охарактеризовать и парадигму сознания общества в
целом.
В этой связи следует заключить, что хронологические рамки
формирования адыгской идентичности на сегодняшний день не могут быть
объективно установлены.
Однако мы можем определить примерные
хронологические и
географические рамки для исследуемого нами вопроса национального
сознания
адыгов,
как
сознания
политического
суверенитета
своей
территориальной общности. Согласно мнению современных исследователей,
в конце XIV – начале XV вв. власть Инала и его рода охватывала регион
26
Северо-Западного Кавказа и примерно в то же время или несколько позднее
распространилась на Кавказ Центральный [31; 78; 103].
Территориальные границы данного ареала власти Иналидов проходили
по линиям соприкосновения с владениями аристократических патронимий
кумыкской, ногайской, крымско-татарской и другой знати, а также с землями
горских обществ, пролегая в последнем случае между горными районами и
более равнинной и открытой местностью предгорий. Экономический уклад
этого
ареала
определялся
геосоциальным:
преобладало
отгонное
скотоводство, земледелие носило вспомогательный характер, население было
распределено по образовывавшимся вокруг владетельных уорков-дворян
мобильным селениям-куаже.
Владетельные
уорки
со
своими
дружинами
составляли
многочисленную конную воинскую силу сюзеренов из рода Иналидов.
Крестьяне
находились
привилегированных
в
коллективной
сословий.
и
Внутренний
личной
рынок
зависимости
был
не
от
развит,
перераспределение осуществлялось в основном посредством обмена, дарений
и
присвоений,
в
регламентировалось
том
числе
неписаной
силовых,
этикой
но
практически
статусного
всегда
поведения.
Существовавшие ремёсла были ориентированы на общий неприхотливый
бытовой обиход и нужды знати, заключавшиеся в вооружении и конской
амуниции.
Научные данные позволяют говорить о том, что формирование слоя
военной аристократии среди населения предгорий Северо-Западного Кавказа
имело место быть уже в I тысячелетии до н.э. Свидетельства источников и
археологических
исследований
демонстрируют
выделение
привилегированного воинского стратума из среды местных обществ в районе
предгорий и дельте Кубани, ставшем позже западной частью фигурации
Иналидов. Здесь, в зоне активных контактов с культурами Средиземноморья
и степи, сформировался слой воинов-аристократов, с особыми культурными
27
признаками и республиканским политическим устройством, унаследованным
черкесской аристократией XV-XVIII вв. [3; 139; 164; 165].
Однако адыгская идентичность аристократических обществ на СевероЗападном и Центральном Кавказе зафиксирована в источниках лишь по
отношению к периоду и ареалу господства Иналидов. В этой связи интерес
вызывает версия советского этнографа Л.И.Лаврова, полагавшего, что
доминирование адыгской аристократии в рассматриваемом регионе сменило
господство абазинской знати. Она коррелирует фольклорным данным о
брачных и родственных связях Инала с аристократией Абаза, об абазинском
происхождении рода Тамбиевых, передавших власть над Кабардой Иналу, и
т.д. [63; 141; 168].
С другой стороны, содержание термина «абаза» не должно по
отношению к прошлому региона восприниматься только как этническое.
Напротив,
в
нём
мог
преобладать
социополитический
смысл:
так
обозначались те, кто не признавал власть Иналидов [50, с. 170]. Аберрация
коллективной памяти по аналогии могла распространить имя «абаза» на всю
знать предшествующего правлению Инала исторического периода.
Более пристальное внимание к присутствующей в источниках
дихотомии «адыгэ» – «абаза» позволяет проследить динамику взаимосвязи
адыгской
идентичности
с
проявлениями
того,
что
современный
исследователь может назвать национальным сознанием.
Фредерик Дюбуа де Монперэ, побывавший на Северо-Западном
Кавказе в 1832 и издавший в 1839 году «Историю черкесской нации»,
относит к «черкесским племенам» и адыгов, и абаза, деля черкесов на
собственно черкесов-адыгов и кабардинцев с одной стороны, абаза и абхазов
– с другой [37, с. 36]. При этом де Монперэ пишет, что абаза
«сосредоточивались
на
высотах
горной
цепи;
черкесы
всегда
довольствовались меловыми отрогами, и никогда, по-видимому, ни одно из
их племен не занимало горных долин» [37, с. 11]. Несколько ранее
аналогичные сведения приводили такие авторы как П.С.Паллас, Г.-
28
Ю.Клапрот, Т. де Мариньи [1, c.c. 215, 236, 292]. С указаниями на то, что
черкесы (адыги) населяли предгорья, а абаза – горные долины – совпадает
деление в других источниках «черкесов» соответственно на равнинных и
горных [1; 12; 55]. Но границы территориальной стратификации носили не
столько этнический характер, сколько социально-политический.
Российский разведчик барон Ф.Ф.Торнау в середине XIX века сообщал,
что «Кабардинцы и другие адыгские племена, сохранившие феодальное
управление, называют Абадзехов, Шапсугов и Натухажцев общим именем
Абадзе-чиль, что значит: Абазинские народы… Абадзехи же, Шапсуги и
Натухажцы называют все племена, сохранившие феодальное управление,
включая в то число и Кабардинцев, Адыге-чиль, т. е. адыгские народы...» [50,
с. 170, 171, 173]. Академик К.И.Гюльденштедт, побывавший на Кавказе в
последней трети XVIII века, ввёл прижившееся в кавказоведении понятие об
«аристократических»
и
«демократических»
племенах
у
черкесов,
совпадающее с указанным делением [140, с. 32]. О том, что общности
«абаза» отличаются от общностей «адыгэ» отсутствием князей, писали как
османский путешественник XVII столетия Э. Челеби, так и исследовавшие
общественное устройство местных народов авторы конца XVIII – первой
половины XIX столетий [1, с. 161-240; 26, с. 538; 55, с. 67].
Этническое и языковое размежевание, в отличие от социальнополитического, было гораздо менее однозначным. Исследователи XVIII –
XIX вв. полагали, что абадзехи, шапсуги, натухайцы изначально этнически
являлись
либо
абаза,
постепенно
усваивавшими
адыгский
язык
и
смешивавшимися с адыгами, либо адыгами, смешавшимися с абаза и
утратившими чистоту своего наречия [1, с. 239, 241, 356].
Джеймс Бэлл, путешествовавший
среди неподвластных
России
обществ Северо-Западного Кавказа в конце первой половины XIX века, всех
их рассматривает как жителей Черкесии, но указывает, что вдоль приморской
полосы есть три языковые зоны, сменяющие друг друга [9, т. 1, с. 402].
Можем сравнить это со следующим утверждением из российского источника
29
середины XIX столетия: «На всем пространстве от Малой Кабарды до
Черного моря господствует язык черкесский (адыге). Он разделяется на три
наречия, удобопонятный один для другого: 1) кабардинское, 2) бесленеевское
и 3) общее адыгское. У убыхов в простонародьи есть еще свой язык, но он
день ото дня исчезает. Абазинцы и ногайцы закубанские, кроме своего языка,
говорят все черкесским языком» [46, с. 115]. Дж.Н.Коков в своих
исследованиях адыгской антропо- и топонимии на Северо-Западном Кавказе
приводит сведения российских источников XIX века о том, что натухайцы,
шапсуги, убыхи и абадзехи «имя адехе приняли не ранее XVI столетия, когда
были уже на восточных берегах Азовского и Черного морей» [168, с. 487].
С. Джанашиа в 1929 году описывает язык шапсугов как адыгский, в
диалектальной
форме,
но
произношение,
особенно
у
неграмотных
представителей старшего поколения, по впечатлению исследователя, было
очень похоже на абхазское. Молодые причерноморские шапсуги, по мнению
С.
Джанашиа,
говорили
по-адыгски
с
более
чистым
адыгским
произношением благодаря школьному обучению на темиргоевском диалекте
[14, с. 51].
Побывавший среди черкесов Северо-Западного Кавказа в конце первой
половины XIX столетия британец Дж. Бэлл полагал, что многие из этих
племен «лишь недавно» восприняли «общенациональное имя адыге» [9, т. 2,
с. 43].
Современный
исследователь
А.В.Сивер
считает,
что
адыгская
этническая идентичность распространялась среди шапсугов в течение XVIIIXIX вв. в ходе постепенного усвоения представлений о взаимосвязи языка,
происхождения и самоназвания с идентичностью [231]. В данном контексте
можно отметить, что слово чиль или жылэ в зафиксированной Ф.Ф.Торнау
дихотомии «адыгэ чиль – абадзе чиль», означает «общество», в отличие от
слова лъэпкъ, означающего родство. А.В.Сивер приводит в своей работе
сведения о трансформации среди шапсугов восприятия слова лъэпкъ и
семантически близких ему лъакъуэ и лъапсэ в течение XIX – начала ХХ вв.
30
от этимологии «семья, род» к включению в поле значений общности типа
«клан, община, союз» и затем снова «род», но уже с контекстом «народ»
[231, с. 7]. В целом он рассматривает эти процессы как смену акцентов в
восприятии понятий «абаза» и «адыгэ» с социально-политического на
этнический.
Социальные и политические трансформации, происходившие на
Северо-Западном Кавказе в конце XVIII – первой половине XIX столетий,
вели к изменению восприятия идентичностей в контексте дихотомии «адыгэ»
- «абаза» и семиосферы имени «черкесов».
Ф.Ф.Торнау указывал, что «Натухажцы и Шапсуги {...} вообще
называют себя Агучипс. Наименование это особого значения не имеет, но
служит им вроде отзыва при встречах» [50, с. 170]. Современный российский
исследователь, В.А.Дмитриев, опираясь на устные и письменные источники,
характеризует принцип устройства существовавшего в XVIII-XIX вв. союза
Агучипс как политический, а не этнический. Он обращает внимание на
сведения об объединении в союзы соприсяжных братств как адыгских, так
и абазских кланов, общин и фамилий [144, c. 273]. Аналогичные сведения
можно встретить и у Л.А.Люлье, собиравшего материалы в середине XIX
столетия [34, c. 16].
Материалы С. Джанашиа показывают, что во второй четверти ХХ века
среди
старшего
поколения
причерноморских
шапсугов
сохранялись
представления о своей не адыгской, но абазской и черкесской идентичности.
С. Джанашиа приводит примеры высказываний информаторов: «бжедуги,
темиргоевцы – другие; они адыгейцы, настоящие адыги. Шапсуги, абадзехи,
убыхи – один народ. Сейчас в количественном отношении бжедугов больше
всех, вот поэтому и назвали нашу область Адыгея, но если бы нас было
больше, тогда назвали бы Шапсугией». «Для шапсугов и абадзехов кто
ближе: бжедуги или абхазы?» «Абхазы», – отвечают. Я задаю вопрос:
«Шапсуги сами себя называли адыгами?» «Шапсуги – не адыги, – отвечает
один и другие с ним соглашаются, – адыги – только бжедуги. Шапсуги – это
31
шапсуги и черкесы». [14, с. 56, 90; см. тж. 32, с. 67, 69]. Аналогичное
разделение адыгов и шапсугов зафиксировано С. Джанашиа и от
информатора-бжедуга [14, с. 37].
Дж.Н.Коков
полагает,
что
наименование
кIахэ,
употребляемое
кабардинцами по отношению к современным адыгейцам, исторически
относилось к «низовым» адыгским общностям, «равнинным черкесам», но
не к горным абаза [168, с. 497]. Смешение тех и других привело к
субъективному противопоставлению кабардинцев и черкесов, которое С.
Джанашиа фиксировал в ходе полевых экспедиций в 1928 году [14, с. 87].
Нам не удалось обнаружить отдельных научных исследований и
публикаций по вопросу стереотипов в отношении друг друга у тех, кого,
согласно официальному экспертному заключению Института этнологии и
антропологии Российской академии наук от 25 мая 2010 года, «можно
считать субэтносами единого адыгского (черкесского) народа» [84]. Однако
на бытовом уровне субъективное деление на «адыгэ» и «абазэ» внутри
носителей адыгской идентичности, по известным нам проявлениям,
сохраняется до сих пор. По крайней мере у тех, кто относит себя к
«настоящим «адыгэ».
Более того, на сегодняшний день, несмотря на то, что эксперты РАН,
зарубежные ученые, а также активисты адыгского самосознания используют
имя «черкесов» по отношению ко всем носителям адыгской идентичности,
среди их наиболее многочисленных в России представителей – кабардинцев черкесская
самоидентификация
по-прежнему
мало
распространена.
Постепенно представление о тождественности имен «адыги» и «черкесы»
внедряется в массовое сознание тех, кто именует себя «адыгами Кабарды»,
посредством информационной среды, но этот процесс пока еще далек от
завершения. В то время как адыгское население Карачаево-Черкесии,
Адыгеи, Краснодарского края, а также диаспора уже усвоили черкесскую
самоидентификацию.
32
Таким образом, очевидно, что имя «черкесов», которое Дж. Интериано
наравне с «зихами» отнес к адыгам, все же не является изначально
тождественным адыгской идентичности, по крайней мере, в сознании самих
ее носителей. Часть последних – а именно потомки так называемых
«демократических черкесских социумов» или абаза жылэ – усвоили имя
«адыгэ» уже в обозримом историческом прошлом, в отличие от тех, кто
изначально относится к так называемым «аристократическим черкесским
социумам», или адыгэ жылэ. В отношении последних история адыгской
идентичности
не
прослеживается
дальше
периода
появления
на
геополитической арене князей из рода Иналидов, однако это предопределено
состоянием источников и не может свидетельствовать об истории появления
и распространения самого имени «адыгэ».
В то же время, можно констатировать, что семиосфера или
номенклатура имени «черкесов» на Северном Кавказе в пределах доступного
для изучения на основании имеющихся источников прошлого связана с
княжеской династией Иналидов, наличие власти которой и предопределяло
использование терминов адыгэ жылэ и «черкесы» по отношению к тому или
иному социуму.
Помимо
национальным,
вопроса
контекст
о
проявлениях
распространения
сознания,
сопоставимого
адыгской
и
с
черкесской
идентичности с точки зрения семиотического анализа привлекает внимание к
одному факту лингвокультурного и психологического значения. Оба имени –
и «адыгэ», и «черкес» – непонятны для тех, кто себя с ними идентифицирует.
И если «черкес» является экзонимом, то имя «адыгэ» – это эндоним,
самоназвание народа. В эпосе можно встретить сюжеты о происхождении
адыгов от легендарного народа богатырей – нартов, чье имя также никак не
расшифровывается с современного языка.
Данный факт важен для нашего исследования в связи с тем, что
национальный, то есть связанный с политическим суверенитетом, аспект
адыгской истории рассматривается сначала в европейских публикациях XIX
33
столетия, а затем и в работах современных националистов лишь в связи с
именем Черкесии. Адыгская идентичность трактуется как национальная
именно во взаимосвязи с идентичностью черкесской, в то время как само по
себе
имя
«адыгэ»
принадлежности.
Его
является
символом,
семиотическая
знаком
специфика
этнокультурной
проявляется
при
сопоставлении с самоназваниями типа «люди» (чечено-ингушское «вайнах»,
балкаро-карачаевское «таулу», аварское «маарло»), «тутошние» (русины в
Прикарпатье, конец XIX столетия), «муслиме» (азербайджанцы, перепись
начала ХХ века).
Если проводить аналогии с такими национальными именами как
«француз», «британец», «русский», то очевидно, что по такому принципу - в
первую очередь государственной принадлежности – «образовано» имя
«черкес», «унаследованное» от правившей в прошлом аристократии. Имя
«адыгэ» же является этническим (культурным) знаком самоидентификации и
его ассоциация с национальностью закономерно способствует этническому
национализму. Причем в данном случае мы имеем в виду идею этнической
государственности
(политического
суверенитета),
а
не
этнической
исключительности.
Интересно в данной связи отметить, что некоторые исследователи
полагают возможным расшифровать имя «зихов», упомянутое Интериано как
«прозвище» адыгов, через адыгское цIыхухэ – то есть «люди» [168; 181].
Воззрение на «зихов» античных и раннесредневековых источников как на
предков современных адыгов широко распространено в отечественной науке
[78; 181, с. 495]. А француз Фредерик Дюбуа де Монперэ, побывавший на
Северо-Западном Кавказе в 1839 году, полагал, что в прежние времена адыги
(которых он именует «черкесами») и абаза были известны под общим именем
«зихов» из античных и европейских или «джиков» из грузинских источников
[37,
с.
17].
Такая
точка
зрения
признавалась
и
позднейшими
исследователями. Особенно с учетом того, что иногда «черкесами», при
перечислении обществ, признававших на определенном этапе над собой
34
суверенитет адыгских князей, в источниках именуется тюркоязычное
население горных ущелий северных склонов Большого Кавказского хребта современные балкарцы [1, c. 160]. В то время как родственные им
карачаевцы в источниках идентифицируются как «кара-черкесы», а ранее
«кара-джики» [1, c.с. 60, 118, 245].
В контексте такого подхода в некоторых публикациях отдельно
выделяется общность «джихетов» - «джиков», как этнических абазин или
абхазов, и предполагается, что, как в этногенезе зихов участвовали абазоабхазоязычные элементы, так и в этногенезе джихетов участвовали элементы
адыгоязычные [73]. Однако другие авторы, вслед за исследователями XIX
века (де Монперэ, Г.- Ю. Клапрот), отказываются разделять зихов и джиковджихетов. З.А.Кожев и Н.А.Прасолов, например, считают общность зихов
предками горных абаза. Предками равнинных черкесов они считают касогов,
полагая при этом имя «абаза» общим для абазинских и адыгских этнических
элементов и сопоставляя имя «касогов» с кашками (касками) I тысячелетия
до н.э. [78; см. тж. 1, с. 258].
Иналиды появились на политической арене Кавказа после ослабления
Золотой Орды. В этом государстве было известно имя «черкесов», которое,
по мнению некоторых исследователей, в русских источниках стало
преемственно использовавшемуся в доордынские времена имени «касогов».
Интересно, что грузинские хроники именуют адыгских князей кашак мепе –
«цари кашаков», а сваны и мингрелы именовали кабардинцев касагами [1, с.
57, 178]. «Касавами» или «кашагами» именовали кабардинскую знать и
осетины [4, с. 588]. Некоторые исследователи видят в имени «касогов» связь
с именем «кашков», локализуемых на Кавказе еще по материалам
расшифровок хеттских памятников [78]. О. Сулейменов, в свою очередь,
полагает термин «косок» производным от тюркского «объединённые роды»
(дословно «объединённые стрелы»), указывая на то, что от касогов
произошли ковуи Киевской Руси и позднейшие казаки. На связь
семиотического ряда «казак» - «касах» - «кусэг» в контексте «конный воин»
35
в Золотой Орде обратил внимание советский этнограф С.И. Лавров [181, с.
42]. В Младшем казахском жузе, согласно
указанию В.В.Радлова,
существовало субэтническое подразделение Шеркес. В русских источниках
XV – XVI вв. «черкасами» именовались запорожские (малороссийские)
казаки, наличие этнического адыгского элемента в среде которых стало
предметом целого ряда исследований [193].
А сочетание версии этимологии имени «касогов» О. Сулейменова с
основанными
на
В.А.Дмитриева
анализе
о
исторических
многовековой
свидетельств
выводами
территориально-политической
преемственности общественных союзов и идентичностей в регионе СевероЗападного Кавказа позволяет нам сопоставить дихотомию «зихи» – «касоги»
с дихотомией адыгэ жылэ – абаза жылэ и объяснить цифровую символику
трёх скрещенных стрел и двенадцати расположенных над ними звёзд на
флаге черкесского союза, принятом в 1836 году [143, с. 229-230, 250].
Всё вышеизложенное приводит нас к выводу о том, что адыгская
идентичность может рассматриваться как социокультурное явление с
исторической динамикой своего содержания. Совпадение уникальных
самоназвания и языка с границами политической власти аристократической
династии
Иналидов
способствовало
формированию
на
территории
Кавказского региона современной этнокультурной общности адыгов.
Специфика
социального
развития
местных
обществ
в
контексте
геополитических обстоятельств способствовала проявлениям того, что
современный исследователь может назвать национальным сознанием.
1.3. Модели развития национального сознания адыгов в контексте
культурно-исторических процессов в XVIII – XIX вв.
Специфическое единство и геосоциальная обособленность власти
Иналидов маркировались происхождением от одного предка и статусом
патронимического суверенитета. Отношения как внутри этого ареала, так и в
36
том геополитическом пространстве, частью которого он являлся, строились
по
принципам
формально-статусного
взаимодействия
элит
при
фундаментальном значении патронажа, а также социальной стратификации
между военно-аристократическим и трудовым сословиями.
Князья-пши выступали сюзеренами фамильных вотчин, состоявших из
владений знатных уорков. Совокупность вотчин составляла территориальные
границы
патронимии
того
или
иного
княжеского
рода.
Подобные
образования, в силу той политической автономии, которой они обладали,
современные исследователи рассматривают как самостоятельные политии,
объединявшиеся в более крупные феодально-демократические союзы типа
Большой и Малой Кабарды, Темиргоя, Бжедугии и т.д. Вместе с тем,
несмотря на социальную значимость статуса князей-пши, они представляли
скорее надстроечную прослойку.
Известно, что опорой для власти Иналидов было военное сословие
дворян-уорков (узденей). Среди них особо выделялись владетельные, то есть
те,
кто
обладал
крестьянами
владетельной
и
собственными
воинскими
знати
патронимиями:
дружинами.
занимали
сословия
сёлами,
Ведущее
зависимыми
положение
аристократов
среди
тлакотлешей
(лъакъуэлIэш) и дыженуго (дыжьыныгъуэ). Последние выступали в качестве
межсословных и внутрисословных посредников, медиаторов и третейских
судей. Они являлись основными получателями распределяемых пши благ. И
в то же время - основными поставщиками и распорядителями доступных
князю-пши ресурсов [1; 39; 78].
Авторитет знатных фамилий уорков нередко превосходил авторитет
князей-пши [39, с. 167]. Именно вокруг тлакотлешей и дыженуго
концентрировалась значительная часть военной страты дворян-уорков. Их
геополитические связи также имели большое значение [1, с.с. 227, 223; 39, с.
161-170; 195, с. 318]. Интересно отметить, что в адыгском фольклоре
зафиксированы предания о том, как тлакотлеши некогда передали власть
Иналидам [107, c. 236]. Причины такого шага приписаны символическому
37
авторитету Инала и его потомков, не позволявшему тем, кто был недоволен
произволом тлакотлешей, посягать на жизнь ставших их сюзеренами князей.
Это подтверждает существовавший в период политической самобытности
адыгских обществ неписаный закон, запрещавший поднимать руку на особу
князя кому-либо, кроме другого князя [39; 107]. Особое значение имело
отсутствие
у
семиотической
аристократии
значимости
тлакотлешей
родословной
родословных,
князей
из
рода
равных
по
Иналидов.
Вследствие этого фамилии тлакотлешей не могли претендовать на позиции,
равные статусу Иналидов в релевантном геополитическом пространстве.
«Включённость» политий Иналидов в соответствующие гео- и социополитические контексты супра- и суб-уровней являлась существенно важным
фактором международных отношений. О признании статуса Иналидов
свидетельствует то, что с представительницами этого рода заключали брак
царствующие династии Московской Руси, Грузии, Крымского ханства,
Османской империи, Сефевидского Ирана.
В историческом пространстве господства Иналидов можно условно
выделить две зоны: феодально-аристократическую конфедерацию Кабарды и
политии Иналидов Северо-Западного Кавказа. Со второй половины XVI
столетия эти зоны представляли собой раздельные геополитические
единицы, находившиеся во враждебных отношениях на фоне внутренних
междоусобиц [1; 24; 78].
Известные в русских источниках как земли закубанских черкас,
предгорья Северо-Западного Кавказа представляли зону, отличную от
плоскогорий Кавказа Центрального. Последняя в источниках XVI века
именовалась землёй черкас пятигорских и «Кабардой». В XV веке политии
Иналидов на Северо-Западном Кавказе признали статус сюзеренов за ханами
дома Гиреев в Крыму, а в XVI столетии верховный князь Кабарды Темрюк
Идаров положил начало ориентации части адыгской аристократической
правящей элиты на Московское царство. Впрочем, среди кабардинской
аристократии
связь
с
ханами
Крыма
продолжала
выступать
как
38
конкурирующая союзническая альтернатива. В Закубанье доминировали
княжеские дома Жане, затем Темиргоя, с которым после упадка власти
жанеевской аристократии стали связаны княжеские фамилии Бжедугии,
Хатукая, Хегака и т. д. До середины XVIII столетия их геополитические
координаты, в силу обстоятельств, были больше ориентированы на
Крымское ханство и Османскую империю.
Взаимоотношения князей и знати между собой, как и с другими
сословиями, строились на основе своеобразных норм, регулировавших
взаимные права и обязанности всех социальных страт, задававших как этос,
так и эмос коммуникации и интеракции. Своего рода гарантом сохранения
политического суверенитета и территориальной целостности каждой из
политий Иналидов служил институт аристократических собраний – хасэ. Он
был призван регулировать конфликты и консолидировать общество перед
лицом внутренних и внешних вызовов.
Политии Иналидов, на наш взгляд, соответствуют данному Э. Смитом
определению этнии (ethnie), как исторической формы национальной
общности: «…обладающая собственным именем человеческая популяция,
разделяющая общие историю, культуру и мифы о происхождении, связанная
чувством солидарности и определённой территорией» [302, с.с. 36, 49].
Элементы этнии могут присутствовать в различных комбинациях: в
частности, дополняться социальными институтами и при этом разделяться не
всей общностью, но её привилегированными слоями [210, с. 259; 303, с. 2848].
В идентифицируемых источниками как адыгэ-чиль (адыгэ жылэ)
«аристократических» социумах связанные институционально, социально,
экономически и политически сословия князей-пши и дворян-уорков
объединялись под патронажем особой властной институции – сообщества
князей из рода Иналидов. Эти социумы обладали обособленной территорией
проживания, разделяли уникальные самоназвание, язык, культуру и
самосознание, отличающее их, в том числе в собственном восприятии, от
39
других обществ и культур. Крестьянское сословие также может быть
отнесено к этим этниям, но носителями политического суверенитета и
соответствующей
социальной
ответственности
в
политиях
Иналидов
являлись князья-пши и владетельные уорки.
Связанная с наличием прямой власти Иналидов идентичность адыгэ
жылэ не совпадала с границей распространения адыгских этнических
элементов и адыгского языка, которые в итоге возобладали среди ряда
обществ абаза жылэ. Маркером обособления последних являлось в тот
период отсутствие прямого управления со стороны князей из «рода потомков
Инала». В то же время, адыгская идентичность и адыгский язык были
преобладающими в ареале, управлявшемся Иналидами, представлявшем
собой единое географическое и культурное пространство, общность которого
поддерживалась нормами обычного права и практиками взаимоотношений.
При этом сознание политического суверенитета и интересов адыгского
нобилитета не выходило за пределы патронимических подразделений, в
границах которых оно реализовывалось на практике. Несмотря на
этническую, языковую, культурную, социальную и прочую общность
(близость), сословные этнии Кабарды, Бесланея, Бжедугии, Темиргоя и др.
представляли собой отдельные социумы с раздельными стратегиями
коллективного поведения.
Если фундировать сознание политического суверенитета у адыгских
князей понятиями воли и интереса к власти, социального капитала и статуса,
а также экономического интереса, то можно предположить, что их
благосостояние должно было бы измеряться категориями практического
блага составлявших опору их власти узденей–уорков и собственного
символического
княжеского
достоинства.
Основным
критерием
политической деятельности адыгских князей являлось соотношение блага
подданных - в данном случае, возможно, не столько «обязанных данью»,
сколько «данных под руку», - с понятием о личной чести князя и мерой его
авторитета в восприятии когерентной среды.
40
Очевидно, что честь и достоинство пши, при всей символической
индивидуальности по отношению к персоне конкретного князя, - были
понятиями, измерявшимися восприятием референтной группы. За каждым
владетельным пши, за каждой патронимией Иналидов стояла полития, как
совокупность
власти,
ресурсов
и
статуса,
опорой
которого
были
владетельные аристократы и дворяне-уорки.
Здесь проявлялось и важное различие в отношении к коллективной
идентичности у «аристократических» и «демократических» социумов. Если в
обществах абаза жылэ ответственность за каждого из их членов несли все
участники союза, то в среде политий адыгской аристократии – только
ближний круг того или иного владетеля. Сословная честь адыгских
аристократов не позволяла им считать равными себе узденей и тем более
крестьянских старшин абаза и это было символическим отражением
социально-экономического антагонизма [39; 50].
Честь в понимании адыгоязычных обществ воплощалась в «лице» –
напэ, а также в представлении о фамильном (именном) достоинстве – нэмыс.
Последний термин отражал более персонализированное понятие о чести и
личном
достоинстве
аристократии.
Он
не
относился
к
числу
общеупотребимых в обществах абаза-чиль, то есть в «демократических
социумах» [100, с. 62]. То, что нэмыс – более частная категория, чем напэ,
может быть связано с индивидуализмом представителей привилегированных
сословий, чьи культурные позиции определялись социальным статусом.
Институт чести и достоинства нобилитета выступал символической
формой опосредования и репрезентации в индивидуальном и групповом
(массовом) сознании принципов и характера социально-экономических и
статусных взаимоотношений. Чрезмерное злоупотребление статусом могло
привести к тому, что от князя отворачивались владетельные аристократы и
дворяне,
а
другие
княжеские
патронимии,
объединившись,
могли
уничтожить таких пши или лишить их княжеского достоинства, как это
произошло с семьёй князей Шогенуковых в Кабарде [1, с. 231; 232]. Если
41
владетельный князь покидал соответствующую этнополитию, то его
подданные не только не должны были, но, по некоторым данным, обязаны
были не следовать за ним [39, c. 155].
Владетельный князь формально нёс ответственность перед самим
собой и своей фамилией (родом), но на самом деле эта ответственность
лимитировалась полем коллективных представлений когерентной среды и
данного социума в целом. На практике у персональной власти и
политической самостоятельности пши были «границы», за пределами
которых его полномочия могло ограничить общество. Таков контекст
социокультурного пространства, в котором развивалось политическое
сознание «аристократических» адыгских социумов в ходе геополитических и
социальных коллизий XVIII – XIX столетий, привёдших в итоге к
ликвидации исторической фигурации Иналидов.
В 1739 году Кабарда по Белградскому мирному договору между
Российской
и
территорией».
Османской
На
первый
империями
взгляд,
была
в
признана
положении
«независимой
дел
в
этой
«аристократической республике» от данного факта ничего принципиально не
изменилось: группировки знати с меняющимся составом участников
продолжали противоборство при более или менее явном участии внешних
геополитических акторов [195, c. 270-287]. С середины XVIII столетия
геополитическое
противоборство
обострилось,
Россия
снова
начала
продвижение на Кавказ. В отличие от прежних времён, это продвижение
подкреплялось
большими
военными
ресурсами
и
сопровождалось
колонизацией территорий. Масштабный конфликт между Россией и
значительной частью кабардинской аристократии начался со строительством
в 1769 году укрепления Моздок. Перипетии тех событий, описанные в
различных источниках, показывают начало трагического для адыгских
обществ конфликта, который можно рассматривать как культурный,
семиотический катаклизм.
42
Российское государство в лице императрицы Екатерины II, высших
сановников, а также представителей дипломатического, административного и
военного аппарата всех уровней, действовало на основании признанного
сюзеренитета русских царей над Кабардой. В понятиях российской власти
того времени это означало собственность на все ресурсы и право
распоряжаться ими по своему усмотрению, особенно в случаях нелояльности
кабардинских владельцев [8; 195, с. 319]. К тому моменту многие
кабардинские аристократы по-прежнему признавали сюзеренитет русских
царей: лидеры кабардинской знати были в прошлом участниками русских
походов, обладали офицерскими чинами русской армии. Формальный
сюзеренитет
русского
царя
или
крымского
хана,
как
показывают
исторические примеры, для Иналидов представлял собой скорее внешние
отношения в контексте их собственного суверенитета. Наглядным образом
это демонстрирует смена внешнеполитических ориентаций каждой из двух
противоборствовавших в середине XVIII века группировок кабардинской
знати [195, c. 270-287].
Посягательства на суверенную власть князя-пши в его политии
(вотчине)
являлись
вызовом,
а
достоинство
статуса
владельца
в
представлениях данной культуры предполагало силовое противодействие
любой угрозе. Сочетание комплекса представлений о статусе и чести с
реальным
нобилитета
властным
на
ресурсом
посягательства
детерминировало
в
отношении
реакцию
своего
адыгского
политического
суверенитета. Конфликт представлений, по сути, и стал причиной
исторической трагедии наиболее могущественной политии Иналидов –
Кабарды – в ходе противостояния с Российской империей во второй
половине XVIII – первой четверти XIX вв.
Очевидно, что старшие представители адыгской аристократии были
людьми широкого кругозора. Именно они были вовлечены в политические
контакты
высшего
уровня.
Сохранились
свидетельства
попыток
представителей кабардинского нобилитета апеллировать к адекватным для
43
взаимоотношений
с
российской
монархией
семиотическим
фактам,
наподобие имевших место в прошлом актов дарения либо закрепления
российским престолом «спорных» территорий за кабардинскими князьями
[195, с. 293].
Однако в воззрениях российской властной элиты за время, прошедшее
между правлением Петра I и Екатерины II, произошел очевидный
эпистемологический разрыв. В период правления Петра I русское общество
ещё
пребывало
в
поле
координат,
в
принципе
идентичном
тому
семиотическому пространству, в котором сформировалась и существовала
модель общественно-политического устройства политий Иналидов [cм. 186,
с. 15]. Поколение российских сановников эпохи Петра I, знакомых с
политическими
и
общественными
традициями
предшествующего
исторического периода, сохраняло подходы, релевантные социальнополитическим реалиям Кавказа. Но наследие петровской модернизации
государства и общества привело к утрате семиотического взаимопонимания.
Немецкая аристократка Екатерина II, её сановники и военачальники, среди
которых было много европейцев, а также российское общество той поры
следовали уже дихотомиям типа «цивилизация и варварство», «порядок и
хаос», «культура и дикость» и т.д. [25]. В соответствующем ключе
развивался и дискурс о нациях и государственности.
Период правления Екатерины II был эпохой утверждения новых
взаимоотношений с «национальными окраинами», эпохой утверждения
государства нового типа. Отношения перестали строиться по прежним
схемам сюзеренитета – вассалитета, сменившись воззрениями и практикой
монархического национального гражданства. Как вследствие утверждения
новых подходов менялась практика отношений с подданными и элитой,
можно видеть из исторических событий, совпавших по времени с
кровопролитным конфликтом между кабардинской аристократией и Россией.
На фоне масштабных внутренних преобразований в российском государстве
произошли разгром ногайцев, калмыков, завоевание Крымского ханства,
44
ликвидация Запорожской Сечи, восстания башкир и казаков, война Пугачева
и др. [8].
В
контексте
нашего
исследования
важным
итогом
правления
Екатерины II стало образование в Российской империи новой национальной
основы на месте прежнего конгломерата включённых в отношения
патронимии коллективных идентичностей. «Хартия о вольности дворянской»
1762 года обозначила базовый элемент этой нации – то самое российское
дворянство. Оно стало
первой
«вольноопределяющейся» социальной
стратой, чья общественная диспозиция и социально-экономический ресурс
больше не зависели
от специфической жизнедеятельности
(службы
сюзерену). Адыгской знати в инкорпорации в эту национальную основу было
отказано. Логичным следствием эпистемологического разрыва в собственно
российских
социально-политических
традициях
стало
официально
утвержденное Николаем I в 1847 году решение не предоставлять статус
российского сословного дворянства адыгской аристократии. То есть тем
самым Иналидам, с которыми в своё время не считали зазорным родниться
представители древних царствующих династий.
Трагический итог противостояния феодальной Кабарды с Российской
империей, которое можно охарактеризовать и как семиотический конфликт,
и как противостояние феодального общества европейскому государству
нового типа, - был предопределён. Политическое противостояние оказалось
сопряжено с противостоянием культурным, что глубоко повлияло на
дальнейшее развитие этнии Кабарды.
В противостоянии с Российской империей кабардинская владетельная
знать лишалась не только обширных земель, но и властных или, иными
словами, статусных ресурсов. Рассматривая кабардинцев как подданных
российского престола, российская администрация требовала от них
признавать не просто сюзеренитет российского государя, но и власть
государственных институций и постановлений. Например, приставов, судов,
запретов на связи с «непокорными». Для кабардинской знати это было не
45
просто унижением, но уничтожением функционального и символического
статуса в данном обществе, подрывом фундамента традиционной власти,
которая
лишалась
возможности
и
права
защищать
автономное
социокультурное и социально-экономическое устройство.
«Черкесы терпеливы и много переносят, если князь их храбр и
воинствен. По мере того, как народ мирится с нами, князь постепенно теряет
свою власть и силу. Народ, потеряв свою независимость, и видя что пристав
наш имеет больше силы, чем их князь, перестает уважать cвоегo князя, и
нередко в народе доходит до толков на сходках, нужен ли князь тому народу,
который покорился нашему правительству? Нужно ли сохранять князю те
выгоды, которые народ предоставлял князю доселе? В настоящее время на
Кавказе общества нередко завязывают споры в платеже ясака князьям, на том
основании, что, покорившись Pocсии, они не нуждаются в вооруженной
защите своих владельцев» [46, с. 148].
С учетом культурно-этической парадигмы сословной чести как
отражения необходимости обосновывать и сохранять свой социальный,
властный и культурный капитал, потребовалась смена двух поколений
кабардинских владельцев и большая убыль в численности военного сословия,
чтобы аристократическое общество Кабарды наконец смирилось с утратой
политической автономии. К тому моменту оно подверглось серьёзной
трансформации, последствия которой весьма важны в контексте нашего
исследования. Речь идет об исламизации и морально-правовых реформах,
обеспечивавших политическую консолидацию аристократии и дворянства и
социокультурную консолидацию всего сословного общества в целом.
Как писал в 1808 году Г.Ю. Клапрот, «Ещё около сорока лет тому назад
черкесы, хотя называвшие себя мусульманами {…} жили почти без
религии… Из религии Магомета они соблюдали лишь воздержание от
свинины и вина. Они хоронили также мертвых и справляли свадьбы по
магометанскому обычаю. Многоженство было разрешено, но было мало
распространено. Князья и самые знатные уздени совершали в определенное
46
время свои ежедневные молитвы по-арабски, хотя и не понимая в них
ровным счетом ничего. Простолюдины жили без всяких религиозных
обрядов. Со времени Кучук-Кайнарджийского мира Турция старалась при
помощи посылаемого туда духовенства распространить ислам на Кавказе, в
особенности среди черкесов, и имела успех в своих намерениях, по крайне
мере у последних, чему особенно помог Исаак эфенди, состоявший на
жаловании
у
турок.
Их
муллы,
или
священники,
обычно
из
вольноотпущенников князей или узденей, отправляются учиться немного
читать и писать к татарам из Табасарана или в Эндери [в Дагестане],
получают звание эфенди и возвращаются в свое отечество, чтобы работать
для удержания народа в магометанской вере и отстранения их от союза с
Россией» [1, с. 263].
Уже к началу XIX столетия в каждом ауле были мечети, и дворянство,
и крестьянство изучало элементарные основы ислама, за непосещение мечети
по
пятницам
селянин,
согласно
установлению
общекабардинского
всесословного собрания, штрафовался князем на «пять рублей серебром» [15,
с. 22; 24, с. 168]. В середине XIX века Л.Я.Люлье констатировал: «У жителей
равнин кубанских и предгорий везде стоят мечети, население разделено на
джемгаты, прежний быт предков уже забыт, а между кабардинцами и не
подозревают его, так что рассказы о былом представляются им невероятной
сказкой» [34].
Такой исследователь как В.Х.Кажаров полагает, что исламизация
населения была «стратегической операцией» знати. При этом он приводит
сообщение Г.С.Потемкина о том, что прежде двусословное, княжескодворянское, собрание-хасэ Кабарды в конце XVIII века стало трехсословным,
с участием представителей крестьян [163, с. 13]. Однако консолидация
кабардинской этнии была кратковременной: всесословное хасэ прекратило
своё существование вместе с политической автономией. Крестьянское
сословие осталось в стороне от борьбы кабардинской знати.
47
Надо
заметить,
что
идеологическое
влияние
на
процессы
формирования национального сознания среди сословной этнии Кабарды
оказывал не только мусульманский мир. В тексте рапорта генераллейтенанта Кнорринга от 5 июля 1799 года императору Павлу I о собрании
«9 ветреных владельцев [пши] и многих узденей», постановивших создать в
Кабарде шариатский суд для ослабления влияния российских учреждений,
процитированы следующие слова «ветреных» владельцев и узденей: «почему
бы и нам не иметь равенства между собою когда оное существует во
Франции» [107, c. 28]. Примечательно, что «равенство между собою»
означало «между благородными сословиями». Из тех случаев употребления
понятий нация и народ, которые зафиксированы в источниках вплоть до
1860-х годов, очевидно, что кабардинская знать относила их исключительно
к владетельной аристократии и дворянству [140, с. 95-97; 106, с. 143].
Но с установлением российской власти изменилась социальноэкономическая
основа
существования
привилегированных
сословий.
Сохраняя свою традиционную статусность, владельцы теперь должны были
обеспечивать её за счет России. Не будучи по российским законам
потомственными дворянами, они должны были офицерской службой
подтверждать свой дворянский статус и своё право на земельные и людские
ресурсы. Прежнее выяснение отношений с оружием в руках или посредством
медиации авторитетных представителей своего круга сменилось тяжбами в
Кабардинском временном суде под российской юрисдикцией и под
председательством российского офицера, а также интригами с вовлечением
российского местного начальства. Поражение в борьбе за суверенитет,
лишавшее знать традиционного статуса, закономерно вело и к её культурной
деградации [28, с. 71; 46, с. 92; 54, с. 196].
Вот как об этом писал российский дореволюционный историк
В.А.Потто: «Происшествия 1826 года были в Кабарде последними
вспышками затихавшего брожения, переходными явлениями к эпохе мирной
жизни. И если берегам Кубани предстояло еще быть поприщем диких
48
насилий беспощадной религиозно-фанатической войны, то перед Кабардой
лежал путь гражданского порядка, которого впоследствии не могло
поколебать даже вторжение могущественного Шамиля. Смягчению, а потом
и
исчезновению
воинственных
инстинктов
в
кабардинском
народе
послужило и постепенное исчезновение вождей, проникнутых духом
необузданной воли и страстно искавших выхода для своих непочатых сил в
громких военных подвигах. Под непосредственным управлением русского
правительства бывшие междусословные отношения в Кабарде постепенно,
но круто изменились. Сила и значение князей каждый день утрачивали свое
обаяние, и с каждым днем народная масса становилась самостоятельнее. Да и
таких князей, которые образом жизни соответствовали бы прежним понятиям
кабардинцев о княжеском достоинстве, становилось все меньше и меньше, и
когда в шестидесятых годах умер последний представитель древнего типа
кабардинского князя, Атажукин, – в Кабарде остался только ничего не
значащий княжеский титул. Некогда широкая жизнь кабардинского «пши»
мало-помалу переходила в область легендарных преданий, а с тем вместе
затихала навек и некогда воинственная Кабарда» [40].
Непосредственный участник боевых действий на Кавказе барон
К.Ф.Сталь добавляет: «Черкесы говорят, что в прежнее время было гораздо
больше честности в народе и в князьях; что кабардинцы имевшие большое
влияние на облагорожение нравов, давшие черкесам свой дворянский обычай
(уорк-хабзе) и свои моды, в последнее время наделили закубанских черкес
всякого рода обманами, изменами, неисполнением обещания и присяги, и
народ, некогда честный, сделался теперь, по выражению абадзех, тха-габц
(Богообманыватель)» [46, с. 148].
Сами представители адыгской аристократии того времени, из числа
тех, кто получил российское образование, оставили такие свидетельства:
«Наездничество
прежних
черкесов
в
наше
время
превратилось
в
разбойничество. А между этими видами огромная нравственная разница.
Наездничество покраснело бы от мысли уворовать у соседа лошадь, изменить
49
своему слову; его цель была — слава, отвага; а теперешнее разбойничество,
как развратница, не знает и тени стыда; его цель - корысть». «Черкесы, как и
все народы, имели свой героический период, когда умение обманом или
мечом добывать средства к существованию, естественно, сделалось
необходимой принадлежностью человека в такую эпоху. Но Кавказ подпал
под власть России, рыцарские правила столкнулись с новым, враждебным
порядком и рушились, а вместе с ними, разумеется, исчезла и законность
насильственного присвоения чужой собственности; место её заступила
необходимость
честного
труда.
Кавказская
молодежь,
воспитанная
преданиями прошедшей жизни, не могла вдруг, приняться за соху, или
вступить в воинские ряды своих завоевателей. Соха не соответствовала её
аристократическим наклонностям, а служба под знаменами иноверцев
запрещалась религией, да и гордость не позволяла; и вот из прежних героев
образовалась шайка беспорядочных людей, которая, боясь заслуженного
наказания, прячет концы своих непозволительных похождений как можно
дальше» [28, c. 196; см. тж. 54, c. 71]. Интересно, что автор последней цитаты
вместе с тем добавляет:
«…меня во многом расслабило европейское
воспитание, и что в душе моей нет сил на какое-нибудь отчаянное дело,
которое разом или бы погубило меня, или бы сблизило меня опять с
любимой женщиной» [28, c. 79].
Вместе
с
тем,
общность
социально-политического
сознания
кабардинской владетельной аристократии сохранялась до реформ 1860-х
годов. Социальная общность и осознание своих коллективных интересов
явственно выразились в попытке сопротивления реформе, отменившей
крепостное право. Впрочем, брожение среди молодых владетельных узденей
закончилось профилактическими арестами и более ничем, в то время как
возмущения прежних времён кончались вооружённым кровопролитием [106,
c. 141-149]. Более эффективным оказалось использование владетельной
аристократией ещё имевшихся возможностей социально-экономического
принуждения и статусного авторитета для увода своих крестьян в Османскую
50
империю. Там, по некоторым сведениям, формы личной и общественной
зависимости крестьян от владельцев у черкесов сохранялись до 1913 года
[251].
Следует
отметить,
что
российская
администрация
в
период
существования института старшего князя (до 1822 года) официально
рассматривала Кабарду как социально-политическую общность и требовала
от привилегированных сословий коллективной ответственности за набеги
или неповиновение отдельных групп и лиц из их числа. Это продолжалось
вплоть до реформ 1860-х годов, в преддверии которых был упразднён
Временной сословный суд Кабарды, выступавший в качестве своеобразного
органа/института местного самоуправления. После таких
преобразований
бывшая владетельная знать лишилась ресурса прежнего патронимического
статуса и превратилась в субкультурную социальную прослойку. Которая, в
силу экономических интересов и собственного самосознания, оказалась
противопоставлена крестьянству. Это очевидно из примеров конфликтов в
период работы в Кабарде Поземельной комиссии в конце XIX столетия, а
также Зольского и Черекского противостояний кабардинских и балкарских
крестьян с соплеменными коннозаводчиками и латифундистами из числа
родовитой знати в 1913 году [31; 158; 174].
Аналогичным образом сложилась историческая судьба и адыгской
знати Закубанья. Но содержание и динамика происходивших здесь процессов
существенно отличались от того, что имело место в Кабарде. Несмотря на
конфликтный характер отношений между политиями Иналидов и горными
обществами абаза, они разделяли фундаментальные социокультурные
институты, нормы и коммуникационную среду [1; 78; 245]. Горный
ландшафт обеспечивал независимость населения так называемой Большой
Абазы и предполагал иной социально-экономический уклад, с меньшим
уровнем стратификации. Основой местных политий, в том числе в качестве
воинской силы, являлись не конные дворяне-уорки, как в аристократических
социумах, а пешие общинники – тфокотли. В то же время, благородные
51
фамилии
местных обществ были включены
инфраструктуру
символические
социальных
и
и
практические
политических
отношения
в стратифицированную
связей
региона
через
сюзеренитета-вассалитета,
куначества, родства и т.д.
В горной местности, где нередко искало убежище население
предгорий, существовали условия для формирования этносоциальных
конгломератов из абазских и адыгских этнических элементов. Особенно
активно эти процессы происходили при перемещении общностей абаза из
горных и удалённых районов в более доступную местность, что выводило их
в пределы политий Иналидов. Причины подобных переселений были,
очевидно, связаны с факторами политического, демографического и
экономического характера.
Подобным образом в своё время вошла в состав адыгэ жылэ общность
бжедугов [32, с. 56; 33, с. 4; 55, с. 75; 168, с. 491]. Приблизительно в XVII
веке бжедугов потеснили покинувшие высокогорье абадзехи. Но, в отличие
от бжедугов, абадзехи не сменили социально-политической идентичности,
оставшись абаза жылэ [54, c. 214; 168, с. 485]. Хотя эта многочисленная
общность и была включена во взаимоотношения политий Иналидов,
большинство абадзехов сохранило независимость от адыгской аристократии,
находясь под управлением узденей и народных старшин. Как и бжедуги,
абадзехи
в ходе освоения нового пространства активно развивали
производящее хозяйство, в котором земледелие имело большее значение, чем
у «аристократических» социумов.
Ещё в XVII-XVIII столетиях в другой части Северо-Западного Кавказа
стали известны натухайцы и шапсуги, также относившиеся к абаза жылэ и
представлявшие
собой
в
этническом
отношении
абазо-адыгские
конгломераты. В пространстве, относившемся к зоне господства Иналидов,
эти общности до поры признавали их власть. Однако ближе к концу XVIII
столетия, при поддержке не имевших княжеской прослойки обществ
абадзехов и убыхов, шапсугские и натухайские крестьяне-тфокотли и часть
52
узденей совершили социальную революцию, принудив представителей знати
либо отказаться от сословных привилегий, либо покинуть край [78; 218;
220].
По мнению Г. Дерлугьяна, причинами социального конфликта стали не
просто межсословные противоречия, но вовлечение узденей и крестьян в
торговые отношения, в условиях изменений геополитической обстановки,
благоприятных для развития производящего хозяйства. Это спровоцировало
борьбу за уничтожение аристократического произвола и междоусобиц,
которая одновременно являлась борьбой за перераспределение ресурсов
[142].
В данной связи, как и в целом в контексте парадигмы патронимических
отношений в цивилизационной истории Северного Кавказа, на наш взгляд,
необходимо обратить внимание на нараставший в XVIII – начале XIX
столетий кризис международного статуса аристократической прослойки
местных обществ. В XVIII веке социальные выступления и преобразования,
сопровождавшиеся перемещением горных обществ на более экономически
перспективные пространства нагорной и предгорной местности, происходили
в целом по всему Северному Кавказу [116]. Распространение в горах
идеологии шариата служило средством социального реформирования и
консолидации старых и новых политических общностей посредством
правовых отношений [18; 46; 116]. Очевидным фактором социальных
коллизий на Кавказе в XVIII – XIX вв. выступала и геополитическая
конкуренция держав. В частности, в Закубанье российская администрация
поддержала адыгскую аристократию в её противостоянии с восставшими
крестьянами и обществами абадзехов и убыхов. Однако часть знати
выступила на стороне новой социальной реальности и оказалась среди
лидеров формировавшейся политической общности [9; 144].
В
любом
случае,
следствием
свержения
власти
Иналидов
и
развивающегося противостояния с Российской империей на СевероЗападном
Кавказе
стало
формирование
нового
конфедеративного
53
объединения локальных общностей, создававшегося, в том числе с помощью
силы,
как
правовое
пространство
взаимоотношений,
оформленных
общественными договорами и культурными практиками. Признаками
государственности стали формирование единого парламента – хасэ, введение
территориально-административного деления, налогов, создание военнополицейского института муртазаков. Носителями суверенитета в этой
конфедерации
являлись коллективные идентичности территориальных
союзов и этносоциальных конгломератов. Спецификой данного процесса
было то, что множество патронимических коллективов стали субъектами
политических
отношений
и
разделяли
сознание
своей
социальной
солидарности. Последняя отражалась не только в идентичности абаза чиль,
но и в сопоставимой с национальной межэтнической идентичности черкесов
[9; 45; 296].
Генезис черкесской идентичности среди обществ Большой Абазы нам
не ясен. Ещё в первой половине XIX столетия британский агент Дж. Бэлл,
констатируя, что большая часть местного населения, забыв «прежние
распри», приняла «общее национальное имя адыге», отмечал при этом, что
«татарское или турецкое наименование «черкес» многие местные жители
«даже не понимают» [9, т. 2, с. 43]. Если смотреть на карты Черкесии,
приводимые в изданиях российского автора Н. Дубровина (1830) и британца
Дж. Белла (1840), то можно обнаружить, что именем Черкесии охватывается
территория Северо-Западного Кавказа вдоль побережья Черного моря от
Таманского полуострова до горных районов современной Абхазии. А также
правобережье Кубани (Закубанская Черкесия) и предгорья Центрального
Кавказа вплоть до Моздока и Сунжи (Кабарда). В источниках к Черкесии и
черкесам относятся территории и население так называемых Большой и
Малой Абазы. Под первой подразумевались горные районы Черноморского
побережья, населявшиеся до второй половины XIX века предками
современных абазин и абхазов, а также убыхами. Малой Абазой именовалась
зона расселения (среднее течение рек Лабы, Большого и Малого Зеленчуков
54
и Урупа) так называемых «алтынкесек-абаза» или абазин шести княжеских
фамилий. Характерно, что ряд авторов не относят к черкесам территориально
входившие в «Большую Абазу» общества так называемого Медавея –
высокогорных абхазо- или абазоязычных Псху, Цебельда, Дал, Ахчипсу.
Объясняется это видимо тем, что общества Медавея признавали своими
патронами князей из рода Маршан, связанных с абхазскими княжескими
династиями, по отношению к которым на Северо-Западном Кавказе имя
черкесов не употреблялось [95]. Однако эти субэтнические группы разделили
историческую судьбу общностей абадзехов, убыхов, шапсугов, натухайцев и
других носителей черкесской идентичности.
Определённую роль в распространении связанного с черкесской
идентичностью национального сознания сыграли османское влияние и
поддерживаемое им мусульманское духовенство. Последнее, помимо
пропаганды религиозного единства, обеспечивало также функционирование
общих судебной системы и образовательной инфраструктуры.
Особого упоминания заслуживают «британские агенты», которые были
заинтересованы в создании на Черноморском побережье Кавказа черкесского
протектората Турции [247; 283]. Так, Д. Уркварт адресовал черкесам призыв
к единству «во имя пяти тысяч лет национальной независимости» и
участвовал в подготовке декларации суверенитета Черкесии в конце 1830-х
гг. [9, т. 1, с.с. 162, 370]. Э. Спенсер доставил горцам «сшитый заботливыми
руками высокопоставленной стамбульской черкешенки» национальный флаг
[45, с. 51]. Дж. Бэлл призывал их к формированию единой регулярной армии
и т.д. [9, т. 1, с. 237]. Усилия этих людей сыграли для становления
черкесского национального дискурса большую роль, оценить которую стало
возможно уже в конце ХХ века в ходе его ревитализации [296].
Учитывая отмечаемую источниками первой половины XIX столетия
активность социальных элит Закубанской (Западной) Черкесии и плотность
их коммуникационных связей, можно предположить, что они восприняли и
транслировали
соотечественникам
черкесскую
идентичность
как
55
национальную,
консолидирующую
локальные
элементы
различного
этнического происхождения в единое социополитическое образование.
Интересно в данной связи отметить, что информаторы С. Джанашиа,
идентифицировавшие в 1929 году потомков обществ абаза чиль как черкесов,
но не как адыгов по происхождению, относились к слою родовитых
старейшин [14, с.с. 56, 90].
О том, как были связаны в единое коммуникационное пространство
аристократия и дворянство в «аристократических социумах» Кавказа,
российский пристав в Кабарде Дельпоццо писал в начале XIX столетия:
«Самое лучшее удовольствие есть ехать из одного места в другое в гости.
Когда они возвратятся домой, все разговаривают об известии — и это самое
большое их занятие. Они через такое средство все, что делалось в Персии и
Турции, знают прежде, нежели мы получим о том известие» [75, с. 22].
Однако аналогичную, если не большую, плотность коммуникационных
связей обществ Западной Черкесии уже после социальной революции
фиксировали и британские агенты-путешественники в середине XIX века [8;
27]. С другой стороны, как отмечает, в частности, Чарлз Кинг, процесс
национализации
сознания
горцев
в
XIX
веке
мало
поколебал
их
приверженность локальным формам идентичности [296, с. 249]. Причиной
тому была специфика той социальной реальности, в которой они жили.
И всё же основной актор социально-политических процессов в
Западной Черкесии – слой дворян-узденей, духовенства и крестьянских
старшин – был вовлечён в реальную совместную деятельность по развитию и
сохранению
суверенитета,
включая
Необходимо
учитывать,
политическая
консолидация
что
и
международные
социально-экономическое
«демократических»
отношения.
развитие
черкесских
и
социумов
происходили в условиях противостояния с Российской империей. Их
мотивацию в этом противоборстве демонстрирует содержание обращения
собрания горных обществ Черкесии к русскому царю Александру II в 1861
году. Оно повторяет тезисы обращений предшествующих десятилетий.
56
Представители черкесских агломераций декларировали свою готовность
признавать власть русского государя, но просили не колонизировать их
территорию, оставив им право жить по своему укладу.
С другой стороны, можно отметить, что деятельность определённых
кругов
в
Османской
формирование
и
Британской
полуавтономной
империи
черкесской
была
направлена
на
государственности
в
причерноморской полосе Кавказского побережья. Данный протекторат был
бы включён в такой геополитический контекст, который представлял бы
собой угрозу самому существованию России, что и предопределило
установку последней на полное завоевание региона. Таким образом,
вхождение адыгов в нациосферу было следствием новых тенденций
международных отношений на фоне кризиса прежней их модели и
социального устройства. Значение фактора культуры для содержания и
характера деятельности геополитических акторов проявлялось в контексте
представлений
и
практик
отношений.
Однако
носителям
адыгской
идентичности в данном случае досталась не проактивная позиция, а
реактивная.
Сравнительный анализ социально-политических и мировоззренческих
трансформаций в Кабарде во второй половине XVIII – первой четверти XIX
вв. и в Закубанской Черкесии в первой половине XIX столетия показывают,
что развитие государственности в указанных регионах было связано с более
широким
геополитическим
контекстом.
Трансформации
исторически
сложившихся форм общественного уклада и коллективной идентичности
происходили благодаря воздействию (вызовам) «извне», но в то же время
реализовывали собственный потенциал развития местных социумов.
В итоге в Закубанской Черкесии произошла смена общественного
устройства, а в Кабарде оно осталось прежним, сохранив сословный
характер. В кабардинской этнии национальное сознание формировалось на
основе сословного уклада общественных отношений. Между тем, в
черкесской конфедерации на Северо-Западном Кавказе, национальное
57
сознание
развивалось
в
контексте
черкесской
идентичности,
формировавшейся в условиях геополитических и социальных катаклизмов
конца XVIII – первой половины XIX вв. и базировавшейся не столько на
сословной солидарности, сколько на общинном коллективизме. Впрочем,
общим фундаментом в обоих случаях являлось осознание определёнными
социальными слоями собственных интересов в актуальном историческом
контексте.
Для двух этих государственных образований сохранение политической
автономии
было
императивом
актуального
социально-экономического
уклада, преломлявшимся в сознании через понятия чести и достоинства,
трактуемые
в
духе
традиционного
воинского
этоса,
исторически
обеспечивавшего выживание местных обществ. Очевидно трудно было бы
ожидать, чтобы регион с подобным общественно-политическим строем мог
без проблем быть включён в состав Российской империи – слишком велика
была разница в культурных менталитетах и воззрениях на природу и
функции власти. Но существовавшие между «аристократическими» и
«демократическими» обществами социальные различия предопределили и
различный
масштаб
силового
принуждения,
потребовавшегося
для
преодоления их сопротивления.
Сословные этнии политий Иналидов, несмотря на значительные
людские и территориальные потери, сохранились, так как основным
субъектом противостояния с Российской империей здесь выступали сословия
знати, принявшие «удар на себя». Культурное сознание дворянскоаристократической страты было ориентировано на социальный статус, так
как специфика социально-экономического и политического уклада была
сопряжена с индивидуально-фамильными интересами. Это давало знати, как
управляющему
элементу,
возможность
политического
манёвра
и
ограничивало её стратегическую солидарность.
Знать со сменой поколений могла адаптироваться к утрате своего
прежнего положения, удовлетворяясь сохранением экономического и
58
статусного ресурса. Процесс адаптации облегчался тем, что российские
власти принимали меры по сохранению статусных и материальных ресурсов,
связывая возможность обладания ими с необходимостью военной службы,
получением образования, включённостью в отношения с российской
администрацией на зависимом положении и т.п.
В
условиях
горизонтальной
не
вертикальной,
иерархии
как
в
патронимических
политиях
связей
Иналидов,
в
а
черкесской
конфедерации конца XVIII - первой половине XIX вв. сознание членов
составлявших
её
сообществ
формировалось
на
основе
общинного
коллективизма. При отсутствии базы для диалога и семиотической
адаптации, «демократические» социумы в условиях фундаментального
вызова своему укладу со стороны Российской империи были гораздо менее
способны к политической гибкости, чем сословные этнии политий Иналидов.
Исторически
население
горных
районов
было
более
укоренено
в
хабитальной среде, нежели элита социумов предгорий. И, в то же время,
менее включено в отношения коммуникации, а потому более локально в
своём мировоззрении, архаично и менее культурно стратифицировано.
Поэтому и менее мобильно, как в пространственном, так и в политическом
отношении.
Характерным свидетельством этого является тот факт, что на момент,
когда противостояние с Россией длилось уже более 70 лет, в глубине гор
обитали общества, никогда не видевшие русских [18]. Несмотря на
формальное политическое единство, этносоциумы горной Черкесии были
разгромлены буквально поодиночке, по долинам, которые они занимали.
Историческим итогом противостояния с Российской империей для этих
обществ стала этнодемографическая катастрофа. В 1863-1866 гг. горные
районы Северо-Западного Кавказа были практически очищены от коренного
населения: меньшая его часть была переселена в предгорья, большинство
выселено в Османскую империю. При этом значительная часть переселенцев
погибла [6; 42].
59
Общим итогом произошедшей утраты политической самобытности для
обществ адыгэ жылэ и абаза жылэ стало формирование сознания общности
в условиях бессословного адыгского (черкесского) села. Именно в этой среде
формировалась традиционная по отношению к сегодняшнему дню адыгская
этнокультурность.
Глава 2. Культура и социальное пространство: к вопросу о генезисе
современной адыгской идентичности
2.1. Культурная основа адыгской этничности
Дихотомию «адыгэ» – «абаза» логично рассматривать не только как
два раздельных хабитата по отношению друг к другу, но и как общий
хабитат – Черкесию – по отношению к остальному миру.
Выше мы приводили сведения о том, что в самобытном прошлом
региона разграничение дихотомии «адыгэ» – «абаза» имело место не столько
на основании этнического происхождения или языка, сколько по социальнополитическим
критериям.
существовала
во
Территориальная
взаимосвязи
с
стратификация,
условиями
природной
хотя
и
среды,
детерминировалась факторами политической идентичности. Или, иначе
говоря, отношениями с властью княжеской аристократии. По отношению к
внешнему миру территории обществ адыгэ жылэ и абаза жылэ выступали в
качестве общего хабитата Черкесии. Его территориальные границы
совпадали с пределами власти Иналидов в предгорьях и с пределами ареалов
обществ абаза в горах.
В различные исторические периоды в «буферных» пограничных зонах
хабитата
формировались
этносоциальные
группы,
подобные
так
называемым франко-черкесам (потомки смешанных браков европейских
колонистов и черкесов) и черкесо-гаям (армянам). Разделяя черкесскую
60
идентичность, они выполняли для местных социумов функции посредников в
отношениях с иными геополитическими и экономическими акторами.
Приводившиеся выше сведения источников показывают, что адыгский
язык (адыгэбзэ) являлся средством коммуникации во всей Черкесии, в том
числе был общеупотребительным и в обществах абаза жылэ. В условиях
языкового смешения могли играть роль причины психолингвистического
характера. Так, С. Джанашиа отмечал факты смены этнической идентичности
с абазинской на адыгскую в течение жизни одного поколения вследствие
перехода не только детей, но и взрослых абазин в смешанных адыгоабазинских селах с родного языка на адыгский из-за его большей легкости и
понятности для адыгоязычных односельчан [14, с.с. 78, 113; см. тж. 32, с. 67].
Подобные примеры можно наблюдать и сегодня - значительное число
современных носителей адыгской этничности происходят от абазин,
переселившихся из горных местностей [168, с. 522].
В данной связи мы
хотели бы обратить внимание ещё на один
интересный факт. Абазинский язык и сегодня отличается от адыгского
большим разнообразием, как фонетическим и грамматическим, так и
диалектальным. Очевидно, что в прошлом эта разница была ещё
значительнее, так как тогда абазоязычное население было гораздо более
многочисленным и сегментированным по множеству горных долин. В то же
время, горные абаза не обладают общим самоназванием, сопоставимым с
именами «адыгэ» или «апсуа». Последнее является самоназванием абхазов,
близкородственного современным абазинам народа, включившего в свой
состав ряд абазоязычных этнических групп из той части исторического края
Абаза, которая сегодня является горной Абхазией. Характерным отличием
апсуа от абаза в прошлом было также наличие княжеской власти
родственных династий Чачба и Ачба (Чавчавадзе и Анчабадзе), правивших
прибрежными равнинами к югу от территории горной Абаза.
Очевидно, что объединение адыгских и абазских этнических элементов
в рамках так называемых «демократических» социумов Закубанской
61
Черкесии в конце XVIII – первой половине XIX вв., знаменовало собой
взаимосвязь внутренней границы дихотомии «адыгэ» - «абаза» с властью
аристократии. Однако со второй половины XIX столетия эта граница
перестаёт быть для адыгской этничности внутренней и превращается во
внешнюю.
Это
было
связано
с
фундаментальными
социальными
трансформациями, совершившимися к концу 1860-х гг. на территории всей
исторической Черкесии.
С отменой крепостного права была уничтожена власть аристократии
над крестьянами, ликвидированы прежние сословные учреждения. Бывшая
вертикаль социальных связей утратила своё историческое значение.
Владетельная знать была инкорпорирована в государственную среду
Российской и Османской империй. Те экономические и административные
ресурсы, которые она таким образом приобретала, определяли теперь её
взаимоотношения с узденями и крестьянством.
Сопровождавшееся переселением из горных районов в предгорья,
укрупнение сёл сформировало на всей территории черкесского ареала на
Кавказе единый тип соседской сельской общины, сменивший прежние
патронимии. Ряд исследователей специально подчёркивает, что, хотя
формирование автономной сельской общины у черкесов и было следствием
российских реформ, но по сути это было реализацией потенциала,
заложенного в традиционные формы организации местного крестьянства
[161;
223;
142]
Социально-экономический
и
культурный
контекст
формирования диаспоры во второй половине XIX – начале XX вв.
предопределил появление подобных сельских этнокультурных анклавов
черкесов и в Османской империи.
Характерными чертами самобытного наследия новых адыгских
(черкесских) сёл стали кланово-родовые и земляческие кварталы, а также
патронимические связи и институт старейшин - носителей экономического
статуса, морально-этического и социального авторитета. Не утратили
значение и традиционные формы практической самоорганизации, в которых
62
особо стоит выделить институцию присяги как взаимной клятвы. Судя по
сведениям о том, как организовывалось крестьянское сопротивление в
моменты восстаний и гражданской войны, присяга имела особое ритуальное
значение для социальной и политической активности.
Исследователи отмечают также интегративный по своим последствиям
фактор
внедрения
инфраструктуры
политической
и
в
черкесскую
влияния
власти
знати
среду
духовенства,
и
прочно
приходской
не
религиозной
зависевшего
связанного
с
более
от
религиозными
институциями православного (часть моздокских адыгов) и мусульманского
мира.
Трансформация социально-экономического уклада в рамках парадигмы
капитализма и национальной государственности вела к изменениям
социальных диспозиций. Из числа в первую очередь узденей, духовенства и
старейшин
формировалась
интеллигенция.
В
её
среде
происходило
осмысление (семиозис) адыгской общности и идентичности в условиях новой
социальной и ментальной реальности.
Проследить, как менялось семиотическое сознание идентичности в
связи с изменением несемиотических реалий, можно на примере того, как
трансформировались мифы о происхождении абадзехов. Первоначальный
нарратив о появлении общности в долине Тубы в горах Большой Абаза после
переселения в зону политий Иналидов и принятия ислама дополнился мифом
о происхождении основоположников абадзехской общности из Аравии и
преданием о происхождении абадзехов от адыгской девушки по имени
Абазах [1, с. 357; 19, с. 2; 32, с. 53; 33]. Этот пример мы бы дополнили
словами старого шапсуга, записанными С. Джанашиа в 1929 году: «Таких
нравов и обычаев как у кавказских горцев, таких красивых обычаев ни у
кого, ни у одного народа не было и что это значит? Наверно, у этих людей
когда-то и где-то было государство. Разве эти нравы появились бы сами по
себе?» [14, с. 52]. Эти слова можно условно назвать лейтмотивом адаптации
прежней социокультурной идентичности к нациосфере. В условиях, когда
63
служившая основой уклада традиция перестает быть единственным
регулятором
отношений,
приобретает
значение
роль
безличной
государственности. Это, видимо, тот случай, когда, словами Э. Геллнера,
«культура требует государства» [131]. Характерно, что так Э. Геллнер писал
о примерах этнического национализма, в противоположность национализму
этатическому, когда «государство требует культуру» [170].
История семиозиса адыгской общности в этом отношении пережила
краткосрочный период перехода от идентичности «аристократического
социума» к представлениям об «адыгском народе» - субъекте истории.
Показательно в данной связи сравнение адресованных российскому
обществу первой половины XIX века репрезентативных дискурсов князя
Исмаила Атажукина и уорка Шоры Ногмова.
Выходец
из
самой
могущественной
фамилии
кабардинской
аристократии, сам претендовавший на единоличную власть в качестве
самоправного российского наместника на всей территории прежней
геополитии Иналидов, Исмаил Атажукин, полковник российской армии, в
самом начале XIX столетия подал на имя некоторых высших сановников
империи три записки, посвящённые в том числе и истории «черкесов» [140].
Читатель может видеть прямое воспроизведение нарратива Иналидов,
интерпретированное, впрочем, в таком ключе, чтобы представить их в образе
старинных защитников христианства и противников Османов. О народе в
исторической части «Записок…» речь практически не идет, кроме как о
«несчастных», спасённых некогда Иналидами от татар, но затем снова
оказавшихся в незавидном положении вследствие упадка аристократической
власти и нравов знатного сословия, усиления турецкого влияния и
злоупотреблений российской
администрации. Адыгской
идентичности
Исмаил Атажукин в своих «Записках…» не касается. Его дискурс можно
назвать последней попыткой семиозиса в пользу «аристократического
Ренессанса» в Черкесии.
64
Представитель рода, вероятно, происходившего из Абазы, незнатный
кабардинский уорк Шора Ногмов в своей «Истории адыхейского народа»
демонстрирует адаптацию семиозиса адыгской идентичности к новым
реалиям. Ногмов, как и Исмаил Атажукин, получил как мусульманское, так и
светское образование, владел несколькими языками. Получив ранение на
военной российской службе, перешёл на гражданскую, работал в том числе
учителем в Туземном училище Нальчика, был секретарем Кабардинского
временного суда. Рукопись Ш. Ногмова, посвящённая истории адыгов
(черкесов) в свете кабардинских преданий, впервые была опубликована
академиком, главой канцелярии кавказского наместника А.П.Берже в 1861
году, через 16 лет после смерти автора, на основании материалов,
сохранённых Российской академией наук.
В «Истории…» Шоры Ногмова основной субъект нарратива – народ.
Изложение строится на фольклоре и известных автору документальных
свидетельствах прошлого адыгов (либо полагаемых им как таковые). Надо
заметить,
что
фольклорных
аутентичность
источников
на
большинства
указываемых
сегодняшний
день
Ногмовым
неустановима.
Но
принципиально важно для нашего исследования в произведении этого автора
другое: мы видим попытку участия в формировании образа определённой
социокультурной
общности
в
соответствии
с
представлениями,
определяющими новое для неё семиотическое пространство. Отсюда
ассоциации «Истории…» Ногмова с «Историей…» Н.М.Карамзина, дискурс
исторической близости адыгов славянству и христианской культуре [39, с.c.
61, 78]. Само название народа Ногмов возводит к имени эпических предков –
нартов, полагая это слово идентичным имени сохранившихся в летописях
«антов» [39, c.58].
Как и Исмаил Атажукин, и все последующие представители поевропейски образованного слоя носителей адыгской идентичности, Шора
Ногмов
пишет
о
необходимости
просвещения
«погрузившегося
в
невежество» народа, но в то же время он дистанцируется от аристократии и
65
дворянства. Отмечая историческую роль этих сословий в защите народа от
исчезновения, он отмечает их нравственное вырождение, ведущее к
усилению злоупотреблений и гнета [39, c.c. 66, 75, 98]. В этой связи, в
отличие от И. Атажукина, Ногмов положительно оценивает введение в
Кабарде шариатских судов в конце XVIII столетия: «Вышеупомянутый
Адиль-Гирей Хатожукин с эфендием Исхаком Абуковым ввел между
кабардинским народом шариат, по которому преступники, все без изъятия,
по степени важности преступления, подвергались смертной казни и
телесному наказанию {…} Все претензии, касающиеся до имущества и
личных прав каждого, разбирались шариатом, а дела между князьями и
узденей с холопами решались по обычаям. Установление этого положения
принесло большую пользу народу; каждый боялся совершить что-либо
противозаконное» [39, c. 151]. Характерно и то, что сам Ногмов остался
мусульманином, в отличие от князя Исмаила Атажукина, принявшего
православное крещение (правда, по свидетельству пристава Кабарды
И.П.Дельпоццо, «снимавшего крест» при поездке к кабардинцам) [15, c. 18].
На наш взгляд, различия в сознании идентичности у Исмаила
Атажукина и Шоры Ногмова ярко обозначают суть происходивших в
социокультурном укладе адыгов перемен. Попытка Исмаила Атажукина
сохранить прежнюю парадигму общественных отношений потерпела
поражение
в
первую
очередь
на
его
родине,
где,
вопреки
его
противодействию, в 1801 году знать поддержала введение «шариатского
правления», отказавшись тем самым от части своего политического
суверенитета в пользу других сословий. Шора Ногмов, представитель
следующего поколения, стал современником глубокой трансформации
кабардинского общества. Утрата благородными сословиями своих прежних
властных и символических позиций, распространение новых норм и
представлений посредством как российского, так и мусульманского влияния
вели и к исчезновению прежней культуры, на что Ногмов отдельно обращает
внимание [39, c.57]. Хотя основная масса владетельных князей и уорков в
66
период
жизни
Ногмова
сохраняла
ещё
сословное
сознание
своей
идентичности, он в своей «Истории…» демонстрирует уже сознание
общеадыгской исторической общности, фундаментом которой выступает не
власть Иналидов (дискурс прежних времён), а единство происхождения и
судьбы (европейский дискурс). Во второй половине XIX века такие
воззрения будут уже когерентны представлениям «просвещённого» слоя
среди носителей адыгской идентичности, а в ХХ столетии это станет
особенностью
и
массового
восприятия
адыгов
в
целом,
что
засвидетельствуют и самим фактом своей публикации все последующие
переиздания книги Ногмова, начиная с 1947 года [39, c.14].
Однако крах политического суверенитета политий Иналидов и
Черкесской конфедерации предопределил тот факт, что ориентированное на
имена «адыгэ» или «черкес» национальное сознание не могло быть
государственной идентичностью. В народной массе развитие получила
идентичность этническая.
Само слово этнос появилось в научном и общественном обиходе
значительно позже, чем такие концепты как нация, цивилизация или
культура.
Два
последних
в
европейском
дискурсе
приобрели
как
универсальное, так и партикулярное значение. Именно во втором они входят
в одно поле с тем, что относится к категории этнического: общности,
отличающие себя от других (либо отличаемые другими) в первую очередь по
культурным признакам.
В Новое время секуляризованная европейская наука стала использовать
определение
ethnique
или
ethnic
по
отношению
к
культурам
«нецивилизованных» народов, не обладающих политическим единством.
Понятие об этничности стало своеобразным представлением о культурном
суверенитете, как основе специфики той или иной исторически сложившейся
общности [170, с. 22]. Е.Л.Торопова в работе «Дух американизма и
маргинальная
этничность»
охарактеризовала
это
как
следствие
67
цивилизационного снобизма: «любая самобытная культура становилась
попросту этнической - …своя культура этнической быть не могла» [173].
Со второй половины XIX века смыслосфера этнического в англо- и
франкоязычных
публикациях
становится
синонимичной
понятию
о
«примитивных культурах». В 1896 году Вашер де Лапуж - последователь
«расового теоретика» Ж. Гобино - ввёл в оборот термин ethnie («этния»). Он
сделал это для того, чтобы отличать клановые, племенные и прочие
отношения «примитивных народов», основанные на общности языка,
происхождения и т.д., от понятия о расе [135, с. 9]. Понятие об этнических
группах отчасти смешивалось терминологически с
национальностью
(nationality, nationalité) – «обозначением группы людей, говорящих на одном
языке или близко родственных диалектах, поддерживающих общую
историческую традицию и составляющих (или считающих, что составляют)
особую культурную общность» [79, с. 16; 170, с. 25].
В ХХ веке в обиход начало входить существительное этнос, а
этническое стало восприниматься как универсальная категория, хотя
очевидно, что цивилизационный снобизм сохраняется у западных авторов до
сих пор [170, с. 22, 30; 123; 216; 266]. Но нас интересует то, что
распространению понятию об этническом изначально способствовала его
антитеза
национальному.
Различие
национального
от
этнического
заключается в аспекте идентичности: в отличие от национальности, этнос
является носителем не политического суверенитета, а культурного. Это
отчасти семиотическая игра смыслов, но за ней стоит, на наш взгляд, вполне
обоснованная попытка отразить историческую реальность.
В этнографической литературе встречаются примеры того, как смена
природных ландшафтов и хозяйственных укладов традиционного социума в
течение
одного-двух
поколений
приводит
к
смене
парадигмы
его
социального устройства, языковой идентичности и даже самоназвания [99;
266]. По мнению Ф. Барта, этнические границы пролегают в сознании людей,
они связаны с комплексом причин социальной и пространственной
68
стратификации,
ведущих
к
осознанию
культурных
различий.
Для
существования обособленных, но не изолированных этнических групп
необходимо поддержание между ними границы. В качестве таковой служат
элементы культуры, отбираемые самими членами этнической группы для
подчеркивания своих отличий от окружающих и потому воспринимаемые
как этнические маркеры. Содержание якобы целостного культурного
комплекса может меняться, как и сами маркеры, но в той мере, в какой
сохраняется противопоставление (различие), - сохраняются и этнические
группы. «Другими словами, первична сама граница, а не удерживаемое ею
культурное содержание» [170, с. 84].
Факторы происхождения и языка играют второстепенную роль по
сравнению
с
социокультурной
средой
и
полем
представлений,
определяющих самоидентификацию. Ф. Барт и ряд других авторов обращают
внимание на первичность существующих в ментальной сфере границ между
общностями по отношению к фиксации культурных различий в качестве
(этнического) маркера в сознании носителей той или иной идентичности.
Содержание культурной специфики, как маркера различий, может меняться,
но граница между общностями сохраняется до тех пор, пока существует
основание для различий в жизненном укладе. Таким образом, Ф. Барт
оспаривает положение, согласно которому культуры дискретны и отдельным
человеческим коллективам свойственны четко ограниченные культурные
комплексы. Общая культура - это скорее следствие или результат, чем
изначальная и определяющая характеристика организации этнических групп
[99, с. 18].
Подтверждением тому может служить история адыгской этничности.
После того, как общества, разделявшие адыгскую и/или черкесскую
идентичность, утратили свой политический суверенитет, а патронимия
потеряла прежнее значение для организации социальной жизни, общность
культуры стала очевидно гораздо более весомым признаком границы,
отделяющей адыгов от других. Это подтверждает, в частности, динамика
69
дихотомии адыгэ жылэ – абаза жылэ. Однако социополитические
изменения
были
фактором,
реализовывавшим
уже
существовавший
потенциал условий.
Прежде всего, базой для формирования адыгской этничности являлось
наличие хэку (адыг. «родной край», «середина людей»). Это то, что мы,
пользуясь терминологией П. Бурдье, условно назвали хабитатом – местом
обитания, формируемым габитусом человеческих взаимоотношений [124, с.
59]. О географических и политических границах этого исторического ареала
формирования современной адыгской этничности мы говорили выше,
рассматривая диахроническую динамику этносоциальной дихотомии адыгэ
жылэ – абаза жылэ. Необходимый уровень коммуникации в пределах этого
пространства обеспечивался единством языка и достаточной степенью
живых контактов между «ведущими» социальными слоями.
Однако факторы геоэкономического либо геополитического характера
лишь обуславливали границу, а коммуникация только обеспечивала
взаимосвязь в её пределах. Что же касается тех культурных признаков,
которыми
адыгская
идентичность
обосабливалась,
то
они
в
квинтэссированном виде выражены в понятии об адыгэ хабзэ. Вернее, в
доступной для анализа динамике роли этого понятия в общественной жизни.
В условиях отсутствия развитой государственности на Северном
Кавказе, при многовековой преемственности укладов и культур, социальные
отношения, как на локальном, так и на региональном уровне, строились на
авторитете традиции. В условиях преобладания устной культуры как среди
народной массы, так и среди социальной элиты, адекватным отражением
сути традиции было представление о языке. Именно это значение закреплено
в адыгском слове хабзэ – «язык бытия среди людей». Очевидно, что такой
язык подразумевает большее, нежели просто устная речь. Люди на Кавказе,
не зная языка друг друга, в ходе общения понимают подтекст культурного
поведения: причины и формы выражения благодарности, уважения, аффекта,
70
гнева, мотивации, а также формы самовыражения или проявления этики
коммуникации (культурные жесты) и т.д.
А в эпоху отсутствия государственности универсальные для региона в
целом нормы (практики) наподобие куначества, гостеприимства, чести,
уважения к старшим и т.д. могли приобретать почти что сакральное
значение. Более того, чем ответственнее был социальный статус, тем
формализованнее и строже было отношение к собственному поведению.
Связь ритуализированных норм поведения горских народов Кавказа с
отсутствием государственности, на наш взгляд, очевидна. В условиях, когда
существование общества зависело от собственной адекватности, а не от
внешней силы принуждения, вполне объяснимо не только ритуальное
отношение к нюансам внешних самопроявлений, но и интересный феномен
баранты. Это был принцип «равное за равное», в соответствии с которым
измерялся даже возможный объем захвата пленных или угона скота при
взаимных набегах, не говоря уже о праве поднимать на кого-то руку.
Значение устного слова для поддержания общественного устройства и
обеспечения общего геосоциального пространства побудило Х.Г.Тхагапсоева
использовать в отношении социальной истории Северного Кавказа термин
цивилизация лектона [245]. Сутью его концепции является выделение
специфических для данного региона аспектов социокультурного развития,
объединяемых парадигмой традиции. В отношении исторической Черкесии
мы можем видеть в качестве примеров лектона приоритет коллективной
воли над авторитарной, выражавшийся в механизмах реформирования и
утверждения
норм
хабзэ.
Особенно
наглядно
это
происходило
в
рассмотренный нами выше период национальной консолидации обществ
сословной этнии Кабарды и «демократических социумов» Северо-Западного
Кавказа во второй половине XVIII - первой половине XIX вв.
В указанный период мы видим попытки реформировать хабзэ в
подобие государственных законов, в том числе письменно фиксируемых [9;
39; 45]. Крах политического суверенитета свернул возможность такого рода
71
трансформаций
традиции
исключительно
культурных
и
способствовал
значений
переходу
самобытности.
хабзэ
Вернее,
в
поле
данное
утверждение правомочно в отношении смысловой связки адыгэ хабзэ.
Просто хабзэ остается в адыгском языке универсальной категорией и может
использоваться
в
значении
государственного
законодательства
или,
например, религиозной традиции.
Именно в культурных смыслах концепта адыгэ хабзэ кроется
понимание специфики современной адыгской этничности и проблем
национального сознания среди адыгов.
С точки зрения принятого в семиотике подхода Ч. Морриса, хабзэ
можно сравнить с интерпретантом, то есть воздействием, в силу которого
нечто – в данном случае, имя «адыгэ» - становится знаком [236, с. 14; см. тж.
186]. В то же время, хабзэ представляет собой кодовое пространство,
раскрывающее концепт и формирующее восприятие имени, создающее
соотнесённую с ним «культурную компетенцию». При этом концепт хабзэ –
это тоже знак, а знак должен интерпретироваться, так как иначе он
недоступен сознанию. Способность «области значений» к автономному
существованию от социального контекста предопределяет возможность
изменений [124, с. 27; 96; 198, с. 21]. Многое зависит от культурного
содержания исторических процессов, от направленности, мотивов и
результатов деятельности агентов
сознания, от качества семиотического
диалога, наличия или отсутствия возможностей освоения нового, его
перевода и адаптации [186].
Вопрос о генезисе подобного культурного поля обращает нас к теме
социокультурной стратификации обществ с учетом занимаемых ими
пространств и разделяемых ими укладов. Иными словами, к вопросу о
распределении культуры [189]. Социальный строй, характер социальных
взаимоотношений и культурного сознания, экономический уклад и модели
политического поведения на Северном Кавказе в эпоху политической
самобытности можно определённым образом градуировать. С
одной
72
стороны - соотнести с зонами природного ландшафта, с другой – с уровнями
социальной стратификации.
Повсеместными были отношения патронажа-патронимии и связанная с
ними социально-экономическая, политическая и культурная стратификация.
Через патронимические связи и каналы коммуникации культурные нормы
объединяли весь регион во взаимосвязанное цивилизационное пространство.
Любой, кто оказывался в его пределах, идентифицировался в отношениях
хабзэ как гость, друг, враг или пленник, и таким образом включался в
местную социальную среду. Это пространство существовало в определённых
территориальных границах, межевавшихся по линиям политического
соприкосновения
патронимий
с
учетом
статусной
стратификации.
Аристократия и уздени, как патронимический социальный слой, были
включены в международные отношения. Именно патронимический слой
узденей и аристократии был гостеприимцем, опекуном и информантом
немногочисленных
путешественников,
оставивших
нам
описания
идентичностей и нарративов Черкесии до XIX столетия. Именно слой
социальных
элит
Черкесии,
как
«демократических»,
так
и
«аристократических» обществ, презентировал внешним источникам местное
население как дискретные целостности под именем «черкесов», «адига»,
«кабардинцев», «бжедугов» и т.д. Они оказывали значительное влияние на
формирование
коммуникационного
позволяло
в определённой
им
Аристократия
в период
своего
и
культурного
степени
пространства,
манипулировать
политического
что
обществом.
могущества являлась
олицетворением горской культурности и владела наиболее разработанным
этикетом, бывшем «притчей во языцех» [100, с. 22].
Мы не утверждаем, что «генератором» фундаментальных норм и
культурных паттернов являлся тот или иной социальный слой. Для нас важно
подчеркнуть характер социокультурной организации общества в прошлом.
Он предопределял реалии сознания, отличные от сегодняшних, но
контекстуально связываемые с ними. Если принципы формирования местной
73
«цивилизованности» могут рассматриваться как идентичные описанным Н.
Элиасом в отношении «прогресса цивилизации» среди европейских обществ,
наследовавших культурность придворных слоёв, то социальный локус хабзэ
был (в отличие от цивилизованности европейского «света») практически
тотальным для местного населения. Такому охвату культурных норм
способствовали ограниченность реферативного социального круга основной
массы населения, малый масштаб локусов сознания, формирование общего
кругозора и мировоззрения в реалиях автономной от инокультурного мира
повседневной среды.
Исторически наименее вовлечённые в местное цивилизационное
пространство общности, подобные хакучам на Северо-Западном Кавказе,
были
наименее
подвержены
социокультурным
трансформациям.
И
османский путешественник Эвлия Челеби в XVII веке, и российские
источники в XIX веке характеризуют хакучей как «не племя и не клан, а
сброд», с самыми архаичными укладом и менталитетом, всем враждебный,
«даже убыхами и абадзехами» характеризуемый как «разбойники» [10; 55, с.
72]. Жёсткость характеристик очевидно объясняется источником оценок –
социальным слоем элит, влиянию которых хакучи были наименее
подвержены.
Наличие
коммуникационного
пространства,
структурированного
отношениями хабзэ, предопределяло возможность распространения идей и
консолидации бесписьменных обществ региона. Можно утверждать, что в
самобытном прошлом адыгов общественные отношения зиждились на
ментальном (символическом) универсуме, концептуально описываемом
понятием хабзэ. Иначе говоря, в самобытном прошлом народов региона
сознание пребывавшего в условиях культурной автономии населения
определялось
универсумом
государственности
выполняла
хабзэ.
Это
культура,
означает,
объединявшая
что
в
функции
себе
и
легализовывавшая в сознании социума обычное право, этику поведения,
социальные институты, обряды и т.д. По сути, отношения в контексте хабзэ
74
являлись
структурой
социального
пространства,
характеристикой
социальной среды. По отношению к самобытному наследию носителей
адыгской и черкесской идентичности можно утверждать, что концепты
«культуры», «цивилизованности», «государственности», «нации», «этноса» соотносились с установками, нормами и практиками хабзэ.
Апелляции к справедливости, понимаемой как соответствие обычаям,
умеряющим произвол и обеспечивающим возможность спокойной жизни и
развития, показывают нам историческое предназначение хабзэ [1; 54]. Его
регулятивные функции отразились в нормах социального общежития: всякая
активность должна была санкционироваться культурными нормами и
представлениями, с ними соизмерялись любые отношения и личностные
проявления, как позитивные, так и негативные. Культурные поля (границы)
хабзэ ограничивали произвол, структурировали групповое и индивидуальное
поведение,
регулировали
социальные
взаимоотношения,
обеспечивая
коллективное выживание, задавая габитус культуры. Лучше понять этот
габитус помогает тезис К. Лоренца об одной специфически человеческой
функции культурной ритуализации, состоящей в «создании независимых
символов, которые становятся общепринятыми и рассматриваются как часть
общества». С помощью символических концептов или, другими словами,
семиозиса, осуществлялись функции ритуала, выделенные К. Лоренцем:
коммуникация, контроль агрессивности, консолидация [108, с. 84].
В этой связи также уместно вспомнить концепцию необходимости
формирования единого социального пространства П. Бергера и Т. Лукмана
[109]. В историческом прошлом хабитата Черкесии обеспечение подобного
единства возлагалось на «язык культуры», то есть на хабзэ. Что позволяет
говорить о нём в категориях «идентичность хабзэ», «идеология хабзэ»,
«сознание в контексте хабзэ» и т.п.
Этос и эмос хабзэ проявились в доходящей до сакральности
ритуализации различных аспектов человеческих взаимоотношений: в этике
общения, в гендерных проявлениях силы, мужества, женственности, чести,
75
достоинства, уважения, почитания, неприязни и т.д. Через ритуализацию
соответствующих практик формировался этикет, а также институты
гостеприимства,
куначества,
аталычества
и
др.,
определявшие
инфраструктуру общественных связей и коммуникации.
Исторически
воплощение
норм
хабзэ
обретало
собственное
темпоральное содержание в межвозрастных, гендерных, межсословных,
межкультурных взаимоотношениях. В отношении социальности важной
особенностью телеологии хабзэ являлся статус личности. С точки зрения
стратификации
общества
вертикальные
и
горизонтальные
формы
коллективной идентичности были одинаково направлены на обеспечение как
обязанностей, так и прав каждого индивидуума. Признание права на
повседневное уважение и место в социетальных практиках и ритуалах за
каждым (от раба до князя) - являлось символическим воплощением
представления о человеческих правах. Это вежество хабзэ было ядром
социальных отношений и, следовательно, основным фактором как для
консолидации, так и для возникновения конфликтов. В ментальном плане
ключевое для хабзэ право личности на уважение можно считать основой
исторической динамики содержания традиций, во взаимосвязи с динамикой
социальных отношений и характером реакций на внешние и внутренние для
данной социокультурной среды коллизии и вызовы.
Но ключевое значение для понимания исторической культурной
специфики семиосферы имени «адыгэ» имеет контекст самобытности,
заложенный в понимание адыгэ хабзэ. По мере утраты административной
автономии в адыгском обществе концепт имени «адыгэ» отделялся от
концепта хабзэ как от обозначения политического уклада или правовых
установлений [39; 274]. Семиосфера адыгэ хабзэ трансформировалась в ходе
культурно-исторических процессов из характеристики общего социального
уклада в понятие культуры в конкретном смысле: в сферу обычаев, норм
поведения, обрядов жизненного цикла, бытовой этики.
76
Такое явление можно расценивать и как свидетельство того, что
концепт имени «адыгэ» исторически отражает понятие о самобытности. Он
выступает в качестве маркера границы самообособления общности,
занимающей определённую территорию, разделяющей определённый уклад,
говорящей на отдельном языке и образующей собственное социокультурное
пространство, в прошлом - политически автономное. Маркер границы
обладает не только пространственно-территориальным реферативом, но и
средовым.
Именно
когерентная
среда
повседневной
социализации
исторически предопределяла идентичность адыгэ хабзэ. Весьма показательно
явление культуроцентризма традиционной этики адыгэ хабзэ: несоответствие
поведения принятым нормам и обычаям воспринимается как несоответствие
имени «адыгэ».
Очевидно, что структуризация отношений в поле хабзэ формировала в
прошлом «эффект единства», «благодаря которому народ предстаёт во
всеобщем мнении в качестве народа» [98, с. 110]. «Эффект единства»
достигается когерентностью сознания. Как отмечал советский этнограф
А.Г.Агаев, «территория {...} язык {...} хозяйство {...} в сложном переплете
исторических, социально-экономических, мировоззренческих, религиозных,
этнических, этнографических и географических условий в процессе
консолидаций
и
дифференциаций,
смешения
и
растворения,
взаимопроникновения и разъединения порождают сознание этнического
единства народа» [79, с. 18]. По мнению А.Г.Агаева, «сознание единства»
может
сочетаться или
самостоятельности».
трансформироваться
Именно
такое
сознание
в «сознание этнической
становится
этническим
самосознанием в современном понимании: исторически обусловленным
соотношением между такими видами социальных связей как территория,
язык, происхождение, государственная принадлежность, экономические
связи, культурный уклад, религия и др. Так рождается этническое
самосознание, «посредством которого субъективно определяется в наше
время этническая принадлежность того или иного лица, той или иной
77
социальной группы» [79, с. 18]. Именно сознание своей этнической
«самостоятельности»
как
«особости»
становится
границей
между
этническими идентичностями, как показывал это на материалах полевых
исследований, в частности, советский этнограф П.И.Кушнер (Кнышев), за 20
лет до публикации схожих результатов Ф. Бартом и его коллегами на Западе
[79, с. 17].
В России в дореволюционную эпоху имела место социокультурная
автономизация адыгского (черкесского) села, обусловленная факторами
политического и экономического порядка [196]. В эпоху вхождения в состав
Российской
империи
вызов
традиционным
общественным
устоям
спровоцировал в черкесских социумах конкуренцию проектов национального
будущего и национального сознания. Объективная логика проявлений
сознания
воинственных
самостоятельность,
сообществ,
выражалась
в
стремившихся
относительной
сохранить
свою
консолидации
и
сопротивлении. Идеология сопротивления и его формы, содержание развития
планов сознания были уже следствием более субъективных факторов.
Сценарий развития событий и динамика социокультурной ситуации,
обусловленные историей, социальным укладом и культурной спецификой
участвовавших сторон, оказались вполне предсказуемы: диалог не состоялся,
сопротивление было подавлено. Началась адаптация к новым условиям
жизнедеятельности. Часть активных носителей политического сознания
эмигрировала,
увлекая
с
собой
родственный
круг,
подданных
и
соплеменников, а оставшиеся приспосабливались к принципиально иному
модусу общественного бытия.
Реформы российских властей на Кавказе, по сути, способствовали
социальной гомоморфизации образа жизни адыгского населения: ликвидация
формальной межсословной зависимости, объединение малых аулов в
крупные
сёла,
формирование
и
сохранение
общинного
уклада
землепользования, локализация для выходцев из местных социумов
возможностей карьеры и материального благополучия на родине и т.д.
78
Социально-экономические трансформации и реформы, происходившие
в течение XIX века, привели к сближению значительной части уорков и
крестьян, к их слиянию в культурно автономную социальную целостность.
Новая социальная среда, соединённая с мусульманством и идентичностью
хабзэ, стала ментальным универсумом в моноязычном семиотическом
пространстве. Подобные процессы охватили и оставшееся на родине
меньшинство бывших «демократических» обществ Закубанской (Западной)
Черкесии. Они, если и не разделяли прежде адыгскую идентичность, то
усвоили её. За рубежом, в условиях диаспоры, черкесские сёла оказались в
аналогичных условиях.
Данная среда стала основой современной адыгской этничности культурной общности, маркируемой понятиями адыгэ хабзэ, адыгагъэ и
пространством адыгского языка. Формирование современного этнического
самосознания среди
стратификации,
в
адыгов стало возможным после утраты сословной
ходе
ликвидации
политической
автономии.
На
закономерность подобных явлений указывал П.И.Кушнер: «этническое
самосознание (национальное самосознание) меняется у человека или
общественной группы лишь как конечный результат уже завершенных
перемен в материальной культуре и социальном быте» [79, с. 17].
Мы полагаем, что именно наличие специфических социальноэкономических
условий
предопределило
сохранение
относительно
самобытной социокультурной среды адыгских (черкесских) этносоциальных
анклавов во второй половине XIX – первой половине ХХ века. Здесь
«эффект» и «сознание единства» стали основой для культивации адыгской
этничности в контексте адыгэ хабзэ и специфического концепта адыгагъэ
(«то, что делает адыгом»), который можно назвать символическим кодом
имени «адыгэ». Однако к этому историческому периоду константы
этнокультурной
общности
были
уже
очевидно
предшествующих процессов развития семиосферы хабзэ.
результантами
79
К последнему периоду политической автономии адыгэ хэку (хабитата
Черкесии) фольклор относит жизнь и деятельность реформатора адыгэ хабзэ.
Фигура Жабаги Казаноко символизирует парадигму общеэтнического,
общесоциального
этического
габитуса.
Современные
исследователи
идентифицируют время жизни этого мыслителя и общественного деятеля как
первую половину XVIII века или последнюю четверть XVII – первую
четверть XVIII века [207; 264]. В устной традиции статус фигуры
интеллектуала Казаноко является эпистемологическим казусом – однозначно,
что с границы, прочерчиваемой символом этой фигуры и её наследием,
воинская культура и авторитет князей не могли больше быть конечным и
общим мерилом адыгства. С именем Жабаги Казаноко увязывается комплекс
притч, поговорок и пословиц, а также преданий, в которых задается
определённый
модус
понимания
адыгства
в
смысле
человечности
(цIыхугъэ), культурности (щэнхабзэ), в рамках общих для всех носителей
адыгской идентичности культурных стандартов и норм, требующих
духовности и рефлексии [264].
С именем Казаноко связывается отчасти и контекст мусульманской
идентичности.
Исламизация,
ставшая
следствием
национальной
консолидации в XVIII – первой половины XIX вв., привела к росту влияния
духовенства. Масса населения была охвачена религиозной инфраструктурой:
мечетями, шариатскими судами, кружками по изучению арабской грамоты и
Корана [34; 78; 204]. Духовенство отправляло чрезвычайно важные для
традиционного общества обряды жизненного цикла, регулировало обычноправовую жизнь народных масс. С утратой политической независимости
роль и влияние духовенства ещё больше возросли. Это объяснялось тем, что
утрата политического суверенитета привела к осознанию суверенитета
культурного. На фоне деградации административного и культурного статуса
знати, в условиях трансформации прежней самобытности культурного
пространства, росло значение формальных носителей тех знаний, которые
способствовали бы сохранению парадигм традиционной культуры в новых
80
условиях. Важное значение для традиционной социальности имели факторы,
обеспечивавшие относительную социокультурную автономию среды. Этим
объясняется
историческое
значение
мусульманской
идентичности
и
соответствующей религиозной инфраструктуры для дальнейшего развития
адыгэ хабзэ.
В России горское население Северного Кавказа рассматривалось
властями и обществом как «туземное», культурно иное и отсталое. Но мер по
массовому «просвещению» горцев и их приобщению к европейскому
цивилизационно-культурному коду практически не предпринималось. Это
вполне соответствовало общей ситуации глубокой социально-культурной
стратификации всего населения Российской империи [201]. Мусульманская
религиозная инфраструктура была институционализирована российскими
властями и взята под материальную опеку государства. Однако в вопросах
образования мусульманское духовенство на Северном Кавказе было на
практике
автономно
и
в
адыгских
социумах
ориентировалось
преимущественно на зарубежное влияние. В быту горцев было сохранено
судопроизводство согласно нормам шариата и адата [83; 116; 117]. Народная
масса, не знавшая русского языка, по-прежнему пребывала в состоянии
устной культурной традиции. Системы общего образования на родном языке
не существовало, единственно доступной для основных социальных слоёв
образовательной возможностью были элементарные занятия при мечетях и в
кружках у мулл [1, с. 263; 78].
Духовенство выступало в качестве мировоззренческого наставника и
авторитета, выполняло ритуальные функции, являлось проводником в
семиотическое
пространство
глобального
мира,
концептуально
и
терминологически трактуемого в русле мусульманской традиции. При этом
происходил процесс адаптации новых культурных знаний и форм к
контексту актуального состояния самобытной культуры. Показательным
примером может служить трансформация в семантике адыгской речи
значений усваивавшихся инолингвистических концептов [93; 114].
81
Взаимосвязь
семиотического
значения
религии
и
религиозной
идентичности с необходимостью адаптации традиционной культуры к
условиям личного и коллективного бытия после утраты автономной
модальности подтверждается примером небольшого анклава адыгов –
православных христиан, возникшего под Моздоком в XVIII столетии.
Несмотря
на
иное
вероисповедание,
они
разделяют
адыгскую
этнокультурную идентичность, ключевым понятием которой является адыгэ
хабзэ. Другой характерный пример – бытование идентичности хабзэ без
отношения к религии, ставшее возможным среди адыгов со второй половины
ХХ века в контексте процессов урбанизации и секуляризации.
Что касается адыгской диаспоры в Османской империи, то здесь
формированию
и
сохранению
социально
автономной
среды
могло
способствовать соединение фактора сознания своей культурной особости с
политикой властей, нередко использовавшей черкесских эмигрантов
для
создания лояльных анклавов в полиэтничных районах. Необходимо заметить,
что процесс эмиграции в Османскую империю – мухаджирства –
продолжался на Северном Кавказе вплоть до 1920-х годов. В то же время, в
диаспоре сохранялось влияние интегрировавшейся в местные социумы
прежней элиты из привилегированных сословий. Духовенство же выполняло
по отношению к этнической культуре роль противоположную той, которую
играло в России - не автономизирующую, а интегрирующую. Религиозная
идентичность являлась одним из основных условий адаптации.
После ликвидации Османской империи и разделения адыгской
(черкесской) диаспоры по новообразовавшимся национальным государствам,
она оказалась среди процессов трансформации социально-экономических и
информационных основ прежней культурной особости и общности. По своим
последствиям эти процессы были аналогичны происходившим на родине.
Однако столь целенаправленному уничтожению и «переформатированию»
прежней элиты адыгская (черкесская) диаспора за рубежом не подверглась.
82
Чем среди прочего объясняется мало исследованная культурная разница с
соотечественниками на исторической родине.
2.2.
Социокультурная
автономия
как
фактор
развития
политического сознания адыгов в конце XIX - первой половине ХХ вв.
Автономия
адыгского
(черкесского)
села
проявила
себя
в
коллективных поведенческих стратегиях, которые можно интерпретировать
как относительные проявления сознания своего политического суверенитета.
Такие примеры даёт, в частности, история гражданских войн в России и в
Турции в первой четверти ХХ века. В этот период коллегиальными
решениями носителей социального авторитета – старейшин и представителей
духовенства - население адыгских (черкесских) сёл мобилизовывалось на
борьбу за собственные интересы.
В
Турции,
судя
привилегированного
по
слоя,
имеющимся
сведениям,
интегрировавшегося
в
в
отличие
от
европеизированную
национальную элиту, значительная часть сельского населения поддержала
движение так называемых «халифатистов», выступавших с позиций
османизма против идеологии светского государства «турецкой нации». По
имеющимся у нас сведениям, политическая самостоятельность старейшин
селений выходцев из обществ абаза жылэ в Турции предопределила
репрессии по отношению к ним в 1920-е годы со стороны властей новой
Турецкой Республики.
В России, в Закубанской Черкесии, на первом этапе Гражданской
войны адыгские сёла оказывали поддержку правительству Кубанской Рады,
сохранявшему устраивавший черкесское население порядок. Но затем, в
контексте борьбы советских властей с Деникиным и в результате
предпринятых ими мер по привлечению духовенства и старейшин, население
черкесских аулов поддержало Советы [147]. Что касается Кабарды, то здесь
известен исторический феномен «красного шариатизма» [57; 204]. Это было
83
движение
массовой
поддержки
обретшим
самоуправление
сельским
населением лозунгов Советской власти о передаче земли крестьянам. При
этом выдвигались требования установления шариата, интерпретируемого как
символ
социальной
справедливости
и
собственной
идентичности.
Характерно, что знакомых с реальной шариатской практикой среди по
большей части довольно невежественного адыгского духовенства оказались
единицы [235, c. 45]. Временные успехи Деникина на Северном Кавказе
побудили кабардинские сёла выполнять его требования о военной
мобилизации, но это можно рассматривать как подтверждение основного
мотива политического поведения сельских элит и обществ: выжить, по
возможности улучшив своё положение.
Обусловленная
социокультурные
транслировавшимися
институты
особенностями
через
традиционные
коллективного
быта
организованность адыгского крестьянства проявилась в создании структур
самоуправления из числа сельских старейшин, в принятии коллективных
решений и в формировании отрядов, принимавших участие в боевых
действиях. Военный потенциал был во многом связан с наличием в сельской
среде
выходцев
из
прежнего
военного
сословия
уорков,
частично
превратившихся в слой, лишённый определённого, твёрдого социальноэкономического статуса.
В аналогичном ключе можно рассматривать и некоторые примеры
политической самоорганизации черкесских сёл на Ближнем Востоке в ходе
Первой мировой войны и последовавшего затем периода нестабильности.
Интерпретировать политическое поведение адыгского крестьянства в
первой четверти ХХ столетия как проявление национального сознания
можно только условно. Так как основным фактором этого поведения было
опосредованное культурными формами и традиционными этическими
категориями отношение к существующему социально-экономическому
укладу. То же можно сказать и о ходе борьбы адыгских (черкесских)
социумов за свой политический суверенитет в XVIII – XIX вв.
84
Характерный пример представляет собой сопоставление исторической
судьбы «аристократических» и «демократических» обществ черкесов.
Культурная тотальность социальной среды предопределила катастрофу,
постигшую
социумы
Западной
Черкесии
в
силу
их
группового
коллективизма. Крестьянская среда адыгских (черкесских) анклавов первой
половины ХХ века также сплачивалась институциональными формами и
этическими нормами, отражавшими автономный коллективизм. Но благодаря
включённости этой среды в иной, более широкий спектр социальноэкономических отношений, властям удалось сломить её сопротивление
модернизации 1920-1930-х гг. малой кровью. Последними вспышками
попыток организованного сопротивления автономной сельской общины
стали выступления против большевиков и коллективизации в 1920 – начале
1930 – х гг. После них прежняя элита в лице духовенства и старейшин
перестала существовать. Как и дореволюционный образованный слой, она
была либо интегрирована на индивидуальном уровне в новое общество, либо
репрессирована.
Рамки
культурно-исторического
подхода
позволяют
видеть
своеобразную социокультурную логику событий: определённый уровень
социальной автономии наиболее зримо отражался в поведении сельской
элиты, выступавшей политическим, экономическим и культурным центром
общественного сознания.
Соответственно, в контексте социально-экономических трансформаций
были реализованы меры по смене экономического уклада и социальной
структуры адыгских (черкесских) сёл, нивелировавшие значение сельской
элиты.
В
России
«национальных
это
кадров»
было
и
достигнуто
массового
политикой
образования
формирования
(просвещения),
одновременно с борьбой против «религиозных и старобытных пережитков»,
а также раскулачиванием и коллективизацией. Прежняя автономная
инфраструктура коллективных взаимоотношений в политическом плане была
ликвидирована, трансформировавшись в новые отношения патронажа и
85
взаимодействия, для которых традиционное хабзэ могло выполнять
второстепенную роль в качестве внешних поведенческих ситуативных
практик [141, с. 206].
Культурное
значение
института
старших
какое-то
время
ещё
сохранялось в общебытовом отношении, хотя процесс урбанизации и
включения в глобализирующуюся коммуникационную среду продолжал
размывать её традиционный статус. Колхозный строй, формирование и
легитимизация советским государством полей национальной культуры
малых
народов
и
парадигмы
«советского
социализма»
несколько
компенсировали и консервировали традиционную ментальность адыгского
(черкесского) села. Однако традиционная среда была утрачена вместе с
социальным стержнем, на котором зиждилась её автономия, а культурные
изменения стали очевидны в момент кризиса государственной модели и
смены социально-экономического строя. В частности, в настоящее время
можно
констатировать
элементарное
отсутствие
соответствующих
традиционным понятиям «старших», именно как структурного социального
слоя «старейшин».
Другой важный для нашего исследования вывод из последствий выхода
адыгской этничности из состояния социокультурной автономии: подрыв её
актуальной взаимосвязи с прежним габитусом, с адыгэ хабзэ.
Несмотря на то, что на протяжении столетий большое количество
адыгов покидало родину, оказываясь в тех или иных странах, их адыгская
идентичность держалась на протяжении лишь одного-двух поколений,
оставляя затем по себе разве что воспоминания. Это было связано с
хабитальным критерием поддержания этничности: лишь в поле отношений
адыгэ хабзэ воспроизводилась специфика связанного с ним сознания, и это
требовало наличия соответствующей среды. Появление анклавов адыгочеркесской диаспоры во второй половине XIX века стало единственным
известным
примером
воспроизводства
пределами родины – хэку.
хабитальной
среды
хабзэ
за
86
Однако трансформация социального уклада предопределила разрыв
прежнего габитуса отношений с реальностью. Драматическим проявлением
сути перемен стали репрессии против старейшин и политической общинной
автономии, имевшие место в Советской России и в кемалистской Турции. В
СССР
болезненные
процессы
коллективизации,
«раскулачивания»,
подавления сопротивления, сменившиеся затем урбанизацией (меньшей по
масштабам, чем в диаспоре) «взломали» традиционную среду, лишив её
самодостаточности.
Отныне
хабзэ
перестало
быть
универсумом
повседневной социализации, гражданская идентичность, государственный
уклад и общественная жизнь в масштабах всего государства стали более
значимыми с точки зрения жизненных практик. Достигшее немалого размаха
в период репрессий доносительство односельчан друг на друга, их
противостояние вокруг новых отношений власти и влияния стали, возможно,
первыми убедительными признаками кризиса традиции как стержня
общественной жизни. Её место заняло государство.
Понимание связанного с кризисом традиционной среды кризиса
сознания хабзэ имеет важное значение при анализе проблемных проявлений
этнического и национального сознания среди адыгов в наши дни. Упадок
хабзэ, в частности, прямо связан с ростом этнического национализма и
религиозного экстремизма, акцентирующихся на этом упадке.
А такое явление, как смена среди современной молодежи приоритетов
с труда на «присвоение», показывает нам какую роль играет актуальный
характер взаимосвязи культурного сознания с укладом жизни носителей
соответствующей идентичности. Информационное или, лучше сказать,
семиотическое пространство современной адыгской молодежи полно образов
адыгских воинов, черкесских красавиц, национальных танцев, песен об
адыгах, а также орлов, коней, требований о компенсации за «геноцид» и
лозунгов о борьбе за национальные интересы. Но в этом семиотическом
пространстве практически не заметно образов труда и человечности как
моральной нормы, которые были смыслом жизни поколения бабушек и
87
дедушек, воспитанных в традиционном духе адыгского села. Здесь, на фоне
соответствующих изменений социоэкономической парадигмы в пространстве
повседневной
жизни,
можно
разглядеть
признаки
своеобразного
возрождения духа уэркъ хабзэ, более внимательного к этикетным деталям и
позам, чем этика адыгского села конца XIX – середины ХХ века, но менее
требовательного к моральным ценностям и человеческой солидарности.
При этом, если говорить в данном контексте о национальном сознании,
то необходимо проводить определённую грань между его восприятием в
соответствующем
(европейском)
цивилизационном
дискурсе
и
теми
мотивами, которые движут массами.
Широко цитируемое вопросительное утверждение о том, что «может
заставить человека умереть за абстрактную национальную общность», на
самом деле относится скорее к идеологии национализма [81, с. 32]. На
практике большинство людей вовлекается в сферу национального сознания в
зависимости от технологий и институтов их связи с элитами, при этом на их
поведение воздействуют социальные связи и коллективные идентичности. В
любых аспектах проявления национального сознания консолидирующая,
мобилизующая и направляющая роль принадлежит элитам [170, с. 23].
Таким образом, если говорить о национальном сознании, как о
сознании политическом, обращённом к образу некой особой суверенной
общности,
то
в
условиях
традиционной
адыгской
(черкесской)
этнокультурной среды оно по сути не имело такого измерения вне
представлений отдельных представителей элит. Для масс имело значение
сознание своих социокультурных и экономических интересов и ценностей,
будируемое носителями символического авторитета и направляемое с
помощью традиционных и новых форм социокультурной организации.
Вместе с тем, российская экспансия XVIII – XIX вв. привела к
вхождению
адыгской
общности
в
семиотическое поле европейской
цивилизации. Появилась и стала постепенно увеличиваться прослойка лиц,
социально-экономический статус и возможности которых оказались связаны
88
с их ментальной и культурной адаптацией к российской (европейской)
действительности. В последней национальный дискурс существовал условно
в двух видах: дискурс нации политической (аналог современного понятия о
«нации гражданской») и дискурс нации этнокультурной [201].
Условия социализации в российском обществе XIX века вели к тому,
что
среди
первых
поколений
носителей
новой
цивилизационной
ментальности из числа адыгов утверждалась российская идентичность.
Однако представление о национальных общностях экстраполировалось ими
на ту общность адыгэ, к которой они относились по своему происхождению
и с которой они в определённой мере разделяли идентичность культурную.
Относительная ситуативность этничности являлась спецификой социального
положения представителей этого нового слоя. Если для представителей
народной массы среда этносоциальных анклавов была основной средой
социализации
и
инкультурации,
то
интегрированные
в
отношения
государственности слои сохраняли этнокультурную специфику лишь в
контексте тех или иных культурных практик. Понятие об адыгской общности
для них не играло особого значения по сравнению с практическими
вопросами
собственного
благополучия
и
статуса
в
когерентных
субкультурных социальных микросредах. Но в историю современного
адыгского этнонационального сознания (дискурса) вошли те, кто в силу
сочетания, в той или иной мере, практического интереса и особенностей
личностного культурного развития, может быть назван «энтузиастом»
национальной адыгской тематики (Ш. Ногмов, Д. Кодзоков, К. Атажукин, А.Г. Кешев, Н. Цагов, Б. Шарданов, А. Намиток и др.).
В среде этих «энтузиастов» формировался по лекалам европейской
цивилизационной и интеллектуальной традиции дискурс национальной
общности адыгов, их истории, языка, культуры и т.д. Попытки вводить
данный дискурс в сознание масс в контексте распространения элементов
массового образования имели локальный и временный характер, они не
могли опереться на системную инфраструктуру. Это отличало возможности
89
влияния светски образованного слоя от возможностей мусульманского
духовенства, что вело к сетованиям на невежество и инертность мулл. Но в
конце XIX столетия среди лиц, получивших религиозное образование в
духовных центрах Стамбула, Дамаска и Каира, под влиянием, видимо,
джадидизма, формируется течение, ориентированное на формирование и
пропаганду адыгской национальной идентичности [78; 205; 251]. Именно
этому течению удалось наладить издание газет и литературы на адыгском
языке, создать целый ряд так называемых «новометодных медресе» и
частных мусульманских школ, в которых преподавались и элементы
адыгского этнонационального дискурса. Характерно, что в России данная
тенденция
разворачивалась
в
тесной
взаимосвязи
с
аналогичными
процессами в диаспоре [30; 205; 251].
Трудно оценить воздействие этих мер на народную массу, но факт, что
именно из этих учебных заведений и из этого информационного и
интеллектуального
контекста
вышла
современная
национальная
интеллигенция адыгов. Почти все основоположники адыгской филологии,
литературы, истории - имели отношение к «новометодным» школам и
деятельности «джадидистов».
После 1917 года, в отличие от диаспоры, где культивирование
национального адыгского сознания осталось уделом «энтузиастов», в СССР
его формирование в соответствии с принятыми принципами национальной
политики было поставлено на институциональную основу [141; 284; 294]. В
формально автономных субъектах государственности в составе РСФСР
(Адыгея,
Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкесия)
этничность
стала
основой для национального сознания, помимо советской (гражданской)
идентичности. Западные исследователи назвали это этнофедерализмом [296,
c. 240]. Культивирующая этнонациональное по сути сознание деятельность
гуманитарной интеллигенции в «национальных республиках» являлась по
факту официально ей предназначенной социально-экономической нишей
[141; 284].
90
Таким образом, можно заключить, что деятельность «агентов»
европейского дискурса национального сознания в адыгской среде, как в
прошлом,
так
и
в
настоящем,
детерминирована
тем
социально-
экономическим контекстом, в который они включены. Это, как и история
формирования и распространения дискурса национального сознания в
адыгской среде именно в этническом ключе, вполне соотносится с данными
исследований, например, М. Хроха или Дж. Хатчинсона на примере других
стран и народов [290; 291].
Подводя
итог
ретроспективному
исследованию
вопросов
формирования адыгской идентичности, мы можем констатировать, что в
ареале исторической Черкесии сформировались два уклада, которые,
используя
термин
Э.
Хобсбаума,
возможно
охарактеризовать
как
протонациональные [255, c. 75]. По своим институциональным чертам и
формам идентичности сословная этния Кабарды и общинная конфедерация
Закубанья наследовали собственному ходу социального развития. Однако
ликвидация политической самобытности предопределила отход прежних
элит от деятельности во имя суверенитета. Коммуникационная среда
народных слоёв, в отсутствие массового образования, культивировала
ставшую основой современной этничности традиционную культурную
идентичность, но не национальное сознание. Ситуация изменилась во второй
половине ХХ столетия.
Глава 3. Проблемы формирования национального сознания адыгов в
контексте культурно-исторических процессов в ХХ – XXI вв.
3.1. Проблемы адыгской идентичности на современном этапе
По
отношению
к
эпохе
политической
и
социокультурной
самобытности мы использовали понятие «национальное сознание» в
описательных целях. Что касается менталитета основных масс носителей
91
адыгской либо черкесской идентичности в условиях традиционной среды, то
адекватно было бы применять по отношению к нему характеристику,
подобную формулировке идентичность хабзэ. В силу исторической
специфики культурного развития адыгская общность формировалась и
определялась универсумами хабзэ и адыгского языка, которые опосредовали
инокультурные (внешние) влияния и воздействия. Сознание общности
актуализировалось в рамках локальных сообществ. В политическом
отношении оно было направлено на социально-экономические интересы,
сообразуясь с представлениями о собственном достоинстве, как личном, так
и коллективном.
Взаимосвязь
процессов
формирования
и
сохранения
адыгской
этничности с ресурсами социально-экономической автономии особенно
очевидна на примере кризиса традиционной этнокультурной среды и
активизации
ассимиляционных
процессов
среди
адыгов
вследствие
модернизации в ХХ веке. Изменения хозяйственного уклада, урбанизация,
массовое образование, развитие телекоммуникационных технологий и т.д. подорвали основы как социально-экономической обособленности, так и
культурной самобытности адыгских этносоциальных анклавов, как на
исторической родине, так и в диаспоре.
Кризис самобытной социальности по мере вхождения в поле
глобальных
культурно-исторических
процессов
нового
времени
в
значительной степени был определен комплексом факторов идеационного и
силового воздействия, кардинально трансформировавшего экономический
уклад и информационную среду. Социокультурное состояние народов
Северного Кавказа в целом, и адыгов в частности, к настоящему моменту
фундаментальным образом изменилось по сравнению с историческими
реалиями прошлого. Парадигмы перемен в политической, социальноэкономической и культурной сферах трансформировали структуру и
содержание общественного сознания. С культурологической точки зрения
данные процессы можно рассматривать на основе положений о чистом и
92
синкретическом типах культуры (Ю.М.Лотман, Б.А.Успенский), а также о
моно- и полистилистическом видах культуры [157].
Адыгская идентичность сохранилась, хотя концепт хабзэ нельзя уже
назвать её исключительной доминантой. Но всё же какие-либо активные
проявления
этой
идентичности
по-прежнему
неразрывно
связаны
с
семиосферой терминов хабзэ и хэку. Которые, однако, теперь принадлежат не
к моно-, а к полиязычному пространству сознания.
Для того, чтобы определить место и значение национального сознания
в современной адыгской идентичности, необходимо охарактеризовать с
культурологической точки зрения то семиотическое пространство, в котором
на современном этапе формируется эта идентичность. А также обозначить
принципиальные особенности когерентной несемиотической реальности.
По широко принятому в современной науке выводу М. Вебера,
европейская социальная история утвердила грань между традиционным
обществом и обществом прогресса как грань между властью в общественных
отношениях традиции и властью рациональности [198, c. 102]. Последняя
стала плодом объединения дискурсов интеллектуальных, властных и
капиталистических элит и нового социального слоя буржуазии в условиях
секуляризации. Многие исследования подтверждают, что религиозный
фактор сыграл большую роль в трансформации коллективной идентичности
в
традиционных
обществах,
в
формировании
основ
глобального
мировоззрения и чувства (сознания) общности [81, c. 33; 170, c. 24].
Социально-экономическая модернизация последних столетий, пользуясь
этими плодами, в то же время предлагает массам «компенсирующие»
«форматы» идентичности, включая национальное сознание, а также новые
субкультурные формы религиозности и этничности [136, c. 25; 199].
Эти явления связаны с изменением массового сознания: прежняя
устная
культура
традиционного
общества
сменилась
современной
информационной средой, отражающей изменения политического устройства
и экономических отношений, распад прежних социальных связей и
93
образование
новых.
Развитие
светской
модели
национальной
государственности с установкой на рациональное сознание общности
интересов и прогресс взаимосвязано с кризисом прежних моделей социальноэкономического устройства и сознания.
С другой стороны, в отличие от прагматического отношения к
государству, национальное сознание, как представление об общности,
оказывается
связанным
не
столько
с
рациональностью,
сколько
с
мифологическим мировоззрением. Его основой становятся «изобретённые»
интеллектуалами
и
распространяемые
с
помощью
информационной
инфраструктуры властью или группами активистов дискурсы истории,
происхождения, языка, культуры, цивилизации, экономики, социальной
идентичности, в том числе этнокультурной, и т.д. [170, с. 24; 256].
Причина подобного расхождения между официальной установкой
национальной государственности или идеи и её ментальным полем
(символическим универсумом) заключается в необходимости формирования
(легитимации) единой деятельной идентичности в условиях того, что Э.
Геллнер назвал сменой социальной структуры на систематизированную
беспорядочность, а Р. Мертон – аномией [198, с. 15]. Э. Гидденс в данной
связи пишет о социальной неопределённости как о ключевой характеристике
детрадиционализированного
общества,
полагая
его
в
качестве
принципиального отличия от общества традиционного. Развивая мысль М.
Вебера, Н. Луман, созвучно Э. Гидденсу, предполагает, что именно отказ от
традиции
в
пользу
рациональности
превратил
риск
и
страх
в
фундаментальные основы социального мышления [214, с. 255].
Прежний фундамент коллективной автономии быта и ментальности
традиционной среды в посттрадиционном информационном обществе
утрачен. Спасаясь от безличного давления современной цивилизации и
постоянной нестабильности в повседневном существовании, индивидуум
обращается за опорой к тем или иным формам групповой идентичности. В
одних случаях речь идёт о поиске путей приспособления к реальности, в
94
других – о попытке утверждения подлинной либо мнимой альтернативы
актуальной действительности. Однако ключевым для нашего исследования в
данном отношении является не психологический аспект, а информационнокультурный.
Если воспользоваться терминологией Г. Зиммеля, то можно сказать,
что безальтернативность традиции сменилась в наши дни вариативностью
жизненных стилей. Человеческая идентичность, как «образ себя», перестаёт
быть целостной. Активизируется роль и значение культурных инсценировок
сознания на базе прежде латентных либо субкультурных форм и
малопопулярных
дискурсов
[153;
157].
Социокультурный
контекст
современной жизни характеризуется тем, что население планеты всё более
включается в глобальное информационное пространство, являющееся сферой
активного
формирования
и
изменения
сознания.
Типичными
характеристиками этого пространства являются такие определения как
«мозаика», «ацентричная сетевая иерархия», «фрагментированность и
фальсифицированность сознания», стратегическая «неопределённость» и
рост опасной непредсказуемости, а также «борьба» и «конфликт» [124, c. 2324; 160, c. 69; 217].
Человеческая жизнедеятельность всё более подчиняется парадигме
потребительского общества,
характера
отношений
к
оказываясь в зависимости от произвольного
ресурсам
материального
и
психического
благополучия. Хотя патронаж по-прежнему является фундаментом и
содержанием общественных отношений, но личная зависимость и иерархия в
контексте
социальных
осложнившись
связей
факторами
приняли
безличного
новые
формы,
доминирования
существенно
и
безличного
контроля, а также неопределённости личного и коллективного социального
положения [124, с. 111; 265].
Значение национального сознания и его дискурсов для современных
адыгов неразрывно связано с общемировыми тенденциями в гуманитарной
95
сфере.
Среди
последних
для
исследуемого
нами
поля
проблем
принципиально важно обратить внимание на виртуализацию сознания.
Если конкретизировать данное явление на примере национального
сознания адыгов, то оно представляется формой адаптации носителя
идентичности, основанной на традиционном укладе и ценностях, к реалиям
современного посттрадиционного общества.
Мы указывали на то, что модус социокультурной автономии,
существовавший в адыгских (черкесских) сельских анклавах со второй
половины XIX столетия, был разрушен. Адыги оказались включены в иное
ментальное пространство, «шагнув» из локального самобытного образа
жизни в социокультурный контекст глобализации. Поэтапная утрата
социокультурной самобытности привела к тому, что к концу ХХ столетия
адыгская общность, превратившись в дисперсную, оказалась в состоянии
практической ситуативности социального сознания. Это относится в том
числе и к сознанию национальному, причем в обоих его актуальных
измерениях идентичности российский
исследователь
трансгрессивная
этнической и гражданской. В данной связи
С.Ю.Иванова
идентичность,
характеризуя
употребляет
разнообразие
термин
форм
самоидентификации одной и той же личности в современных условиях [153,
с. 104]. Баланс этого переплетения не только категорий самосознания, но и
стилей и способов мышления может быть исключительно индивидуален.
Однако отношение к действительности и самореализация связаны, в том
числе, с нормами и практиками культурного поля [171; 188; 244].
В эпоху самобытности носители адыгской идентичности проявляли
сознание не абстрактной общности, а конкретного единства практических
интересов и символического мировоззрения, в условиях актуальной
политической либо социальной автономии. Именно поэтому речь всегда шла
о сознании локальных патронимий либо социальных страт, но не о
виртуальном единстве всех носителей имени «адыгэ», либо черкесской
идентичности. Сознание и актуальность общности определялись живыми
96
культурными практиками и социально-экономическими отношениями.
Можно сказать, что для адыгской социальной среды сознание хабзэ было
безальтернативным.
Утрата
связи
с
несемиотической
реальностью
вследствие
её
трансформации привела к тому, что стало расти значение семиозиса единства
не актуального, но виртуального. Неслучайно первыми носителями
национальной идеологии современного типа в адыгской среде стали
представители интеллигенции, то есть лица, лишь ситуативно связанные с
локальными формами коллективной идентичности массы соплеменников.
Иными словами, это были люди, чья социализация представляла собой
социализацию современного типа. Отчасти этим же объясняется, на наш
взгляд, и динамика социального состава адыгского духовенства: религиозная
идентичность также подразумевает (пере)обретение самоидентичности,
самореализацию и самоутверждение в виртуальной общности, практический
и
символический
ресурс
авторитетного
носителя
соответствующего
дискурса.
Утрата прежней социальной и территориальной общности, утрата
прежней
экономической
автономии
и
относительной
политической
самостоятельности виртуализируют символику имени «адыгэ». То же самое
можно констатировать в отношении всех исторически связанных с именем
«адыгэ» концептов – хабзэ, хэку, цIыхугъэ, адыгагъэ, нэмыс, адыгэбзэ и т.д.
При этом глобальный кризис человеческой социальности, в который
масса носителей адыгской идентичности погрузилась к концу ХХ века,
лишая хабзэ его прежних оснований в общественном укладе, в то же время
делает привлекательным связанное с адыгской этничностью культурное
содержание. Как справедливо отмечает П. Бурдье, в культурном поле
габитусы могут восприниматься абстрагированно от своих социальноэкономических оснований. Более того, кризис этих оснований может
усиливать
содержания
влияние
которых,
габитусов,
при
подчас
сохранении
радикальная
трансформация
тождественности
формальных
97
признаков, может ускользать от обывателя. Среди вариативности выбора
форм и практик самоидентификации, благодаря как традиционным, так и
новым интерпретациям, адыгская идентичность для своих носителей
отличается насыщенностью своего символического пространства, предлагая
если не реальную, то виртуальную социокультурную определённость.
В
качестве
частного
примера
можно
привести
тенденции
в
использовании родовых знаков дамыгъэ. Предыдущим поколениям эти
символы – тамги были известны в первую очередь как клейма на скоте,
связанные с таким своим употреблением даже этимологически (дамэ поадыгски означает «плечо»). После коллективизации советского периода и
упадка скотоводства в среде диаспоры эти знаки, казалось, потеряли своё
былое значение. Но с конца ХХ столетия, при явном кризисе прежней модели
поддержания родственных связей, у многих адыгов активизировался интерес
к своей родовой принадлежности и её не только социально-экономическому,
но и символическому ресурсу. Наряду с продолжающейся активностью в
сфере
проведения
родовых
съездов
и
иных
попыток
поощрения
взаимоотношений, знаки – дамыгъэ стали использоваться для маркирования
жилья, личных автомашин, торговых марок, предметов обихода, а также
превратились в элемент креатива в импактах, посвящённых адыгской
истории.
Другой пример, более общего характера
– дискурс хабзэ в
представлениях и деятельности интеллектуалов. В мемуарах белоэмигранта
К.А.Чхеидзе, посвящённых деятельности «правителя Кабарды» Заурбека
Даутокова-Серебрякова,
социополитический
мы
кризис
находим
периода
свидетельства
гражданской
войны
того,
в
что
России
способствовал идеализации и попыткам концептуального абстрагирования
связанных с идентичностью хабзэ понятий. «…в моменте занятия Нальчика
[белыми], можно было в среде кабардинцев различать три стиля мышления и
поведения. Первый из них, который условно назывался антибольшевистским,
заключал такие черты: антибольшевики как-то слишком подчеркнуто
98
выполняли требования «адыгэ-хабзэ» (обычая), оказывали преувеличенное
почтение старшим: «гостю и старшим почет». Они говорили о кабардинском
«напэ» (лицо), но т.к. среди говоривших находились в некотором количестве
денационализованные интеллигенты, то речи их получались вялыми,
безвкусными и неубедительными {...} Среди антибольшевиков были и
честные, и патриотически настроенные {...} люди. И они вели большую
работу. Пока они говорили о значении кабардинской старины, моральных
устоях жизни, добрых отношениях с Россией и казаками, они были на месте.
Но их высказывания о будущем обнаруживали отсутствие настоящей
исторической перспективы» [57, c. 76].
Устремлённость в будущее К.А.Чхеидзе видел у двух других групп, для
которых хабзэ выступало локальным социокультурным фоном глобальных
политических идеологий. Первую группу представляли собой представители
дореволюционного офицерства и чиновничества, вовлечённые в белое
движение, вторую – союз мусульманской интеллигенции, большевиков и
сельского духовенства и старейшин. В 1920-1930-е годы представители этого
второго
«лагеря»
были
«антибольшевизме»,
частью
«религиозном
репрессированы
экстремизме»
(по
или
обвинениям
в
«буржуазном
национализме»), а частью влились в новое общество и продолжили развитие
этнонационального дискурса и рефлексию хабзэ в рамках советской
идентичности.
В эпоху существования СССР и «биполярного мира», по мере того, как
в адыгской среде ввиду исчезновения факторов самодостаточности прежнего
сельского
социума
происходил
переход
от
традиционного
к
посттрадиционному состоянию, хабзэ стало самостоятельным предметом
исследования и анализа. Понятие об адыгэ хабзэ к этому времени
превратилось по сути в этнокультурный маркер, перестав употребляться и
соответствовать порядку вещей в правовой, политической, экономической и
других сферах, кроме культурной.
99
Поэтому вполне объективен подход, в частности, Б.Х.Бгажнокова,
выделившего в своих работах в 1970-х годах связующую нить современного
адыгэ хабзэ – этикет, щэнхабзэ [100]. В более поздних работах
Б.Х.Бгажноков обосновал целесообразность фундирования представлений об
«адыгском этикете» концепцией «адыгской этики» - адыгагъэ [101]. В то же
время, очевидно, что данный исследователь предлагает условные модели,
необходимые
для
трансляции
концептов
адыгэ
хабзэ
в
новых
информационных условиях. Свою культурно-политическую установку (если
не сказать, программу) Б.Х.Бгажноков прямо декларирует: «…стоит только
правильно задействовать этот ресурс [адыгскую этику] – и результаты
скажутся
резким
оздоровлением
духовно-нравственной
атмосферы,
реальными перспективами развития, роста, обновления» [101, с. 88].
Таким подходом объясняются и идеализация адыгэ хабзэ, допускаемая
данным автором за счет абстрагирования своих выводов от культурноисторической динамики, и использование им не отвечающих критериям
научной объективности элементов этнонационального дискурса, наподобие
формулировки «хатто-адыго-абхазская общность», и попытки выявить в
прошлом адыгов самобытную религиозную традицию [102; 250, с. 6]. Здесь
может
быть
уместен
комментарий
З.М.Налоева,
полагавшего,
что
приведенные в курсе истории для учеников «новометодных медресе» Нури
Цагова (начало ХХ века) утверждения, якобы 10 000 лет назад адыги правили
Средиземноморьем, объясняются стремлением пробудить национальную
гордость [65; 205, с. 198]. Надо заметить, что сам З.М.Налоев, будучи
председателем общественно-политического объединения «Адыгэ Хасэ»,
полагал, что, во имя самосохранения, идеологией «адыгского этноса,
адыгской нации» должна быть культура [38].
Можно констатировать, что для «этноориентированной» адыгской
гуманитарной
интеллигенции
хабзэ
превращается
в
своего
рода
самодовлеющую парадигму, призванную стать морально-нравственной
опорой для адыгов в условиях глобального социального кризиса, когда
100
адыгская
идентичность
оказалась
в
новой
точке
бифуркации.
Принципиальное значение при этом имеет утрата социальной средой
самобытности, что лишает прежнего универсального значения культурные
критерии соотношения с именем «адыгэ».
Полиморфизм
культурного
предложения
в
ответ
на
запросы
социализирующейся личности ведёт к тому, что идентичность хабзэ может
выступать фактором не только общности, но и антагонизма. Какое это
значение может иметь во взаимосвязи с вопросами национального сознания,
свидетельствуют
разноплановые
примеры
кризиса
гражданской
идентичности, развития этнического национализма или религиозного
экстремизма, культурной аномии и социальной розни, ассимиляции либо
наоборот актуализации этнического и этнокультурного самосознания. В
прошлом подобные явления имели место в пределах исторического
хабитата – хэку и были связаны с коллективными интересами социальных
групп. В настоящий момент ситуация неопределённости и выбора
присутствует на небывалом прежде уровне индивидуализации. Но всё же
сколько-нибудь массовое влияние приобретает лишь то предложение,
которое находит отклик в самоидентификации людей. Только восприятие
формы предложения в интересах восполнения идентичности обуславливает
развертывание его содержания в сознание. Причем в современных условиях
виртуализации информационной среды отдельные образные либо смысловые
элементы
могут
быть
гораздо
популярнее
самих
породивших
или
использующих их дискурсов.
Такова например символика черкесского флага, принятого в 1836 году
в качестве символа абазо-адыгской конфедерации на Северо-Западном
Кавказе. Неизвестно, насколько данный стяг пользовался популярностью
среди закубанских черкесов в XIX веке, но в ХХ веке «энтузиасты»
этнонационального дискурса, как из числа интеллектуалов диаспоры, так и
среди «национальной» гуманитарной интеллигенции в СССР, сохранили этот
образ и использовали его для «возрождения» или, вернее, конструирования
101
сознания общеадыгского единства с конца 1980-х годов. В 1989 году этот
флаг был признан официальным символом созданной тогда Международной
черкесской ассоциации, в 1992 году он был провозглашен символом
государственности Республики Адыгея в составе Российской Федерации. На
сегодняшний день этот флаг является общепризнанным символом адыгского
этноса, тиражируемым миллионами экземпляров в виде флажков, наклеек,
аватарок в Интернете, брелоков, анимаций, фоновых изображений и проч. Он
знаком и его признают символом своей идентичности практически все адыги,
где бы они ни жили и насколько мало или много они не идентифицировали
бы себя с представителями других «субэтнических» групп. Такова роль
глобальной информационной среды и информационных технологий.
Однако сама по себе символика черкесского флага не ведёт к усвоению
сознания
общности.
Пропаганда,
ведущаяся
интеллектуалами
и
поддерживаемая политиками (по терминологии П. Бурдье, носителями
культурного
и
социального
капитала
соответственно)
–
вот
исток
распространения среди адыгов представлений о «масштабах» своей
идентичности, в географическом, языковом, историческом, этническом и
национальном отношении. В этой связи показательно, что кабардинский
предприниматель Арсен Каноков, возглавлявший с 2005 по 2013 год
Кабардино-Балкарскую
Республику,
при
создании
в
1991
году
многопрофильной компании «Синдика», использовал в качестве её эмблемы
символику адыго-черкесского флага. В результате в рекламе строительных
рынков, отелей, банковских услуг и других направлений коммерческой
активности данной компании (по всей России) указанная символика
сочетается с именем античного государственного образования, которое в
этнонациональном дискурсе считается имеющим отношение к истории
адыгов.
Приведённый пример достаточно ярко демонстрирует основную
характеристику современного этапа для адыгской идентичности: она стала
предметом рефлексии и осознания для всей общности в целом. Её среда
102
перестала быть самодостаточной, но замещение этничности другими
формами сознания для большого количества адыгов в разных странах не
приобрело характера ассимиляции. Наоборот: более или менее осознанно
происходит переутверждение этнокультурной
идентичности
в новых
условиях, как формально, так и по существу.
Весьма интересно в этой связи разобраться в вопросе, что же
воспринимается как суть этой идентичности. Её традиционное содержание –
это хабзэ, коррелирующее понятиям напэ («лицо, честь»), цIыхугъэ
(«человечность, гуманизм»), нэмыс («достоинство») и т.д. Именно так до сих
пор большинство носителей адыгской идентичности её и воспринимает – в
меру
соотношения
с
адыгэ
хабзэ.
Противоречие
норм
и
духа
унаследованного от предшествующих поколений культурного комплекса
адыгэ хабзэ современной социальной действительности вызывает кризис
сознания. Это ведёт к разнообразной компенсации за счет тех или иных
социетальных практик, габитусов и форм идентичности, напрямую не
связанных с семиосферой имени «адыгэ». Однако в информационном и
культурном пространстве этой семиосферы активно распространяется
дискурс адыгагъэ – «адыгства», «того, что делает адыгом».
Выделение интеллектуалами этого термина из комплекса связанных с
адыгэ хабзэ концептов и его трансляция в сознание носителей адыгской
идентичности различными активистами обусловлены тем потенциалом,
который несёт в себе это слово, если его рассматривать как формулу. До
середины XIX века человек считался принадлежащим к обществу адыгэ
жылэ, если находился под прямой властью князей из рода Иналидов, затем
критерием адыгства стало соблюдение норм адыгэ хабзэ в том ключе, как
это признавалось адекватным со стороны носителей морального авторитета в
лице старейшин. Но в настоящее время ресурс символической власти в
пространстве семиосферы имени «адыгэ» свободен и интерпретация понятия
адыгагъэ предоставляет возможность попытаться овладеть этой «позицией»,
дав адыгской идентичности видимость самодостаточности и снабдив хабзэ
103
ключом
для
трансформаций,
не
связанном
с
какими-либо
не
ассоциируемыми напрямую с именем адыгэ формами идентичности. К таким
выводам нас приводит анализ теоретического интеллектуального дискурса
(наиболее явно и конструктивно, на наш взгляд, выраженного в главе
«Социальное распределение адыгства» из монографии Б.Х.Бгажнокова
«Адыгская этика) и огромного пласта разнообразной творческой активности,
прямо или косвенно направленной на культивацию и интерпретацию понятия
адыгагъэ в семиотическом пространстве адыгской идентичности [101].
Таким образом, можно утверждать, что на современном этапе
ключевой
проблемой
адыгской
идентичности
является
характер
её
взаимоотношений с её историческим ядром – идентичностью хабзэ.
Объективные и субъективные факторы обуславливают определённый порог
ассимиляции, который сопоставим с порогом формализации адыгской
идентичности, её абстрагирования от идентичности хабзэ. Габитус хабзэ
ориентирован на парадигматику культурогенеза традиционного общества,
которую вслед за Э. Гидденсом можно охарактеризовать как установку
онтологической безопасности [214, с. 253]. Там, где государственность и
общественные
взаимоотношения
сонаправлены
данному
габитусу,
гражданская идентичность может обеспечивать компенсацию лишенному
прежней социальной опоры сознанию хабзэ. Оно превращается в комплекс
специфических черт ментальности, этических установок, культурных
практик и языковых концептов. При условии наличия этнокультурной среды
(в том числе виртуальной) данный комплекс вполне интегрируется в более
сложное социокультурное пространство.
Если
субъективно,
у
носителей
отсутствуют
адыгской
идентичности,
возможности
для
объективно
или
самореализации,
актуализируется дилемма выбора между ассимиляцией или гражданской
нелояльностью. Впрочем, этот выбор не всегда возможен. Нежелание
ассимилироваться субъективно. Однако невозможность либо затруднённость
ассимиляции в силу социокультурных факторов носит гораздо более
104
объективный характер. В результате происходит поляризация тенденций.
Там, где имеет место благоприятный для подобных процессов социальный
фон,
адыгская
идентичность
постепенно
утрачивается
либо,
приспосабливаясь к среде, выхолащивается и реифицируется. Такие
процессы в большей мере заметны в условиях диаспоры. Однако там, где
разнообразные
активизируется
традиционных
предпосылки
препятствуют
этнонациональный
концептов
смене
дискурс.
оборачивается
не
идентичности,
Переинтерпретация
приспособлением
к
определённому гражданскому сообществу, а конфликтом с ним во имя
собственного
политического
суверенитета.
Полюсом
адыгского
(черкесского) национализма оказывается Россия, в состав которой входит
территориальное ядро, средоточие адыгской идентичности. Это своего рода
локус адыгэ хабзэ, так как в условиях диаспоры сохранение аутентичности в
современных условиях маловероятно.
По этой причине Россия, как государство, оказывается объектом
«ресентимента»,
националистической
реакции
адаптирующейся
к
нациосфере этничности. Многочисленные примеры подобной реакции
отмечены исследователями по всему миру и их можно сопоставить с тем, что
Ю.М.Лотман называл «бунтом семиотической периферии против центра»
[170, с. 34; 186, с. 126]. При том условии, что семиотическая периферия
должна прежде осознать себя как таковую, то есть утратить свою
самобытность и самодостаточность. Именно в таких условиях этничность
превращается из естественного состояния в рефлексируемое. И чем больше
кризис социальности, чем сильнее в социуме сознание неуверенности и
нестабильности – тем востребованнее компенсирующие «предложения».
Адыгская этничность несёт в себе благоприятный потенциал для
реализации этнонационального дискурса, однако это становится возможным
лишь в условиях кризиса традиционной идентичности хабзэ. Нивелирование
в современных условиях этой идентичности вследствие её отрыва от
социально-экономической действительности, с одной стороны, сопряжено с
105
процессами культурной аномии, утраты аутентичности, с реификацией
абстрагируемой традиционности. С другой стороны, это предопределяет рост
значения иных форм сознания общности, что на современном этапе особенно
касается сфер сознания религиозного и национального. Живая традиция при
этом
соседствует
с
этнонациональным
дискурсом
и
гражданской
идентичностью, а идентичность хабзэ в любом случае является ситуативной,
хотя её габитус продолжает оказывать воздействие на сознание.
Интерпретаторами хабзэ как содержания адыгской (черкесской)
идентичности могут в современных условиях выступать самые различные
авторитеты, как персонифицированные, так и обезличенные (тексты,
виртуальные образы и т.д.). Разнообразие социокультурных сред и форм
взаимодействия
традиционных
и
посттрадиционных
механизмов
формирования, передачи и интерпретации знаний и представлений в
жизнедеятельности рассеянных по миру носителей адыгской (черкесской)
идентичности предопределяет сложность культурологического анализа.
Однако налицо общая тенденция: этническая и гражданская идентичность
воспринимаются через определение личностного и коллективного отношения
к особой культурно-цивилизационной общности хабзэ [295, c. 223].
Несмотря на то, что в универсальном (философском) значении понятие
о цивилизации некоторыми исследователями противопоставляется культуре, в
своём исторически партикулярном смысле концепт цивилизации с культурой
неразрывно связан. С распространением в мире концептов, появившихся в
контексте
европейского
общественного
развития,
слово
цивилизация
приобрело характер универсальной категории, подобно нации, культуре или
этничности. В европейских же языках данное понятие развилось из
латинского civic и, при различных смыслах отношения к культуре и
культурности,
везде
стало
ассоциироваться
с
представлением
о
гражданственности и общественном укладе. В новейшее время термин
цивилизация перестал употребляться лишь в контексте европейских
представлений о «высокой» культуре, то есть исключительно в поле
106
значений просвещения и прогресса. Стали возможны смыслосочетания
наподобие «цивилизация прерий», «цивилизация аборигенов» и т.д. Но
значение взаимосвязи
состояния культуры
и общественного
уклада
сохранилось.
В сочетании
с семантическим полем понятия
о
цивилизации
представлений о взаимосвязи принципов и форм гражданственности с
культурой заключается важный аспект понимания проблемных вопросов
истории и современности адыгской идентичности. Представление о личном
достоинстве человека носит в традиционной культуре адыгов универсальный
онтологический характер. Однако в отношении общественной жизни играет
роль также вопрос социального статуса, определяющегося имущественным и
символическим
положением
индивидуума
в
контексте
его
прав
и
обязанностей, в формально или неформально стратифицированной среде.
Именно кризис прежних моделей соотношения личного достоинства со
статусом и положением в обществе предопределял в прошлом и продолжает
предопределять сегодня актуализацию новых форм идентичности.
Так, если современный гражданский дискурс нации не удовлетворяет
запросам социализации индивидуума, то его информационно-семиотическая
идентичность,
благодаря
виртуальному
характеру
информационного
пространства, может начать активнее наполняться этнонациональным
сознанием. Оно оказывается своего рода «конкурентом» гражданского
национального сознания. Это связано с тем, что национальное сознание
предназначено выполнять и выполняет роль интегратора общности в
пределах, им самим и очерчиваемых в соответствии с принципом
гражданской либо этнической идентичности. И если в традиционном
обществе роль действенного интегратора общности играет взаимосвязь
культурных паттернов и общественного уклада, то ментальное пространство
социума национального государства представляет собой арену постоянной
символической
борьбы,
отражающей
противостояние
интересов
и
представлений различных акторов [124; 236]. Вследствие этого идеал
107
гражданского единства носит умозрительный характер и на практике не
реализуется. В то время как более эффективные формы социальных связей,
включая этничность, активизируют деятельностную идентичность масс, а
также групп и отдельных индивидуумов.
Своеобразным примером в данном отношении может послужить
сознание
государственности
в
контексте
существования
в
составе
Российской Федерации автономных образований с титульным адыгским
населением.
Векторами
притяжения
для
диаспоры
и
национально-
гражданской идентичности для российских адыгов являются республики
Кабардино-Балкария и Адыгея, где носители адыгской идентичности
занимают основные властные позиции. В то же время, черкесы в КарачаевоЧеркесской Республике и шапсугское меньшинство в Краснодарском крае
нередко
проявляют
конфликтное
отношение
к
своей
региональной
идентичности и при этом апеллируют к поддержке остальных элементов
адыгского этноса. Причина – отсутствие локального суверенитета в
региональном масштабе, возможность дискримированного статуса в регионе
проживания.
Таким образом, ключевой проблемой национального сознания в
адыгской среде оказывается кризис традиционного содержания адыгской
идентичности.
Этот
кризис
предопределяется
утерей
социально-
экономических основ прежних ценностей, утратой прежних механизмов
социализации личности вместе с обеспечивавшей их действие средой и ведёт
к актуализации новых форм сознания. В этой связи уместно говорить о том,
что тенденции развития национального сознания среди исследуемой нами
общности определяются тенденциями хабзэ с одной стороны и общемировым
контекстом с другой.
В отношении мировых тенденций можно говорить о ряде ключевых
для исследуемой проблематики явлений:
- кризис традиционных идентичностей в условиях посттрадиционного
общества на фоне разрастающейся социальной нестабильности;
108
- плюрализм информационно-культурной среды и активные процессы
культурного синтеза;
- смена практической культурной парадигмы масс (в условиях
общедоступности глобальной информационной среды) с устного слова на
симбиоз текста и виртуальных образов;
- интерес различных акторов к вопросам национального и этнического
сознания адыгов (черкесов) в контексте геополитического противоборства;
- бифуркационный период развития российской государственности.
Последний пункт заслуживает особого внимания.
3.2. Вектор развития российской государственности и перспективы
адыгской идентичности
Хабзэ, как отмечалось выше, больше не является ментальной
инфраструктурой
общественных
взаимоотношений.
Сегодня
хабзэ
представляет собой в той или иной мере абстрагированный от актуальной
социальной
действительности
культурный
комплекс,
нередко
противоречащий реалиям среды. Современная идентичность хабзэ мозаична,
зачастую
ситуативна,
во
многом
ритуализирована.
Наблюдается
превращение концепта адыгэ хабзэ в консервативный нарратив или дискурс,
то есть ритуализация хабзэ в том смысле, о каком пишет Л.Г.Ионин:
«систематическое следование нормам и правилам, которые традиционны по
своему происхождению и характеру, но уже не соответствуют потребностям
и ценностям реальной жизни» [157].
С другой стороны, хабзэ трансформируется в индивидуальном
сознании в интегративную онтологическую (гуманистическую) категорию,
что формирует его новый потенциал в эпоху глобализации. Основой в
данном случае выступают заложенные в традиционную этику установки
эмпатического (сопереживающего) понимания (зэхэщIыкI) и человечности
(цIыхугъэ), разумности и адекватности [100; 101].
109
В этой связи важно отметить, что утрата адыгской идентичностью
моноязычия ведёт одновременно и к сохранности основополагающих по
отношению к традиционному менталитету концептов, и к их реификации. В
результате идентичность хабзэ многовариантна, гарантом её аутентичности
может служить только сохранность концептуального адыгского языкового
фонда при условии его структурной сохранности и неподчинённости
дискурсивным полям иноязычных традиций.
В целом, в настоящее время идеология хабзэ является элементом
самоутверждения в плюралистичном по своему ценностно-культурному
содержанию социальном (информационном) пространстве. Интегральная
самодостаточность хабзэ как основы адыгской (черкесской) идентичности
носит теперь виртуальный характер. На практике адыгская идентичность
вводит своих носителей в противоречивые отношения с действительностью:
современная
социальность
во
многих
отношениях
противоречит
её
культурному ядру. Национальное сознание оказывается сферой, наглядно
отражающей порождаемые данным противоречием коллизии.
Будущее адыгской (черкесской) идентичности связано с будущим
идентичности хабзэ в контексте перспектив традиционных ценностных
ориентаций в современном мире. Очевидно, что лишь формирование
социально-экономических предпосылок целостной реализации этических
ценностей традиционного сознания, во взаимосвязи с утверждением
соответствующих культурных
ориентиров, может в адыгской среде
нейтрализовать негативный потенциал сознания националистического.
Формирование таких предпосылок создало бы условия для актуализации
доминанты адыгской идентичности – хабзэ – и тем самым вернуло бы ей
реальную самодостаточность, сделав этнический национализм «ненужным» и
обеспечив эффективность гражданской национальной модели. Причем в
данном случае речь идет о самодостаточности хабзэ в его онтологическом
значении: соответствие норм и практик жизнедеятельности ценностным
ориентирам традиционного адыгэ хабзэ и отсутствие противоречий между
110
культурной идентичностью и жизненным стилем. Очевидно, что подобная
самодостаточность хабзэ лишь отчасти может быть в современных условиях
связана с адыгэ хабзэ и речь должна идти о языке социального бытия
больших сообществ, в которые ныне включены все адыги.
Поэтому, исходя из современной гуманитарной ситуации, можно
предположить, что формирование подобных предпосылок может быть
реально лишь в контексте не только общероссийских, но и общемировых
трендов. Возможность успешного развития подобных трендов предполагает
обратный характер взаимосвязи культуры и социальной действительности,
усиливающийся
современными
тенденциями
виртуализации
(то
есть
автономизации) социокультурного пространства. Это, в свою очередь, даёт
основания
предполагать,
что
основанием
формирования
подобных
предпосылок может стать культуро(ценностно)генерирующая деятельность
как государственных, так и негосударственных акторов.
С данной точки зрения сформулированная российским руководством
цель создания «российской нации» неизбежно ставит вопрос о национальном
сознании, а также о соотношении российского национального сознания с
этническим, в рамках дихотомии «национальное сознание – гражданская
(цивилизационная) идентичность». Не ставя перед собой специальной задачи
анализа национальной политики государства, мы лишь попытаемся
обозначить ряд проблемных вопросов. Сегодня, на наш взгляд, одной из
основных проблем остается двойственность социальной ситуации и
социального сознания в России.
Адаптацию
российской
общемировому
государственности
социально-экономическому
и
и
общества
к
информационному
(семиотическому) глобализационному контексту можно рассматривать как
ликвидацию
когнитивного
провоцировавшего
кризис
разрыва,
советской
сопровождавшего
модели
государственного
или
и
общественного устройства. Современная социальная действительность
наглядно подтверждает тезис П. Бурдье о том, что в совокупности полей,
111
образующих социальное пространство, поле экономических отношений
стремится навязать свою структуру другим полям [124, c.c. 16, 36].
Вследствие этого поле культуры, формирующее сознание, оказывается
ареной сложного взаимодействия представлений и направленной на их
формирование деятельности. Это взаимодействие отражает динамику
структур и позиций экономических отношений и отношений власти [124, c.
80].
Провозглашение идеи «российской нации», то есть формирование
образа
России
как
национального
государства,
является
логичным
продолжением процесса адаптации к мировому социально-политическому
пространству в целом. В последнем, по словам К. Вердери, «нация стала
мощным символом и основой классификации в международной системе
национальных государств {…} это идеологический конструкт, играющий
важную роль в определении позиций субъектов как в рамках современного
государства, так и в рамках международного порядка {…} нация имеет
решающее значение для определения способа связи государства со своими
подданными, который отличает их от подданных других государств, а также
для его внешнего окружения» [210, c. 297].
Однако «давление необходимости», связанное с политическим и
экономическим контекстом, вводит российские государство и общество в
поле «совокупности объективных отношений сил, которые навязываются
всем входящим в это поле и несводимы к намерениям индивидуальных
агентов или же к их непосредственным взаимодействиям» [124, c. 15].
Семиотический анализ демонстрирует мифологичность национального
дискурса, собственно как метафоры общности, а также как средств и образов,
стихийно либо искусственно с ней связываемых [170; 210; 236]. Виртуально
обособляемая общность, объективизируемая национальным дискурсом в
практиках отношений и в категориях социального восприятия, по мнению
ряда исследователей, скрывает от массового сознания глубокие социальные
различия [98; 124; 236; 271]. Эффективность национализации общественного
112
сознания определяется формированием поля культурной когерентности –
гомологизацией внутренних и внешних связей элементов, составляющих
условные таксономии наций [200; 300; 298].
Национальный
дискурс
в
России,
в
контексте
развития
государственности, оформил и закрепил этническое деление. В Советском
Союзе,
где
этничность
была
«территориализирована
и
институционализирована» как «национальность», собственно понятие о
«национальном» не соотносилось с государством в целом [151; 211; 284].
Общность в государственности определялась как «советский народ».
Слова В. В. Путина - «история и Всевышний распорядились так, что на
нашей огромной территории проживают представители многих этносов,
религий и культур, но мы все – один народ, одна нация»
- можно
расценивать как признак семиотической революции [44]. Однако когерентная
современной нациосфере риторика не обязательно отражает идентичность
восприятия. В разных странах и культурах семиотические традиции могут
различаться, одно и то же слово может пониматься совершенно по-разному
[124, с. 572; см. тж. 186].
Концептуальные документы государственной национальной политики
Российской Федерации последовательно проводят образ «многоэтничной
российской нации» или «многонационального народа», состоящего из
целостностей этносов – народов со своими собственными интересами,
реализуемыми общей государственностью [70; 71; 72]. Очевидно, что речь
идёт не только о сообществе граждан-индивидов.
В статье В.В.Путина «Россия: национальный вопрос», опубликованной
в январе 2012 года, торпедируется инклюзивность гражданских наций
западного типа. Это проявляется в словах о том, что «за «провалом
мультикультурного проекта» стоит кризис самой модели «национального
государства» – государства, исторически строившегося исключительно на
основе этнической идентичности». Иносказательной метафорой российский
президент продемонстрировал отношение к «культовой» для западной
113
политологии фразе о «нации как ежедневном плебисците», указав, что
«самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация,
скрепленная русским культурным ядром. И этот выбор русский народ
подтверждал раз за разом – и не на плебисцитах и референдумах, а кровью.
Всей своей тысячелетней историей» [44; 305].
Таким образом, российская национальная политика семиотически
ориентирована не на ассимиляцию, а на объединение вокруг общего ядра. В
официальных документах учёт интересов и прав народов, составляющих
самобытную
цивилизацию,
сводится
к
обеспечению
благосостояния,
возможностей для самореализации и поддержке языков и культур. В таком
семиотическом
контексте
модернизация
в
культурном
отношении
оказывается ограниченной «традиционными ценностями», а российская
государственность провозглашается преемницей тысячелетнего позитивного
совместного развития. Не артикулируемое российское национальное сознание
имплицитно
означает
гражданско-патриотическую
идентичность,
национальным измерением которой должны стать единый для народов
России «культурный код» и примат лояльности государству над религиозной
или этнической идентичностью [44].
Вместе с тем, по нашему мнению, официальный дискурс российской
власти
скорее
подчёркивает
двойственность
ситуации
сознания
по
отношению к социальной реальности. Эта двойственность порождается
противоречием
между
социокультурными
габитусами
и
динамикой
социально-экономических и политических отношений. Советский проект
легализовал народную этику, габитус народных культур, формировавшихся
восприятием, противоречащим характеру современных экономических
отношений
и
культурных
норм.
В
условиях
кризиса
советской
государственности, разрыв между символическим и практическим обратил
сознание
населения
к
вопросам
идентичности
-
религиозной,
цивилизационной, гражданской, социальной, этнической. Учёт этого факта и
его социополитических и экономических мотивов возможно отражается в
114
заявляемых руководством России целях создания государства общего
благосостояния и активной культурной политики [44]. Но в обществе всегда
существует
конфликт
между
разными
символическими
властями,
стремящимися навязать своё видение легитимных делений [124, c. 83].
Государство
обладает
возможностями
формирования
культурного
пространства, но в целом картина мира у масс населения является предметом
конкуренции. И то или иное государство – лишь один из конкурентов в
борьбе за мировоззрение своих и чужих граждан.
Эта ситуация особенно очевидна в современном глобализирующемся
информационном пространстве. Обывательское восприятие формируется в
ситуации информационно-смысловой мозаики. При этом существуют
автономные
структуры
и
инфраструктуры
производства
смыслов
и
генерирования образов, чем предопределяется невозможность монополии и
задаётся вариативность и непредсказуемость эффекта от реализации
символических стратегий.
Спецификой
российского
контекста
является
официально
провозглашённый примат «традиционных ценностей», которые связываются
с гуманистическим наследием русской классической и народных культур, с
цивилизационными дискурсами традиционных конфессий. Данная установка
находится в весьма сложных отношениях с социальными реалиями и
государственной
политикой.
«Традиционные
ценности»
во
многом
противоположны тому социальному контексту и политическому положению,
в котором оказалась Россия в конце ХХ – начале XXI вв.
Сложная двойственность положения российского государства и
общества связана со «структурной логикой» глобального экономикополитического
пространства,
то
есть
силой
отношений,
«которые
навязываются всем входящим в это поле» [124, c. 15]. Например, в рамках
«мир-системного» подхода И. Валлерстайна, Россия выглядит ресурсным
узлом, в котором государственная власть реализует интересы управляющего
слоя
[137].
Последний
превращается
в
своеобразную
категорию
115
собственников, в чьём распоряжении находятся различные ресурсы, включая
«человеческий капитал» [98]. Борьба за геополитический статус, за
экономическое положение, за собственное пространство языка и культуры
оказываются при таком подходе «национальным проектом», направленным
на обеспечение интересов в диспозициях национальных, наднациональных,
транснациональных, субнациональных и прочих элит. Интересы населения
оказываются связаны с интересами государства настолько и поскольку
население вовлечено в отношение к ресурсам благосостояния [98].
Последний фактор – отношение населения или различных его групп к
экономическим, политическим, культурным и символическим ресурсам - и
является
камнем
преткновения
в
кризисных
социальных
процессах
современного мира.
Если
теоретически
дискурс
российского
руководства
может
трактоваться как стратегия превращения концепта нации в обозначение
гражданской общности в контексте цивилизационной идентичности, то в
таком случае он ориентирован на историческую традиционную этничность.
Однако угрозу гражданской общности в России, как и во всём мире, несёт
этничность современная, органически связанная с нациосферой вследствие
кризиса
социально-экономических
основ
народной
культуры.
Национализация этничности в мире «конкуренции» несёт в себе потенциал,
негативный
для
«полиэтнических
государств».
Политика
поддержки
«русского ядра» государственности, в условиях негативной палитры русскокавказской
тематики
в
информационном
пространстве,
бытовой
конфликтности, культурного диссонанса и активности оппозиционных
дискурсов, может вести к стилизации различий, нивелируя значение
общероссийской идентичности [44; 124; 151]. Теоретически экономическая
эффективность и компетентность стратегий символического производства и
культурной
политики
могли
бы
предопределить
цивилизационную
идентичность адыгов как общероссийское национальное сознание. Но на
практике их российская идентичность сегодня определяется скорее тем, что
116
П. Бурдье назвал «социальным конформизмом» тех, кто занимает
подчинённые или зависимые социальные позиции и адаптируется к тому
социальному порядку, в котором живёт [124, c. 87-96]. Такая идентичность
связана с общностью социального пространства, её цивилизационное
измерение носит опосредованный характер. Общероссийским культурным
кодом сегодня может быть назван только русский язык. Но основная его
функция в данном случае утилитарна и заключается в социокультурной
адаптации к реалиям мирового социального пространства.
В итоге, с одной стороны, в настоящее время не наблюдается какихлибо общенациональных практических стратегий и процессов формирования
единого российского культурного кода на основании «традиционных
ценностей». Некоторые тенденции в этом направлении можно обнаружить,
но более очевидны «культурные коды» социальных связей. Например,
профессиональных или субкультурных, властных или экономических,
этнических или земляческих. На таком фоне «структурная логика»
экономической и социокультурной модернизации России должна скорее
свидетельствовать движение проекта «российской нации» в направлении той
своеобразной
модификации
государственного
устройства,
которую
В.В.Путин подверг критике в статье о национальном вопросе.
Однако данный взгляд следует от экономических и политических
отношений к полю культуры и символических представлений. Между тем,
«структурная логика» предполагает и обратный ракурс. Неявные пока в
отношениях и практиках российских государства и общества, но более
очевидные в международном контексте «традиционные ценности» - или
трансформирующиеся габитусы культуры - могут, как факторы сознания,
обрести символическую власть, достаточную для изменения структур
политики, экономики и социальных отношений. Впрочем, и альтернативу
подобной возможности формируют также явления и тенденции из сферы
культуры и менталитета, то есть сферы сознания. На наш взгляд,
значительное препятствие для утверждения общероссийской национальной
117
идентичности
представляют
собой
различия
в
идентичности
цивилизационно-культурной. И именно цивилизационная основа новой
российской
идентичности,
как
символическая,
так
и
социально-
экономическая, может стать фактором интеграции её социокультурного
пространства.
3.3. Этническая общность как национальная идея: кризис
культуры как фактор этнического национализма
В
современном
социальном
пространстве
главным
фактором,
позволяющим говорить о сознании общности, подобной этнической или
гражданской,
является
наличие
идеи,
формирующей
«воображаемое
сообщество» [81; 236, с. 68]. Такого рода виртуальной реальностью можно
считать и представления об исторической субъектности адыгского народа,
опосредуемые элементами этнонационального дискурса в повседневном
информационном пространстве.
Символика адыгского флага, тексты эстрадных и бардовских песен,
мемы и проекты в Интернете, образы адыгского танца и адыгской истории
воспринимаются в контексте представлений об адыгской общности.
Интерпретантом в данном случае выступает идеология этнической нации,
порождённая
посттрадиционным
сознанием
получивших
европейское
образование интеллектуалов XIX – XX веков.
Не требуется глубинного анализа для того, чтобы видеть коренную
взаимосвязь
современного
черкесского
национализма
с
идейным
и
творческим наследием первых поколений адыгской интеллигенции. Лекала и
технологии развития связываемого с именами «адыгов» и «черкесов»
этнонационального дискурса не отличаются от используемых любым другим
этнонационалистическим
движением.
Специфика
адыго-черкесского
национализма заключается в том культурном наследии, которое он
использует.
118
Как справедливо отмечал Э. Смит, трудно найти нацию без
этнокультурных оснований, но далеко не все этнические общности и
культуры становятся нациями [304, с. 15]. Габитус адыгской самобытности комплекс адыгэ хабзэ - стал своего рода
мифомотором
современного
этнонационального дискурса адыгов [210, с. 265; см. тж. 94; 202; 254]. Это
предопределяется
кризисом
актуальности
хабзэ
как
регулятора
общественных отношений. Современная аутентичная традиция
хабзэ
формировалась в среде трудового сельского населения, но с учетом влияния
этоса и культурных практик дворянско-аристократического сословия.
Данный совокупный уклад уже перестал существовать, а доставшиеся в
наследство современным адыгам моральные установки и нравственные
ценности
нередко
вступают
в
противоречие
с
социальной
действительностью.
С другой стороны, семиотические реалии – в данном случае
культурные концепты, связанные с именем «адыгэ» - могут подвергаться
неявным для актуального сознания, но существенным изменениям. Особенно
под воздействием иных семиотических традиций [124; 186; 253]. Таким
образом, национальное сознание оказывается средством или формой
адаптации посттрадиционной идентичности к ситуации кризиса аутентичной
культуры и прежних форм социальности.
Что
касается
предопределяется
этнического
национализма,
неудовлетворённостью
то
его
гражданскими
актуализация
формами
идентичности. Для масс эта неудовлетворённость должна изначально
основываться на социально-экономических предпосылках, но воплощается
она в отношении к вопросам этнокультурной идентичности. Подобные
процессы в адыгской среде в отношении периода кризиса и распада
советской государственности представлены в исследованиях Г. Дерлугьяна,
И.Л.Бабич и некоторых других авторов [67; 94; 118; 141; 290; 229]. Их
наблюдения и выводы вполне сопоставимы с последствиями кризисов и
119
конфликтов для адыго-черкесской диаспоры в Турции, Сирии, Косово и т.д.
[66; 138; 276; 287].
Отдельным примером в данном отношении можно считать своего рода
конфликт
сознания
представителей
адыго-черкесской
диаспоры
и
современных адыго-черкесских националистов в восприятии российской
действительности. Если на Востоке и Западе семиотический (а в ряде
ближневосточных стран - и социально-экономический) статус черкесов
(адыгов) в местном обществе традиционно возвышен, то в России он скорее
наоборот принижен. В результате представители диаспоры и националисты
из числа российских адыгов видят, с одной стороны, в «своих» субъектах в
составе РФ единственные в мире образования с элементами адыгочеркесской государственности. С другой – винят Россию в провинциализме и
недостатке суверенитета у своего народа, разделённого между этими
субъектами.
Причины, по которым критическая катализация идентичности хабзэ
может оборачиваться активизацией этнического национализма, связаны с
особенностями истории адыго-черкесского этнонационального дискурса в
контексте общих закономерностей нациосферы. Адыгский (черкесский)
этнонациональный
дискурс
как
информационное
и
идеологическое
пространство формировался достаточно гомологично, но, со временем,
изменилась когерентная ему социокультурная среда.
Наследниками первых адептов адыгского (черкесского) национального
сознания XIX века стала гуманитарная интеллигенция, формировавшаяся как
в России, так и в диаспоре. В России при Советской власти формирование
интеллигенции было поставлено на институциональную основу, а разработка
научными
кадрами
национального
дискурса
была
санкционирована
государством. В советский период формированию представлений об
адыгской национальной общности препятствовало их разделение на
несколько
национальностей
шапсугскую),
а
также
(кабардинскую,
приоритет
концепта
черкесскую,
советского
адыгейскую,
народа.
Но
120
фундаментальные
основы
общей
адыгской
идентичности
были
имплементированы в исторические концепции, лингвистические практики и
культурную
политику.
формировалось
Национальное
посредством
сознание
образовательной
адыгов
в
инфраструктуры.
СССР
Сама
установка на существование национальности легитимировала восприятие
общности как субъекта нациосферы.
При этом те представители интеллигенции, кто был непосредственно
вовлечён в формирование дискурса адыгской истории, языка и культуры,
хранили и в меру возможности воспроизводили понимание адыгской
общности как черкесской нации – синонима адыгского этноса. Практически
все работы собственно адыгских авторов по адыговедению, выполненные в
советский период (по крайней мере, во второй половине ХХ века) были
ориентированы на тысячелетнюю историю адыгской идентичности, на
самостоятельность и самодостаточность адыгской культуры, на наличие
некоего особого адыгского мировоззрения. Ведущие адыговеды из числа
самих носителей адыгской идентичности признают прогрессивный взгляд на
историю, констатируют влияние на адыгэ хабзэ в прошлом устаревших на
сегодняшний день социальных реалий и полагают сохранение, возрождение
и развитие адыгской этнокультурности частью всемирного процесса
становления новой человечности [70; 100]. Но при этом они выделяют
идеальное ядро культурной адыгской самобытности, представляя его в ряде
онтологических категорий и этических концептов адыгского языка [101, с. 3].
Хотя семиотическая взаимосвязь некоторых из них с инокультурными и
иноязычными традициями и признается, по отношению к современности
формируется, тем не менее, оторванный от конкретного содержания
культурно-исторических
процессов
дискурс
(образ)
самодовлеющей
адыгской парадигмы.
Надо заметить, что такое, не совсем объективное, самоутверждение в
самобытности
отличается
от
воззрений
предшествующих
поколений
этноориентированных интеллектуалов, сетовавших на невежество своего
121
доброго, обладающего рядом прекрасных обычаев народа и стремившихся
просветить его с помощью европейского и/или мусульманского влияния [2;
39;
176].
Однако
такая
динамика
вполне
соотносима
с
общей
закономерностью развития националистических дискурсов при их переходе
от элитарного уровня к эгалитарному [255; 290]. Очевидно и то, что
воздействие нациосферы на мировоззрение интеллектуалов и активистов
опосредует этничность. Этнизация национального сознания адыгской
интеллигенции сказывается, в частности, и на восприятии цивилизационного
дискурса, что особенно ярко проявляется в образе «черкесского (адыгского)
острова» [76; 96]. Концепция Х.Г.Тхагапсоева на этом фоне стоит несколько
особняком, хотя она, на наш взгляд, более соответствует известным сегодня
цивилизационным теориям [245].
Но примечателен и тот факт, что советский руководитель КабардиноБалкарии, возглавлявший местный обком КПСС с 1956 по 1985 год
Т.К.Мальбахов, ещё в 1957 году, обращаясь к группе учёных, работавших
над созданием толкового словаря кабардино-черкесского языка, указывал на
то, что древний народ адыгов известен миру под именем «черкесов» [35, с.
57]. Среди многих представителей интеллигенции, пропагандировавших
данный тезис, можно особо указать на одного из наиболее популярных и
известных литераторов, А.П.Кешокова, который в 1950-е годы был
заместителем председателя Совета министров КБАССР, а затем возглавлял
Союз писателей КБАССР, был секретарем Союзов писателей РСФСР и СССР
[64]. Характерен и рефрен популярной песни лауреата российских и
международных премий, едва ли не самого известного адыгейского поэта и
писателя Исхака Машбаша – «Адыги на земле моей живут, их издавна
черкесами зовут» [94].
Между тем, выше приводились свидетельства источников о том, что
ещё в первой половине ХХ века население Кабарды не идентифицировало
себя с именем черкесов. А на территории бывшей Закубанской Черкесии
сохранялась память о том, что имя черкесов объединяло в определённый
122
период носителей не только адыгской идентичности, но и идентичности
«абаза» (которая могла сочетаться с адыгоязычием и носить не этнический, а
социополитический
характер).
Поэтому очевидно, что,
опираясь
на
поддержку государства, адыгская интеллигенция в своём отношении к
адыгской идентичности изначально опиралась не на народную память или
представления соплеменников, а на сформированный под воздействием
нациосферы дискурс адыгской этнической нации.
Распад СССР знаменовал собой глобальный цивилизационный сдвиг.
Уходящий
культурный
корнями
контекст
в
историю
Запада
распространился
социально-экономический
практически
на
весь
и
мир.
Социокультурный эффект этого процесса мультиплицируется развитием
коммуникационного и информационного пространства. Появились новые
общедоступные
технологические
возможности
формировать
и
актуализировать сознание общности. Этнонациональный дискурс обрёл
формальные общественно-политические и информационные структуры и
каналы в масштабах всей общности носителей адыгской идентичности [280;
281].
В рассмотренном выше вопросе о соотношении черкесской и адыгской
идентичности это привело к появлению националистических программ,
одним из пунктов которых стало внедрение в массовое сознание
соотечественников представлений о единой адыгской общности, для которой
«черкесы» - это экзоэтноним [56; 209]. Очевидно, что определённый эффект
в данном направлении уже достигнут, причем не только в отношении
носителей адыгской идентичности, но и в отношении российского общества.
На данный момент именовать адыгов в целом «черкесами» стало уже нормой
как в научных работах, так и в публикациях СМИ. Цитировавшееся выше
заключение Института антропологии и этнологии РАН о том, что имя
«черкесов» исторически относится к адыгам, можно дополнить тем фактом,
что на Интернет-сайте государственного информационного агентства
123
«Россия сегодня» в разделе «Россия для всех» агрегатор публикаций,
имеющих отношение к адыгам, озаглавлен как «Черкесы».
Мы имеем дело с примером того, что описание, как фактор
систематизации, «неизбежно будет более организованным, чем объект». Как
пишет Ю.С.Степанов, «…наблюдатель извне относит к наблюдаемой
знаковой системе по крайней мере на один ярус больше {...} чем
наблюдатель-участник» [236, с. 58]. Этот фактор во многом, если не в
ключевом отношении, может определять характер той коммуникации,
которой,
на
взгляд
Ю.М.Лотмана,
обуславливается
существование
семиосфер, и конституируются семиотические взаимоотношения [186, с. 93].
На этом фоне претензии этнонационационального дискурса на
гомологизацию адыгской идентичности, - иными словами, на компенсацию
кризиса идентичности хабзэ - побуждают обратить особое внимание на
культурные особенности его политических стратегий, реализуемые в двух
основных направлениях: светском и религиозном.
Смысловой
доминантой
адыгского
(черкесского)
национализма
является обращение к концептам семиосферы хабзэ. В условиях кризиса
социальных условий, формировавших хабзэ как габитус этничности,
логичной для нациосферы выглядит концепция не просто политической
общности,
но
определённого
политического
суверенитета
в
рамках
территориального единства, позволяющего культивировать собственные
интересы [16; 59; 60].
В рамках светского национализма обращение к хабзэ является скорее
формой, нежели содержанием. Объясняется это тем, что в культурно
автономной народной среде в предшествующий современному исторический
период
этика
адыгства
(адыгагъэ)
интерпретировалась
как
этика
человечности (цIыхугъэ). Этничность была следствием социальных условий и
не являлась культивируемым различием. Смысловое ударение ставилось
скорее на хабзэ, чем на адыгэ. К тому же, традиционная сельская среда,
насколько можно судить по известным примерам её политической
124
мобилизации,
рассматривала
свои
интересы
больше
в
социально-
экономическом измерении, нежели в национальном. В плане политических
лозунгов или цивилизационной идентичности на первый план выступали
религиозная (мусульманская) самоидентификация и общинная социальность.
Политическое значение адыгэ хабзэ в контексте национальных
интересов
в
адыгской
среде
исторически
культивировала
светская
интеллигенция [57, с. 76; 229]. Каких-либо социально-экономических
программ,
предполагающих
сохранение
и
воспроизводство
уклада,
рождавшего хабзэ как ментальную целостность, его образы в репрезентациях
интеллигенции не содержали и не содержат. Идеологи и сторонники
культивации адыгства пропагандируют этический и культурный потенциал
хабзэ как источник и средство гуманизации личностного и общественного
развития [38; 100; 101]. Несмотря на культурную привлекательность этих
идей, данный потенциал не может реализоваться в современных социальноэкономических и политических условиях, ни на исторической родине, ни в
диаспоре. В этой связи активисты этнонационального дискурса обращаются
к политическому национализму как средству обеспечения интересов этноса.
На
сегодняшний
день
светский
национализм
характеризуется
доминированием лозунгов, утверждающих примат собственно национальных
– адыгских – интересов над всем остальным и с этих позиций вступает в
противоречие и противодействие с гуманистической интерпретацией хабзэ.
Нивелирование этоса и педалирование эмоса ведут и к деградации культуры
суждений: эпопея с пропагандой в среде адыгской молодёжи обвинений в
адрес России о непризнании «геноцида» черкесов в XIX веке явно
свидетельствует о невысоком моральном и интеллектуальном уровне
лидеров и активистов националистического движения. Своими руками они
роют яму, если не могилу, для стратегического по отношению к будущему
этноса диалога с Россией. Причем в условиях, когда такой диалог как разтаки возможен.
125
Причиной этому может служить и изначально антироссийский вектор
дискурса черкесской нации, в том виде, в каком он закладывался в XIX веке.
Ч. Кинг в данной связи обращает внимание на два фактора. Во-первых, сам
факт борьбы черкесов с Российской империей за свой суверенитет, с
исторической травмой больших людских и земельных потерь, а также утраты
родины для значительной части эмигрировавших горцев. Во-вторых, роль
британских «будителей», которая в итоге оказалась на данный момент в
этнонациональном
адыго-черкесском
дискурсе
доминирующей
по
отношению к деятельности представителей российской интеллигенции, хотя
плоды последней и используются [296]. Стоит обратить внимание на то, что
и мусульманская, и «светская» интеллигенция из числа адыгов поддержали
свержение царизма, разделившись, однако, на сторонников Февральской и
Октябрьской революций. Ряд «буржуазных демократов» из числа адыгской
элиты стал лидерами образованных после февраля 1917 года северокавказских республик, пытавшихся сопротивляться Советской власти. В
эмиграции они стали организаторами политических клубов, которые, при
поддержке западных правительств и спецслужб, приняли активное участие в
геополитической борьбе против СССР, а теперь и против Российской
Федерации, продолжая «Большую Игру» XIX века [162].
В 1963 году советский исследователь И.В.Тресков уделил несколько
страниц
критическому
разбору
«бездоказательных
утверждений»
А.
Намитока, бывшего лидера Кубанской Рады, члена эмигрантского движения,
издавшего в Стамбуле в 1920-е годы ряд работ по черкесской (адыгской)
истории [243]. Их содержание напоминает цитировавшиеся выше «тезисы»
Н. Цагова о том, что адыги «10 000 лет назад правили Средиземноморьем».
Критиковавшуюся И.В.Тресковым работу можно представить звеном в цепи
от сказанных Д. Урквартом в 1830-е годы слов о «5 000 лет черкесской
национальной независимости» до издания в 2013 году «Черкесского
календаря» под названием «6 000 лет адыгской цивилизации» группой
активистов из закрытой националистической структуры, созданной в США,
126
но состоящей преимущественно из российских и турецких граждан [273].
Показательно и интервью лидера этой группы, молодого кабардинца Замира
Шухова, в кратком виде раскрывающего подоплеку восприимчивости к
идеям и практикам этнического национализма. Заинтересовавшись в период
учебы
за
пределами
«малой
родины»
собственной
культурной
и
исторической идентичностью, амбициозный молодой человек открыл для
себя трагедию своего народа, подвергшегося в прошлом завоеванию и
«геноциду», а ныне «дискриминируемому» в силу своей разделённости и
слабости. Личный негативный опыт из-за трудностей с самореализацией в
силу
распространённости
кумовства
и
коррупции,
социокультурный
антагонизм к некоторым явлениям российской общественной жизни,
наконец, трагическая история репрессированного при Советской власти
прадеда, бывшего одним из наиболее уважаемых сельских старейшин – всё
это
соединилось
в
черты
репрезентативного
портрета
процесса
формирования современного адыго-черкесского националиста [60].
Впрочем, хотя организованный этнический национализм среди адыгов
(черкесов) и пользуется интеллектуальными дискурсами адыговедов (термин
«геноцид», например, вошёл в обиход в том числе благодаря тому, что был
ими поддержан), всё же такой взаимный резонанс является скорее
следствием неэффективной политики в сфере идентичности в России, чем
закономерным результатом национализации этничности.
В любом случае, для мобилизации массового сознания, знакомого с
реалиями социальных отношений, идея социополитического объединения на
основании
этнокультурной
идентичности
оказывается
недостаточно
эффективной. Востребован такой подход оказывается лишь в тех (микро)
средах, где кооперация на базе этнокультурной общности представляется
ресурсом социализации. Носители адыгской (черкесской) идентичности
проживают на территории различных государств и представляют собой в
лучшем случае локальные сообщества. Поэтому, даже если какое-то
количество адыгов (черкесов) было бы готово поддержать идеи создания
127
суверенной этнической государственности на исторической родине, не
существует ни условий, ни политической силы, достаточно серьёзной, чтобы
потенциал такой готовности мог стать актуальным. В таких условиях
основной стратегией светского адыго-черкесского национализма является
задел будущего. Большую роль в этом играет формирование представлений у
молодёжи. При этом ярлыками самобытности в светском варианте
национализма
маскируется
скорее
приспособление
к
глобальным
социокультурным изменениям в формате, который западные исследователи
именуют «новой этничностью» [108, с. 154; 199].
Более
серьёзным
явлением
представляется
присутствие
этнонационального дискурса в политической активности под религиозными
(исламскими)
лозунгами.
Религиозный
национализм
обращается
к
цивилизационной традиции, предполагающей социально-экономическую и
личную мировоззренческую альтернативу. Ангажированное конфликтом
социальных реалий с традиционными ценностями, культурное сознание
побуждается к активности во имя политического суверенитета, трактуемого в
контексте глобального противостояния. Среди последователей идеологии и
структур религиозного радикализма из числа адыгов сентенции о кризисе и
вырождении хабзэ, об исторической трагедии «завоеванного этноса»
чрезвычайно распространены.
Впрочем, сопряжённое с этнической и религиозной идентичностью
национальное самосознание среди адыгов (черкесов) не сводится к
политическому
национализму.
Более
того,
восприятие
этнической
идентичности как национальной само по себе не ведёт к конфликту с
идентичностью гражданской. Возможности подобного конфликта носят
скорее темпоральный характер и могут рассматриваться как производные от
социально-экономической и политической ситуации в стране и на
международной арене.
Также важно подчеркнуть, что кризис традиционной идентичности сам
по себе не является кризисом социальности. Обострение национальной и
128
этнической проблематики провоцируется кризисом самой социальности,
проблемами самореализации личности, которые вынуждают обращаться к
поиску альтернативных форм идентичности.
Очевидно, что адыгская идентичность и хабзэ являются в настоящее
время предметом нарастающего символического конфликта, в который
вовлечено и национальное сознание. Основная причина такого положения
дел заключается в том, что существует онтологический принцип, более
фундаментальный, чем национальность или этничность. Идентичность
определяется сознанием социального положения, а форма и содержание
сознания обуславливаются культурой [145; 227; 288]. Именно кризис
культурного фактора может рассматриваться не только как следствие, но и
как причина кризиса социально-экономического, который в свою очередь
провоцирует кризис социальности.
3.4. Адыгская идентичность в культурологической перспективе
Претендующие на целостность идеологические дискурсы – а именно к
таковым относятся дискурсы нациосферы – формируются с участием акторов
и
средств
символического
(семиотического)
производства
и
соответствующих институтов. Следует согласиться с суждением П. Бурдье о
том,
что
все
идеологии
«детерминированы
дважды»,
и
своими
специфическими характеристиками «обязаны в первую очередь интересам
тех, кто их производит, и лишь во вторую – тем, кому они адресованы» [124,
с. 94]. На интересы тех, кто производит дискурс, влияет множество факторов.
Помимо того, что они могут пытаться запечатлеть, передать либо вернуть
уходящее, «согласуя при этом прошлое со своими текущими заботами» [253,
с. 49], либо способствовать определённому будущему, они также могут быть
включены в контексты институциональной деятельности, геополитического
противоборства, личной карьеры и т.д.
129
По-прежнему большую роль в организации социального пространства
играет государство. Несмотря на то, что у негосударственных акторов в
последнее время значительно выросли возможности воздействия на массовое
сознание, государство остаётся чрезвычайно важным в своей активности (или
бездеятельности) участником культурно-исторических процессов. Оно
определяет «правила игры», то есть по-прежнему способно задавать
параметры
социально-экономического
общества.
Однако
за
понятием
и
культурного
«государство»
уклада
стоят
жизни
конкретные
персонифицированные акторы и группы. Их собственное сознание и
интересы
определяют
политику
и
роль
государства
в
культурно-
исторических процессах.
В советский период в России в так называемых национальных
субъектах были сформированы «национальные кадры» управленцев. В эпоху
СССР
они
были
заинтересованы
в
противодействии
этническому
национализму, в обеспечении идентичности масс через понятие
и
представление
и
о
советской
общности,
реализовавшей
развитие
национальную государственность малых народов [141; 267; 294]. В
постсоветский
период
отношения
властных
элит
с
этническим
национализмом оказались несколько сложнее, но очевидно, как и прежде,
они соизмеряются со статусно-практическими интересами и политическими
стратегиями и/или личными принципами и воззрениями. То же характерно и
для носителей властного ресурса в целом, как в России, так и за рубежом.
Образование и круг общения формировали и формируют у носителей
административного, информационного и прочего влиятельного социального
ресурса представление об адыгской общности в контексте современного
национального дискурса, вне зависимости от личного отношения к этой
общности.
В странах Ближнего Востока подобное отношение актуализировалось
традицией этносоциальной стратификации общества в рамках общей
государственности. Несмотря на периоды усиления давления со стороны,
130
например, идеологии так называемого «арабского национализма» в Сирии и
Ираке, подобная композиция общественных отношений до сих пор
обеспечивает существование черкесской диаспоры в особом этнокультурном
статусе. Это формально способствует её внутренней консолидации, но не
препятствует расхождению векторов сознания черкесов по вопросам
идентичности политической, социальной, культурной, религиозной и т.д. [20;
52; 69; 129; 180; 275; 281; 297].
В Турции политика по формированию турецкого национального
сознания
обернулась
для
черкесов
этнокультурным
подавлением
и
практически насильственной ассимиляцией. Однако их многочисленность
(оценки разнятся, но в любом случае речь до сих пор идёт о миллионах
носителях черкесской идентичности, большинство из которых очевидно
разделяют и идентичность адыгскую) позволила черкесам в Турции
сохраниться до периода политических перемен при новом руководстве.
Представители Партии справедливости и развития, с одной стороны,
провозгласили
курс
«нового
османизма»,
меняя
парадигму
государственности с национальной на цивилизационную, с другой –
признали
принципы
Европейского
Сообщества
в
отношении
прав
этнокультурных меньшинств [66; 67; 278; 287; 295].
Что касается черкесских диаспор в США и Европе, то принципы и
практика мультикультурализма предоставляют возможность культивации
так называемой «фольклорной» этничности, как набора подчёркивающих
этнокультурную специфику символических практик и языка [56; 242; 208].
В целом в отношении адыгской (черкесской) диаспоры можно
отметить, что угасание этнического культурного наследия происходит не изза недостатка культурной активности, а в силу контекста социальной
повседневности. Этническая самобытность была продуктом «этнического
ландшафта», это отразилось в драматическом статусе семиотических образов
родины как центра, ядра, души, очага и истока – хэку, лъапсэ – в сознании
первых поколений черкесских эмигрантов второй половины XIX – начала ХХ
131
столетий. В условиях воспроизведённой в местах компактного проживания
традиционной среды эти переселенцы хранили мечту о возвращении [64; 97;
275]. Но последующим поколениям образы родины и культуры предков
переданы в редуцированном виде. Значительная часть черкесов диаспоры
практически ассимилировалась, хотя язык предков и основополагающие
нормы традиций и обычаев в определённой мере сохранились.
В последние десятилетия возросло количество носителей адыгской
(черкесской) идентичности, не знающих языка предков. Нередко это дети
тех, кто им владеет [66; 67; 97]. Без знания языка, вне специально
направленного образования, воспринять этническую культуру можно лишь в
виде обобщённых, отчасти фрагментарных описательных сведений.
В
государствах,
где
черкесы
представляют
иммигрантские
меньшинства, они заметно утратили свою идентичность, из-за кризиса
социальной
автономии
своих
анклавов
оказавшись
в
условиях
прогрессирующей языковой и культурной ассимиляции. В некоторых
странах подобные процессы замедляются субъективными обстоятельствами,
но
в целом то, что
С.Н.Жемухов называет «черкесским миром»,
характеризуется обсуждением двух отчасти взаимосвязанных перспективных
стратегий: институализации
этнокультурности
в условиях дисперсии
(глобальный этнос) и репатриации, полной или частичной, на историческую
родину (хабитализация) [43; 215; 281; 309].
Если культурологические перспективы «глобального этноса» связаны с
динамикой событий в мире в целом, то вопрос о возможности хабитализации
возвращает нас к фактору России в будущем адыгской и черкесской
идентичности.
У
проблемы
отношения
адыгов
к
идее
российской
гражданской нации, затронутой нами выше, есть ещё один немаловажный
аспект. Историческая специфика адыгской этничности заключается в том,
что порождаемая ею идентичность является цивилизационно-культурной.
Этническое
самосознание
связано
с
ценностными
установками
и
культурными практиками, составляющими символическое значение имени
132
«адыгэ». Поэтому соотношение с теми или иными формами национального
сознания предопределяются наличием или отсутствием когнитивного
разрыва и противоречий между представлениями о личном и коллективном
достоинстве и актуальным состоянием социального пространства.
Ключевая
проблема
адыгской
(черкесской)
идентичности
на
сегодняшний день заключается в том, что, будучи в первую очередь
идентичностью культурной, она не может обрести социально-экономических
основ для самодостаточности. Религиозное, национальное, субкультурное и
прочие формы сознания компенсируют этот разрыв между ментальностью и
реальностью, «достраивая» и «компонуя» элементы восприятия и картины
мира, заполняя лакуны ценностного мышления.
Важно понимать, что принцип самодостаточности в данном случае
заключается не в невозможной абсолютной самобытности, а в примате
традиционных
концептов
идентичности,
культурных
доминант,
при
открытом характере когнитивного сознания. Именно так развивалась,
адаптируясь к переменам, идентичность хабзэ в прошлом. Необходимость
соответствующей среды для культивации хабзэ предопределяет фактор
этничности в национальном сознании современных адыгов. Также эта
необходимость предопределяет наличие полюса хэку – исторической родины,
как единственной возможности сохранения собственной идентичности на
отдалённую
перспективу.
С
другой
стороны,
сама
потребность
в
идентичности хабзэ связана с восприятием собственного социального
положения, с проблемными аспектами социализации и инкультурации.
Современный
этап
с
его
небывалым
прежде
уровнем
индивидуализации культурного выбора предполагает и адекватный уровень
стратегического самоутверждения [271, с. 32]. Идентичность хабзэ обладает
достаточно глубокими культурными корнями, которые многие носители
адыгской
(черкесской)
идентичности
стремятся
сохранить.
Мировая
социокультурная нестабильность затрудняет прогноз последствий этой
ситуации. Однако Россия выступает своего рода Определяющим Другим для
133
ориентированного на исторический хабитат хабзэ полюса адыгской
(черкесской)
идентичности. Поэтому цивилизационный вектор развития
российской государственности может иметь решающее значение для
дальнейшего будущего национального сознания в адыгской среде.
Влияние габитуса хабзэ при анализе сознания современных адыгов
(черкесов) само по себе имеет, на наш взгляд, гораздо большее значение, чем
сознание этнической общности. Смыслосфера адыгэ хабзэ и просто хабзэ
оказывает на формирование личных этоса и эмоса гораздо более глубокое
влияние, чем идеология адыго-черкесской общности и соответствующее
сознание.
О хабзэ как о фундаменте адыгской идентичности и этнокультурного
своеобразия писали многие исследователи. Однако до сих пор мало
придаётся значения тому факту, что в прошлом хабзэ в условиях
бесписьменного традиционного общества являлось аналогом отношений
гражданской и национальной идентичности и до сих пор носит актуальный
самостоятельный характер. Условно говоря, нужда в национальном сознании
и национальном дискурсе для утверждения отношений хабзэ субъективна,
это производные от рефлексии и адаптации посттрадиционного сознания к
современным реалиям. Подлинный фактор культивации хабзэ – социальноэкономический уклад. Если же речь об адыгэ хабзэ – то для его
самореализации
в
качестве
компонента
и
фактора
онтологической
безопасности требуется особая этнокультурная среда – хэку.
В то же время очевидна взаимосвязь процесса кристаллизации в
современных условиях адыгской идентичности и роста ориентирующейся на
неё идеологической активности. Восприятие адыгами национального
сознания - этнического либо гражданского - в онтологическом контексте
можно представить как производное от процессов взаимодействия габитусов
культуры и социальных отношений, взаимно трансформирующих друг друга.
Когерентность восприятия этнонациональной тематики среди адыгов
определяется в первую очередь сохранением этничности как живого
134
культурного состояния социальных связей и практик, а также ментальным
наследием прошлого, нередко входящим в конфликт с современной
социальной действительностью. В то же время, прошлое меняет свой облик в
сознании людей из-за трансформированного настоящего [186, c. 384].
В тех случаях, когда имеет место активизация этничности, происходит
усиление позиций этнонационального дискурса, чему немало способствует
новое виртуальное информационное пространство. Суггестивный эффект
дискурсов сознания в последнее время качественно и принципиально
изменился за счет формирования единого коммуникационного пространства
и
виртуализации
технологий
передачи
образов
(импринтинга),
симбиотически объединяющих тексто-, аудио- и визиотип [236, c. 33]. В
современной нациосфере элементами дискурса являются образы, тексты и
репрезентации национальных истории, языка, общности, происхождения,
культуры и символов [236, c. 49]. Пространство, на структуризацию которого
сегодня
направлены
перечисленные
элементы,
в
бесписьменной
донациональной этнической среде являлось средой динамичного плюрализма
форм и содержания. Стандартизация предназначена зафиксировать и тем
самым утвердить семиотические конструкции во времени, она снижает
семиотическую динамику и сужает поле семиотического диалога [186].
Очевидно,
что
с
уходом
старшего
поколения,
чьи
критерии
семиотического восприятия формировались в иных культурных условиях,
нынешняя молодёжь, чьё сознание в иррациональной форме запечатлевает
образы исторической трагичности, древности, воинского этоса, адыгской
уникальности и т. д., - может превратить черкесов в более политически
нестабильную среду.
В каком-то смысле виртуальную адыго-черкесскую нацию можно
сравнить с социальным институтом. Это своеобразная интерпретация
термина нация. Однако исследования роли и места этнонационального
дискурса в воззрениях и практиках молодёжи, интеллигенции, экспертов,
носителей властного и материального ресурсов и т.д., на наш взгляд, могут
135
подтвердить тезис о том, что ментальная реальность национального является
не только объектом, но и субъектом формирования мировоззрения,
интересов, деятельностных мотиваций, социальных позиций, жизненных
стратегий
и
стиля,
повседневного
мышления,
коммуникативной
идентичности и проч.
В этом наглядно проявляются причины актуальности вопроса о
содержании национального сознания адыгов, о роли и значении в нём
этничности. Предпосылки для её национализации содержит в себе, в виде
нациосферы, сама общемировая информационная среда. Политизация
этничности в контексте национального сознания происходит, если состояние
социального
пространства
провоцирует
отступление
гражданской
идентичности. Переходный характер современного этапа глобализации,
выражающийся в трансформации национальной государственности в
цивилизационно-культурную
идентичность,
объясняет
активизацию
этнического национализма. Традиционное культурное наследие при этом
обычно частично реифицируется, частично отвергается [170; 255].
Особенно показательна структурная логика развития этнического
национализма,
чья
идеология
и
организационные
формы
многими
исследователями обоснованно сравниваются с религиозными культами [170;
210; 286]. На адыгском примере мы полагаем возможным уточнить это
сравнение,
сопоставив
современный
этнический
национализм
с
сектантством. Показательно, что элементы этнонационального дискурса
используются преимущественно последователями салафии, претендующей
на глобальную альтернативу, как обычному исламу, так и этническим
культурам. Что касается светского национализма, то сопоставление его с
сектантством также оправданно, как с точки зрения культурной идеологии,
так и в отношении структурной организации. Формы образования сообществ,
ведения деятельности, этический цинизм, эмотический негативизм и
«ницшеанские» настроения, элементы дискурсов «нью-эйдж» в проектах,
поведении и практике
националистов свидетельствуют, что за «новой
136
этничностью»
светского
черкесского
национализма
стоит
нишевая
надстройка на общем фундаменте посттрадиционной западной цивилизации.
Однако поле воздействия элементов этнонационального дискурса
гораздо больше националистической активности. Сохранение этнического
лица адыгской культуры пока обеспечивается традиционными механизмами
воспроизводства, но развитие средств и технологий передачи информации
оказывает всё возрастающее влияние на содержание представлений
носителей адыгской идентичности. Маргинализировать значение этнического
национализма в этих условиях можно, очевидно, на пути формирования
российской цивилизационной альтернативы как фактора и следствия
социально-экономических преобразований.
Сегодня социальная история нескольких западных государств служит
обоснованием концепта политической нации как сообщества индивидов и
соответствующего
идеологического
дискурса,
направленного
на
переструктурирование мирового социального пространства. Но официально
декларируемый кризис мультикультурализма среди ведущих «наций»
Запада, подъём регионального сепаратизма в странах «либеральной
традиции», разрушительные конфликты в странах «третьего мира» и в
постсоциалистических
государствах
после
перехода
на
«западные
цивилизационные рельсы» демонстрируют, что специфика конкретной
цивилизационной
реальности,
истории
адекватной
по
Запада
не
масштабам
предлагает
его
социокультурной
политико-экономической
экспансии.
Очевидно поэтому «ответ» на неадекватность прежней национальной
модели заключается в «цивилизационном» содержании. Последовательный
кризис ассимиляционной и мультикультуралистской моделей на Западе не
отменяет того факта, что они, как и то, что придёт им на смену,
ориентированы
на
прогрессистскую
установку
формирования
новой
цивилизационной идентичности [213; 277; 299]. В любом случае речь идёт о
137
переводе населения в новые формы социальности, а не о культивировании
прежних устоев.
В отличие от Запада - «инициатора» глобализации - объекты его
исторической экспансии, приспосабливаясь к новым реалиям, зачастую
стремятся адаптировать их к прежним социокультурным габитусам. Причем
это сопровождается не всегда явной тому или иному поколению глубинной
трансформацией содержания как оригинальных, так и заимствованных
концептов, институтов, форм и т.д.
Теперь речь идёт о «цивилизациях» и «цивилизационных проектах»,
даже если они облачены во фразеологию и практику национального
дискурса. Очевидно, что современные Китай и Индия, страны Латинской
Америки и Ближнего Востока, Турция, государства Юго-Восточной Азии,
даже Япония и обе Кореи являются по своей официальной или практической
идеологии не столько национальными государствами, сколько формами
гражданско-цивилизационной
идентичности.
В
отличие
от
стран
англосаксонского ареала или Евросоюза, данные государства при этом
ориентированы на модернизацию консервативного типа. То есть не на отказ
от своего прошлого, но на переобретение себя, хотя и существенно
изменившимися.
Там, где возможно доминирование определённых этнических начал,
национальный
аспект
государственного
устройства
кажется
более
очевидным. Однако для России, несмотря на государствообразующую роль
русского языка и русского народа, ни турецкая и латиноамериканская, ни тем
более китайская или японская модели не подходят. Так как разнообразие
этнокультурного наследия и традиционных конфессий слишком велико и
сказывается
наследство
национализировавшей
многие
советской
этнические
политики,
группы.
фактически
Видимо,
помимо
сохранения указанного выше разнообразия, декларируемого российским
руководством в контексте необходимости формирования российской нации,
необходимо также появление новой гуманитарной действительности, нового
138
общероссийского сознания идентичности. Это сознание должно объединить
в себе упоминаемые в программных документах общие культурные коды и
тем самым сформировать актуальное гражданское единство в универсальном
измерении культуры. В том числе благодаря обеспечению союза культур в их
партикулярном
которой
может
измерении.
стать
Предполагаемым
сформулированный
идеологическим
российскими
базисом
мыслителями
прошлого принцип (идеал) соборности, созвучный, на наш взгляд, идеям И.
Гердера.
Если формирование российской нации окажется по сути процессом
реализации традиционных ценностных установок в контексте сознания
общего цивилизационного пространства и разделяемой государственной
идентичности, то идентичность хабзэ сможет обрести основания в
социальной действительности и выйти из кризиса, который на самом деле
является кризисом человеческой социальности. Отпадёт знак равенства
между государством и посттрадиционным состоянием общества, так как
состоится переобретение традиционного габитуса социо- и культурогенеза в
его новых формах. Тем самым национальный дискурс будет разъединён с
этничностью, что имеет принципиальное значение для полиэтничного
российского государства. В отношении же носителей адыгской идентичности
подобное развитие событий может означать актуализацию гуманистического
потенциала этнокультурной самобытности вместо её виртуализации в
контексте национального сознания.
Заключение
В рамках данного диссертационного исследования рассмотрены
вопросы специфики формирования национального сознания адыгов в
контексте культурно-исторических процессов.
Исторически адыгская идентичность связана с определённой формой
культурного самосознания, основанного на этосе (габитусе) хабзэ. В эпоху
139
самобытного существования местных социумов указанный термин адыгского
языка обозначал ментальный универсум, структурировавший общественные
взаимоотношения и обуславливавший социализацию и инкультурацию
личности. Подобные явления известны на других примерах из социальной
истории человечества, включая регион Северного Кавказа в целом, и
рассматриваются как характерные для традиционных обществ. Тем не менее,
в каждом отдельном случае речь идёт об уникальных формах и содержании
культурного сознания, связанных с конкретными особенностями культурноисторических процессов.
Адыгская
идентичность
формировалась
в
условиях
сложной
геополитической, социальной, этногенетической динамики. Хабзэ, как
парадигма общественных взаимоотношений в эпоху социокультурной
автономии, при всей динамике связанных с ней реалий социальной жизни и
ментальности, является исторической основой адыгской самоидентификации.
Таким образом, исторически адыгская идентичность представляет собой
идентичность культурную или социокультурную.
Терминологически
понятие
хабзэ
носит
универсальный
онтологический характер, концепт адыгэ хабзэ отражает партикулярное
измерение,
связанное
непосредственно
с
адыгской
идентичностью.
Квинтэссенцией её культурного содержания является формула адыгагъэ –
«адыгство», «то, что делает адыгом» - прямо зависимая от интерпретаций
адыгэ хабзэ и всего комплекса формирующих менталитет концептов
традиционной культуры. Цивилизационный стержень указанного комплекса
раскрывается через концепт цIыхугъэ – «человечности», в его взаимосвязи с
представлениями о достоинстве личности.
В определённый исторический период, ранее которого адыгская
идентичность в доступных для исследования источниках не фиксируется,
соотношение коллективной идентичности с именем «адыгэ» в значительной
мере обуславливалось политическими факторами, конкретно пределами
власти княжеского рода Иналидов. Что особенно наглядно отразилось в
140
социально-политической дихотомии адыгэ жылэ - абазэ жылэ (общества
адыгэ – общества абаза). Условная идентичность хабзэ и сфера употребления
адыгского языка выходили за пределы исторического хабитата адыгской
идентичности
в
рамках
большего
культурно-географического
ареала
Черкесии.
Ликвидация политической самостоятельности адыгских социумов в
XVIII-XIX столетиях, воспрепятствовав реализации сценариев дальнейшего
развития локальной государственности, предопределила превращение хабзэ в
исключительно культурный феномен. Очевидно, что социокультурное
развитие адыгских (черкесских) социумов на Северном Кавказе на рубеже
XVIII – XIX столетий подошло к рубежам формирования государственности
современного типа: общинной республики на западе ареала и сословной
республики
на
востоке.
Нереализованность
данных
сценариев
способствовала консервации исключительно культурного, традиционного
значения хабзэ, как инфраструктуры общественных отношений в условиях
социальной автономии.
После вхождения в состав российского государства, а также в условиях
диаспоры происходит нивелирование прежних форм идентичности –
патронимической, сословной и проч. - и утверждение современной адыгской
этничности, в которой имя «адыгэ» выступило на первый план как фактор
формирования сознания общности. Это стало возможным благодаря
ликвидации политических и экономических основ сословного строя.
Прежние элиты были интегрированы в иную социальную действительность,
в то время как народная среда оказалась в условиях социокультурной
автономии. Хабзэ оставалось актуальным состоянием среды, однако его
безальтернативный
характер
сохранялся
только
по
отношению
к
крестьянству (сельскому населению). Утратив формальную вертикальную
стратификацию,
послесословное
хабзэ
представляет
собой
комплекс
обычаев, практик и ментальных концептов, объединяющих наследие
различных социальных слоёв. В то же время, это потенциал вариативного и в
141
чем-то противоречивого культурного содержания, что особенно очевидно в
условиях кризиса традиционной социальности.
При
утрате
взаимосвязи
с
актуальным
состоянием
структуры
общественных взаимоотношений происходит частичное абстрагирование
хабзэ, его виртуализация. По мере вхождения в орбиту глобализации
традиционное общество постепенно превращается в посттрадиционное.
Происходит его адаптация к специфическим формам политического и
экономического
устройства,
организации
социального
пространства,
информационной среды, коллективных форм памяти и идентичности. Одним
из важных атрибутов европейского цивилизационного дискурса, влияние
которого в мире усиливается по мере нарастания глобализационных
процессов, является тип или форма государственности, которую можно
охарактеризовать как национальную.
Контекст
борьбы
за
автономию
актуального
социально-
экономического уклада продемонстрировал цивилизационную адаптацию
идентичности
хабзэ
к
меняющимся
геополитическим
условиям.
Формирование политических идентичностей сословной этнии Кабарды и
конфедерации демократизированных социумов в Закубанской Черкесии
вполне, на наш взгляд, можно сравнить с процессами формирования
национального сознания в европейской истории.
Вхождение в нациосферу для переживающих кризис прежних форм
социальности
обществ
политической
общности
нередко
на
оборачивается
общность
экстраполяцией
этническую.
Однако
идеи
данное
утверждение становится правомерным по мере того, как усваивается
собственно этническая составляющая дискурса нациосферы. Рассмотренные
нами исторические примеры показывают, что актуальные на тот или иной
период
идеи
и
события
нациосферы
воспринимались
носителями
трансформирующейся идентичности хабзэ в зависимости от наличного
социального уклада и собственного социального положения. В частности,
структурировавшиеся под парадигмой хабзэ отношения внутри сословной
142
этнии Кабарды и ликвидировавших сословный строй социумов СевероЗападного Кавказа предопределяли то, каким образом проводилась аналогия
между гражданственностью и национальностью с одной стороны и
собственным укладом с другой. В Кабарде идея нации усваивалась с
элитарных позиций (нация дворян), на западе Черкесии – с эгалитарных
(нация страны черкесов).
Впоследствии,
после
утраты
политического
суверенитета,
национальное сознание до определённого периода времени усваивалось лишь
отдельными социальными группами (микросредами) и индивидуумами,
интегрированными
в
социальное
пространство
современной
им
государственности. Помимо гражданского измерения, такое сознание могло
ориентироваться и на этничность. При обращении к адыгской идентичности
оно принимало форму представлений об общности исторической судьбы
всех, разделяющих адыгские самоназвание и язык. Таким образом, было
положено
начало
адыгскому
этнонациональному
дискурсу
в
среде
формировавшейся интеллигенции.
Однако народная среда, пребывавшая в состоянии коллективной
социокультурной автономии от нового цивилизационного пространства,
оставалась в стороне и от национального сознания. Сельское население лишь
опосредованно воспринимало идеи гражданской либо этнической нации и
характеризовалось в первую очередь социальной идентичностью хабзэ и
религиозной идентичностью ислама (в отношении части моздокских адыгов
– православного христианства).
В течение ХХ века экономическая и информационно-культурная
автономия сельской среды была ликвидирована во всех странах проживания
адыгов (черкесов). Следствием «взлома» традиционного социального
пространства стал кризис традиционной идентичности. Хабзэ перестало быть
безальтернативным
взаимоотношений,
действительностью.
состоянием
происходит
инфраструктуры
разрыв
менталитета
общественных
хабзэ
с
143
Включение в общее пространство национальных государств привело к
необходимости разделять гражданскую национальную идентичность, что
обернулось для многих частичной либо полной утратой идентичности хабзэ
и собственно адыгской самоидентификации. Это объясняется тем, что
национальный тип государственности всегда имеет определённую языковую
и культурную доминанту, с которой прежний габитус хабзэ конкурировать не
мог в силу утраты своих оснований в социальной действительности.
В настоящее время имеет место в определённой мере неявная для
массового сознания трансформация габитуса хабзэ. Состояние мирового
социального, информационного и культурного пространства не предполагает
возможности полной утраты адыгской идентичности. Наоборот, нередко
способствует
её
Посттрадиционная
сохранности
либо
социальность
возрождению
и
национальных
переобретению.
государств
и
глобализирующегося информационно-культурного пространства сочетается
для носителей адыгской идентичности с традиционными концептами и
нормами, продолжающими воздействовать на их сознание и повседневные
практики. Противоречие характеру актуальной социальной действительности
связанных с данной идентичностью традиционных ценностных установок и
культурных
практик
провоцирует
попытки
переосмысления
и
трансформации габитуса хабзэ. Как проявления подобной тенденции можно
расценивать и феномены этнического национализма либо религиозного
радикализма и сектантства в адыго-черкесской среде.
Кризис традиционной адыгской идентичности является кризисом
исторически
сложившейся
этничности
и
провоцирует
активизацию
процессов формирования этноориентированного национального сознания.
Главную роль при этом играют средства и технологии культуры, с помощью
которых этнонациональный дискурс распространяется и утверждается в
виртуализирующемся информационном пространстве, где национальное
сознание адыгов является частью глобальной нациосферы.
144
«Травматический синдром» кризиса прежних основ общежития,
формировавших среду культивации габитуса самобытности, предопределяет
негативный аспект содержания стратегий по превращению адыгской
идентичности в национальное сознание. С другой стороны, у адыгского
самосознания в контексте смыслов и образов нациосферы существует иная
сторона. Мы можем обозначить её как переходную форму сознания в
условиях трансформации исторического габитуса идентичности, то есть
ментальности хабзэ.
Это, как мы показали в своём исследовании, сближает проблематику
национального сознания адыгов с вопросами состояния национального
дискурса в России в свете определяющего значения вектора дальнейшего
развития российской государственности. Наиболее очевидно взаимосвязь
перспектив национального сознания среди адыгов с «фактором России»
раскрывается при помощи культурологического анализа с использованием
семиотического подхода. Как показало наше исследование, будущее
адыгской идентичности лежит в той же сложной динамике взаимоотношений
цивилизационной и национальной моделей государственного и социального
развития, в которой определяется будущее идентичности российской.
Глубокий гуманитарный кризис Запада провоцируется разрывом между
различными ценностными установками, традициями, формами сознания.
Условия глобализации, в ходе которой осуществляется мировая политикоэкономическая и информационная экспансия Запада, предопределяют
вовлечение
в
человечества.
аналогичное
критическое
Взаимосвязь
состояния
культуры
реалий
современной
экономических,
соответствующий
политических
вектор
и
состояние
потенциальному
большей
и
социальных,
России
развитию
части
задаёт
российской
государственности. Воплощение дискурса гражданской нации в России в
таких условиях может обернуться дезинтеграцией российского социального
пространства.
145
В то же время, идеология так называемых «традиционных ценностей»
способна стать средством диалога, с помощью которого может состояться
переобретение российской государственности и российского общества как
цивилизационной реальности. Вследствие чего национальное сознание
наполнится качественно (сущностно) иным содержанием. Нам удалось
выявить значение габитусов культуры для подобной перспективы на примере
тенденций развития национального сознания среди носителей адыгской
идентичности.
Исходя из того, что нам удалось обозначить, подобные процессы могут
рассматриваться
как
идентичности,
становление
основанного
на
нового,
цивилизационного,
общности
ценностных
типа
установок
жизнедеятельности. Можно отметить, что в прошлом, с учетом иной
социокультурной
специфики,
подобная
общность
предопределяла
возможность позитивного характера взаимоотношений идентичности хабзэ и
российской государственности. Усвоение Россией идеологии европейского
национального дискурса и связанного с ним социально-экономического
устройства привело к эпистемологическому разрыву и драме противостояния
в XVIII-XIX столетиях. На наш взгляд, большое актуальное значение имеет
понимание данного факта и предопределившей его взаимосвязи форм
культуры,
сознания,
политики,
экономики
и
общественных
взаимоотношений.
Однако, возможно, ещё более важное значение имеет взгляд на
будущее адыгской (черкесской) идентичности через призму анализа смысла
исторического
феномена
хабзэ
в
контексте
актуальных
вопросов
общественного развития. Благодаря развитому культурному содержанию
адыгской идентичности, ход социальной истории обусловил значительный
уровень
устойчивости
этнической
маркировки
адыгэ
в
отношении
определённого менталитета, этоса жизнедеятельности и культурных практик.
Огосударствление
общественной
жизнедеятельности
адыгов
(черкесов) во всех странах их пребывания ликвидировало самодостаточность
146
идентичности хабзэ и соотнесло её с гражданственностью и восприятием
собственной этничности в контексте национального сознания. Изменилось
также значение религиозной идентичности.
Можно сказать, что национальные государства включили адыгскую
(черкесскую) этничность и
современном
этапе
культуру в контекст глобализации. На
существует
определённый
порог
ассимиляции,
вследствие чего адыгская идентичность продолжает существовать. Сегодня
она приобретает проблемный характер в силу разрыва между содержанием
социальной действительности и той культурной парадигматикой, на которой
эта идентичность зиждется и в контексте которой она реализуется. Суть
кризиса заключается в том, что ни хабзэ, ни государственность не в
состоянии реализовывать собственное онтологическое предназначение на
уровне общностей. Глобальная проблематика идентичности обуславливается
несоответствием воспитываемых культурой представлений о человеческом
достоинстве с актуальным социальным положением личности.
Таким
образом,
вопрос
о
будущем
адыгской
(черкесской)
идентичности напрямую связан с вопросом о будущем государственных
институтов. Тенденции глобального общества позволяют рассматривать
коллективные формы сознания современных адыгов - гражданскую
идентичность, этничность, религиозность, маргинальность – как формы и
инструменты приспособления
к меняющемуся
миру.
Если будущее
человечества действительно заключается в глобальном обществе, то вопрос о
национальном сознании адыгов (черкесов) оказывается частным вопросом
соотношения динамики культурно-исторических процессов и человеческой
ментальности (социальности).
Также необходимо отметить в заключение, что данное исследование
было сосредоточено на разработке и обосновании принципиального
культурологического подхода. Анализируя взаимосвязь условий и факторов
социальности с культурой и сознанием, мы стремились определить
ключевую концептуальную проблематику исследовательского поля. Между
147
тем, наши выводы могут быть полезны для комплексных и частных
(прикладных) культурологических исследований процессов, происходящих в
различных сферах общественной жизни, культуры и ментальности. Вопросы
личного и группового творчества, тенденций в искусстве, субкультурной
активности, социального значения и культурного содержания использования
(воздействия)
информационных
технологий,
актуальные
культурные
практики и их динамика, соотношение феноменов аутентичной традиции и
культурного синтеза и т.д. - представляют собой непосредственную среду
явлений сознания в контексте проблематики данного исследования [91, с.
37].
148
Список использованных источников и литературы
Источники
1.
Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов
XIII-XIX вв. / Сост., ред. пер., вступ. ст. В.К.Гарданова. – Нальчик: Эльбрус,
1974. – 636 с.
2.
Адыгская публицистика конца XIX – начала ХХ века (Избранное)
/ Пред., сост. и прим. Р.Х.Хашхожевой. – Нальчик: Республиканский
полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 2005. – 358 с.
3.
Античные источники о Северном Кавказе / Сост. В.М.Аталиков.
– Нальчик: Эльбрус, 1990. – 309 с.
4.
Абаев, С.И. Историко-этимологический словарь осетинского
языка / С.И.Абаев. – М.: Издательство Академии наук СССР, 1973. – т. 1. –
673 с.
5.
Бербеков, Х.М. Образование и развитие кабардинской
социалистической нации / Х.М.Бербеков. – Нальчик: Кабардино-Балкарское
книжное издательство, 1958. - 325 с.
6.
Берже, А.П. Выселение горцев с Кавказа / А.П.Берже // Русская
старина. – 1882 - №№ 1, 2. – с. 161 – 176; с. 337–364.
7.
Броневский, С.М. Историческия выписки о сношениях России с
Персиею, Грузиею и вообще с горскими народами, на Кавказе обитающими
со времен Ивана Васильевича доныне / С.М.Броневский. – СПб: РАН,
Институт востоковедения, 1996. – 240 с.
8.
Броневский, С.М. Новейшие географические и исторические
известия о Кавказе / С.М.Броневский. – М.: Типография С.Селивановского,
1823. – в 2 т. – 870 с.
9.
Бэлл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837-1839
годов / Джеймс Бэлл; пер. с англ. К.А.Мальбахова. – Нальчик: Эль-Фа, 2007.
- В 2 т.– 407 с.
10. Васильев, Е. Экспедиция в землю Хакучей [Электронный ресурс]
/ Е. Васильев // Военный сборник, № 8. – 1872. - Веб-сайт Vostlit.info. Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/18601880/Vasiljev_E/exp_chakuch.htm
11. Васильков, В. Очерки быта темиргоевцев // Сборник материалов
для описания местностей и племен Кавказа (СМОМПК). - Тифлис, 1901.
Вып. 29. – С. 71–154.
12. Гильденштедт, И.А. Путешествие по Кавказу в 1770-1773 гг. /
Иоганн Антон Гильденштедт. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2002. –
507 с.
13. Глушик Е. Новороссия: Свобода плюс совесть - интервью с
Алексеем Мозговым [Электронный ресурс] – Завтра – 2014, август. – Режим
доступа: http://zavtra.ru/content/view/svoboda-plyus-sovest/
149
14. Джанашиа, С. Н. Черкесские дневники / Симон Джанашиа; пер. с
груз. Р.Джанашиа, Т.Уджуху – Тбилиси: Кавказский дом, 2007. – 265 с.
15. Дельпоццо, И.П. Записка о Большой и Малой Кабарде // Русские
авторы XIX века о народах Центрального и Северо-Западного Кавказа. Том
1. - Нальчик: Эль-Фа, 2001. – С. 7–41.
16. Доктрина хабзизма [Электронный ресурс] / 2007. – Режим
доступа: http://www.natpress.net/habze.htm
17. Дубровин, Н.Ф.
Черкесы (Адиге) [Электронный ресурс] /
Н.Ф.Дубровин // Военный сборник, № 3. - 1870. - Веб-сайт Vostlit.info. Режим доступа: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/18001820/Dubrovin_N/cerkesy_3.htm
18. Духовской, С. Материалы для описания войны на Западном
Кавказе. Даховский отряд на южном склоне гор в 1864 году [Электронный
ресурс] / С.Духовской // Военный сборник, №№ 11 - 12. - 1864. Режим
доступа:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/18601880/Duhovskoj_S/text3.htm
19. Дьячков-Тарасов, А.Н. Абадзехи. (Историко-этнографический
очерк) / А.Н.Дьячков-Тарасов // Записки Кавказского отдела Русского
географического общества, Книжка 22. Вып. 4. - 1902. – С. 2–51.
20. Жемухов, С.Н. Черкесский вопрос: репортаж из Турции /
С.Н.Жемухов // Веб-сайт Радио «Эхо Москвы». – 2012. – 27 мая. – Режим
доступа: http://www.echo.msk.ru/blog/word/892975-echo/
21. Ермолов, А.П. Записки. 1798-1826 гг. / Андрей Петрович
Ермолов [cост., подгот. текста, вступ. ст., коммент. В.А.Федорова]. - М.:
Высшая школа, 1991. - 463 с.
22. Ислам и советское государство. Выпуск 2: (1917–1936) / сост.,
предисл. и примеч. Д.Ю.Арапова. – М.: Издательский дом «Марджани»,
2010. - 208 c.
23.
Ислам и советское государство (1944-1990): сборник
документов. Выпуск 3 / Под ред. В.О.Бобровникова - М.: Издательский дом
«Марджани», 2011. - 527 с.
24.
Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. Документы и
материалы. - В 2-х т. – М., 1957.
25.
Кавказ и Российская империя: проекты, идеи, иллюзии и
реальность. Начало XIX – начало ХХ вв. / Сост. Я.А.Гордин, В.В.Лапин,
Г.Г.Лисицына, Б.П.Миловидов. – СПб.: Издательство журнала «Звезда»,
2005. – 720 с.
26. Карлгоф, Н.И. О политическом устройстве черкесских племен,
населяющих Северо-восточный берег Черного моря / Н.И.Карлгоф // Русский
вестник. – М., 1860. – Т. 28. – Кн. 2.
27. Куашев, Т. Тяжело быть адыгом: интервью с И. Ягановым /
Кавказская политика. – 2012. – 18 февраля. – Режим доступа:
http://kavpolit.com/tyazhelo-byt-adygom/
150
28. Каламбий. Записки черкеса. Повести, рассказы, очерки, статьи,
письма. / Адыль-Гирей Кешев. - Нальчик: Эльбрус, 1988. – 271 с.
29.
Кауфов, Х.Х. Вечные странники / Х.Х.Кауфов.
Нальчик:
Эльбрус, 2003. - 305 с.
30. Кошев, М.А. Люди, события, факты истории народов Северного
Кавказа в очерках, иллюстрациях и документах (конец XIX – XX век) /
М.А.Кошев. – Майкоп: Качество, 1999. – 196 с.
31.
Кудашев, В.Н. Исторические сведения о кабардинском народе /
В.Н.Кудашев. – Переизд. 1913. – Нальчик: Эльбрус, 1991. – 190 с.
32. Лавров, Л.И. Этнография Кавказа (по полевым материалам 1924 –
1978 г.г.) / Л.И.Лавров. - Ленинград: Наука, 1982. – 224 с.
33. Лики современных абадзехов / Хакуринохабль. - №1. - 2011. – 4
сентября.
34. Люлье, Л.Я. Черкессия. Историко–этнографические статьи /
Л.Я.Люлье. - Киев: УО МШК МАДПР, 1991. – 56 с.
35. Мальбахов Тембора Кубатиевич. Речи. Статьи. Письма / Сборник
документов. – Нальчик: Республиканский полиграфкомбинат им. Революции
1905 года, 2008. – 556 с.
36.
Мисостов, А.М. История несчастных чиракес: сочинение князя
Александра Мисостова в 4-х частях, собранное из записок Санбелева и
дополненное преданиями народа. Большая Кабарда, 1841 год. / Нальчик: Издво М. и В. Котляровых, 2004. - 84 с.
37. Монпере, Ф.Д. Путешествие вокруг Кавказа. Том I.
[Электронный ресурс] / Фредерик Дюбуа де Монпере; пер. с фр. Грузинский филиал АН СССР. Труды института абхазской культуры. Выпуск
VI.
Сухуми.
Абгиз.
1937.
Режим
доступа:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/kavkaz.html
38. Налоев, З.М. Главное не экономика, а культура и идеология /
З.М.Налоев. - Архивы и общество. – 2010. - №15. – С. 180-195.
39. Ногмов, Ш.Б. История адыхейского народа, составленная по
преданиям кабардинцев / Ш.Б.Ногмов [вступ. ст. и подгот. текста
Т.Х.Кумыкова]. – Нальчик: Эльбрус, 1994. - 232 с.
40. Потто, В.А. Кавказская война. В 5-ти томах / В.А.Потто. –
Ставрополь: Кавказский край, 1994. – 672 с.
41. Приветствие
главы
Кабардино-Балкарской
Республики
А.Б.Канокова участникам II Международной научной конференции по
сохранению родного языка в адыгской диаспоре [Электронный ресурс] / Сайт
Международной черкесской ассоциации. – 2013. – 27 сентября. – Режим
доступа: http://intercircass.org/?p=4665
42. Проблемы Кавказской войны и выселение черкесов в пределы
Османской империи (20-70-е гг. XIX в). Сборник архивных документов /
Сост. Т.Х.Кумыков. - Нальчик: «Эльбрус», 2001. – 488 с.
151
43. Программа Черкесского саммита в Европейском парламенте
[Электронный ресурс] / Натпресс. – 2011. – 7 ноября. – Режим доступа:
http://natpress.net/index.php?newsid=7755
44. Путин, В.В. Россия: национальный вопрос / В.В.Путин //
Независимая газета. – 2012. – 23 января.
45. Спенсер, Э. Путешествия в Черкесию / Пер., пред. и коммент.
Н.А.Нефляшевой. – Майкоп: РИПО «Адыгея», 1994. – 153 с.
46. Сталь, К.Ф. Этнографический очерк черкесского народа.
Составил генерального штаба подполковник барон Сталь в 1852 году
[Электронный ресурс] / К.Ф.Сталь // Кавказский сборник, Том 21. - Тифлис,
1900.
–
Веб-сайт
Vostlit.info.
Режим
доступа:
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Kavkaz/XIX/18401860/Stahl_K_F/text2.htm
47. Сталин, И.В. Марксизм и национальный вопрос / Иосиф
Виссарионович Сталин. - Cочинения. – Т. 2. – М.: ОГИЗ; Государственное
издательство политической литературы, 1946. - С. 290-367.
48.
Сталин, И.В. Национальный вопрос и ленинизм: ответ
товарищам Мешкову, Ковальчуку и другим // Иосиф Виссарионович Сталин.
- Cочинения. – Т. 11. – М.: ОГИЗ; Государственное издательство
политической литературы, 1951. - С. 333–355.
49. Таов, П.К. Нравственные проблемы современного общества
России [Электронный ресурс] / П.К.Таов // Сайт Международной черкесской
ассоциации.
–
2012.
–
25
января.
–
Режим
доступа:
http://intercircass.org/?p=781
50. Торнау, Ф. Ф. Секретная миссия в Черкесию русского разведчика
барона Ф.Ф.Торнау: воспоминания и документы / Ф.Ф.Торнау. - [Репр. изд.].
- Нальчик: Эль-Фа, 1999. - 507 с.
51. Фадеев, Р.А. 60 лет Кавказской войны. Письма с Кавказа.
Записки о кавказских делах / Р.А.Фадеев. - М.: ГПИБ, 2007. – 680 с.
52. Хавжоко, Ш.М. Герои и императоры в черкесской истории /
Ш.М.Хавжоко. – Нальчик: Эль-Фа, 1994. – 324 с.
53. Хакуашева, М.А. В поисках утраченного смысла… Публицистика
/ М.А.Хакуашева. – Нальчик: Принт-Центр, 2013. – 384 с.
54. Хан-Гирей, С. Записки о Черкесии / С. Хан-Гирей. - 2-е изд.,
доп. и испр. [Вступ. ст. и подгот. текста к печати В. К. Гарданова, Г. Х.
Мамбетова]. – Нальчик: Эльбрус, 1992 - 346 с.
55. Челеби, Э. Книга путешествия / Эвлия Челеби. - Извлечения из
сочинения турецкого путешественника ХVII века. - Вып. 2. - Земли
Северного Кавказа, Поволжья и Подонья. - М.: Наука, 1979. – 284 с.
56. Что думают черкесы о решении Исполкома Международной
Черкесской Ассоциации от 19 февраля 2011 года рекомендовать всем адыгам
называть себя на русском и других языках черкесами? [Электронный ресурс]
/ Сайт Международной черкесской ассоциации. – Режим доступа:
http://intercircass.org/?p=256
152
57. Чхеидзе, К.А. Генерал Заур-бек Даутоков-Серебряков.
Гражданская война в Кабарде / К.А.Чхеидзе [cост., подгот. текста, вступ. ст.,
коммент. О.А.Жанситов]. – Нальчик: Институт гуманитарных исследований
Правительства КБР и КБНЦ РАН, 2008. – 100 с.
58. Шадуева, Л. Мажид Утиж: Легко называться адыгом, труднее
быть им / Л. Шадуева // Кабардино-Балкарская правда. – 2007. – 19 мая.
59. Шмулевич, А. Грузинский ход в черкесской игре: интервью с
лидером «Черкесского конгресса» Р. Кешевым [Электронный ресурс] / А.
Шмулевич // CaucasusTimes. – 2010. – 27 апреля. – Режим доступа:
http://www.caucasustimes.com/article.asp?id=20184
60. Шмулевич, А. Олимпиада в Сочи и Всемирное адыгское
братство: интервью с З. Шуховым [Электронный ресурс] / А. Шмулевич //
Агентство политических новостей. - 2008-12-19 – Режим доступа:
http://www.apn.ru/publications/article21172.htm
61. Адыгэ таурыхъхэр / Сост. Ж.Г.Тхамокова. – Нальчик: Эль-Фа,
2005. – 834 с.
62. Адыгэ хъуэхъухэр / сост. Къардангъущ1 З., Нальчик: Эльбрус,
1994. - 112 с.
63. Адыгэ
IуэрыIуатэхэр
(Адыгский
фольклор)
/
Сост.
З.П.Кардангушев, вступ. ст. А.Т.Шортанов. – Налшык: Т.1 -1963, т.2 – 1969.47 п.л.
64. КIыщокъуэ, А. Лъапсэ / А.П.Кешоков. - Нальчик: Эльбрус, 1994.
– 412 с.
65. Цагъуэ, Н. Муслъымэн тхыдэ / Нури Цагов. – Архивы и
общество. – 2010. - №№ 14 – 15.
66. Ширдий, М. Тыркум щыпсэу адыгэхэр / М.Ширдиева. – Нальчик:
Эль-Фа, 2007. – 202 с.
67. IутIыж Б. Лъэужь / Б.К.Утижев. – Нальчик: Эльбрус, 2007. – 626
с.
68. Quandour, M. I. An Interview With Mohydeen Izzat Quandour
[Электронный ресурс] / CircassianWorld.com. - January 2010. - Режим доступа:
http://www.circassianworld.com/new/interview/1427-interview-m-quandourjanuary2010.html
69. Slackman, M. Seeking Roots Beyond the Nation They Helped
Establish / Michael Slackman [Электронный ресурс] // New York Times. August
10,
2006.
–
Режим
доступа:
http://www.nytimes.com/2006/08/10/world/middleeast/10circassians.html
Нормативные правовые акты
70. Конституция Российской Федерации: офиц. Текст. – М.:
Маркетинг, 2001. – 39 с.
153
71. Концепция государственной национальной политики Российской
Федерации (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 15
июня 1996 г. № 909).
72. Указ Президента Российской Федерации о стратегии
государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года. - 19 декабря 2012 года. - N 1666.
Литература
73. Абазины: Историко-этнографический
очерк / Отв. ред.
Л.З.Кунижева. – Черкесск:
Карачаево-Черкесское
отделение
Ставропольского книжного издательства, 1989. – 240 с.
74. Абазов, А.Х. Трансформация системы композиций кабардинцев в
конце XVIII – первой половине XIX в.: автореф. дис. … канд. ист. наук:
07.00.07 / Абазов Алексей Хасанович. - М., 2008. – 23 с.
75. Абульханова, К.А. Психология и сознание личности (Проблемы
методологии, теории и исследования реальной личности): Избранные
психологические труды / К.А.Абульханова – Славская. - М.: Московский
психолого-социальный институт; Воронеж: НПО «МОДЭК», 1999. - 224 с.
76. Агрба, Б.С. «Островная» цивилизация Черкесии. Черты историкокультурной самобытности страны адыгов / Б.С.Агрба, С.Х.Хотко. - Майкоп:
ГУРИПП «Адыгея», 2004. - 48 с.
77. Аджигиреев, А.А. Лидеры и этапы становления Международной
Черкесской ассоциации [Электронный ресурс] / А.А.Аджигиреев // Сайт
Международной черкесской ассоциации. – 2011. – 21 октября. – Режим
доступа: http://intercircass.org/?p=4665
78. Адыгская (Черкесская) энциклопедия / М.: Фонд им.
Б.Х.Акбашева, 2006 г. - 1248 с.
79. Александренков, Э.Г. «Этническое самосознание» или
«этническая идентичность»? // Э.Г.Александренков // Этнографическое
обозрение. - 1996. - № 3. - С. 13-22.
80. Алишаев, М. Чеченское чудо Рамзана Секреты превращения
чеченцев в политическую нацию [Электронный ресурс] / Мансур Алишаев,
Тимур Юсупов // Сайт Федеральной лезгинской национально-культурной
автономии. - 14 марта 2013. – Режим доступа: http://flnka.ru/main/1640chechenskoe-chudo-ramzana.html
81. Андерсен, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об
истоках и распространении национализма / Бенедикт Андерсен; пер. с англ.
В. Николаева; вступ. ст. С.Баньковской. - М.: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково
поле», 2001. – 288 с.
82. Анчабадзе, Ю.Д. Сельский сход в системе властных отношений в
постреволюционном адыгском ауле (1920-е гг.) [Электронный ресурс] /
Ю.Д.Анчабадзе // Вестник Адыгейского государственного университета.
Серия 1. – 2011. - № 2. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/selskiy-
154
shod-v-sisteme-vlastnyh-otnosheniy-v-postrevolyutsionnom-adygskom-aule-1920e-gg#ixzz2ipQvX6hP
83. Арапов, Д.Ю. Система государственного регулирования ислама в
Российской империи (последняя треть XVIII — начало ХХ вв.) /
Д.Ю.Арапов. - М.: МПГУ, 2004. – 288 с.
84. Арутюнов, С.А. Заключение РАН об этнониме Черкес и
топониме Черкесия [Электронный ресурс] / Сост. С.А.Арутюнов, утв.
В.Ю.Зорин. – М.: Институт этнологии и антропологии РАН. - 2010. Режим
доступа: http://natpress.net/index.php?newsid=4874.
85. Арутюнян, Ю.В. Социально-культурное развитие и национальное
самосознание / Ю.В.Арутюнян //СоцИс. - 1990. - № 7. – С. 42-49.
86. Асланов, Л.А. Культура и власть. Философские заметки /
Л.А.Асланов. - Кн. 1. - М.: Издательство ИТРК, 2001. – 496 c.
87. Асланова, Л.Х. Социальные отношения у адыгов в концепции
профессора Т.Х.Кумыкова [Электронный ресурс] / Л.Х.Асланова,
П.А.Кузьминов // Архивы и общество. – 2008. - № 7. – Режим доступа:
http://archivesjournal.ru/?p=1281
88. Асоян, Ю. Историография концепта «cultura» / Ю.Асоян,
А.Малафеев // Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии
середины XIX – начала ХХ веков. - М., 2000. – С. 29-61.
89. Аствацатурян, Э.Г. Оружие народов Кавказа / Э.Г.Аствацатурян.
– СПб.: Атлант, 2004. – 432 с.
90. Афасижев, Т.И. Глобализация в восприятии адыгского этноса:
опыт социологического исследования [Электронный ресурс] / Т.И.Афасижев,
В.Н.Нехай // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2012. № 1. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-vvospriyatii-adygskogo-etnosa-opyt-sotsiologicheskogoissledovaniya#ixzz2ipOQVAIc
91. Ашхотов, Б.Г. Феноменология кавказской этномузыкальной
идентичности в парадигме «Восток – Запад» / Б.Г.Ашхотов // PAX SONORIS.
– Вып. VI. – 2012. – С. 31-38.
92. Ахиезер, А.И. Культурные основы этнических конфликтов /
А.И.Ахиезер //ОНС, 1994. - №4. - С.115-125.
93. Ахмедов, А.А. К вопросу об использовании иноязычных лексем в
религиозно-культурной сфере кабардинского языка / А.А.Ахмедов //
Культура, искусство, образование на рубеже веков; сборник работ студентов
и аспирантов СКГИИ. – Вып. 3. – Нальчик: 2009.
94. Бабич, И.Л. Черкесская идеология, ислам и культурная
глобализация на современном Северном Кавказе [Электронный ресурс] /
И.Л.Бабич // Режим доступа: http://www.nirsi.ru/137
95. Багапш, Н.В. Формирование этнической мозаики Абхазии /
Н.В.Багапш // Бюллетень Владикавказского института управления. - 2006. № 20. - С. 82-118.
155
96. Бакиев, А.Ш. Адыгская цивилизация: автореф. дис. … канд. ист.
наук: 07.00.07 / Бакиев Амур Шодиевич. - Нальчик., 1997. – 29 с.
97. Балагова – Кандур, Л.Х. Адыгская литературная диаспора.
История. Этнодуховная идентичность. Поэтика: автореф. дис. … д-ра
филолог. наук: 10.01.02 / Балагова – Кандур Любовь Хазреталиевна. – М.,
2009. – 55 с.
98. Балибар, Э. Раса, нация, класс: двусмысленные идентичности /
Этьенн Балибар, Иммануил Валлерстайн; пер. с англ. И.Кефал, П.Хицкого
при участии А.Маркова. - М.: Лого2, 2004. – 285 с.
99.
Барт, Ф. Этнические группы и социальные границы. Социальная
организация культурных различий / Сборник статей под ред. Ф. Барта. - Пер.
с англ. И. Пилыцикова. - М.: Новое издательство, 2006. - 200 с.
100. Бгажноков, Б.Х. Адыгский этикет / Б.Х.Бгажноков. – Нальчик:
Эльбрус, 1978. – 160 с.
101. Бгажноков, Б.Х. Адыгская этика / Б.Х.Бгажноков. – Нальчик:
Эль-Фа, 1999. – 96 с.
102. Бгажноков, Б.Х. Древние боги адыгов / Б.Х.Бгажноков // Газета
Юга. – 2003. - 7 августа - № 32 (493).
103. Бгажноков, Б.Х. Инал - основатель княжеских династий Черкесии
/ Б.Х.Бгажноков // Кабардино-балкарская правда – 2007 – 4 июня.
104. Бегеулов, Р.М. Народы Центрального Кавказа в XVII - первой
четверти XIX в.: этнополитические аспекты взаимоотношений: дис. … д-ра
ист. наук: 07.00.02 / Бегеулов Рустам Маратович. – СПб., 2005. - 365 с.
105. Бейтуганов, С.Н. Восстание крестьян в Кабардино-Балкарии в
1928-31 годах. Исторический очерк / С.Н.Бейтуганов // Советская молодежь.
- 1991. - 2, 9, 16 августа.
106. Бейтуганов, С.Н. Кабарда: история и фамилии / С.Н.Бейтуганов.
– Нальчик: Эльбрус, 2007. – 785 с.
107. Бейтуганов, С.Н.
Кабарда и Ермолов. Очерки истории /
С.Н.Бейтуганов. – Нальчик: Эльбрус, 1993. – 304 с.
108. Белик, А.А. Психологическая антропология: история и теория /
А.А.Белик. – М.: Росийская академия наук. Институт этнологии и
антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, 1993. - 191 с.
109. Бергер, П. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания / П.Бергер, Т.Лукман; пер. с англ. Е.Руткевич. - М.:
Медиум, 1995. - 323 с.
110. Берзедж, Н. Изгнания черкесов (причины и последствия) / Н.
Берзедж; пер. с турец. Н.Хуажева, М.Губжоков. – Майкоп: РИПО «Адыгея»,
1996. – 224 с.
111. Беров, Х.Ж. Дамалеево восстание по устным и историческим
источникам / Х.Ж.Беров // Актуальные вопросы кабардино-балкарской
фольклористики и литературоведения. - Нальчик, 1986. - С. 65 - 78
112. Бетрозов, Р.Ж. Этническая история адыгов. С древнейших времён
до XVI века / Р.Ж.Бетрозов. – Нальчик: Эльбрус, 1996. – 247 с.
156
113. Бижев, А.Х. Социально-экономический строй народов
Центрального и Северо-Западного Кавказа в годы Кавказской войны (по
материалам российской разведки) / А.Х.Бижев. – Майкоп: Качество, 2005. –
224 с.
114. Бижева, З.Х. Культурные концепты в адыгской языковой картине
мира: дис. ... д-ра филолог. наук: 10.02.09 / Бижева Зара Хаджимуратовна. Нальчик, 1999. - 297 c.
115. Блок, М. Феодальное общество / Марк Блок // Пер. с француз. М.
Кожевниковой и Е. Лысенко. - М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003. –
504 с.
116. Бобровников, В.О. Мусульмане Северного Кавказа: обычай,
право, насилие / В.О.Бобровников. – М.: Восточная литература, 2002. – 368 с.
117. Бобровников, В.О. Северный Кавказ в составе Российской
империи / В.О. Бобровников, И.Л.Бабич (ред.). - М.: Новое литературное
обозрение, 2007. - 460 с.
118. Боров, А.Х. Северный Кавказ в российском цивилизационном
процессе / А.Х.Боров. – Нальчик: КБГУ, 2007 - 297 с.
119. Боров, А.Х. Современная государственность КабардиноБалкарии. Истоки, пути становления, проблемы / А.Х.Боров, Х.М.Думанов,
В.Х.Кажаров; отв. ред. А.И.Першиц. – Нальчик: Эль-Фа, 1999. – 185 с.
120. Боров, А.Х. «Черкесский вопрос» как историко-политический
феномен / А.Х.Боров; отв. ред. П.М. Иванов. - Научные доклады Центра
социально-политических исследований КБНЦ РАН (№ 1). - Нальчик:
Издательство КБНЦ РАН, 2012. - 60 с.
121. Бочаров, В.В. О реформе, бюрократии, научной этике
[Электронный ресурс] / В.В.Бочаров // Этнографическое обозрение. –
Ноябрь,
2006.
–
Режим
доступа:
http://journal.iea.ras.ru/online/2006/EOO2006_6c.pdf
122. Бродель, Ф. Динамика капитализма / Фернан Бродель; пер. с фр.
В. Колесникова. - Смоленск: Полиграмма, 1993. - 128 с.
123. Бромлей, Ю.В. Очерки теории этноса / Ю.В.Бромлей. - М.:
Наука, 1983. – 418 с.
124. Бурдье, П. Социология социального пространства / Пьер Бурдье;
пер. с фр.; отв. ред. перевода, предисл. В. Шматко. – СПб.: Алетейя, 2007. –
288 с.
125. Вебер, М. Избранные произведения / Макс Вебер; пер. с нем.;
сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н.Давыдова, предисл. П.П.Гайденко. - М.:
Прогресс, 1990.- 808 с.
126. Вико, Дж. Основания новой науки об общей природе наций /
Джамбаттиста Вико; пер. А.Губер. – Киев – М.: REFL – Ирис, 1994. – 637 с.
127. Волкова, Н.Г. Этнонимы и племенные названия Северного
Кавказа / Н.Г.Волкова. – М: «Наука», 1973. - 211 с.
128. Выготский, Л.С. Психология развития человека / Л.С.Выготский.
– Сост., вступ. A.A.Леонтьев. - М.: Смысл; Эксмо, 2005. - 1136 с.
157
129. Ганич, А.А. Черкесы в Иордании: особенности исторического и
этнокультурного развития / А.А.Ганич. – М.: ИСАА МГУ, 2007. – 272 с.
130. Гарданов, В.К. Историк и этнограф / Пред. и сост. А. И.
Мусукаев. – Нальчик: Эль-Фа, 2004. – 399 с.
131. Геллнер, Э. Нации и национализм / Эрнест Геллнер; пер. с англ.
Т.В.Бредниковой, М.К.Тюнькиной; ред. и послесл. И.И.Крупника. – М.:
Прогресс, 1991. – 320 c.
132. Геллнер, Э. Разум и культура. Историческая роль
рациональности и рационализма / Эрнест Геллнер; пер. с англ.
Е.Понизовкиной. – М.: Издательство Московской школы политических
исследований, 2003. - 252 c.
133. Гирц, К. Интерпретация культур / Клиффорд Гирц; пер. с англ. –
М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 560 с.
134. Гордин, Я.А. Кавказ: земля и кровь. Россия в Кавказской войне
XIX века / Я.А.Гордин. – СПб.: Издательство журнала «Звезда», 2000. – 464
с.
135. Госьо, Ж.-Ф. Еthnie и этничность: определения, теории, апории /
Ж.-Ф.Госьо. - Вступительная статья из монографии «Pouvoirs ethniques dans
les Balkans». - Paris: PUF, 2002. – С. 9–21.
136. Гринфельд, Л. Пять путей к современности / Лия Гринфельд; пер.
с англ. – М.: «ПЕР СЭ», 2008. – 528 с.
137. Гусов, К. Мир-системный подход Иммануила Валлерстайна о
либерализме [Электронный ресурс] / К. Гусов. – Веб-сайт Фонда им. П.
Сорокина. - Режим доступа: http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=803
138. Джандар, М.А. - Остались адыгами. Этнографическое
исследование / М.А.Джандар. - Майкоп: Адыгейское республиканское
книжное издательство, 2007. - 92 стр.
139. Джигунова, Ф.К. О половозрастной и социальной градации
раннесредневекового общества Закубанья / Ф.К.Джигунова // Тезисы
докладов Международной научно-практической конференции XXIII
«Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа. - М., 2004.
140. Дзамихов, К.Ф. Адыги: вехи истории / К.Ф.Дзамихов. –
Нальчик: Эльбрус, 1994. – 168 с.
141. Дерлугьян, Г.М. Адепт Бурдье на Кавказе. Эскизы к биографии в
миросистемной перспективе / Авторизованный перевод с английского. - М.:
Издательский дом «Территория будущего», 2010. - 560 с.
142. Дерлугьян, Г.М.
Горские князья, партвыдвиженцы и
помидорщики: двести лет социальной эволюции адыгейских элит
[Электронный ресурс] / Г.М.Дерлугьян // Веб-сайт Сircassianworld.com. Режим доступа: http://www.circassianworld.com/RU/Derluguian.html#_ftn1
143. Дмитриев, В.А. Западные адыги / В.А.Дмитриев // Северный
Кавказ: традиционное сельское сообщество: социальные роли, общественное
мнение, властные отношения: сборник статей. - РАН, Музей антропологии и
158
этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) [отв. ред. С.А. Штырков]. Санкт-Петербург: Наука, 2007. - 333 с.
144. Дмитриев, В.А. Личность в изменяющемся социо-культурном
окружении. Черноморские шапсуги: от традиционного социума к
современному / В.А.Дмитриев // Северный Кавказ: человек в системе
социокультурных связей. - СПб.: Петербургское востоковедение, 2004. – С.
267-337.
145. Дридзе, Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной
коммуникации / Т.М.Дридзе. - М.: Наука, 1984. – 232 с.
146. Емтыль, З.Я. Адыгская интеллигенция (конец XIX – начало ХХ
вв.): дисс. … канд. ист. наук 07.00.02 / Емтыль Зарема Яндарбиевна. –
Майкоп, 1999. – 208 с.
147. Емтыль, З.Я. Советская власть и мусульманское духовенство
Северного Кавказа в 1920-е - начале 1930-х гг. / З.Я.Емтыль // Вестник
российского университета дружбы народов. - 2010. - №1. - С.155-161.
148. Епифанцев, А.А. Неизвестная Кавказская война. Был ли геноцид
адыгов? / А.А.Епифанцев. - М.: ИПЦ «Маска», 2010. - 356 с.
149. Жемухов, С.Н. Мировоззрение Хан – Гирея. – Нальчик: Эльбрус,
1997. -115 с.
150. Женетль, Н.Х. Бжедуги в конце XVIII - первой половине XIX в.:
социально-экономические отношения и политическое развитие: автореф. дис.
… канд. ист. наук: 07.00.02 / Женетль Нурбий Хазретович. – Майкоп, 2004. 13 с.
151. Здравомыслов, А.Г., Цуциев, А.А. Этничность и этническое
насилие: противостояние теоретических парадигм / А.Г.Здравомыслов,
А.А.Цуциев // Социологический журнал. - 2003. - № 3. – С. 20-50.
152. Зинченко, В.П., Мамардашвили М.К. Проблема объективного
метода в психологии / «Вопросы философии». – 1977. - № 7. Постнеклассическая психология. – 2004. - №1. Режим доступа:
http://www.psylib.ukrweb.net/books/_zimamar.htm
153. Иванова, С.Ю. Современная российская идентичность:
цивилизационное и историко-культурное измерения/ С.Ю.Иванова // Вестник
ВЭГУ. – 2011. - №5/55. – С.102-108.
154. Ильин,
И.П.
Постструктурализм,
деконструктивизм,
постмодернизм / И.П.Ильин. – М.: Интрада, 1996. – 210 с.
155. Ильин, И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия:
эволюция научного мифа / / И.П.Ильин. – М.: Интрада, 1998. – 256 с.
156. Инал-Ипа, Ш.Д. Вопросы этнокультурной истории абхазов /
Ш.Д.Инал-Ипа. – Сухуми: Алашара, 1976. – 464 с.
157. Ионин, Л.Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие:
Учеб. пособие для студентов вузов / Л.Г.Ионин. - 3-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2000. - 431 с.
158. История Кабардино-Балкарии в трудах Г.А.Кокиева. Сборник
статей и документов / Нальчик: ГП КБР, 2005. - 904 с.
159
159. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до
конца XVIII в. / Под ред. Б.Б.Пиотровского. - М.: Наука, 1988. - 527 с.
160. История философии: энциклопедия. / Сост. и отв. ред.
А.Ф.Грицанов. - Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2002. - 1376 с.
161. Кагиева, Т.А. Эволюция земельных отношений в Кабарде во
второй половине XVIII – начале ХХ в.: дис. …канд. ист. наук: 07.00.02 /
Кагиева Тамара Альбертовна. - Нальчик, 2011. – 191 с.
162. Казаков, А.В. Деятельность органов безопасности КабардиноБалкарии по нейтрализации подрывных акций эмигрантских организаций в
20-х - 50-х гг. XX века: дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / Казаков Аслан
Владимирович. - М., 2005. - 174 с.
163. Кажаров, В.Х. Адыгская хаса / В.Х.Кажаров. – Нальчик:
Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 1992. – 158 с.
164. Кармов, Т.М. Военная знать Западного Предкавказья в первых
веках н.э./ Т. М. Кармов // Тезисы докладов Международной научнопрактической конференции XXIII «Крупновские чтения» по археологии
Северного Кавказа. - М., 2004.
165. Кармов, Т.М. Воинская знать Западного Предкавказья в первых
веках н.э.: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.06 / Кармов Тимур
Михайлович. - СПб., 2009. – 12 с.
166. Киш, Э. Философия глобализации / Киш Эндре // Век
глобализации. Пер. с англ. Т.А.Бирюковой. - Выпуск №2(6) – 2010.
167. Кожев, З.А. Эволюция этносоциальной дихотомии «адыгэ-абазэ»
// З.А. Кожев. - Тезисы III Конгресса этнографов и антропологов России. М.,
1999.
168. Коков, Дж.Н. Избранные труды. Адыгская антропонимия /
Дж.Н.Коков. – Т. 2. - Нальчик: Эльбрус, 2001. – 526 с.
169. Кокшаров, Н.В. Этничность. Этнос. Нация. Национализм:
библиографический справочник / Н.В.Кокшаров. - СПб.: Сказ, 2003. - 118 с.
170. Коротеева, В.В. Теории национализма в зарубежных социальных
науках / В.В.Коротеева. - М.: РГГУ, 1999. - 140 с.
171. Коул, М. Культурно-историческая психология: наука будущего /
М.Коул. – М.: Когито-Центр, 1997. - 432 с.
172. Кропотова, Л.В. История развития лексической коннотации /
Л.В.Кропотова // Язык и культура. – 2010. - №1.- С. 33-47.
173. Кудрин, А.В. Этничность: есть ли предмет спора? [Электронный
ресурс]
/
А.В.Кудрин.
–
Режим
доступа:
http://socioline.ru/_shows/secret.php?todo=text&txt=es_4
174. Кумыков, Т.Х. Дмитрий Кодзоков / Т.Х.Кумыков. – Нальчик:
Эльбрус, 1985. – 180 с.
175. Кумыков, Т.Х. Кази Атажукин (жизнь и деятельность) /
Т.Х.Кумыков. – Нальчик: Эльбрус, 1969. – 172 с.
160
176. Кумыков, Т.Х. Культура, общественно-политическая мысль и
просвещение Кабарды во второй половине XIX – начале ХХ века /
Т.Х.Кумыков. – Нальчик: Эльбрус, 1996. – 328 с.
177. Кумыков, Т.Х. Хан-Гирей / Т.Х.Кумыков. – Нальчик: Эльбрус,
1968. – 135 с.
178. Кумыков, Т.Х. Казы-Гирей. Жизнь и деятельность /
Т.Х.Кумыков. – Нальчик: Эльбрус, 1978. – 135 с.
179. Кунов, Н.А. Культура и быт моздокских кабардинцев в XIX первой половине XX века / Н.А.Кунов. – Нальчик: Эльбрус, 2009. - 208 с.
180. Кушхабиев, А.В. Черкесы в Сирии / А.В.Кушхабиев. – Нальчик:
Эль-Фа, 1993. – 175 с.
181. Лавров, Л.И. Историко-этнографические очерки Кавказа /
Л.И.Лавров. – Ленинград: Наука, 1978. – 183 с.
182. Леви-Стросс, К. Первобытное мышление / Клод Леви-Стросс;
пер. с фр., вступ. ст. и прим. А.Б.Островского. - М.: Республика, 1994. - 384 с.
183. Леонтьев, А.H. Деятельность. Сознание. Личность /
А.H.Леонтьев. - М.: Политиздат, 1975. – 304 с.
184. Лескинен, М.В. Идентификация народности в российской науке:
язык описания, классификации, стереотипы (1850-е –1900-е гг.): автореф.
дис. … д-ра ист. наук: 07.00.07 / Мария Войттовна Лескинен. - М., 2011. – 42
с.
185. Ловпаче Н., Куёк А. Адыгский флаг. Откуда он? [Электронный
ресурс] / Н.Ловпаче, А.Куёк // Сайт Международной черкесской ассоциации.
– Режим доступа: http://intercircass.org/?p=415
186. Лотман, Ю.М. Статьи по семиотике и топологии культуры /
Ю.М.Лотман. - Избранные статьи в трех томах. Т. 1. – Таллин: Александра,
1992. – 249 с.
187. Лукинова, И.А. Патриотизм как ценностная идентичность:
теоретико-философский
анализ
[Электронный
ресурс]
/
http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/2913-2012-05-27-15-43-29
188. Лурия, А.Р. Язык и сознание / А.Р.Лурия; под ред. Е.Д.Хомской. Издательство Московского университета, 1979. - 320 с.
189. Лурье, С.В. Историческая этнология: учебное пособие для
ВУЗов / С.В.Лурье. - 2-е изд. - М.: Аспект Пресс, 1998. - 448 с.
190. Лурье,
С.В.
Психологическая
антропология:
история,
современное состояние, перспективы / С.В.Лурье. – 2-е изд. – М.:
Академический проект, 2005. - 624 с.
191. Любимов, Ю.В. Глобализационные процессы в прошлом /
Ю.В.Любимов //Историческая психология и социология истории. – 2008. №2. – с. 113–134.
192. Ляушева, С.А. «К вопросу о социокультурной интеграции
мигрантов» [Электронный ресурс] / С.А.Ляушева, З.З.Хот // Вестник
Адыгейского государственного университета. - 2012 - № 4. – Режим доступа:
161
http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sotsiokulturnoy-integratsiimigrantov#ixzz2ipJrlIIy
193. Максидов, А.А. Исторические и генеалогические связи адыгов с
народами Причерноморья: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 /
Максидов Анатолий Ахмедович. – Нальчик, 2001. – 22 с.
194. Малинова, О.Ю. Либеральный национализм (середина XIX —
начало XX века). / О.Ю.Малинова. - М.: РИК Русанова, 2000. – 254 с.
195. Мальбахов, Б. К. Кабарда на этапах политической истории
(середина XVI – первая четверть XIX века) / Б.К.Мальбахов. – М.: Поматур,
2002. – 512 с.
196. Мамсиров, Х.Б. Модернизация культур народов Северного
Кавказа в 20-е годы ХХ века / Х.Б.Мамсиров. – Нальчик: Эльбрус, 2004. –
328 с.
197. Маргинальность в современной России [Электронный ресурс] /
Коллективная монография. - М.: Московский общественный научный фонд,
2000.
–
Режим
доступа:
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/Margin/_Index.php
198. Матецкая, А.В. Социология культуры: учебное пособие /
А.В.Матецкая. – Ростов-на-Дону: РПГУ, 2006. – 260 с.
199. Маффесоли М. Околдованность мира или божественное
социальное / Мишель Маффесоли; пер. с француз. И. И. Звонаревой //
СОЦИО-ЛОГОС. – М.: Прогресс, 1991. – С. 274-283.
200. Мейен, С.В. Методологические аспекты теории классификации /
С.В.Мейен, Ю.А.Шрейдер // Вопросы философии, 1976. - № 12. - С.67-79.
201. Миллер, А.И. История понятия «нация» в России [Электронный
ресурс] / А.И.Миллер // Отечественные записки. – 2012. - №1. – Режим
доступа: http://magazines.russ.ru/oz/2012/1/m22.html
202. Мир культуры адыгов / Cост. и науч. ред. Р.А.Ханаху. - Майкоп:
ГУРИПП «Адыгея», 2002. - 516 с.
203. Музаев, Т. Чеченское золото в Париже. Тапа Чермоев,
английский олигарх и русская императрица / Тимур Музаев // Ахульго. –
2009. - № 9. – С. 23 - 27.
204. Мукожев, А.Х. Ислам в новейшей истории кабардинцев /
А.Х.Мукожев // Архивы и общество. – 2010. - №15. – С. 173–180.
205. Налоев, З.М. Адаб баксанского культурного движения /
З.М.Налоев. – Нальчик: Эльбрус, 1991. – 500 с.
206. Налоев, З.М. О восточном культурном канале // Общественнополитическая мысль адыгов, балкарцев и карачаевцев в XIX - начале XX в.
(материалы конференции 28-29 марта 1974 г.). Нальчик, 1976.
207. Налоев, З.М. Сказания о Жабаги Казаноко / сост., подгот. текста к
печати, коммент. и прил. З.М.Налоева, А.М.Гутова. Вступ. ст. З.М.Налоева. –
Нальчик: Эль-Фа, 2001. – 331 с.
162
208. Натхо, К. Черкесы в США [Электронный ресурс] / Кадыр Натхо //
Сайт Международной черкесской ассоциации. – 2011. – 21 декабря. – Режим
доступа: http://intercircass.org/?p=593
209. «Нас издавна черкесами зовут»: изменит ли Всероссийская
перепись этническую карту России? [Электронный ресурс] / Сайт ИА
«Регнум».
–
2010.
–
2
сентября.
–
Режим
доступа:
http://www.regnum.ru/news/polit/1321249.html
210. Нации и национализм: сборник статей / Под ред. Б. Андерсена;
пер с англ. и нем. Л.Е.Переяславцевой, М.С.Панина, М.Б.Гнедовского. - М.:
Праксис, 2002. - 416 с.
211. Национализм в мировой истории / Отв. ред. В.А.Тишков,
В.А.Шнирельман. - М.: Наука, 2007. – 601 с.
212. Нефляшева, Н.А. Аналитическая записка. Республика Адыгея:
проблемы реисламизации [Электронный ресурс] / Н.А.Нефляшева. – Вебсайт Фонда черкесской культуры «Адыги» им. Ю. Х. Калмыкова. – Режим
доступа: http://fond-adygi.ru/dmdocuments/
213. Оганесян, А.Г. Мультикультурализм: война или мир? //
Международная жизнь. - 09.08. 2013. – С. 100-106.
214. Оджаклы, О.Ю. Влияние риска и безопасности на
экзистенциальный опыт личности в эпоху «высокого модерна» Э. Гидденса
[Электронный ресурс] / О.Ю.Оджаклы. // Известия Российского
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. - 2008. № 70. - Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-riska-ibezopasnosti-na-ekzistentsialnyy-opyt-lichnosti-v-epohu-vysokogo-moderna-egiddensa#ixzz2ip3JZh9I - С. 252-256
215. Олейникова, Ю.В. Культурные репрезентации в структуре
этнической идентификации: автореф. дис. … канд. социолог. наук: 22.00.06 /
Олейникова Юлия Владимировна. - Саратов 2008. – 16 с.
216. Островский, А. Мост между современными и бесписьменными
обществами [Электронный ресурс] / А.Островский // Веб-сайт Полит.ру. –
2010. - 14 января. – Режим доступа: http://polit.ru/article/2010/01/14/levistrauss/
217. Панарин, А.С. Стратегическая нестабильность в XXI веке /
А.С.Панарин. - М.: Алгоритм, 2003. – 560 с.
218. Панеш, А.Д. Западная Черкесия в системе взаимодействия России
с Турцией, Англией и имаматом Шамиля в XIX в. (до 1864 г.) / А.Д.Панеш. –
Майкоп: издательство МГТУ, 2007. – 240 с.
219. Панеш, А.Д. Мюридизм и борьба адыгов Северо-Западного
Кавказа за независимость (1829 – 1864 гг.) / А.Д.Панеш. – Майкоп:
Полиграфиздат «Адыгея», 2006. – 125 с.
220. Покровский, М.В. Из истории адыгов в конце XVIII - первой
половине XIX века: Социально-экономические очерки / М.В.Покровский. Краснодар: Краснодаркнигоиздат, 1989.—319 с.
221. Плебанек О.В., Вирачёва В.А. К вопросу о происхождении
понятия «цивилизация» / Вопросы культурологии. – 2014. - №1. – С. 39-44.
163
222. Плюснин, Ю.М. Генетически и культурно обусловленные
стереотипы поведения / Ю.М.Плюснин // Поведение животных и человека:
сходство и различия. – Институт истории филологии и философии СО АН
СССР. – Новосибирск: 1989. – С. 89-106.
223. Прасолов, Д.Н. Кабардинская сельская община во второй
половине XIX - начале XX в.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.07 / Прасолов
Дмитрий Николаевич. - Нальчик, 2001. - 222 с.
224. Расизм в языке социальных наук / Под ред. В.Воронкова,
О.Карпенко, А.Осипова. - СПб.: Алетейя, 2002. - 223 с.
225. Ревзина, О.Г. О понятии коннотации / О.Г.Ревзина // Языковая
система и её развитие во времени и пространстве: Сборник научных статей к
80-летию профессора Клавдии Васильевны Горшковой. - М.: Издательство
МГУ, 2001. - С. 436-446.
226. Рыжова, С.В. Этническая и гражданская идентичность в
контексте межэтнической толерантности: автореф. дис. … канд. соц. Наук:
23.00.02. / Рыжова Светлана Валентиновна. - М., 2008. – 33 с.
227. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / Рубинштейн
Сергей Леонидович. Сост., коммент., послеслов.: А.В.Брушлинский,
К.А.Абульханова-Славская. – СПб.: Питер, 2000. - 712 с.
228. Саид, Эдвард В. Ориентализм. Западные концепции Востока /
Эдвард В. Саид; пер. с англ. и комм. А.В.Говорунова с послесл. К.А.Крылова.
- СПб.: Русский Мiръ, 2006. - 637 с.
229. Северный Кавказ в национальной стратегии России / Под общ.
ред. В.А.Тишкова [Электронный ресурс] // Институт Этнологии и
Антропологии
РАН,
2007.
Режим
доступа:
http://www.valerytishkov.ru/cntnt/publikacii3/kollektivn/severnyj_kavkaz_v_nacio
nalnoj_strategii_rossii.html
230. Семенов, Ю.И. Философия истории. (Общая теория, основные
проблемы, идеи и концепции от древности до наших дней) [Электронный
ресурс] / Ю.И.Семенов. - «Современные тетради», 2003. – Режим доступа:
http://scepsis.net/library/id_1065.html
231. Сивер, А.В. Этническая идентификация черноморских адыговшапсугов, XVIII-XX вв.: дисс. … канд. ист. наук, 07.00.07 / Сивер Александр
Викторович. - М., 2001. - 239 с.
232. Сокуров, В.Н. «Сказание о князьях черкесских» как
исторический источник [Электронный ресурс] / В.Н.Сокуров // Архивы и
общество. – 2011. - №1. – Режим доступа: http://archivesjournal.ru/?p=53
233. Сравнительное изучение цивилизаций: хрестоматия /Сост., ред. и
вступ. ст. Б.С.Ерасов. — М.: Аспект Пресс, 1998.— 556 с.
234. Суслова, Т.И. Глобализация: к вопросу идентичности русской
культуры / Т.И.Суслова // Век глобализации. - Выпуск №2(6) – 2010.
235. Теунов, М.К. Шариатские суды в Советской КабардиноБалкарии: дисс. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Теунов Мурат Касимович. Нальчик, 2007. - 174 с.
164
236. Тимофеев, М.Ю. Нациосфера: Опыт анализа семиосферы наций /
М.Ю.Тимофеев. – Иваново: Ивановский государственный ун-т, 2005. – 279 с.
237. Тишков, В.А. Очерки теории и политики этничности в России /
В.А.Тишков. - М.: Русский мир, 1997. – 532 с.
238. Тишков, В.А. Российский народ и национальная идентичность
[Электронный ресурс] / В.А.Тишков // Известия. – 2007. – 19 июня. – Режим
доступа: http://izvestia.ru/news/325722
239. Тишков, В.А. Российская нация и российские национальности
[Электронный ресурс] // В.А.Тишков. - Режим доступа:
http://www.valerytishkov.ru/engine/documents/document1257.pdf
240. Тишков, В.А. Этнополитология: политические функции
этничности: Учебник для вузов / В.А.Тишков, Ю.П.Шабаев - М.:
Издательство Московского университета, 2011. - 376 с.
241. Тойнби, А. Дж. Постижение истории: Сборник / Пер. с англ.
Е.Д.Жаркова. - М.: Рольф, 2001. - 640 с.
242. Трахо, Р. Черкесы / Ред. Б. Гедгафов. – Нальчик:
Республиканский полиграфкомбинат им. Революции 1905 г., 1992. – 120 с.
243. Тресков, И.В. Фольклорные связи Северного Кавказа /
И.В.Тресков. - Нальчик: Эльбрус, 1963. - 348 с.
244. Тульвисте, П.Э. Культурно-историческое развитие вербального
мышления / П.Э.Тульвисте. – Таллин: Валгус, 1987. – 344 с.
245. Тхагапсоев, Х.Г. Кавказская культура: особенности генезиса и
тенденции развития / Х.Г.Тхагапсоев. – СПб.: Астерион, 2008. - 224 с.
246. Тхагапсоев, Х.Г. К проблемам и перспективам развития
российской культурологии / Х.Г.Тхагапсоев // Вопросы культурологии. –
2012. - № 8. - С. 6-12
247. Федосеева, Л.Д. Иностранное вмешательство в Кавказскую войну
[Электронный ресурс] / Л.Д.Федосеева // Вестник Адыгейского
государственного университета. – 2005. - № 4. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/inostrannoe-vmeshatelstvo-v-kavkazskuyuvoynu#ixzz2ioI52r9V
248. Философия культуры. Становление и развитие / Под ред.
М.С.Кагана, Ю.В.Перова, В.В.Прозерского, Э.П.Юровской. - СПб.:
Издательство «Лань», 1998. - 448 с.
249. Фурс, В.Н. «Критическая теория позднего модерна» Энтони
Гидденса / В.Н.Фурс // Социологический журнал - 2001, №1. - 18 с.
250. Унежев, К.Х. Феномен адыгской (черкесской) культуры /
К.Х.Унежев. - Нальчик: Эль-Фа, 1997. - 228 с.
251. Хакуашева, М.А. Новые сведения к биографии Нури Цагова
[Электронный ресурс] / М.А.Хакуашева // Архивы и общество. – 2011. - №1.
– Режим доступа: http://archivesjournal.ru/?p=76
252. Ханаху, Р.А., Цветков, О.М. Исламская община в Адыгее:
внутренняя динамика и перспективы эволюции (по итогам социологического
исследования) [Электронный ресурс] / Р.А.Ханаху, О.М.Цветков // Вестник
165
Адыгейского государственного университета. - 2012 - № 1. – Режим доступа:
http://cyberleninka.ru/article/n/islamskaya-obschina-v-adygee-vnutrennyayadinamika-i-perspektivy-evolyutsii-po-itogam-sotsiologicheskogoissledovaniya#ixzz33ndfU06v
253. Хаттон, П. История как искусство памяти / Патрик Хаттон; пер. с
англ. Ю.В.Быстрова, послесл. И.М.Савельева. – СПб.: Владимир Даль, 2004.
– 422 с.
254. Хацукова, М.М. Духовная вселенная адыгов / М.М.Хацукова. –
Нальчик: Полиграфсервис и Т., 2004. - 440 с.
255. Хобсбаум, Э. Нации и национализм после 1780 г. / Э. Хобсбаум;
пер. с англ. А.А.Васильева. - СПб.: Алетейя, 1998. - 306 с.
256. Хобсбаум, Э. Изобретение традиций / Эрик Хобсбаум, Теренс
Рейнджер; пер. с англ. С.Панарина // Вестник Евразии. – 2000. - №1. – С. 47 –
62.
257. Хоконов, М.А. Мифологический образ бога Тхашхо (Тхьэшхуэ)
(этнометафизические идеи в адыгской мифоэпической культуре)
[Электронный ресурс] / М.А.Хоконов // Архивы и общество. – 2012. –
Выпуск 20. – Режим доступа: http://archivesjournal.ru/?p=4457
258. Цветкова,
Н.А.
Cultural
imperialism:
международная
образовательная политика США в годы «холодной войны» / Н.А.Цветкова. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2006. – 200 с.
259. Цуциев, А.А. Атлас этнополитической истории Кавказа
[Электронный ресурс] / А.А.Цуциев // Москва: Европа, 2007. - Веб-сайт
Iriston.com.
Режим доступа:
http://www.iriston.com/books/cuciev__etno_atlas/cuciev_etno-polit_map.htm#01
260. Чеучева, А.К. Османская империя и Северо-Западный Кавказ в
XVIII столетии / А.К.Чеучева // Вестник Адыгейского государственного
университета. – Майкоп, 2007. – № 1. – С. 39-53.
261. Черкесы тоже хотят обучаться родному языку [Электронный
ресурс] /
НатпрессИнфо. – 2011. – 5 декабря. - Режим доступа:
http://www.natpress.info/index.php?newsid=7050
262. Чирг, А.Ю. Государственность Адыгеи: этапы становления и
развития / А.Ю.Чирг, Н.Н.Денисов, Т.П.Хлынина. – Майкоп: Качество, 2002.
– 163 с.
263. Шандыбин, C.А. Постмодернистская антропология и сфера
применимости её культурной модели / С.А.Шандыбин / Этнографическое
Обозрение. - 1998 - №1 - С.14-27.
264. Шауцукова, Л.Х. Система моральных воззрений адыгского
мыслителя XVIII века Жабаги Казаноко: дисс. … канд. культуролог. наук:
24.00.01 / Шауцукова Людмила Хажсетовна. – Краснодар, 2005. – 143 с.
265. Шиллер, Г. Манипуляторы сознанием / Г.Шиллер. - М.: Наука,
1980. – 325 с.
266. Широкогоров С.М. Этнос: Исследование основных принципов
изменения этнических и этнографических явлений. - Шанхай, 1923. – 135 с.
166
267. Шнирельман, В.А. Быть аланами: Интеллектуалы и политика на
Северном Кавказе в ХХ веке / В.А.Шнирельман. - М.: НЛО, 2006. - 690 с.:
268. Шортанов, А.Т. Адыгские культы / А.Т.Шортанов. - Нальчик:
Эльбрус, 166 с.
269. Элиас, Н. О процессе цивилизации: социогенетические и
психогенетические исследования [Электронный ресурс] / Норберт Элиас. М. - СПб.: Университетская книга, 2001. - Т. 1, 2. - 332 с., 382 с. - Режим
доступа: http://krotov.info/library/26_ae/li/as_00.htm
270. Этническое самосознание славян в XV столетии / Г.Г.Литаврин
(отв. ред.). - М.: Наука,1995. - 242 с.
271. Этничность и власть в полиэтничных государствах / Материалы
международной конференции 1993 г.- М.: Наука, 1994. – 313 с.
272. Этничность, толерантность и СМИ / Отв. ред. И.В.Следзевский. М.: Центр цивилизованных и региональных исследований Института Африки
РАН, 2006. – 224 с.
273. 6 000 лет адыгской цивилизации: в свет вышел Черкесский
календарь
2013
[Электронный
ресурс]
/
Режим
доступа:
http://www.aheku.org/page-id-3320.html
274. Къардэнгъущ1, З. Адыгэ хабзэу щы1ахэр / З.П.Кардангушев,
Х.И.Шогенов. – Нальчик: Эльбрус, 1995. – 182 с.
275. ХьэфIыцIэ, М. Адыгэ мамлюкхэр / М.Хафицэ. – Нальчик:
Эльбрус, 1994. – 215 с.
276. Abu Assab, N. Circassians in the Age of Nation-States: Stateless
Entities, Banal Nationalism in the Pan-Islamism, Pan-Arabism and Territorial
Nationalism in the Middle East [Электронный ресурс] / Nour Abu Assab //
MERC - Middle East Research Competition. - July 2007. - Режим доступа:
http://www.circassianworld.com/pdf/Nour_Assab.pdf
277. Alba, R. Rethinking Assimilation Theory for a New Era of
Immigration // Richard Alba, Victor Nee // International Migration Review. - Vol.
31. - No. 4. – 1997. – Pp. 826-874.
278. Arslan, E.Z. Circassian Organizations In The Ottoman Empire (19081923) / Elmas Zeynep (Aksoy) Arslan. – Boğaziçi: Boğaziçi University, 2008. –
315 pp.
279. Baumann, T. Defining Ethnicity / Timothy Baumann // The SAA
Archaeological Record. - September 2004.
280. Besleney, Z.A. Transformative Effect of the Internet on Circassian
Diaspora / Zeynel Abidin Besleney // Politics in Turkey
281. Bram, Ch. The Circassian World Congress: Dilemmas of Ethnic
Identity and the Making of an Ethno-National Movement / Chen Bram // The
Caspian Region. - Vol. 3. The Caucasus, ed. by M. Gammer. - London:
Routledge. – 2004. – Pp. 4 – 103.
282. Bram, Ch. Muslim revivalism and the emergence of civic society. A
case study of an Israeli-Circassian community / Chen Bram // Central Asian
Survey. - March, 2003. No. 22 (1). – Pp. 5–21.
167
283. Brewda, J. David Urquhart’s Holy War / Joseph Brewda, Linda de
Hoyos // Strategic Studies. - September 10, 1999. – Pp. 24 – 27.
284. Brubaker, R. Nationalism Reframed. Nationhood and the national
question in the New Europe / Roger Brubaker. - Cambridge: Cambridge
University Press, 1996. – 216 рр.
285. Bullough, O. Sochi 2014 Winter Olympics: The Circassians Cry
Genocide [Электронный ресурс] / Oliver Bullough // Newsweek. - May 21, 2012.
- Режим доступа: http://www.thedailybeast.com/newsweek/2012/05/20/sochi2014-winter-olympics-the-circassians-cry-genocide.html
286. Calhoun, С. Nationalism and Ethnicity / С. Calhoun. - Annual Review
of Sociology. - Volume 19. – 1993. – Pр. 211-239;
287. Doğan, S.N. From national humiliation to difference: The image of
the Circassian Beauty in the Discourses of Circassian Diaspora Nationalists /
Setenay Nil Doğan [Электронный ресурс] // New Perspectives On Turkey – No.
42.
Spring
2010.
Режим
доступа:
http://www.circassianworld.com/pdf/SNDogan_From_national_humiliation.pdf
288. Gleason, Ph. Identifying Identity: A Semantic History / The Journal of
American History. - Vol. 69. - No. 4. - March, 1983. - Pp. 910-931
289. Greenfeld, L. The Spirit of Capitalism: Nationalism and Economic
Growth / Liah Greenfeld. - Second printing. - Harvard University Press, 2003. –
338 р.
290. Hroch, M. Social preconditions of national revival in Europe: a
comparative analysis of the social composition of patriotic groups among the
smaller European nations / Miroslav Hroch. - Columbia University Press, 2000 220 pp.
291. Hutchinson, J. Moral Innovators and the Politics of
Regeneration: The Distinctive Role of Cultural Nationalists in
Nation-Building / John Hutchinson // International Journal of Comparative
Sociology. - March, 1992. - Vol. 33. - No. 1-2 - Pp. 101-117.
292. Karadaş, Y. 21st Century is the last opportunity for Circassians /
Yalçın Karadaş [Электронный ресурс] // Circassian World.com - August 18,
2010. – Режим доступа: http://www.circassianworld.com/new/headlines/149721st-century-is-the-last-opportunity-for-circassians.html
293. Karner, C. Ethnicity and everyday life / Christian Karner. –
Routledge, 2007. – 188 pp.
294. Kasumov, Kh. Caucasian War: History and Representations
[Электронный ресурс] / Khasan Kasumov // CircassianWorld.com – May, 2010.
– Режим доступа: Istanbul http://www.circassianworld.com/new/history/war-andexile/1477-caucasian-war-kh-kasumov.html
295. Kaya, A. Political Participation Strategies of the Circassian Diaspora
in Turkey / Ayhan Kaya // Mediterranean Politics. - Vol. 9. - No. 2 - 2004. Pp.221–239.
168
296. King, Ch. Imagining Circassia: David Urquhart and the Making of
North Caucasus Nationalism / Charles King // The Russian Review. – No. 66. April, 2007. – Pp. 238-255.
297. Kreindler, I. Circassian Israelis: Multilingualism As a Way of Life
[Электронный ресурс] / Isabelle Kreindler, Marsha Bensoussan, Eleanor Avinor,
Chen Bram // Language, Culture and Curriculum. – Vol. 8. – No. 2. – 1995. – Pp.
149-62.
Режим
доступа:
http://www.circassianworld.com/pdf/Circassian_Israel.pdf
298. Kuzio, T. Nationalising States or Nation Building? A Critical Review
of the Theoretical Literature and Empirical Evidence / Taras Kuzio / /Nations and
Nationalism. - 7 (2) 2001. – Pp. 135—154.
299. Lentin, A. The Crises of Multiculturalism: Racism in a Neoliberal Age
http://www.multiculturecrisis.com/2011/07/18/the-crises-on-opendemocracy/ July,
18, 2011
300. Marx, A.W. Faith in Nation: Exclusionary Origins of Nationalism /
Anthony W. Marx. - Oxford University Press, Inc., 2003. – 259 pp.
301. Miscevic, N. Nationalism [Электронный ресурс] // Nenad Miscevic
//
Stanford
Encyclopedia
of
Philosofy.
–
Режим
доступа:
http://plato.stanford.edu/entries/nationalism/
302. Smith, A.D. The Ethnic Origins of Nations / A. D. Smith. - Oxford:
Blackwell, 1986. - 312 pp.
303. Smith, A.D. The Cultural Foundations of Nations: Hierarchy,
Covenant and Republic / A.D.Smith. - Oxford: John Wiley and Sons, 2008. - 243
pp.
304. Smith, A.D. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach
/ A. D. Smith. – London: Routledge - Taylor & Francis, 2009. – 184 pp.
305. Renan, E. Qu'est-ce qu'une nation? [Электронный ресурс] / Ernest
Renan. - Conférence faite en Sorbonne, le 11 mars 1882. – Режим доступа:
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/michel-debre/michel-debrerenan_nation_11031882.asp
306. Richmond, W. An Interview With Professor Walter Richmond
[Электронный ресурс] / CircassianWorld.com. - June 2009. - Режим доступа:
http://www.circassianworld.com/new/interview/1365-interview-wrichmond-june2009.html
307. Shenfield, S. D. A Russian Discussion on the History of the Caucasian
War [Электронный ресурс] / Stephen D. Shenfield // CircassianWorld.com. - 08
June
2010.
–
Режим
доступа:
http://www.circassianworld.com/new/headlines/1483-a-russian-discussionsshenfield.html
308. Warwick Debates on Nationalism [Электронный ресурс] / Anthony
D.
Smith
vs Ernest
Gellner.
–
1995. –
Режим
доступа:
http://www2.lse.ac.uk/researchAndExpertise/units/gellner/Warwick0.html
169
309. Zhemukhov, S. Circassian World: Responses to the New Challenges /
Sufian Zhemukhov // PONARS Eurasia Policy Memo. - No. 54. – December,
2008.