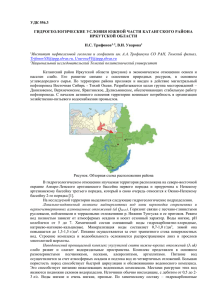Палеозой России
реклама

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А. П. КАРПИНСКОГО» Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Материалы III Всероссийского совещания 24—28 сентября 2012 г. ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург Издательство ВСЕГЕИ Санкт-Петербург 2012 Материалы III Всероссийского совещания МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РОССИИ УДК 551.83.022.2 (470) Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия // Материалы III Всероссийского совещания «Верхний палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия», 24—28 сентября 2012 г., Санкт-Петербург / Отв. ред. А. И. Жамойда. — СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2012. — 284 с. ISBN 978-5-93761-191-8 Сборник содержит материалы III Всероссийского совещания «Верхний палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия». В рамках совещания была проведена специальная секция по стратиграфии, палеогеографии и фациальному анализу нижнего палеозоя. Сборник посвящен различным аспектам региональной геологии, биостратиграфии, палеонтологии, литологии и геохимии осадочных отложений кембрия, ордовика, силура, девона, карбона и перми территории России и сопредельных стран. Рассматриваются как фундаментальные проблемы, так и прикладные вопросы геологического строения и стратиграфии палеозоя, особенностей палеогеографии и эволюции фаунистических сообществ геологического прошлого. Редакционная коллегия Т. Ю. Толмачева, О. Л. Коссовая, И. О. Евдокимова, Г. В. Котляр, А. О. Иванов Ответственный редактор А. И. Жамойда Совещание проведено при поддержке Федерального агентства по недропользованию и Российского фонда фундаментальных исследований, грант № 12-05-06069-г ISBN 978-5-93761-191-8 © Федеральное агентство по недропользованию, 2012 © Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского, 2012 © Коллектив авторов, 2012 СОДЕРЖАНИЕ 7 9 11 14 18 20 22 25 27 30 33 35 37 40 41 42 45 46 49 Материалы III Всероссийского совещания Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Алберг П.Е., Гутак Я.М., Кундрат М., Перфильев Ю.А. Новое богатое местонахождение позвоночных из отложений позднего девона реки Уруп (Минусинская впадина, Южная Сибирь) . . . . . . . . . . . . . Алексеев А.С., Горева Н.В., Исакова Т.Н., Коссовая О.Л. Касимовский ярус и его расчленение в типовой местности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Анищенко Л.А., Клименко С.С., Процько О.С., Мочалова И.Л. Фации и распределение органического вещества в отложениях доманикового горизонта Тимано-Печорского бассейна . . . . . . . . . . . . . . . . Антошкина А.И. Отражение хирнантской фазы Гондванского оледенения в отложениях Приполярного Урала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антропова Е.В. Представители строматопороидей отряда Сlathrodictyida в силуре Приполярного Урала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Анфимов А.Л. Этапы развития известковых водорослей раннего и среднего девона Урала . . . . . . . . . . . . Арефьев М.П., Кулешов В.Н. Корреляция пограничных пермо-триасовых отложений ВосточноЕвропейской платформы с разрезом Мейшань по изотопному составу углерода . . . . . . . . . . . . . . . . Артюшкова О.В., Маслов В.А. Корреляционный потенциал вспомогательных стратиграфических подразделений вулканогенно-осадочных отложений девона Южного Урала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Афанасьева М.С., Амон Э.О. Радиоляриевая шкала девона России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Базаревская В.Г., Тарасова Т.И., Гибадуллина О.Г., Троицкая А.Н. Проблемы стратификации отложений карбонатного верхнедевонского комплекса на территории Приволжского федерального округа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Балабанов Ю.П. Палеомагнетизм пограничных отложений перми и триаса Московской синеклизы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бахарев Н.К., Изох Н.Г., Язиков А.Ю. Новые данные и новые проблемы в стратиграфии нижнего и среднего девона Салаира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Безносов П.А., Чупров В.С., Лукшевич Э.В. Разрез покаямской свиты по реке Волонга (верхний девон, Северный Тиман) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бискэ Г.С., Алексеев Д.В., Дженчураева А.В., Гетман О.Ф. Корреляция событий позднего палеозоя в Тянь-Шане: биостратиграфические критерии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бойко М.С. Кунгурские аммоноидеи Урала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бразаускас А. Особенности распространения венлокских (силур) конодонтов в разрезах Литвы . . . . . . Буланов В.В. Новые данные по морфологии, распространению и онтогенезу восточноевропейских Кarpinskiosauridae (Tetrapoda, Seymouriamorpha) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бухман Н.С. О каламитах из Ново-Кувакского местонахождения среднепермской палеофлоры (казанский век) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бяков А.С. Пермская биогеография двустворчатых моллюсков и проблема биполярного распространения фаун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Бяков А.С., Ведерников И.Л. Фациально-седиментационная модель строения пермских отложений Охотского и Аян-Юряхского бассейнов (Северо-Восток Азии) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ветлужских Л.И. Стратиграфия кембрия Саяно-Байкальской горной области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гаген-Торн О.Я. Строение пограничных вендско-кембрийских отложений глинтовой области южного берега Финского залива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ганелин В.Г. Поздний палеозой Северо-Востока Азии: основные черты био- и седиментогенеза . . . . . . Геккер М.Р. Основные проблемы корреляции турнейских и визейских отложений (нижний карбон) Подмосковного и Донецкого бассейнов со стратотипической местностью (Бельгия) . . . . . . . . . . . . Глинский В.Н. Распространение живетских псаммостеид в восточной части Главного девонского поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Голубев В.К. Границы верхнего отдела пермской системы на Восточно-Европейской платформе . . . . . . Гоманьков А.В. Костоватовский флористический комплекс и проблема казанско-уржумской границы на Восточно-Европейской платформе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Горева Н.В., Алексеев А.С. Положение нижней границы московского яруса каменноугольной системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Горожанин В.М., Горожанина Е.Н., Кулагина Е.И. Геологическая позиция разреза Верхняя Кардаиловка (Южный Урал), кандидата в GSSP нижней границы серпуховского яруса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 53 55 58 60 63 65 68 70 72 75 3 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео4 Груздев Д.А., Журавлев А.В., Соболев Д.Б. Изотопы углерода и кислорода в разрезе верхнефаменских отложений Пай-Хоя, река Силова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Грунт Т.А. Пермское семейство Kaninospiriferidae Kalashnikov, 1996 (отряд Spiriferida, Brachiopoda) в пермских бассейнах бореальной и нотальной климатических зон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Данилова А.В. Применение палинофациального анализа для установления генезиса казанских терригенных пород острова Колгуев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дронов А.В. Осадочные секвенции и эвстатические события в ордовикском бассейне Балтоскандии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Дронов А.В., Каныгин А.В., Тимохин А.В., Гонта Т.В. Гео- и биособытия в ордовике Сибирской платформы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ермакова Ю.В., Реймерс А.Н., Алексеев А.С. Зональное расчленение пограничных отложений каси­ мовского и гжельского ярусов (верхний карбон) карьера Яблоневый овраг (Самарская лука) по конодонтам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зайцев А.В., Покровский Б.Г. К литолого-геохимической характеристике Пестовской опорной скважины (предварительные данные) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зайцева Е.Л., Фортунатова Н.К., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., Карцева О.А., Бушуева М.А., Баранова А.В., Агафонова Г.В., Михеева А.И., Рахимова Е.В. Проблемы стратиграфии верхнедевонских и нижнекаменноугольных отложений запада Волго-Уральской провинции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зверева А.В., Перегоедов Л.Г., Силантьев В.В. Неморские двустворчатые моллюски позднего палеозоя Северо-Востока Тунгусской синеклизы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Зинатуллина И.П. Корреляция живетских отложений на юго-востоке Татарстана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Иванов А.О. Эласмобранхии казанского яруса Европейской России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Изох Н.Г., Обут О.Т., Суслова Е.А. Новые находки конодонтов в верхнем ордовике Алтае-Саянской складчатой области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Искюль Г.С. Литологические маркеры границ региональных горизонтов ордовика в скважине 10 (Лисино) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Исламов А.Ф., Хасанов Р.Р., Гафуров Ш.З. Особенности состава и условия образования позднепалеозойских углей Волго-Уральского региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кирилишина Е.М., Карпова Е.В., Кононова Л.И. Конодонтовые биофации, карбонатные микрофации и палеобатиметрический анализ верхнефранских и нижнефаменских отложений Воронежской антеклизы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Киселев Г.Н. Исследования академиком Д.В. Наливкиным палеозойских цефалопод России . . . . . . . . . Коссовая О.Л., Исакова Т.Н., Хорошавин В.А., Евдокимова И.О., Леонтьев Д.И., Николаев А.И. Биостратиграфия отложений верхней части башкирского – московского ярусов восточной части Донбасса (Ростовская область) по материалам бурения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Котляр Г.В., Пискун П.П., Борисенков К.В. Нижняя граница кунгурского яруса в разрезах севера Урала и Пай-Хоя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Куриленко А.В. О необходимости актуализации стратиграфических схем девона Восточного Забайкалья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Кучева Н.А., Мизенс Л.И. Особенности распространения брахиопод в отложениях верхнего фамена – нижнего визе юга Западной Сибири . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Леонова Т.Б. К вопросу о границе ранней и средней перми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Лукшевич Э.В., Иванов А.О., Зупиньш И.А. Комплексы девонских позвоночных Андомской горы и корреляция с разрезами Главного девонского поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мавринская Т.М., Якупов Р.Р. Биостратиграфическая характеристика набиуллинской свиты (западный склон Южного Урала) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Мадисон А.А. Особенности строения и микроструктуры первых строфоменид из ордовика Ленинградской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Макаренко С.Н., Родыгин С.А., Савина Н.И. Проблемы стратиграфии верхнего девона Западно-Сибирской плиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Малышева Е.Н. Сфинктозоа верхней перми Южного Приморья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Манцурова В.Н. К вопросу о нижней границе франского яруса на Русской плите по палинологическим данным . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Матвеев В.А. Строматолитовые постройки поднятия Чернова и западного склона Приполярного Урала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Матвеев В.П. Стратиграфия башкирского яруса острова Северный архипелага Новая Земля . . . . . . . . . 78 80 82 84 86 89 92 94 96 99 101 104 105 108 110 114 115 119 121 124 126 128 131 134 136 138 141 144 147 150 152 157 160 162 164 166 167 169 172 175 177 179 181 184 187 189 192 194 196 198 Материалы III Всероссийского совещания Минина О.Р. Стратиграфическая основа региональной схемы среднепалеозойских отложений Западного Забайкалья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Миранцев Г.В., Кокорин А.И., Рожнов С.В. Иглокожие в морских сообществах верхнего палеозоя (материалы по территории России и сопредельных стран) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Молошников С.В. Особенности развития антиарх (placodermi) в среднем-позднем девоне южных областей России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Морокова Ю.И., Шадрин А.Н. Тульские отложения реки Шаръю: литология и условия образования . . . Муравьев Ф.А., Балабанов Ю.П., Арефьев М.П. Магнетизм и палеопочвы приграничных отложений перми и триаса разреза Жуков овраг в бассейне реки Клязьма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Неберикутина Л.Н., Минина О.Р., Аристов В.А. Палиноморфы и конодонты в среднепалеозойских отложениях Западного Забайкалья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Обуховская В.Ю. Миоспоры рода Rhabdosporites, их стратиграфическое значение и роль в корреляции среднедевонских (эмс-живетских) отложений Беларуси, Русской платформы и более удаленных территорий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Орлова О.А., Мамонтов Д.А., Снигиревский С.М. Поздневизейские растительные сообщества северо-западной части Московской синеклизы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пазухин В.Н., Николаева С.В., Кулагина Е.И. Срединная граница карбона на Южном Урале и в Приуралье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Папин Ю.С., Устьянцева О.Ю. Ранг и структура палеозоя в Общей стратиграфической шкале . . . . . . . . Пегель Т.В., Сухов С.С., Шабанов Ю.Я. Биостратиграфические шкалы кембрия Сибирской платформы как отражение биофациальной и биогеографической зональности ископаемых организмов . . . . . Пономарева Г.Ю. Bradyina (фораминиферы) как зональные виды-индексы визейского и серпуховского ярусов нижнего карбона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пономаренко Е.С., Канева Н.А. Верхнефранские карбонатные отложения на реке Седъю (Южный Тиман, юг Ухтинской антиклинали) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пороховниченко Л.Г. О фитостратиграфии верхнепалеозойских отложений северо-западной части Тунгусского бассейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пухонто С.К. История развития палеоботаники в Печорском крае . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пухонто C.К., Наугольных С.В. Флора из пермских отложений Приуралья и эволюция высших растений в пермском периоде . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Радзевичюс С., Пашкевичюс И., Кояле А. Гелувский региональный ярус в силурийском Балтийском бассейне . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ремизова С.Т. Эволюция и палеоэкология позднепалеозойских фораминифер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Салдин В.А. Новые местные стратиграфические подразделения нижнепермских отложений северной части западного склона Урала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Саммет Э.Ю. Актуальные вопросы дальнейшего изучения отложений восточной части Главного девонского поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сандула А.Н. Осадконакопление в среднекаменноугольную эпоху в бассейне Верхней Печоры . . . . . . . Седаева К.М., Рябинкина Н.Н. Пограничный глинистый горизонт как отражение абиотического и биотического событий на рубеже девона – карбона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сенников А.Г., Буланов В.В. Возникновение планирующего полета у позвоночных – условия и предпосылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сенников Н.В., Айнсаар Л. Первые данные по изотопам углерода в отложениях хирнантского яруса Горного Алтая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Силантьев В.В. Пермские неморские двустворчатые моллюски рода Рalaeomutela Аmalitzky, 1891: эволюционное изменение замочного аппарата раковин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Силантьев В.В., Пономарева Г.Ю. К палеонтологической характеристике каменноугольных отложений южной части Усть-Черемшанского прогиба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Спиридонов А. Количественная биостратиграфия венлока (силур) Литвы по конодонтам . . . . . . . . . . . . . Степанова Т.И. Корреляция отложений турне – нижнего визе юга Западной Сибири и смежных регионов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сунгатуллина Г.М. Конодонты рода idiognathodus на рубеже московского и касимовского веков . . . . . . Сухов С.С. Палеогеографические и седиментологические реконструкции как основа совершенство­ вания стратиграфического каркаса (о некоторых парадоксах и заблуждениях в региональной стратиграфии кембрия Сибирской платформы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Суяркова А.А. Новые данные по биостратиграфи и пограничных отложений лландовери – венлока Калининградской области по граптолитам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 203 205 207 210 211 213 216 219 221 5 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео6 Тагариева Р.Ч. Конодонтовая зональность нижнефаменских отложений разреза Большая Барма (западный склон Южного Урала) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Танинская Н.В. Фациальные реконструкции силурийско-нижнедевонских отложений Тимано-Печорского палеобассейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тарабукин В.П. Раннекаменноугольные конодонты из осадочных ксенолитов кимберлитовых трубок северо-востока Сибирской платформы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тарасенко А.Б. Стратиграфия франского яруса приильменской части Главного девонского поля . . . . . . Тельнова О.П., Ветошкина О.С. Палеонтологическая и геохимическая характеристики пограничных средне-верхнедевонских отложений в стратотипическом разрезе устьярегской свиты Южного Тимана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тимохин А.В. Стратиграфия верхнего ордовика Сибирской платформы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Тимохина И.Г., Родина О.А. Уточнение возраста глубокинских известняков верхнего девона в разрезе Риф северо-западной окраины Кузбасса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Толмачева Т.Ю., Дегтярев К.Е., Рязанцев А.В., Никитина О.И. Биогеографические особенности конодонтов из раннеордовикских известняков маматской свиты Чингиз-Тарбагатайской зоны Восточного Казахстана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Толоконникова З.А. Значение мшанок в стратиграфии верхнедевонских отложений западной части Алтае-Саянской складчатой области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Улановская Т.Е., Калинин В.В., Зеленщиков Г.В. Палеозой складчатого фундамента Скифской плиты: реальность или миф? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Уразаева М.Н., Силантьев В.В. Ассоциации неморских двустворчатых моллюсков из пермских отложений острова Русский (Южное Приморье) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Устьянцева О.Ю. Выделение трансгрессивных и регрессивных фаций – основа ритмогенетического анализа разрезов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Филимонова Т.В., Исакова Т.Н., Горожанина Е.Н. Фораминиферы артинского и кунгурского ярусов (нижняя пермь) юго-восточной части Соль-Илецкого свода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хасанов Р.Р., Балабанов Ю.П. Палеогеография востока Восточно-Европейской платформы на рубеже перми и триаса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Хорачек М., Бяков А.С., Захаров Ю.Д., Рихоз C. Проблема границы перми и триаса в морских фациях Сибири (в свете первых изотопно-углеродных данных по разрезу реки Сеторым, Южное Верхоянье) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цыганко В.С. Зональная биостратиграфия девона России по ругозам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Цыганкова В.А. Литолого-фациальный анализ пашийских отложений Волгоградского Поволжья . . . . . Черных В.В., Чувашов Б.И. Конодонтовая стратиграфическая шкала верхнего карбона – нижней перми Урала и задачи дальнейших стратиграфических исследований . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Чувашов Б.И., Черных В.В. Нижний отдел пермской системы: состояние изученности и задачи будущего . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Шеболкин Д.Н. Новые данные по стратиграфии и литологии венлокских отложений на юге гряды Чернышева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Щеколдин Р.А. Новоземельский бассейн в конце среднего – начале позднего палеозоя . . . . . . . . . . . . . . Юрьева З.П. Пражские и эмсские отложения в северо-восточных разрезах Тимано-Североуральского региона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Язиков А.Ю., Бахарев Н.К. О смешении комплексов брахиопод шандинских и пестеревских известняков Салаира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Список авторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 227 228 230 232 234 236 238 240 242 246 248 250 254 256 258 260 262 266 269 272 273 276 278 Сборник содержит материалы ����������������������������������� III�������������������������������� Всероссийского совещания «Верхний палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, геои биособытия», которое проходило 24–28 сентября 2012 г. в СанктПетербурге, ВСЕГЕИ. Первая всероссийская конференция «Верхний палеозой России: стратиграфия и палеогеография», посвященная памяти известного ученого, одного из основоположников биостратиграфии по конодонтам, В.Г. Халамбаджи, прошла в Казани 25–27 сентября 2007 г. Местом проведения второй конференции, посвященной 175-летию со дня рождения Н.А. Головкинского, была также Казань (27–30 сентября 2009 г.). Основной целью совещаний, проходивших под эгидой Межведомственного стратиграфического комитета России и его постоянных комиссий по девонской, каменноугольной и пермской системам, было обсуждение новой информации по стратиграфии, фациальному анализу и палеогеографии, накопленной за последние годы в различных регионах страны. Опубликованные сборники статей продемонстрировали большой объем новых данных по биостратиграфии, успешное применение новых методов изотопной и хемостратиграфии для расчленения разрезов и активную работу постоянных комиссий по системам Межведомственного стратиграфического комитета России (МСК) по совершенствованию Общей стратиграфической шкалы. Тематика совещания «Верхний палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия» (ВСЕГЕИ, СанктПетербург, 2012) несколько расширена по сравнению с предыдущими за счет включения секции по проблемам стратиграфии, палеогеографии и фациального анализа отложений нижнего палеозоя России. Актуальность периодических стратиграфических совещаний по различным системам определяется в первую очередь целенаправленными исследованиями комиссий по системам по усовершенствованию Международной и Общей стратиграфических шкал и их корреляции. Своевременная публикация полученных данных призвана способствовать внедрению изменений ОСШ в практику картосоставительских работ различного масштаба. Статьи сборника охватывают различные аспекты стратиграфии и палеонтологии палеозоя, такие как проблемы стратиграфии кембрийской, ордовикской, силурийской, девонской, каменноугольной и пермской систем, региональной стратиграфии палеозоя; палеонтологии; зональной биостратиграфии; геологических и биотических событий; палеогеографии и фациального анализа осадочных бассейнов. Материалы представлены специалистами из различных геологических организаций России, включая специалистов институтов Роснедра, Минприроды и экологии РФ, различных научных и производственных организаций, университетов основных регионов России. В совещании приняли ­у частие зарубежные коллеги из Эстонии, Латвии, Литвы, Швеции Материалы III Всероссийского совещания ПРЕДИСЛОВИЕ 7 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео8 и Австрии. Сборник сопровождается списком авторов и организаций (более 40). Статьи включают информацию по стратиграфии палеозоя территории России и сопредельных регионов: Восточно-Европейской платформы, Донецкого бассейна, Салаира, Тимано-Печорской провинции, Урала, Северо-Востока, Дальнего Востока, Тянь-Шаня, Литвы, Западной и Восточной Сибири, Алтая и Шпицбергена. Приводятся данные по использованию различных групп органических остатков при датировке и расчленении разрезов: конодонтов, брахиопод, фузулинид, фораминифер, кораллов, строматопороидей, мшанок, остракод и др. Часть статей посвящена работам международных рабочих групп по обоснованию границ в разрезах, предложенных в качестве стратотипов границ ярусов Международной стратиграфической шкалы. В ряде статей изложены новые предложения по актуализации и детализации региональных стратиграфических схем. Представленные доклады по изотопной геохимии, литофациальному анализу разрезов свидетельствуют о необходимости интеграции различных методов стратиграфии. Несколько статей посвящено аспектам филогении и эволюции различных групп. Материалы, представленные в сборнике, базируются на новых данных, полученных с помощью современных методов и оборудования. Подготовка и проведение совещания были осуществлены Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) и Межведомственным стратиграфическим комитетом России. Редколлегия НОВОЕ БОГАТОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПОЗВОНОЧНЫХ ИЗ ОТЛОЖЕНИЙ ПОЗДНЕГО ДЕВОНА реки УРУП (МИНУСИНСКАЯ ВПАДИНА, ЮЖНАЯ СИБИРЬ) О находках фрагментов ископаемых рыб из отложений верхнего девона по р. Уруп (левый приток р. Чулым, граница Кемеровской области и Красноярского края) известно с шестидесятых годов прошлого столетия. Именно тогда геологами Западно-Сибирского геологического управления в ходе проведения гидрогеологической съемки листа N-45-V из обнажения пород кохайской свиты в правом борту реки ниже пос. Ивановка были отобраны образцы с остатками ископаемых рыб. В комплексе окаменелостей И.В. Лебедев определил Bothriolepis sibirica Obr., Megistolepis klemensi Obr., Dipterus sp. (Ю.Б. Файнер, 1967). В начале 90-х годов повторные сборы из этого местонахождения в ходе работ по составлению Госгеолкарты-200/2 (серия Кузбасская) выполнили геологи ФГУП «Запсибгеолсъемка» В.С. Дубский и А.В. Уваров. В собранной коллекции, по заключению А.О. Иванова, присутствуют представители Bothriolepis, Ptyctodontida, Acanthodidae, Haplacantus, Onychodontidae, Glyptolepis, Dipteridae, Osteolepididae, Megistolepis, Palaeonisci. Среди перечисленных представителей ископаемой ихтиофауны наибольший интерес представляет присутствие остатков кистеперых рыб Megistolepis klemensi Obr. Этот вид, описанный Д.В. Обручевым (1955) по остаткам чешуй и затем более детально рассмотренный в работе Э.И. Воробьевой (1977), до настоящего времени остается одним из наименее изученных представителей кистеперых рыб девонского периода. Восстановление его внешнего вида и анатомических деталей чрезвычайно важно для понимания развития рыб при переходе к первым Положение разреза Ивановка Материалы III Всероссийского совещания П.Е. Алберг, Я.М. Гутак, М. Кундрат, Ю.А. Перфильев 9 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео10 т­ етраподам. Достоверные находки последних происходят из фран-фаменских отложений многих ­регионов мира, но в Сибири до настоящего времени не найдены. Это послужило основанием для постановки на Ивановском местонахождении детальных палеонтологических исследований. На первом этапе в 2010 г. на местонахождении силами палеонтологического отряда КузГПА были выполнены рекогносцировочные работы с целью определить параметры костеносного слоя и наличия в нем крупных скелетных фрагментов. В результате работ в пределах слоя с остатками ихтиофауны был выявлен участок, содержащий многочисленные фрагменты челюстей Megistolepis и его черепа. Кроме этого, были обнаружены разрозненные кости двоякодышащих рыб и очень редкие фрагменты плакодерм. Последнее выглядело парадоксально, поскольку представители рода Bothriolepis практически всегда присутствуют в отложениях данного возраста. В ходе работ был обнаружен также один фрагмент челюсти, имеющий сходство с челюстями тетрапод (Гутак и др., 2010). В 2011 г. работы на Ивановском местонахождении были продолжены силами интернационального отряда. В ходе этих работ выше слоя с остатками кистеперых был обнаружен еще один слой с остатками рыб, среди которых доминируют плакодермы. Географические координаты местонахождения составляют: N 55°35′, E 88°49′. Обнажение расположено в крутом скальном борту правого берега р. Уруп, в 1,5 км ниже по течению от пос. Ивановка. В обнажении вскрывается фрагмент разреза кохайской свиты (верхний фран), представленный переслаиванием мелкозернистых песчаников, алевролитов и аргиллитов. Породы в нижней части видимого разреза окрашены в зеленые тона, в верхней доминирует красноцветная окраска. Общая мощность вскрытого разреза немногим превышает первые два десятка метров. Отложения пресного водоема Минусинской озерной палеосистемы, существовавшей в замкнутых котловинах южной части Сибири на протяжении всего верхнего девона. Основная часть собранной коллекции костных остатков происходит из одного слоя мощностью около 15 см, расположенного у границы зеленоцветной и красноцветной пачки. Практически по всей протяженности слоя имеются многочисленные чешуи кистеперых рыб Megistolepis klementsi Obr., однако захоронения скелетных фрагментов в пределах слоя приурочены к небольшой (около 5 м) линзе, расположенной в средней части обнажения. Здесь фиксируются тысячи отдельных костей и чешуй вместе с более крупными элементами: полная нижняя челюсть и части черепа, которые громоздятся друг на друга в несколько слоев (2–4 см в толщину). Сохранность отдельных элементов отличная, но, поскольку они перемешаны в плотной породе (алевролит), то ни одна кость не может быть освобождена от породы без разрушения многих окружающих костей. Это создает значительные трудности в обработке коллекции. Однако уже сейчас можно утверждать о присутствии в комплексе позвоночных скелетных фрагментов кистеперых рыб Megistolepis klementsi Obr., двоякодышащих, а также тетрапод. Последние представлены нижней челюстью и фрагментами черепа. По мнению Пьера Алберга, они принадлежат новому роду ранних тетрапод. Если этот вывод подтвердится, то это будет первая находка тетрапод в пределах древнего Сибирского континента. В изученном комплексе доминируют представители хищников. Плакодермы, обычно широко представленные в отложениях этого возраста остатками Bothriolepis, встречены только в одном небольшом образце в виде очень маленького фрагмента крыши черепа. По всей видимости, в данном местонахождении захоронена стая хищных рыб и тетрапод. Скорее всего, плакодермы служили пищей для хищников, и этим объясняется их отсутствие в захоронении. Этот вывод подтверждается анализом ассоциации позвоночных с другого местонахождения Ивановского разреза. Местонахождение-2 расположено в верхней части видимого разреза в дальней (вниз по течению реки) части обнажения в 60 м от описанного. Здесь окаменелости локализованы в 10-метровом слое зеленоватых окремненных аргиллитов среди мощной пачки красноцветных пород. В захоронении преобладают крупные фрагменты панцирей плакодерм Bothriolepis. Находки чешуй кистеперых очень редки, только в единичных образцах фиксируются фрагменты челюсти и зубы Megistolepis. Скорее всего, здесь мы имеем дело с экологической нишой очень мелкого илистого водоема, куда был затруднен доступ крупных хищников. К настоящему времени мы каталогизировали весь полученный материал (187 образцов). Коллекция хранится в геологическом музее СибГИУ (г. Новокузнецк) и готовится к изучению методом глубинной томографии в центре ESRF (Гренобль, Франция). После их изучения мы сможем получить изображения многочисленных костей в пределах отдельных увязанных между собой монолитов, а также реконструировать трехмерную модель внутреннего строения челюсти и черепа без каких-либо разрушительных механических воздействий на блоки. Это позволит установить новый технический стандарт для изучения костных залежей в кислотостойких породах. Конкретные научные цели включают в себя: 1) реконструкцию строения Воробьёва Э.И. Морфология и особенности эволюции кистеперых рыб. – М.: Наука, 1977. – 240 с. Гутак Я.М., Лекарева Н.С., Антонова В.А. Ивановское местонахождение кистеперых рыб (поздний девон, Минусинская котловина) // Природа и экономика Кузбасса и сопредельных территорий: Материалы Всерос. науч. конф. «Природно-ресурсный потенциал Кемеровской области и сопредельных территорий» 22–23 декабря 2010 г., Новокузнецк. Т. 1: Геология, география, геоэкология. – Новокузнецк: РИО КузГПА, 2010. – С. 26–29. Обручев Д.В. Девонские рыбы Минусинской котловины // Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры девонских отложений Минусинской котловины / Под ред. М.А. Ржонсницкой, В.С. Мелещенко. – М.: ГНТИ Лит. по геол. и охране недр, 1955. – С. 45–47. А.С. Алексеев, Н.В. Горева, Т.Н. Исакова, О.Л. Коссовая КАСИМОВСКИЙ ЯРУС И ЕГО РАСЧЛЕНЕНИЕ В ТИПОВОЙ МЕСТНОСТИ Международная стратиграфическая шкала каменноугольной системы с ее делением на подсистемы, отделы и ярусы была ратифицирована Международным союзом геологических наук и приобрела официальный статус (Gradstein et al., 2004). Российские ярусные подразделения среднего и верхнего карбона (или пенсильванской подсистемы) закреплены в глобальной шкале каменноугольной системы, хотя стратотипы их границ до сих пор еще не зафиксированы. Один из семи входящих в эту шкалу ярусов – касимовский. Касимовский ярус в стратиграфической последовательности карбона Подмосковья был установлен одним из последних (Теодорович, 1949). Несмотря на название яруса, его типовая местность – это нижнее течение р. Москвы в районе г. Воскресенск. Этот район послужил А.П. Иванову (1926) эталоном для выделения тегулиферового (затем тегулиферинового) горизонта, с которого он начинал верхний отдел карбона. В качестве палеонтологической характеристики горизонтов среднего и верхнего карбона А.П. Иванов использовал смену комплексов брахиопод. Позднее Б.М. Даньшин (1947) заменил название «тегулифериновый» на «касимовский», а Г.И. Теодорович (1949) предложил поднять ранг касимовского горизонта до яруса без пересмотра его границ и подразделений. Исследования Е.А. Ивановой и И.В. Хворовой (1955) позволили кардинально ревизовать номенклатуру касимовского яруса путем объединения попарно известняковых и глинистых пачек в единые горизонты, сохранившие названия, данные по карбонатным толщам в Москве Б.М. Даньшиным. Касимовский ярус в типовой местности имеет мощность около 45–50 м и характеризуется циклическим строением с отчетливым чередованием, с одной стороны, пачек микрозернистых известняков, бедных органическими остатками, и пестроцветных мергелей, глин и глинистых доломитов с тонкими прослоями известняков, обогащенных разнообразными фоссилиями, с другой. Основу литостратиграфического расчленения яруса в южной части Московской Материалы III Всероссийского совещания парных плавников Megistolepis, наиболее распространенного в коллекции и близкого родственника четвероногих; 2) изучение остатков тетрапод, из которых в коллекции имеется фрагмент нижней челюсти (в настоящее время видно только несколько сантиметров); 3) изучение двоякодышащих рыб, представленых многочисленными, но сильно фрагментарными костями; 4) проведение инвентаризации самых маленьких костей коллекции. Последняя категория, элементы в диапазоне размеров 5–15 мм, практически не изучаются, потому что они очень трудно извлекаются. Собранная нами коллекция представляет новый комплекс фауны, который включает также ранее неизвестные кости известных таксонов позвоночных из позднего девона Сибири. Этот регион (в позднем девоне небольшой отдельный континент) очень плохо изучен, и наши результаты будут способствовать существенному улучшению знаний о глобальной картине девона, его биогеографии и эволюции фауны. После изучения и последующей публикации материалов полученные данные будут храниться в архиве общественного доступа ESRF. Это будет гарантировать доступность материала для изучения палеонтологами всего мира. Сами образцы будут храниться в Новокузнецке, в геологическом музее СибГИУ. 11 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео12 Расчленение касимовского яруса в типовой местности А – традиционное положение нижней границы; Б – обсуждаемое положение нижней границы; В – тра­ диционное положение верхней границы; Г – положение границы на уровне первого появления конодонтов I. simulator с­ инеклизы заложили публикации Б.М. Даньшина и Л.А. Головиной (1934), Б.М. Даньшина (1947), Е.А. Ивановой и И.В. Хворовой (1955), С.Я. Гоффеншефер (1971) и М.Х. Махлиной и др. (1979). Разработка подъярусного и стандартного зонального деления касимовского яруса, проведенная в последние годы, обеспечивает максимально возможно удаленные корреляции и позволяет наполнить ярус внутренним историко-геологическим содержанием. В унифицированной стратиграфической схеме (Решение…, 1990) касимовский ярус подразделяется на три горизонта – кревякинский, хамовнический и дорогомиловский. Стратотипом кревякинского горизонта считается разрез ныне не существующего карьера у д. Суворово, находившегося в 5–6 км к юго-востоку от г. Воскресенск, близ станции Цемгигант. Также ныне утрачены стратотипы свит хамовнического горизонта, выделенные в том же районе – ратмировской (д. Ратмирово) и неверовской (д. Неверово). Стратотип дорогомиловского горизонта располагался у д. Дорогомилово (ныне территория Москвы) и тоже не сохранился. Разрез Афанасьевского карьера цементного сырья ОАО «Воскресенскцемент», расположенный в 5 км к юго-западу от Воскресенска на правом берегу р. Москва у д. Ратмирово, – единственный в настоящее время, где можно изучать отложения кревякинского и хамовнического горизонтов. Этот разрез предложен в качестве неостратотипа касимовского яруса, кревякин- Алексеев А.С., Горева Н.В., Реймерс А.Н. Новая местная схема стратиграфического расчленения касимовского яруса верхнего карбона Московского региона // Бюлл. РМСК по центру и югу Русской платформы. Вып. 4. – М.: РАЕН, 2009. – C. 50–60. Горева Н.В., Алексеев А.С. Конодонтовые зоны верхнего карбона России и их глобальная корреляция // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2010. Т. 6. – С. 35–48. Гоффеншефер С.Я. Каменноугольная система. Верхний отдел // Геология СССР. Т. 4. Центр Европейской части СССР. Кн. 1. Геологическое описание. – М.: Недра, 1971. – С. 291–299. Даньшин Б.М. Геологическое строение и полезные ископаемые Москвы и ее окрестностей (пригородная зона). – М.: Изд-во МОИП, 1947. – 308 с. Даньшин Б.М., Головина Е.В. Москва. Геологическое строение. – М.–Л.: ОНТИ, 1934. Вып. 10/6. 95 с. (Труды Ин-та геол. и минер. и Моск. геолого-гидрогеодез. треста). Иванов А.П. Средне- и верхнекаменноугольные отложения Московской губернии // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1926. Т. 4. Вып. 1–2. – С. 133–180. Иванова Е.А., Хворова И.В. Стратиграфия среднего и верхнего карбона западной части Московской синеклизы. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. Т. 53. – 279 с. (Труды ПИН АН СССР). Материалы III Всероссийского совещания ского горизонта и двух его составляющих свит (суворовской и воскресенской), а также ратмировской и неверовской свит хамовнического горизонта (Махлина и др., 2001). Исследования последних лет позволили получить комплексную биостратиграфическую характеристику разреза Афанасьево по конодонтам, фузулинидам и макрофауне и дать зональное расчленение по разным группам фауны (Alekseev et al., 2009; Goreva et al., 2009 и др.). Для получения более полной характеристики пограничных московско-касимовских отложений и выбора стратотипа границы между ними были также переизучены как наиболее полные и доступные разрезы карьеров Домодедово и Мячково (Тураево). Также изучено распространение конодонтов и частично фузулинид в опорных скважинах, пробуренных в Москве (1832 на пр. Сахарова и 21 в Серебряническом пер.), ревизовано распространение микрофауны в ранее исследованных опорных скважинах (6К Гжель, 7КН Казнево, 21 Дорофеево и др.). Описан разрез в котловане центрального ядра Москва-Сити. На основе полученных новых материалов модернизирована местная схема стратиграфического расчленения касимовского яруса Московского региона (Алексеев и др., 2009; Постановления МСК…, 2012). В составе дорогомиловского горизонта касимовского яруса выделены (снизу вверх): пресненская, садовая и мясницкая свиты, составляющие среднюю его часть, ранее называвшуюся в Москве перхуровской подсвитой или толщей. Стратотип дорогомиловского горизонта охватывает верхнюю часть мясницкой свиты (известняки), трошковскую свиту (глины) и основание первой пачки русавкинской свиты речицкого горизонта гжельского яруса в его историческом понимании. Русавкинская свита содержит внутри несколько, вероятно, значительных перерывов и должна быть разделена в дальнейшем на ряд самостоятельных стратонов. В результате, касимовский ярус в типовой местности получил уточненную характеристику по конодонтам и фузулинидам (рисунок). Установлено восемь зон по конодонтам: subexcelsus, makhlinae, sagittalis, cancellosus, mestsherensis, toretzianus, firmus и zethus, и пять зон по фузулинидам: Obsoletes sp. – Fusiella lancetiformis, Protriticites subschwagerinoides – O. obsoletus, Montiparus paramontiparus – Montiparus montiparus, Triticites quasiarcticus – Shwageriniformis mosquensis, T. irregularis – T. acutus (Alekseev et al., 2004; Исакова, 2008). Положение нижней границы яруса, впервые установленной А.И. Ивановым по брахиоподам в подошве слоя «шарша» кревякинского горизонта, в типовой местности неоднократно пересматривалось (Махлина и др., 2001). С этим рубежом, с некоторой долей условности, совмещалось основание фузулинидовой зоны Protriticites pseudomontiparus – Obsoletes obsoletus, традиционно принимающейся в качестве нижней зоны верхнего карбона. Такое положение границы в качестве корреляционного уровня международной глобальной шкалы вызывает разногласия и продолжает обсуждаться как российскими, так и зарубежными исследователями. В настоящее время Международной подкомиссией по каменноугольной стратиграфии в качестве глобального маркера предлагается более высокий уровень, отвечающий первому появлению конодонтов Idiognathodus sagittalis Kozitskaya или I. turbatus Rosscow et Barrick и фузулинид рода Montiparus. В терминах современной отечественной шкалы этот уровень расположен в средней части хамовнического горизонта Подмосковья. В декабре 2007 г. Международная подкомиссия приняла решение о закреплении нижней границы гжельского яруса на уровне первого появления конодонтов Idiognathodus simulator ­(Ellison) (Heckel et al., 2009). В Подмосковье это событие установлено в верхней части русавкинской свиты добрятинского горизонта, в 5–6 м выше традиционной границы касимовского и гжельского ярусов (Горева, Алексеев, 2010). Работа поддержана проектами РФФИ 06-05-64783 и 12-05-00106. 13 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео14 Исакова Т.Н. Фузулиниды типовых разрезов касимовского яруса в московском регионе // Новости палеонтологии и стратиграфии. Вып. 10–11. Приложение к журналу «Геология и геофизика». 2008. Т. 49. – С. 124–126. Махлина М.Х., Куликова А.М., Никитина Т.А. Строение, биостратиграфия и палеогеография верхнего карбона Московской синеклизы // Стратиграфия, палеонтология и палеогеография карбона Московской синеклизы. – М.: Геол. фонд РСФСР, 1979. – С. 25–69. Махлина М.Х., Алексеев А.С., Горева Н.В. и др. Средний карбон Московской синеклизы (южная часть). Т. 1. Стратиграфия. – М.: ПИН РАН, 2001. 244 с. Постановления МСК и его постоянных комиссий. Вып. 34 / ред. А.И. Жамойда. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2003. – С. 6–9. Постановления МСК и его постоянных комиссий. Вып. 41 / ред. А.И. Жамойда. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2012. – С. 20–24. Решение Межведомственного регионального совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы с региональными стратиграфическими схемами. Каменноугольная система. Ленинград, 1988 г. – Л.: ВСЕГЕИ, 1990. – 41 с. Теодорович Г.И. О подразделении верхнего карбона на ярусы // ДАН СССР. 1949. Т. 67. № 3. – С. 537– 540. Alekseev A.S., Goreva N.V., Isakova T.N., Makhlina M.Kh. Biostratigraphy of the Carboniferous in the Moscow Syneclise, Russia // Newsletter on Carboniferous Stratigraphy. 2004. Vol. 22. – P. 28–35. Alekseev A.S., Goreva N.V., Isakova T.N., Kossovaya O.L. Afanasievo section. Neostratotype of Kasimovian Stage // Type and reference Carboniferous sections in the South part of the Moscow Basin: Field trip guidebook of International Field Meeting of the I.U.G.S. Subcommission on Carboniferous Stratigraphy “The historical type sections, proposed and potential GSSP of the Carboniferous in Russia”. Moscow, August 11–13, 2009. – Moscow: Borissiak Paleontological Institute of RAS, 2009. – P. 91–114. Goreva N.V., Alekseev A.S., Isakova T.N., Kossovaya O.L. Afanasievo section – neostratotype of Kasimovian Stage (Upper Pennsylvanian Series), Moscow Basin, central Russia // Newsletter on Carboniferous Stratigraphy. 2007. Vol. 25. – P. 8–14. Goreva N., Alekseev A., Isakova T., Kossovaya O. Biostratigraphical analysis of the Moscovian /Kasimovian transition in the neostratotype of Kasimovian Stage (Afanasievo section, Moscow Basin, Russia) // Palaeworld. 2009. Vol. 18. – P. 102–113. Gradstein F.M., Ogg O., Smith A.G. A Geologic Time Scale 2004: Cambrige University Press. 2004. – 589 p. Heckel P.H., Alekseev A.S., Barrick J.E. et al. Choice of conodont Idiognathodus simulator [sensu stricto] as the event marker for the base of the global Gzhelian Stage (Upper Pennsylvanian Series, Carboniferous System) // Episodes. 2008. Vol. 31. N 3. – P. 319–325. Л.А. Анищенко, С.С. Клименко, О.С. Процько, И.Л. Мочалова ФАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ОТЛОЖЕНИЯХ ДОМАНИКОВОГО ГОРИЗОНТА ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО БАССЕЙНА В отложениях доманикового горизонта распространены разнообразные по нефтегазоматеринскому потенциалу породы (рис. 1), в которых концентрация Сорг колеблется от 0,2 до 29 %, а водородный индекс (HI) варьирует в пределах от 30–40 до 800–900 мг УВ/г Сорг. Изменения геохимических показателей зависят от литофациальных условий осадконакопления, от степени катагенетического преобразования органического вещества (ОВ), от интенсивных эрозионных процессов на регрессивных этапах развития бассейна осадконакопления. В палеобассейне доманикового времени на территории Тимано-Печорского бассейна существовали различные области осадконакопления: прибрежно-морских приливно-отливных мелководных условий; предрифовых мелководно-морских условий; рифообразования; межрифового осадконакопления и зарифовые с депрессионным и нормальным осадконакоплением. Области прибрежно-морских приливно-отливных условий осадконакопления характеризуются терригенно-карбонатными породами с преобладанием обломочного материала алевритопесчаной размерности. В преимущественно псаммитовой матрице в незначительных количествах накапливается ОВ инертинитового состава (Сорг < 0,5 %, HI << 200 мг УВ/г Сорг). В шлифах этот тип встречается преимущественно в форме детрита (рис. 2, Б). В предрифовых мелководных условиях формировались глинисто-карбонатные осадки с большой долей алевритового материала. В этих зонах в цикле осадконакопления чередуются алевролиты, алевритистые аргиллиты, глинистые известняки с соответствующей ­концентрацией Материалы III Всероссийского совещания Рис. 1. Карта-схема распределения Сорг (%) в породах доманиковых отложений Тимано-Печорского бассейна 15 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео16 Рис. 2. Включения растительного детрита в породах доманикового горизонта и составом ОВ (от 0,3 в алевролитах до 1,7–2 % в глинистых алевролитах, до 3 % в серых глинистых известняках). Углеводородный (УВ) потенциал всех типов пород не превышает 350 мг УВ/г Сорг и соответствует сапропелево-гумусовуму типу (рис. 2, А). Более низким HI характеризуются рифогенные образования. В органогенных карбонатах Сорг не превышает 0,5 %, HI – 100–150 мг УВ/г Сорг, что является отражением активной жизнедеятельности биоты. В межрифовых условиях накапливаются глинисто-карбонатные осадки с заметной сульфатной примесью и средней и редко повышенной УВ генерационной способностью (Сорг 1–3 редко до 5 %, HI – 200–500 мг УВ/г Сорг). Аномально богатые нефтегазоматеринские породы – горючие сланцы — приурочены к отдельным доманиковым депрессионным впадинам зарифовых областей осадконакопления. Они не имеют регионального распространения, локально выделяются на фоне глубоководного зарифового шельфа. В зарифовых условиях формируются глинисто-карбонатные толщи с бактериально-водорослевым и микроводорослевым ОВ, обеспечивающие богатый и очень богатый УВ потенциал пород. Литологическая характеристика пород и их насыщенность органическим веществом и УВ хорошо коррелируется с γ-активностью пород. Карта-схема распространения средней γ-активности пород доманикового возраста четко оконтуривает депрессионные впадины (рис. 3). Катагенетические изменения ОВ горючих сланцев в условиях Тимано-Печорского палеобассейна проходят от стадий ПК3–МК1 (Ухтинский район) до стадий МК3–МК4 (Предуральский прогиб) и МК5–АК1 (Урал, р. Кожим). При катагенезе ОВ углеводородный потенциал падает, снижается общее содержание Сорг. Содержание общего нереакционного Сорг сохраняется в горючих сланцах на уровне аномальных значений материнских толщ, сохраняется и высокая γ-активность пород. Данные показатели могут быть использованы для прослеживания былых очагов генерации УВ. Материалы III Всероссийского совещания Рис. 3. Карта-схема распределения средней γ-активности в породах доманиковых отложений Тимано-Печорского бассейна 17 А.И. Антошкина Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ОТРАЖЕНИЕ ХИРНАНТСКОЙ ФАЗЫ ГОНДВАНСКОГО ОЛЕДЕНЕНИЯ В ОТЛОЖЕНИЯХ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА На Приполярном Урале в бассейне р. Кожым нижнепалеозойские отложения вскрываются на протяжении около 80 км. Литолого-геохимические исследования верхнеордовикско-нижнесилурийских отложений в районе устьев р. Балбанью и руч. Бадъяшор позволили уточнить не только положение границы ордовика и силура (Antoshkina, 2008), но и выявить седиментационный индикатор завершающей хирнантской фазы позднеордовикского Гондванского оледенения. Разрез хирнанта представлен толщей вторичных доломитов мощностью 120–160 м, заключенной между верхнекатийской яптикшорской свитой и рудданско-нижнеаэронской ручейной свитой, развитой на правом и левом берегах р. Кожым. В составе хирнантского яруса были выделены бадъяшорская и каменнобабская свиты (Антошкина, 2010), отличные не только по составу, но и по условиям образования. Бадъяшорская свита мощностью до 60 м сложена серыми, до темно-серых, доломитовыми брекчиями массивно-слоистого сложения. Свита выделяется резкой неоднородностью строения и внешне сходным с подстилающими породами составом обломочного материала. Нижняя неровная (эрозионного типа) граница бадъяшорской свиты с яптикшорской осложнена трещиноватостью и брекчированием. Граница с вышележащей каменнобабской свитой имеет эрозионный характер с карманами глубиной до 12–15 см (рисунок, А). Литологические исследования нижнехирнантских седиментационно-диагенетических доломитовых брекчий бадъяшорской свиты показали, что их формирование шло в несколько этапов (Антошкина, 2011). Размер обломков в брекчиях колеблется от первых сантиметров до нескольких десятков сантиметров (рисунок, В). Отмечается новообразованный морской вадозный цемент, характеризующий суба- Типы пород хирнантского яруса, Приполярный Урал, р. Кожым, район руч. Бадъяшор 18 А – эрозионная граница брекчий бадъяшорской свиты и массивных доломитов каменнобабской свиты, обн. 74, правый берег; Б – граница светло-серых массивных доломитов каменнобабской свиты (фации отмели) и темно-серых доломитов рудданского яруса силура (фации глубокой сублиторали), там же; В – выходы седиментационно-диагенетических брекчий в основании каменнобабской свиты, обн. 76, левый берег; Г – разнокристаллический доломит со скоплениями несортированных фрагментов мшанок, подчеркнутых черным органическим веществом, обн. 74 Материалы III Всероссийского совещания эрально-супралиторальные обстановки, что может свидетельствовать о формировании брекчий в условиях крайнего обмеления. Проведенные спектроскопические исследования показали, что в поздних генерациях цемента, наряду с привносом ионов железа и марганца, обнаруживается частичное наследование примесных составов катионной и анионной подрешеток карбонатов. Полученные данные говорят об автохтонном образовании карбонатных брекчий, их неодиагенетической цементации в относительно мелководных условиях, где воздействие континентального сноса весьма ощутимо, а также о последовательности неоморфных преобразований. Перекрывающие серые и светло-серые массивные доломиты каменнобабской свиты мощностью до 60 м сложены грубо-слоистыми доломитами с комковато-бугристой отдельностью и пятнистыми текстурами. Развиты теневые биогермные (микробиальные, строматолитоподобные, микробиально-коралловые), биоморфные (коралловые) и биокластовые структуры (рисунок, Г). Обломочные разности наблюдаются в виде разной формы участков и линзовидных скоплений. Практически чисто карбонатный состав (н.о. от 0,7 до 1,76 %) вместе с цветом, массивностью и присутствием биогермных разностей доломитов свидетельствует о формировании этих отложений в условиях отмели на окраине шельфа. В верхних слоях свиты разрез характеризуется отчетливо выраженной массивной плитчатостью и распространением поверхностей размывов с карманами, заполненными мелким обломочным материалом. Резкая трансгрессивная граница с илово-мелкобиокластовыми доломитами свидетельствует о фациях глубокой сублиторали в условиях карбонатной рампы (рисунок, Б). Наличие теневых биокластовых, микробиальных, сгустковых, комковатых и обломочных структур в доломитах бадъяшорской и каменнобабской свит является признаком наложенной доломитизации. Примазки черного органического вещества в межзерновом пространстве всех компонентов пород и в парастилолитах говорят о его приуроченности к более поздним тектоническим процессам, связанным с формированием складчатого сооружения Урала. Наложенные тектонические процессы отчетливо выражены в разнонаправленной трещиноватости, присутствии участков брекчирования слоев и в почти вертикальном залегании пород. Известно, что значения изотопного состава углерода и кислорода несут в себе информацию об условиях формирования осадочной породы. Изотопные исследования карбонатов в бадъяшорских брекчиях проводились в пробах из обломков разного состава, заполнителя и цемента. Полученные данные показали резкие вариации отношений изотопов не только в разных компонентах одной породы, но и между одними компонентами в разных образцах по разрезу. Колебания изотопного состава углерода в обломках колеблется от –2,6 до 1,8 ‰, в заполнителе – от 0,8 до 1,9 ‰, в цементах от –0,2 до 1,8 ‰, а кислорода, соответственно 21,4–25,7, 22,3–25,1 и 18,4–26,1 ‰. Во многих случаях по разрезу отмечаются закономерные изменения изотопного состава углерода и кислорода, которые выражены в синхронных экскурсах величин δ13C и δ18O как в положительную, так и в отрицательную стороны. В этом отношении наиболее значимое событие приурочено к границе катийского и хирнантского ярусов. На этом рубеже отмечается существенное облегчение изотопного состава углерода (от 0,3 до –2,6 ‰) и кислорода (от 26,1 до 23,5 ‰), т. е. верхнекатийские (яптикшорские) отложения в целом характеризуются более тяжелым изотопным составом углерода и кислорода по сравнению с вышележащими нижнехирнантскими (бадъяшорскими брекчиями). Вероятнее всего, это обусловлено резкой сменой условий седиментации, которые отразились на изотопном составе и выразились в составе пород. Глинисто-карбонатные отложения глубокой сублиторали (в условиях гумидизации климата) с морскими условиями седиментации сменились преимущественно крайне мелководным карбонатным осадконакоплением (в раннем хирнанте на фоне, видимо, общего похолодания и региональной аридизации климата). Изменения литологического и изотопного состава в хирнантских разрезах из разных регионов мира иногда существенно различаются (Brenchley, 2004). Изменение литофаций и изотопные данные от основания до кровли хирнанта в хорошо изученных пограничных ордовикско-силурийских отложениях в Копенгагенском Каньоне, Неваде, США свидетельствуют об углублении в верхней части зоны persculptus. Напротив, самый верхний горизонт Эллис Бэй формации на о. Антикости, Квебек характеризуется обмелением до конца хирнанта, как и в горизонте поркуни в Эстонии (Kaljo et al., 2004). Разрез хирнантской формации Косов в Баррандиенском бассейне Чехии начинается с резкой регрессии, сменяющей фации сублиторали в позднем катии, и характеризуется появлением наиболее ранней хирнантской фауны, отражающей похолодание (Mergl, 2011). Седиментационные данные по хирнантским отложениям свидетельствуют об изменении уровня моря, которое существенно отличается в разных регионах. Так, в разрезах Припо- 19 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео20 лярного Урала наблюдается отчетливая регрессия в раннем хирнанте, сменяющаяся повышением уровня моря в позднем. Для самых пограничных с силуром отложений характерно отчетливое обмеление, которое сменяется резкой силурийской трансгрессией. Согласно Baarli et al. (2003), все области шельфов на палеоконтиненте Балтика были затронуты рудданским повышением уровня моря после отступления последних ордовикских ледников в Сев. Африке и Юж. Америке. Подобно разрезам Приполярного Урала, в Большом Бассейне США выше эрозионной границы ордовика–силура накапливались руддан-аэронские рамповые осадки (Harris, Sheehan, 1996). Антошкина А.И. Генетические типы карбонатных псефитолитов нижнего палеозоя севера Урала: II. Типы, модели и особенности формирования // Литосфера. 2011. № 3. – С. 39–49. Антошкина А.И. Сохранение разрезов палеозоя р. Кожым на Приполярном Урале как объекта Всемирного геологического наследия // Современное состояние и перспективы развития особо охраняемых территорий европейского Севера и Урала: Материалы докл. на Всерос. конф. – Сыктывкар: Коми НЦ УрО РАН, 2011. – С. 15–19. Antoshkina A. Late Ordovician-Early Silurian facies development and environmental changes in the Subpolar Urals // Lethaia. 2008. Vol. 41. – Р. 163–171. Baarli B.G., Johnson M.E., Antoshkina A.I. Silurian Stratigraphy and Paleogeography of Baltica / Landing E., Johnson M.E. (eds) // Silurian Lands and Seas. Paleogeography Outside of Laurentia. – New York State Museum Bulletin, 2003. Vol. 493. – P. 3–35. Brenchley P.J. Chapter 9. End Ordovician Glaciation / Webby B.D., Paris F., Droser M.L., Percival I.G. (eds) // The Great Ordovician Biodiversification Event. New York: Columbia University Press, 2004. – P. 81–83. Harris M.T., Sheehan P.M. Upper Ordovician-Lower Silurian depositional sequences determinated from middle shelf sections, Barn Hills and Lakeside Mountains, eastern Great Basin // Geological Society of America, Special Paper. 1996. Vol. 306. – P. 161–176. Kaljo D., Hints L., Martma T. et al. Late Ordovician carbon isotope trend in Estonia, its significance in stratigraphy and environmental analysis // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2004. Vol. 210. – P. 165–185. Mergl M. Earliest occurrence of the Hirnantia Fauna in the Prague Basin (Czech Republic) // Bulletin of Geosciences. 2011. Vol. 86 (1). – P. 63–70. Е.В. Антропова ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТРОМАТОПОРОИДЕЙ ОТРЯДА CLATHRODICTYIDA В СИЛУРЕ ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА Начало изучения палеозойских строматопороидей на Урале положено работами В.Н. Рябинина (1939) и В.И. Яворского (1965), которыми было описано значительное количество видов и родов из силурийских отложений. Дальнейшие изучения, проводимые О.В. Богоявленской (1965, 1973), показали, что строматопороидеи широко распространены в силурийских отложениях Урала и нередко являются породообразующими. На Приполярном Урале из всех отрядов строматопороидей наиболее распространены представители отряда Clathrodictyida, которые в силуре имеют широкое стратиграфическое и географическое распространение. Например, в количественном отношении строматопороидеи отряда Clathrodictyida на Приполярном Урале составляют до 90 % отобранных силурийских образцов (Антропова, 2011). Строматопороидеи, принадлежащие к отряду Clathrodictyida, отличаются, прежде всего, ламинарным строением. Ламины – их основные горизонтальные элементы. Это тонкие, параллельные друг другу и концентрические пластинки. Строение ламин в скелетных постройках представителей разных родов значительно отличается. Например, у родов Ecclimadictyon и Plexodictyon ламины шевронообразно изогнуты, образуют каркасные этажи. У рода Clathrodictyon ламины ровные, прямые, но, в свою очередь, могут быть мелкоизогнутыми, мелковолокнистыми. Отряд Clathrodictyida включает пять семейств: Clathrodictyidae, Actinodictyidae, Gerronostromatidae, Atelodyctyidae, Tienodictyidae. Из них в силуре Приполярного Урала широко распространены только первые два, которые рассматриваются ниже. Здесь и далее применяется классификация строматопроидей, разработанная К. Стирном, Б. Уэбби, Х. Нестором, К. Стокком в 1999 г. (Stearn et al., 1999). Распространение видов строматопороидей отряда Clathrodictyida в силуре Приполярного Урала Материалы III Всероссийского совещания Семейство Clathrodictyidae Kuhn 1939, род Clathrodictyon Nicholson et Murie, 1878. Ценостеумы массивные, пластинчатые. Внутренняя структура пузырчато-ламинарного строения. Скелет сложен инфлексионами, выпуклыми или уплощенными. Галереи иногда с диссептиментами. Астроризы чаще всего рассеянные, редко группируются в вертикальные системы. Род представлен четырьмя видами: Clathrodictyon variolare (Rosen) (граница лландовери и венлока), С. tschusovensis Yavorsky (венлок), C. lennuki Nestor (лландовери) и C. mohicanum Nestor (верхний лудлов). Семейство Clathrodictyidae Kuhn 1939, род Stelodictyon Bogoyavlenskaya, 1969. Ценостеумы массивные. Каркас образован выпрямленными инфлексионными ламинами. Инфлексоны полые с заостренным основанием, в процессе роста расширяются кверху. Астроризы со слабым развитием боковых каналов. Род Slelodictyon представлен пятью видами: Slelodictyon prodigale Bogoyavl. (верхи лландовери), S. moieroense Nestor (венлок), S. crassum Bogoyavl. (низы лудлова), S. arcuatum Bogoyavl. (низы лудлова) и S.inguum Bogoyavl. (низы лудлова). Семейство Actinodictyidae Khalfina et Yavorsky, 1973, род Actinodictyon Parks 1909. Ценостеумы массивные, пластинчатые. Скелет состоит из субвезикулярных пластинок или инфлексионных ламин, которые пересекаются столбиками второго порядка. Астроризальные образования редуцированные. Род Actinodictyon представлен двумя видами: Actinodictyon neptuni Parks (венлок, низы лудлова) и A. crispatum Petryk (венлок). Семейство Actinodictyidae Khalfina et Yavorsky, 1973, род Ecclimadictyon Nestor, 1964. Ценостеумы уплощенной, пластинчатой, иногда цилиндрической формы. Скелет представляет собой сложный каркас, образованный шевронообразными ламинами без образования столбиков. Астроризальные системы небольшие, астроризы часто рассеянного типа. Род Ecclimadictyon наиболее представителен в силуре Приполярного Урала и включает 15 видов: Ecclimadictyon geniculatum Bogoyavl., E. robustum Nestor (верх. венлок, ниж. лудлов), E. magnum 21 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео22 Nestor (венлок), E. porkuni (Riabinin) (лландовери), E. nikitini (Riabinin) (низы лландовери), E. explanatum Bogoyavl. (венлок), E. fastigiatum (Riabinin), E. quasifastigiatum Bogoyavl. (верх. лудлов, пржидол), E. nikiforovae (Riabinin) (венлок и основание лудлова), E. plumatum Bogoyavl. (верхи лландовери), E. microvesiculosum (Riabinin) (лландовери), E. tchernovi (Riabinin) (верхний венлок), E. faveolatum Antropova (граница венлока и лудлова), E. kirgisicum (Riabinin), (верх. венлок, слои с Megalomus), E. cylindriforme (Riabinin) (лудлов, пржидол). Семейство Actinodictyidae Khalfina et Yavorsky, 1973, род Plexodictyon Nestor, 1966. Ценостеумы массивные. Скелет сложен шевронообразно изогнутыми ламинами, образующими диагональный каркас. Каждые несколько структурных этажей пересекаются прямыми дополнительными элементами – параламинами, которые могут выклиниваться. Астроризальные образования развиты слабо, в ряде случаев и вовсе отсутствуют. Род Plexodictyon представлен несколькими широко распространенными видами: Plexodictyon vaigatsghense (Yavorsky) (верхний силур), P. savaliense (Riabinin) (верхняя часть лудлова), P. latilaminatum (Bogoyavl.) (лудлов). Стратиграфическое распространение рассмотренных видов указано на рисунке. Таким образом, представители отряда характеризуют в разной степени весь разрез силура Приполярного Урала. До настоящего времени остается нерешенным вопрос о географическом распространении и толерантности к условиям окружающей среды строматопороидей ламинарного строения. Отряд Clathrodictyida отличается от других строматопороидей ярко выраженной эврифациальностью. Именно клатродиктииды первыми осваивали пригодные для жизни территории бассейна после глобальных событий и выживали после биоценотических перестроек (Богоявленская, 1965; Большакова, 1973). Существенное отличие ламинарных строматопороидей состоит в длительном периоде их существования с минимальными изменениями морфологического строения. Видовые группы отряда Clathrodictyida эврифациальны, что дает возможность использовать их для целей стратиграфии, чему способствует также их космополитичность. Антропова Е. В. Закономерности развития строматопороидей силура севера Урала // Биогеология, эволюция и биоразнообразие в геологической истории Тимано-Североуральского региона, моделирование палеоэкосистем, палеонтологические и стратиграфические корреляции. – Сыктывкар: Геопринт, 2011. – С. 29–41. Богоявленская О. В. Представители строматопор из Clathrodictiidae и Аctinostromatidae в силуре и девоне Урала // Палеонтологический журнал. 1965. № 1. – С. 39–43. Богоявленская О. В. Силурийские строматопороидеи Урала. – М.: Наука, 1973. – 98 с. Большакова Л. Н. Строматопороидеи силура и нижнего девона Подолии. – М.: Наука, 1973. – 135 с. Рябинин В. Н. Палеозойские строматопороидеи Печорского края и Приуралья. – Л.–Архангельск–М., 1939. – 85 с. Яворский В. И. Некоторые силурийские и девонские строматопороидеи Печорского бассейна // Биостратиграфический сб. Вып. 1. – Л., 1965. – С. 218–248. (Тр. ВСЕГЕИ. Нов. серия. Т. 15). Stearn C. W., Webby B. D., Nestor H., Stock C. W. Revised classification and terminology of Palaeozoic stromatoporoids // Acta palaentologica polonica. 1999. Vol. 44. No. 1. – P. 1–70. А.Л. Анфимов ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ИЗВЕСТКОВЫХ ВОДОРОСЛЕЙ РАННЕГО И СРЕДНЕГО ДЕВОНА УРАЛА Состав известковой раннедевонской альгофлоры в наиболее полных разрезах нижнего девона на восточном склоне Северного Урала не отличается большим разнообразием. В известняках сарайнинского горизонта лохковского яруса здесь распространены цианобактерии Renalcis Vologdin, Izhella Antrop., Girvanella Nicholson et Etheridge, Rothpletzella Wood, Hedstroemia Rothpletz., известные и в более древних силурийских породах (Лучинина, 1987; Чувашов, Шуйский, 1988). В карбонатных породах вышележащего саумского горизонта помимо упомянутых цианобактерий появляются редкие зеленые водоросли Lancicula Maslov, Scasyporella Shuysky, сем. Lanciculaceae Shuysky, Praelitania Shuysky, Ampulipora Shuysky сем. Dimorphosiphonaceae Материалы III Всероссийского совещания Сводная стратиграфическая колонка девонских пород Ивдельского района. Составлена с использованием материалов из Стратиграфических схем Урала, 1993 Shuysky, Thibia Shuysky, Wetheredella Wood, сем. Seletonellaceae Korde и Wetheredellaceae Vashard (Шуйский, 1987). Этот этап можно назвать началом массового развития зеленых водорослей. В нижней части пражского яруса в известняках вижайского горизонта встречаются многочисленные зеленые водоросли сем. Lanciculaceae Shuysky (Lepidolancicula Shuysky, Quasilancicula Shuysky, Lanciculella Shuysky) и Dasycladaceae (Kuizing) (Issinella Reitlinger, Scasyporella Shuysky, Dasyporella Stolley, Litopora Johnson), менее развиты представители сем. Dimorphosiphonaceae 23 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео24 Shuysky (Стратиграфические схемы Урала, 1993). Одновременно появляются красные водоросли Paralancicula Shuysky и Demidella Shuysky сем. Demidellaceae Tchuvashov (Чувашов, 1987). Помимо разрезов Восточного склона Северного Урала, богатый комплекс одновозрастной альгофлоры известен в разрезе на р. Серга, западный склон Среднего Урала (Шуйский, 1973). Этот этап соответствует расцвету зеленых водорослей. Карбонатные породы верхней части пражского яруса (тошемский горизонт) характеризуются стабилизацией видового и родового разнообразия известковой альгофлоры; темпы появления новых видов замедляются, более того, наблюдается вымирание ряда цианобактерий и красных водорослей. В разрезах Североуральского и Ивдельского районов в это время отмечен стратиграфический перерыв, фиксируемый в разрезах залежами бокситов (рисунок). Эмсская трансгрессия во второй половине раннего девона привела к ускорению темпов родо- и видообразования. В карпинское время во многих разрезах распространяются пред­ставители зеленых водорослей сем. Dasycladacea (Kutzing): Parmiella Schirschova, Ulocladia Shuysky et Schirschova, Ivdelipora Shuysky et Schirschova, Rotella Shuysky et Schirschova. Появляются и новые рода сем. Lanciculaceae Shuysky: Bijagodella Tchuvashov, Botryella Shuysky, Circella Schirschova. Так же, как и в тошемское время, наблюдается вымирание ряда цианобактерий (Flabelia ufensis, F. basifixa), зеленых водорослей семейства Lanciculaceae Shuysky (Lancicula Maslov, Quasilancicula Shuysky), красных водорослей (Paralancicula Shuysky). В разрезах Севе­ роуральского района впервые появляются харовые водоросли (Sycidium Sand.) и зеленые сегментированные водоросли сем. Palaeoberesellaceae Mamet et Roux (Palaeoberesella Mamet et Roux). Максимум эмсской трансгрессии, приходящийся на тальтийское время, оказался неблагоприятным для развития известковой альгофлоры Урала. Исчезают 4 рода зеленых водорослей сем. Lanciculaceae Shuysky, 5 родов сем. Lanciculaceae Shuysky, 8 родов сем. Dasycladaceae (Kuizing), 2 рода цианобактерий. В это время появляется небольшое количество новых форм зеленых водорослей: Funiculus venosus, Rhabdoporella digitula, Kamaena ex. gr. delicata. Последний из упомянутых видов относится к сегментированным зеленым водорослям, преобладающим в составе зеленых водорослей в фаменский век. В среднем девоне на западном склоне Среднего и Южного Урала проявились предафонинский и предпашийский перерывы в осадконакоплении, на восточном склоне Северного и Среднего Урала – синхронные предлангурский и предбродовский стратиграфические перерывы, что явилось следствием регрессии морского бассейна, снижения скорости карбонатного осадконакопления и соответственно сокращения мощностей карбонатных пород в разрезах (рисунок). В составе эйфельской известковой альгофлоры наблюдается снижение видового разнообразия водорослей в 4–5 раз; количественно преобладают зеленые водоросли сем. Dimorphosiphonaceae Shuysky (Parabacella subrina, Dimorphosiphon remotus, Funiculus venosus), а также сифонокладовые водоросли сем. Beresellaceae Maslov et Kulik (Calcicaulis vesiculosum, Catenella curvata) и сем. Palaeoberesellaceae Mamet et Roux (Kamaena ex. gr. delicate). Крайне немногочисленны в разрезах ранее широко распространенные зеленые водоросли сем. Dasycladaceae (Kutzing), красные водоросли и цианобактерии. В известняках высотинского горизонта живетского яруса уже не наблюдаются зеленые водоросли Praelitanaia anulata, Parabacella subrina, Funiculus venosus, Rhabdoporella digitula. Здесь отмечены редкие цианобактерии Girvanella maslovi, Rothpletzella devonica, зеленая сегментированная водоросль Kamaena ex. gr. delicata. В конце среднего девона регрессия морского бассейна достигает максимума, карбонатное осадконакопление сменяется терригенным и карбонатно-терригенным (пашийский горизонт), имеет место широко проявившийся предпашийский перерыв. Это привело к отсутствию в разрезах ранее упомянутых водорослей, за исключением гирванелл и ротплетцелл, и широкому распространению остатков харовых водорослей Umbella bella, Planoumbella effusa, Kusiella fruticosa, Sycidium sp. Исследования выполнены при финансовой поддержке инициативного проекта УрО РАН № 12-У-5-1021 и совместного проекта УрО РАН 12-С-1032. Лучинина В.А. Сине-зеленые водоросли (Cyanophyta) // Ископаемые известковые водоросли. – Новосибирск: Наука, 1987. – С. 12–37. (Труды Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР. Вып. 674). Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). Девон. Западный склон Урала: Лист 1-14. Восточный склон Урала: Лист 1-16. Западный склон Урала: Лист 1-14. Восточный склон Урала: Лист 1-16. – Екатеринбург: Уралгеолком, 1993. Чувашов Б.И. Красные водоросли (Rhodophyta). – Новосибирск, 1987. – С. 109–139. (Труды Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР. Вып. 674). Чувашов Б.И., Шуйский В.П. Стратиграфические и фациальные комплексы известковых водорослей палеозоя Урала // Известковые водоросли и строматолиты (систематика, биостратиграфия, фациальный анализ). – Новосибирск: Наука, 1988. – С. 98–125. Шуйский В.П. Зеленые водоросли (Chlorophyta). – Новосибирск, 1987. – С. 38–108. (Труды Ин-та геологии и геофизики СО АН СССР. Вып. 674). Шуйский В.П. Известковые рифообразующие водоросли нижнего девона Урала. – М.: Наука, 1973. – 156 с. М.П. Арефьев, В.Н. Кулешов Негативный экскурс δ13С вблизи границы перми и триаса используется в настоящее время как маркер позднепермского биотического события (Takahashi et al., 2010; Hermann et al., 2010 и др.). В ряде разрезов по нему проводится граница перми и триаса как в морских, так и в континентальных сериях (Retallack et al., 2005). При этом в международном стратотипе границы перми и триаса в разрезе Мейшань негативный экскурс δ13С установлен ниже подошвы триаса, которая проведена по появлению конодонтов Hindeodus parvus (Hongfu et al., 2001). На территории Восточно-Европейской платформы изучение изотопного состава углерода и кислорода карбонатов на рубеже перми и триаса до последнего времени почти не проводились. Системные исследования авторов настоящего сообщения охватили всю территорию Московской синеклизы и стратиграфический интервал от средней части северодвинского яруса до верхнего оленека. Пермская часть разреза в регионе представлена алевро-пелитовыми отложениями с крупными песчаными линзами аллювиального генезиса и маломощными карбонатными пачками. Триасовая часть, за исключением раннеоленекских морских оолитовых известняков в западной части региона, сложена исключительно алевро-пелитовыми и песчаными породами. В изученных разрезах были проанализированы разные типы карбонатов и карбонатных пород: осадочные, почвенные, карбонат раковин остракод и моллюсков. Наиболее отчетливые изотопные тренды в разрезах были выявлены по остракодам и почвенным карбонатам. В основной части пермского разреза изотопный состав углерода в раковинах остракод показал колебания значений δ13С от –0,4 до 1,9 ‰ (рисунок). На уровне терминальной перми в вязниковских отложениях было зафиксировано резкое снижение этих величин до –7,4 ‰. Негативный экскурс был выявлен в разрезе Соковка под г. Вязники (обр. 143/1-2) и во флороносной линзе в районе Окского съезда в г. Н. Новгород (обр. 204, Карасев и др., 2012). Точных данных, указывающих на стратиграфический возраст данной флороносной линзы, нет. Но ясно, что она расположена между тетраподовыми зонами Chroniosuchus paradoxus и Archosaurus rossicus и может соответствовать вязниковскому уровню. Остракоды вохминской свиты от недубровских до краснобаковских слоев показали колебания значений δ13С от –6,7 до –3 ‰. Следовательно, отрицательный экскурс значений δ13С в остракодах фиксируется на вязниковском уровне, где отмечен самый легкий изотопный состав углерода. В почвенных карбонатах резкое падение значений δ13С отмечено также в верхней части вятского яруса. В разрезе между деревнями Аристово и Балебиха на правом берегу Малой Сев. Двины первый негативный экскурс был выявлен на уровне вреза Аристовской линзы (рисунок, 42А/6). Данная линза соответствует зоне Chroniosuchus paradoxus середины вятского яруса. Однако выше в данном разрезе фиксируется второй негативный экскурс по углероду (обр. 42F/3), который расположен выше уровня вреза второй крупной песчаной линзы. Более ярко облегчение изотопного состава углерода на данном уровне было выявлено в соседнем разрезе на р. Юг в районе устья р. Луза. Здесь уровень вреза крупной песчаной линзы Пашина Гора приблизительно соответствует уровню вреза второй линзы в Аристово. В палиноспектре, выделенном из линзы Пашина Гора, были установлены споры и пыльца Calamospora sp., Laevigatosporites sp., Lophotriletes sp., Disaccites sp., Cedripites sp., Cordaitina sp., Crucisaccites sp., Vittatina sp., Weylandites sp., Limitisporites sp., Striatites sp., Junctella sp. (определения О.П. Ярошенко), отмеченные в вятском комплексе Vittatina connectivalis – Cedripites priscus (Гоманьков, Материалы III Всероссийского совещания КОРРЕЛЯЦИЯ ПОГРАНИЧНЫХ ПЕРМО-ТРИАСОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ С РАЗРЕЗОМ МЕЙШАНЬ ПО ИЗОТОПНОМУ СОСТАВУ УГЛЕРОДА 25 26 и биособытия 1 – гравелит и конгломерат; 2 – песок; 3 – алеврит; 4 – глина и алевритовая глина; 5 – мергель; 6 – известняк; 7 – педогенные нодули и конкреции; 8 – глеевые пятна. В разрезе Мейшань: 9 – белый известняк; 10 – темноцветный известняк с черными обломками; 11 – темно­ цветный мергель; 12 – темноцветный мергель; 13 – пепловый горизонт Распределение величин δ13С в карбонатах остракод и в почвенных карбонатах в изученных разрезах и корреляция пограничных отложений перми и триаса Московской синеклизы со стратотипическим разрезом Мейшань (юго-восточный Китай) Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Афонин С.А. Позднепермский палинологический комплекс окрестностей г. Вязники: стратиграфическое и палеоэкологическое значение // Палинология: теория и практика: Материалы XI Всерос. палинологич. конф. – М.: ПИН РАН, 2005 – С. 13–14. Гоманьков А.В., Ярошенко О.П. Споры и пыльца // Граница перми и триаса в континентальных сериях Восточной Европы / Отв. ред. В.Р. Лозовский, Н.И. Есаулова. – М.: ГЕОС, 1998. – С. 113–126. Карасев Е.В., Сенников А.Г., Голубев В.К. Новое местонахождение растительных остатков из верхней перми в районе Окского съезда (г. Нижний Новгород): Тез. докл. Междунар. конф., посвященной 100-летию В. А. Вахрамеева (1912–1986). 1–3 февраля 2012 г., ГИН РАН. – М.: ГЕОС, 2012. – С. 27. Hermann E., Hochuli P.A., Bucher H. et al. A close-up view of the Permian–Triassic boundary based on expanded organic carbon isotope records from Norway (Trndelag and Finnmark Platform) // Global and Planetary Change. 2010. Vol. 74. – P. 156–167. Hongfu Y., Kexin Z., Jinnan T. et al. The Global Stratotype Section and Point (GSSP) of the Permian-Triassic Boundary // Episodes. 2001. Vol. 24. N 2. – P. 102–114. Retallack G.J., Jahren A.H., Sheldon N.D. et al. The Permian – Triassic boundary in Antarctica // Antarctic Science. 2005. Vol. 17. N 2. – Р. 241–258. Takahashi S., Kaiho K., Oba M., Kakegawa T. A smooth negative shift of organic carbon isotope ratios at an end-Permian mass extinction horizon in central pelagic Panthalassa // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2010. Vol. 292. – P. 532–539. О.В. Артюшкова, В.А. Маслов Материалы III Всероссийского совещания Ярошенко, 1998) и в вязниковских отложениях в разрезе Соковка (Афонин, 2005). То есть палинологический материал допускает присутствие вязниковских отложений на данном уровне. В основной части разреза в районе устья р. Луза значения δ13С в педогенных карбонатах колеблются от –4,7 до –1 ‰. Выше уровня вреза линзы Пашина Гора значение δ13С составило –8 ‰ (обр. 161/1-9). Еще выше изотопный состав углерода утяжеляется, но в целом величины δ13С остаются меньше, чем в основной пермской части. В вохминской свите в бассейне р. Юг они в целом ниже –5 ‰. Таким образом, отрицательный экскурс δ13С в педогенных карбонатах в бассейнах рек Малая Сев. Двина и Юг также может соответствовать вязниковскому уровню. Выявленный негативный экскурс в вязниковских отложениях может быть скоррелирован с подобным экскурсом на уровне слоев 25–26 GSSP в разрезе Мейшань (Hongfu et al., 2001; Takahashi et al., 2010). Однако во многих морских разрезах мира данный уровень не совпадает с появлением конодонтов Hindeodus parvus, что неоднократно отмечалось разными авторами. По всей видимости, установленный негативный экскурс δ13С в континентальных отложениях Московской синеклизы не соответствует границе перми и триаса, которая может проходить на разных уровнях в ОСШ России и в МСШ. Уровень падения δ13С может являться маркером последнего позднепермского биотического события, которое предшествовало появлению триасовых конодонтов Hindeodus parvus. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ДЕВОНА ЮЖНОГО УРАЛА В иерархии местных стратиграфических подразделений свиты являются основной картируемой таксономической единицей (Стратиграфический Кодекс, 1977, 1992, 2006). Одним из определяющих критериев для выделения того или иного местного стратона в ранге свиты являются его нижняя и верхняя границы. В практике геологического картирования на территориях с широким развитием вулканогенных и вулканогенно-осадочных отложений, обычно имеющих чрезвычайно варьирующий фациальный облик, расчленение образований с выделением стратонов в ранге свит бывает крайне затруднено. Поэтому для разбивки отдельных стратиграфических интервалов при картировании обычно используются вспомогательные местные стратиграфические подразделения: толщи и маркирующие горизонты. На восточном склоне Южного Урала, в частности в Магнитогорской мегазоне, несмотря на хорошую геологическую изученность, ситуация с расчленением и корреляцией разнофациальных отложений весьма затруднена. Особенно это характерно для районов со сложным гео- 27 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео28 логическим строением и широким проявлением разрывной тектоники. В подобных районах при геологических съемках исследователи были вынуждены выделять толщи, количество которых в пределах одного планшета иногда было несообразно большим. За неимением фаунистических остатков в них и невозможности проследить фациальные переходы вулканитов в «удаленные» фации стратиграфическое положение и корреляция выделяемых стратонов определялись главным образом на данных вещественного состава произвольно и во многих случаях ошибочно. Выделение в свое время маркирующих горизонтов в разрезе девона Магнитогорской мегазоны, к каковым принадлежали мукасовский (черные кремни) и бугулыгырский (вишневые яшмы) горизонты, сыграло важную роль в понимании стратиграфической принадлежности подстилающих и перекрывающих отложений, и до 1980-х годов они широко использовались при составлении геологических карт различного масштаба. Однако еще в «доконодонтовый» период в 1970–80-е годы появились факты, свидетельствовавшие о том, что кремнистый горизонт – мукасовский, принимаемый на всей территории как эталон геохронологической границы в основании франа, на самом деле имеет более молодой возраст, а в некоторых разрезах кремни залегают на разных стратиграфических уровнях (Маслов, 1969, 1980; Казанцева и др., 1975). Последующими биостратиграфическими исследованиями по детальному послойному изучению кремнистых толщ в разрезе девона Западно-Магнитогорской зоны на основе конодонтов удалось доказать правомерность ряда предположений и пересмотреть расчленение и корреляцию одновозрастных девонских отложений. Поясним этот тезис на примере мукасовского «горизонта». Впервые данный стратон был выделен Л.С. Либровичем (1936) в Кизило-Уртазымской синклинали. В стратотипической местности он представлен кремнями черного и темно-серого цветов мощностью до 50 м. Л.С. Либрович подчеркивал фациальную устойчивость этого стратона и полагал, что он занимает стратиграфическое положение на рубеже живетского и франского ярусов в основании колтубанской свиты. На основании этих критериев и выдержанного распространения кремнистой толщи на значительные расстояния она и предлагалась в качестве маркирующей. Однако при составлении карт крупного и среднего масштабов в районах к северу и к западу от стратотипа в вулканомиктовой толще пограничных живетско-франских отложений было выявлено несколько мощных пачек кремней (до 30–40 м) совокупной мощностью до 800 м. Наиболее мощные пачки залегают в нижней и верхней частях этой толщи. Стратиграфическую принадлежность пачек кремней определяли таким образом: выделяли нижнюю кремнистую толщу живетского (нижняя мукасовская – Нестоянова, 1946; карантауская – Ковалев, Иконникова, 1945; Смирнов и др., 1974) или раннефранского (Ленных, Шумихин, 1960) возраста и верхнюю мукасовскую толщу раннефранского или фаменского возраста (Нестоянова, 1946; Ленных, Шумихин, 1960). Для решения задачи возрастной принадлежности кремнистых пачек в разрезе девона и выяснения стратиграфического объема мукасовской толщи были изучены конодонты в ее стратотипическом разрезе. Собранные конодонты в первую очередь в основании и в кровле толщи позволили сделать вывод о том, что она занимает стратиграфический интервал, соответствующий четырем конодонтовым зонам: punctata – rhenana (Маслов, Артюшкова, 2000, 2002, 2010). Параллельно послойно были изучены все кремнистые толщи, отнесенные ранее к мукасовскому горизонту. Все они получили конодонтовую характеристику. Стало ясно, что нет нижней и верхней мукасовской толщ, а составляющие их кремнистые пачки входят в состав единого стратона, который фациально меняется к северу от стратотипа. Наряду с кремнями в нем начинают преобладать вулканомиктовые обломочные образования. Одновременно увеличивается его мощность. Нижняя кремнистая пачка, как в стратотипе, содержит конодонты, характерные для среднефранской зоны punctata, а самые верхние кремни охарактеризованы комплексом конодонтов из зоны Upper rhenana верхнего франа. Стало возможным придать мукасовской толще ранг свиты. По конодонтам было выяснено, что литологически не отличимые от мукасовского кремнистые горизонты имеют разный возраст. Так, в Вознесенско-Присакмарской зоне, где черные кремни, картировавшиеся как мукасовский горизонт, подстилают зилаирскую свиту, в районе д. Ишкильдино они содержат многочисленные нижнедевонские конодонты и должны относиться к мазовской свите. Имеются разрезы, где кремни небольшой мощности (30–40 м), также принимавшиеся за мукасовский горизонт, на самом деле содержат конодонты, характерные для эйфеля (гора Турат, д. Юша). Кроме того, кремнистая толща мощностью 150–250 м, охарактеризованная конодонтовыми комплексами, составляющими полную последовательность от нижнего эмса до нижнего франа (актауская свита), сменяется полным разрезом кремней мукаса (Маслов, Артюшкова, 2010). Таким образом, изучение конодонтов в черных и серых кремнях показало, что кремни могут соответствовать не только мукасовскому горизонту франского яру- Материалы III Всероссийского совещания са, но и заключать в себе продолжительный более древний интервал. Поэтому считать кремни маркерами конкретного стратиграфического уровня было бы большой ошибкой. Не менее интересные выводы из определений конодонтов получены нами из вишневых яшм «бугулыгырского маркирующего горизонта». Считалось, что он занимает стратиграфическое положение выше вулканитов различной формационной принадлежности (карамалыташская и ирендыкская свиты) и маркирует основание вышележащей улутауской свиты живетского возраста. Известны разрезы, где вишневые яшмы и сменяющая их улутауская свита залегают на более древних вулканитах баймак-бурибайской свиты, что интерпретировалось как несогласное залегание с перерывом (Захаров и др., 1972). Изучение конодонтов из яшмового горизонта, перекрывающего карамалыташскую и ирендыкскую свиты, и из всех яшмовых прослоев, которыми расслаиваются базальты карамалыташской свиты, позволило разрешить несколько важных геологических задач. Во-первых, было определено, что карамалыташская свита не является фациальным аналогом верхов ирендыкской свиты. Она вместе с венчающей ее яшмовой толщей (бугулыгырской) полностью соответствует яшмовой толще, перекрывающей ирендыкскую свиту (Маслов и др., 1988; Маслов, Артюшкова, 2002). Яшмовая толща, залегающая на ирендыкской свите, преставляет собой удаленную фацию базальтов карамалыташа. Мощность ее колеблется в диапазоне от нескольких метров до 100–120 м. Установленный стратиграфический объем карамалыташской свиты и синхронной ей конденсированной яшмовой толщи, перекрывающей ирендык, равен двум конодонтовым зонам australis и kockelianus. На основании новых палеонтологических данных было пересмотрено расчленение и корреляция интервала среднего девона. По существу, бугулыгырский горизонт утратил свою маркирующую функцию. Яшмы генетически тесно связаны с вулканитами карамалыташской свиты и фиксируют паузы в вулканической деятельности. Поэтому яшмовая толща (бугулыгырская), венчающая разрез карамалыташской свиты, должна рассматриваться в составе последней. Развита она локально, только в пределах крупных вулканических структур, поэтому от использования ее в качестве унифицированного самостоятельного стратиграфического подразделения следует отказаться. Яшмовую толщу, залегающую на ирендыкской свите, мы выделили в самостоятельный стратон – ярлыкаповскую свиту (Маслов и др., 1984, 1987, 1988; Маслов, Артюшкова, 2002, 2010). Вышеизложенное свидетельствует о том, что при выделении маркирующих горизонтов в регионах с развитием разнофациальных вулканогенно-осадочных отложений варьирующей мощности определение их геологического возраста играет ведущую роль. На примере ЗападноМагнитогорской зоны в разрезе девона мы имеем литологически однотипные толщи, имеющие разный возраст, и только детальная палеонтологическая характеристика, максимально возможная по конодонтам, позволяет провести обоснованную корреляцию в девонской последовательности на обширной территории. Исследования поддержаны грантами РФФИ № 11-05-00737-а и № 11-05-01105-а. Казанцева Т.Т., Камалетдинов М.А., Петровский Д.Л. Новые данные об объеме колтубанской свиты в Магнитогорском синклинории // Геология и нефтеносность Башкирии. – Уфа: БФ АН СССР, 1975. – С. 88–94. Ленных И.В., Шумихин Е.А. Геологическая карта СССР. М 1 : 200 000 // Серия Южно-Уральская. Лист N-40-XXIX (Сибай) / Ред. В.М. Сергиевский. – Л., 1960. Либрович Л.С. Геологическое строение Кизило-Уртазымского района на Южном Урале. – Л.–М.: ЦНИГРИ ОНТИ НКТП СССР, 1936. Вып. 81. – 208 с. (Труды ин-та ЦНИГРИ). Маслов В.А. Об объеме колтубанской свиты в Таналык-Баймакском районе на Южном Урале // Вопросы геологии восточной окраины Русской платформы и Южного Урала. – Уфа: БФ АН СССР, 1969. Вып. 9. – С. 104–112. Маслов В.А. Девон восточного склона Южного Урала. – М.: Наука, 1980. – 224 с. Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия палеозойских образований Учалинского района Башкирии. – Уфа, 2000. – 123 с. Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия и корреляция девонских отложений Сибай-Баймакского района Башкирии. – Екатеринбург, 2002. – 199 с. Маслов В.А., Артюшкова О.В. Стратиграфия и корреляция девонских отложений Магнитогорской мегазоны. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, 2010. – 288 с. Маслов В.А., Артюшкова О.В., Барышев В.Н. Стратиграфия рудовмещающих девонских отложений Сибайского района. – Уфа: БФ АН СССР, 1984. – 97 с. Маслов В.А., Артюшкова О.В., Барышев В.Н. Стратиграфическое расчленение девонских отложений Магнитогорского мегасинклинория // Сов. геология. 1987. № 9. – С. 61–71. 29 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео30 Маслов В.А., Артюшкова О.В., Барышев В.Н. Новые данные по палеонтологическому обоснованию среднедевонских эвгеосинклинальных вулканогенных комплексов Южного Урала // Изв. АН СССР. Серия геол. 1988. № 4. – С. 137–140. Смирнов Г.А., Смирнова Т.А., Клюжина М.Л., Анфимов Л.В. Материалы к палеогеографии Урала. Очерк 5. Франский век. – М.: Наука, 1974. – 218 с. Стратиграфический кодекс СССР / Сост. А.И. Жамойда, О.П. Ковалевский, А.И. Моисеева, В.И. Яркин. – СПб.: ВСЕГЕИ, 1977. – 80 с. Стратиграфический кодекс. Изд-е второе, доп. – СПб.: ВСЕГЕИ, 1992. – 120 с. Стратиграфический кодекс. Изд-е третье. – СПб.: ВСЕГЕИ, 2006. 96 с. М.С. Афанасьева, Э.О. Амон РАДИОЛЯРИЕВАЯ ШКАЛА ДЕВОНА РОССИИ Результаты оригинальных и ревизионных исследований (Афанасьева, 2000; Афанасьева, Амон, 2008, 2009; Афанасьева и др., 2009; Afanasieva, Amon, 2011) позволили уточнить и детализировать радиоляриевую шкалу девонской системы и описать в девоне 16 биостратиграфических комплексов и три подкомплекса радиолярий, из которых 12 комплексов являются новыми (таблица). Нижний девон. Радиолярии позднеэмсского возраста впервые обнаружены на Южном Урале и рассматриваются в качестве биостратона – слои с Primaritripus buribayensis – Entactinia rostriformis, отвечающего конодонтовой зоне patulus. Средний девон. Эйфельский ярус. Радиолярии позднего эйфеля обнаружены на Южном Урале и Западных Мугоджарах и характеризуют слои с Primaritripus kariukmasensis в объеме конодонтовых зон costatus-kockelianus. Живетский ярус. Ревизионное исследование радиолярий живета из куркудукской и шулдакской свит Западных Мугоджар показало их отличие от описанного ранее Б.Б. Назаровым (1988) по шлифам комплекса с Spongentactinella windjanensis – Bientactinosphaera nigra. Данный биостратон был идентифицирован Б.Б. Назаровым (1988) с живетскими радиоляриями из бассейна Кэннинг Западной Австралии, изображение которых стало эталоном для данного биостратона (Nazarov et al., 1982; Назаров, 1988). Новый комплекс радиолярий Западных Мугоджар с Palaeoellipsoides planoconvexus – Pa­ laeodiscaleksus shuldakensis рассматривается нами в объеме конодонтовых зон hemiansatus – early falsiovalis. Он характеризуется низким разнообразием (12 видов 7 родов) и доминированием дисковидных и эллипсоидных форм (7 видов 3 родов). Радиолярии позднего живета Рудного Алтая представлены многочисленными, но однообразными дисковидными формами (3 вида 2 родов), которые мы рассматриваем в рамках нового биостратона с Palaeoellipsoides planoconvexus – Palaeodiscaleksus shuldakensis, отвечающего на Рудном Алтае конодонтовым зонам disparilis – early falsiovalis. Название и интервал временного распространения биостратона с Spongentactinella windjanensis – Bientactinsphaera nigra сохраняются нами за живетским комплексом радиолярий Западной Австралии (Nazarov et al., 1982; Назаров, 1988). Австралийский комплекс отличается от своего временного аналога на р. Шулдак Западных Мугоджар таксономическим разнообразием (15 видов 7 родов) и отсутствием дисковидных форм. Вместе с тем доминирование в ориктоценозах дисковидных и эллипсоидных радиолярий (до 60–100 % от общего числа особей) указывает на нормально-морские, но относительно мелководные условия внутреннего шельфа в позднем эмсе, позднем эйфеле и среднем фране Южного Урала, в позднем живете Рудного Алтая и Западных Мугоджар, в раннем фране на севере Тимано-Печорского бассейна. И наоборот, сферические радиолярии с длинными иглами в достаточно разнообразном комплексе Западной Австралии свидетельствуют о более глубоководных условиях внешнего шельфа. Верхний девон. Франский ярус. Результаты оригинальных и ревизионных исследований позволили установить в рамках франского яруса шесть комплексов радиолярий: • Polyentactinia circumretia – Bientactinosphaera egindyensis для среднего и верхнего франа Южного Урала, Северных Мугоджар и Рудного Алтая; • Bientactinosphaera pittmani – Russirad kazintsovae для верхнего франа Тимано-Печорского бассейна; Биостратиграфические комплексы радиолярий девона России crepida Слои с Tetren� tactinia bary� upper sphaera Hol� triangularis oeciscus auceps lower linguiformis Rdm�3 Средний late hassi early Moskovistella all� bororum Cera� toikiscum ukhtensis Нижний Верхний Нижний Нижний Верхний disparilis hermanni� cristatus varcus Polyentactinia circumretia Bientactino� sphaera egindyensis Rdm�2 Rdm�1 Слои с Primaritripus chuvashovi Средний Урал, западный склон Полярный Урал и Волго� Уральский бассейн Haplentactinia alekseevi Haplentactinia vilvaensis Tetrentac� tinia bary� sphaera Caspiaza spinifera «Уральский» комплекс Radiobi� sphaera doman� icensis Radiobi� sphaera menneri Слои с Palaeo discaleksus punctus Astroentactinia biaciculata transitans late falsiovalis early Южный Урал и Западные Мугоджары Tetrentactinia barysphaera Ceratoikiscum famennium Bientactinosphaera pittmani Russirad kazintsovae jamieae Верхний Живетский Эмсский Эйфельский Средний Нижний Tetrentactinia barysphaera Retientactino� sphaera mag� nifica Средний Урал, восточный склон Polyentactinia circumretia Bientactino� sphaera egindyensis punctata Девонская Тимано� Печорский бассейн Palaeo� ellipsoides planoconve� xus Palaeo� discaleksus shuldakensis Palaeo� ellipsoides planoconve� xus Palaeo� discaleksus shuldakensis «Уральский» комплекс Материалы III Всероссийского совещания Подъярус Рудный Алтай и Северный Прикаспий late rhenana early Франский Верхний Верхний Нижний Ярус Фаменский Отдел Система Биостратиграфические комплексы радиолярий Стандартные зоны конодонтов hemian� satus kockelianus australis Слои с Primaritripus kariukmasensis costatus partitus patulus Слои с Primaritripus buribayensis Entactinia rostriformis 31 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео32 • Radiobisphaera domanicensis – Radiobisphaera menneri для среднего франа (доманиковый горизонт) Южного Урала и Волго-Уральского бассейна; • Moskovistella allbororum – Ceratoikiscum ukhtensis для среднего франа (доманиковый горизонт) Тимано-Печорского бассейна и Рудного Алтая; • Primaritripus chuvashovi для среднего франа Южного Урала; • Palaeodiscaleksus punctus – Astroentactinia biaciculata для нижнего франа Тимано-Печорского бассейна. Отличительной особенностью раннефранского комплекса с Palaeodiscaleksus punctus – Astroentactinia biaciculata является появление на севере Тимано-Печорского бассейна многочисленных, но однообразных дисковидных форм (2 вида 2 родов), а на юге более разнообразных (9 видов 6 родов), но малочисленных радиолярий. Фаменский ярус. Новое изучение и сравнительный анализ радиолярий раннего фамена позволили нам установить пять комплексов радиолярий: • Tetrentactinia barysphaera – Ceratoikiscum famennium, Припятский прогиб, западный склон Северного Урала, Южный Урал, Северные Мугоджары; • Tetrentactinia barysphaera – Retientactinosphaera magnifica, северо-восточная часть ТиманоПечорского бассейна; • Tetrentactinia barysphaera – Caspiaza spinifera, Полярный Урал; • Haplentactinia alekseevi – Haplentactinia vilvaensis, западный склон Среднего Урала; • Tetrentactinia barysphaera – Holoeciscus auceps, Северный Прикаспий. Анализ особенностей морфологии и палеоэкологической приуроченности так называемых «примитивных мелких пелагических фораминифер» позволяет нам рассматривать некоторые виды из родов Archaesphaera, Parathurammina и Bisphaera среди радиолярий в составе родов Astroentactinia, Borisella и Trochodiscus. При этом мы сохраняем за этими своеобразными планктонными организмами живета и франа предложенное Е.В. Быковой (1955) обобщенное название «уральский» комплекс. Проанализирована длительность радиоляриевых биостратонов девона в абсолютном летоисчислении и выделены две группы биостратонов – менее длительные (0,5–2,0 млн лет) и более длительные (2,5–4,5 млн лет). Количественно преобладает первая группа (82 %), среди представителей которой доминируют две подгруппы с длительностью 2,0 млн лет (31 %) и 0,5 млн лет (25 %). Распределение по шкале времени показывает регулярность чередования более и менее длительных биостратонов. Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Проблемы происхождения жизни и становления биосферы» и РФФИ (проект № 10-04-00143). Афанасьева М.С. Атлас радиолярий палеозоя Русской платформы. – М.: Научный Мир, 2000. – 480 с. Афанасьева М.С., Амон Э.О. Новые радиолярии девона Южного Урала. I. Ранний–средний девон (поздний эмс – ранний эйфель) // Палеонтол. журн. 2008. № 5. – С. 317. Афанасьева М.С., Амон Э.О. Новые радиолярии девона Южного Урала. II. Средний–поздний девон // Палеонтол. журн. 2009. № 1. – С. 33–46. Афанасьева М.С., Амон Э.О., Гутак Я.М. Новые радиолярии среднего–верхнего девона Рудного Алтая // ДАН. 2009. Т. 425. № 3. – С. 355–360. Быкова Е.В., Поленова Е.Н. Фораминиферы, радиолярии и остракоды девона Волго-Уральской области. – Л.: Гостоптехиздат, 1955. Вып. 87. – 320 с. (Труды ВНИГРИ. Нов. сер.). Назаров Б.Б. Радиолярии палеозоя // Практическое руководство по микрофауне СССР. Т. 2. – Л.: Недра, 1988. – 232 с. Afanasieva M.S., Amon E.O. Devonian radiolarians of Russia // Paleontological Journal. 2011. Vol. 45. N 11. – P. 1313–1532. Nazarov B.B., Cocbain A.E., Playford P.E. Late Devonian Radiolaria from the Gogo Formation, Canning Basin, Western Australia // Alcheringa. 1982. Vol. 6. – P. 161–174. В.Г. Базаревская, Т.И. Тарасова, О.Г. Гибадуллина, А.Н. Троицкая Основными факторами, определяющими процессы нефтегазонакопления, являются: с­ овременный структурный план, история тектонического развития территории, пространственно-временное распространение фаций и мощностей осадочных пород, перерывы в процессе осадконакопления, стратиграфические несогласия и др. Достоверность сведений о характере проявления вышеперечисленных факторов напрямую зависит от правильности стратиграфического расчленения разрезов отложений осадочного чехла и надежного сопоставления одноименных стратиграфических единиц. При этом большое значение имеет выбор маркирующих горизонтов, принимаемых за синхронные структурные поверхности, и верное истолкование стратиграфических и литофациальных соотношений. Необходимо отметить, что существующие в настоящее время унифицированные стратиграфические схемы верхнепалеозойских (девонских, каменноугольных и пермских) нефтегазосодержащих отложений Волго-Уральской области в большинстве случаев не соответствуют предъявляемым требованиям и не способствуют достоверному решению поставленных задач. Ввиду отсутствия единых принципов и методики стратиграфического расчленения и сопоставления разрезов с помощью имеющихся схем не представляется возможным однозначно устанавливать некоторые границы в основных нефтегазоносных толщах палеозойского осадочного чехла Волго-Уральской области. В частности, недостаточно разработана дробная (детальная) стратификация карбонатных верхнепалеозойских отложений, в первую очередь это касается верхнедевонской карбонатной толщи, где возможно существование значительного количества залежей нефти и газа. В различных областях и республиках Приволжского ФО продуктивные пласты, приуроченные к разновозрастным стратиграфическим горизонтам, имеют одинаковые индексы, и наоборот, пласты в одновозрастных горизонтах обозначаются разными индексами. При таком положении возникают трудности в определении возраста нефтегазоносных пластов и следовательно неправильной является их региональная корреляция, что в свою очередь осложняет разработку залежей нефти и газа. Проблема единой индексации пластов-коллекторов на территории Приволжского ФО особенно остро стоит при изучении отложений фаменского яруса, верхне- и среднефранского подъярусов. Единая индексация продуктивных пластов на всей территории Приволжского ФО имеет большое значение на этапах разведки и разработки нефтяных месторождений, а также при изучении условий формирования, классификации нефтяных залежей и для сравнительной оценки перспектив нефтегазоносности. Разработка единой номенклатуры продуктивных пластов, приуроченных к отложениям верхнедевонской карбонатной толщи, тесно связана с детальным стратиграфическим расчленением и корреляцией карбонатных разрезов (Алиев, Батанова и др., 1978). Одной из особенностей отложений, как палеозойской осадочной толщи в целом, так и верхнедевонского карбонатного комплекса в частности, является ритмичность осадконакопления, которая заключается в периодической повторяемости пластов различного литологического состава в определенной последовательности. На основании этого факта была предложена ритмостратиграфическая методика расчленения карбонатных разрезов и выделения в них пластовколлекторов и реперных пачек (Хисамов, Губайдуллин и др., 2010). Применение ритмостратиграфической методики дает возможность выделять в карбонатных разрезах верхнедевонской толщи большое количество пластов-коллекторов и непроницаемых разностей, тем самым позволяя определять стратиграфическое положение пластов и выполнять их корреляцию. Однако, следуя вышеупомянутой методике в процессе стратиграфического расчленения карбонатных разрезов верхнедевонской толщи, не всегда представляется возможным однозначно решать ряд проблем, например, определенные трудности возникают при наличии биогермной постройки. Для уверенного стратиграфического расчленения карбонатных разрезов верхнедевонской толщи, уточнения возраста и стратиграфического положения горизонтов необходимы данные определения фауны, флоры, спор и пыльцы (споро-пыльцевого комплекса) растений. Однако слабая изученность органических остатков затрудняет правильное сопоставление даже близко расположенных разрезов, не говоря об их региональной корреляции. Обращает на себя вни- Материалы III Всероссийского совещания ПРОБЛЕМЫ СТРАТИФИКАЦИИ ОТЛОЖЕНИЙ КАРБОНАТНОГО ВЕРХНЕДЕВОНСКОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 33 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео34 мание тот факт, что верхнедевонские карбонатные отложения, как на территории Республики Татарстан, так и в Приволжском ФО в целом, характеризуются крайне низкой изученностью кернового материала; данные литологических и фаунистических исследований керна носят эпизодический характер и нуждаются в систематизации. Литолого-петрофизическими исследованиями были охвачены, как правило, основные продуктивные горизонты, характеризующиеся относительно большим выносом керна. Керновый материал с отсутствием признаков нефтеносности зачастую ликвидировался, по нему не велись лабораторные определения возраста и коллекторских свойств. Особенно остро стоит задача четкого определения границ мендымского, воронежского, евлановского, ливенского горизонтов. Как правило, это «плавающие» границы, которые, в большинстве случаев, проводятся условно, что приводит к возникновению спорных ситуаций по поводу объема различных стратиграфических единиц. Важнейшим фактором, обуславливающим решение рассматриваемых задач, является детальное изучение карбонатных верхнедевонских отложений современными методами с монографическим описанием фауны, флоры и спор растений. На основании установленных закономерностей распределения спор в изучаемых отложениях станет возможным более дробное расчленение и более детальная корреляция разрезов. Однако необходимо отметить, что в ряде случаев палеонтологические характеристики отдельных горизонтов схожи между собой, что создает трудности при их выделении в карбонатном разрезе и препятствует однозначному определению их стратиграфического положения. Данные, необходимые для выявления различий в палеонтологической характеристике отдельных горизонтов, в настоящее время отсутствуют; палеонтологические исследования карбонатных отложений верхнедевонской толщи выполнены в недостаточном объеме, их результаты практически неизвестны. Для решения вопросов стратификации карбонатных разрезов верхнедевонского комплекса необходимо их последовательное комплексное изучение с привлечением данных по керну. В целях успешного решения проблем по оценке перспективности карбонатных верхнедевонских отложений в нефтегазопоисковом отношении возникает необходимость построения детальных стратиграфических региональных схем с учетом тектонического строения территории. Всестороннее изучение особенностей карбонатных верхнедевонских отложений в пределах различных структурных элементов позволит выделить разрезы различных типов, характеризующиеся определенными условиями осадконакопления. Проблематичным является выделение пластов-коллекторов в разрезе карбонатных верхнедевонских отложений по материалам стандартного комплекса ГИС. Существующие на настоящий момент методики не способны обеспечить достоверное определение коллекторских характеристик карбонатных пластов. В большинстве случаев лишь на основании результатов прямых методов исследования можно судить о перспективности тех или иных отложений. Для уверенного расчленения карбонатных пород и выделения пластов-коллекторов в разрезе верхнедевонских отложений необходимо применение расширенного комплекса ГИС. Применение дополнительных исследований такими методами, как АК, ЛПК (литоплотностной каротаж), ГКС (гамма-спектрометрия), ЯМК способно обеспечить решение вышеуказанных задач на более высоком методическом уровне. Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что при изучении карбонатных пород верхнедевонской толщи исключительно важную роль играет комплексирование расширенного комплекса ГИС с данными исследования кернового материала. Информация о коллекторских свойствах и характере насыщения карбонатных пластов, полученная по результатам исследования керна, позволяет в конечном итоге уточнить сведения об условиях их формирования, генезисе и преобразовании. Немаловажное значение в процессе изучения карбонатных пород верхнедевонского комплекса имеет также изучение фауны, проведенное совместно с детальными петрографо-минералогическими и литологическими исследованиями, которые в настоящее время, как уже отмечалось выше, выполнены в очень малых объемах, разрознены и нуждаются в систематизации и обобщении. Определение химического состава пород и сопоставление многочисленных разрезов позволит уверенно выделять в изучаемых отложениях отдельные стратиграфические подразделения. Таким образом, очевидно, что на современном этапе крайне необходимым является поэтапное изучение карбонатных пород верхнедевонского комплекса в целях прогнозирования зон развития пластов-коллекторов, их емкостно-фильтрационных свойств и в конечном итоге выделения перспективных участков на поиски залежей УВ. Алиев М.М., Батанова Р.О. и др. Девонские отложения. Волго-Уральская нефтегазоносная провинция. – М.: Недра, 1978. – С. 71–113; 155–167. Хисамов Р.С., Губайдуллин А.А. и др. Геология карбонатных сложнопостроенных коллекторов девона и карбона Татарстана. – Казань: Изд-во «Фэн» АН РТ, 2010. – С. 41–61; 155–184. Ю.П. Балабанов Применяемый в настоящее время в стратиграфической практике сводный палеомагнитный разрез гиперзоны Иллаварра Восточно-Европейской платформы в первоначальном варианте был составлен к 80-м годам прошлого столетия (Храмов и др., 1974, 1982; Молостовский, 1983; Буров, Боронин, 1977). В последующие годы палеомагнитологами Казанского университета в процессе выполнения площадных палеомагнитных исследований на обширной территории центра Московской синеклизы (Кировская и Вологодская области, юг Республики Коми) осуществлена его детализация. В частности установлено более сложное строение ортозоны R3P в верхней части вятского яруса, в объеме которой выделено четыре субзоны разной полярности (Балабанов, 1979). Наличие тонкой палеомагнитной зональности предполагалось также в низах триаса при изучении опорных обнажений бассейна р. Ветлуга (Боронин, 1979). В зависимости от полноты разрезов в разных областях исследованной территории на границе перми и триаса наблюдается разное сочетание палеомагнитных зон. В наиболее сохранившихся от размыва участках наблюдается контакт прямополярных верхнепермской субзоны n2R3P и нижнетриасовой ортозоны N1T. Таким образом, в ряде случаев граница перми и триаса в палеомагнитном отношении может и не проявляться, и для ее выделения использовался петромагнитный критерий. В его основе лежит установленный факт существенного увеличения намагниченности и магнитной восприимчивости (приблизительно на порядок) нижнетриасовых горных пород по сравнению с верхнепермскими образованиями (Боронин, 1974; Балабанов, 1979). В последнее десятилетие было проведено тщательное детальное палеомагнитное изучение новых более полных и непрерывных разрезов пермо-триасовых отложений и получен существенно новый материал. Один из таких разрезов расположен в бассейне р. Кичменьга, левого притока р. Юг, у деревень Глебово, Ваганово Недуброво в пределах установленной Е.М. Люткевичем зоны Куножо-Кичменгских поднятий. Палеонтологическая характеристика, по мнению В.Р. Лозовского, свидетельствует о принадлежности изученных здесь образований к «…древнейшим слоям ветлужской серии, ранее не известных в Московской синеклизе… и может быть параллелизована с нижними горизонтами отоцеровых слоев Восточной Гренландии» (Лозовский, ЕрощевЩак, Афонин, 2001). Палеомагнитные исследования, первоначально выполненные здесь Б.В.Буровым (Lozovsky et al., 2001), а затем Ю.П. Балабановым (Муравьев, Балабанов, 2009), позволили установить наличие в триасовой части разреза отрицательной намагниченности и отнести ее к палеомагнитной зоне R0T. Учитывая аллювиально-озерно-старичный генезис данных образований и, следовательно, относительно высокую скорость их формирования, выделенную палеомагнитную зону, скорее всего, следует индексировать как субзону r1 в пределах ортозоны N1T. Принадлежность этой субзоны к нижнему триасу подтверждается данными палеомагнитного изучения нижнего покрова базальтов р. Адзьва (Полярное Предуралье, Коротаихинская впадина), для которых была установлена также отрицательная намагниченность (Балабанов, 2009) и определен абсолютный возраст, отвечающий значению 251,2 ± 3,4 млн лет, что соответствует границе пермской и триасовой систем (Андреичев, Ронкин, Лепихина, Литвиненко, 2007). Кстати, такой же возраст имеют цирконы из бентонитовых глин основания триаса в морском разрезе D округа Чансин провинции Чжецзян Южного Китая (Claoue-Long et al., 1981). В пермской части разреза на р. Кичменьга наблюдается сложный характер изменения намагниченности, выраженный в наличии знакопеременного интервала, включающего субзоны как прямой, так и обратной (nr) полярности и приуроченного, скорее всего, к верхам ортозоны R3P. Второй из изученных в последнее время разрезов расположен в Жуковом овраге у д. Слукино и Арефино, в 2 км западнее г. Гороховец (Владимирская область), в котором переходные пермо-триасовые образования хорошо охарактеризованы палеонтологически. По мнению В.К. Голубева, они образуют здесь стратиграфически непрерывную последовательность (Сенников, Голубев, 2012) и сопоставляются им с обнорской свитой северных районов Московской синеклизы. В свою очередь обнорская свита подразделяется на две пачки: угличскую (нижнюю) и гороховецкую (верхнюю) (Голубев, Миних А.В., Балабанов, Кухтинов, Сенников, Миних М.Г., 2012). Палеомагнитное изучение данных образований показало, что разрез обнорской свиты почти полностью представлен породами с отрицательной намагниченностью. Нижняя часть Материалы III Всероссийского совещания ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПЕРМИ И ТРИАСА МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ 35 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео36 этой свиты (угличская пачка) сопоставляется нами с палеомагнитной субзоной r2R3P ортозоны R3P. В самых верхах угличской пачки наблюдается интервал (мощность ~ 5,0 м) чередования небольших по мощности участков положительно и отрицательно намагниченных пород (субзона nrR3P). Ранее она выделялась как субзона n2R3P. Верхнюю часть обнорской свиты (гороховецкая пачка), сложенную также отрицательно намагниченными породами, следует выделить как субзону r3R3P, которая ранее в пределах Московской синеклизы нигде не устанавливалась. Низы вохминской свиты намагничены положительно и отвечают ортозоне N 1T. Следует отметить, что наибольшими величинами магнитных свойств, превышающими даже уровень магнитности триасовых образований, отмечаются верхи угличской и низы гороховецкой пачек. Изменение магнитных свойств при переходе от пермских отложений к триасовым носит плавный характер, подчеркивающий непрерывность и полноту рассматриваемого разреза. Таким образом, благодаря исследованиям в Жуковом овраге к ранее известной структуре ортозоны R3P добавлена еще одна субзона r3R3P, а субзону n2R3P следует рассматривать как сложное образование nrR3P, включающее интервалы прямой и обратной полярности (в нашем случае не менее трех). Исследован также разрез верхнепермских отложений у г. Вязники, расположенный приблизительно в 35 км северо-западнее обнажения в Жуковом овраге и по геологическим данным отвечающий, скорее всего, средней его части. Этот разрез сложен исключительно отрицательнонамагниченными образованиями и отвечает субзоне r3R3P. Еще одним районом широкого развития опорных разрезов пограничных пермо-триасовых образований является бассейн р. Ветлуга, где нами в среднем ее течении на расстоянии около 33 км были исследованы взаимно перекрывающие и дополняющие друг друга одиннадцать обнажений (Балабанов, Муравьев, 2010). В нижнетриасовых отложениях установлено наличие палеомагнитной зоны преимущественно положительной намагниченности, осложненной наличием в двух разрезах небольшого по мощности (~2,0 м) прослоя отрицательно намагниченных пород. Выделенная палеомагнитная зона сопоставляется нами с ортозоной прямой полярности N1T, а интервал внутри этой зоны – с субзоной обратной полярности r1N1T, установленной в разрезе у д. Недуброво. В разрезах верхней перми по знаку намагниченности выделено четыре субзоны разной полярности (снизу вверх): r1R3P, n1R3P, r2R3P и основание знакопеременной субзоны nrR3P. Здесь так же, как и в Жуковом овраге, наблюдается увеличение магнитных свойств верхнепермских образований до уровня, соответствующего нижнему триасу. Таким образом, палеомагнитное изучение рассмотренных нами разрезов пограничных отложений верхней перми и нижнего триаса Московской синеклизы позволяет оценить их полноту и представительность, а также провести их взаимное сопоставление в соответствии с полученной палеомагнитной характеристикой. Установлены две новые палеомагнитные субзоны nrR3P и r3R3P в объеме ортозоны R3P, дополняющие сводный палеомагнитный разрез Восточно-Европейской платформы и позволяющие в ближайшем будущем провести, по-видимому, с учетом количества палеомагнитных зон и субзон, корреляцию изученных разрезов с чансинским ярусом разреза Мейшань и разрезом ротлигендесса и цехштейна Польши. Также показано, что в полных разрезах перми и триаса резкого изменения магнитных свойств на границе их раздела не происходит. Существенным увеличением данного параметра отмечаются и позднепермские образования. Андреичев В.Л., Ронкин Ю.Л., Лепихина О.П., Литвиненко А.Ф. Изотопный возраст пермо-триасового базальтового магматизма Полярного Предуралья: Rb-Sr и Sm-Nd данные // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2007. Т. 15. № 3. – С. 22–31. Балабанов Ю.П. Палеомагнитная характеристика базальтов нижнего триаса бассейна реки Адзьва // Материалы XV геологического съезда Республики Коми. Т.II. – Сыктывкар: Геопринт, 2009. – С. 95–96. Балабанов Ю.П., Муравьев Ф.А. Результаты палеомагнитных исследований пограничных отложений перми и триаса по разрезам бассейнов рек Кичменьга и Ветлуга // Материалы V Междунар. конф. «Палеонтология и стратиграфия перми и триаса Северной Евразии». – М.: ПИН, 2010. – С. 45–48. Боронин В.П. О взаимосвязи магнитных свойств и геологических особенностей отложений перми и триаса на востоке Русской платформы // Латеральная изменчивость состава и физических свойств осадочной толщи в пределах локальных структур и ее отражение в зональности геофизических полей. – Пермь, 1974. Буров Б.В., Боронин В.П. Палеомагнитная зона Иллаварра в отложениях верхней перми и нижнего триаса Среднего Поволжья // Материалы по стратиграфии верхней перми на территории СССР. – Казань: Изд-во КГУ, 1977. – С. 25–52. Голубев В.К., Миних А.В., Балабанов Ю.П. и др. Опорный разрез перми и триаса в Жуковом овраге у г. Гороховец, Владимирская область // Бюллетень РМСК. Вып. 5. – М., 2012. – 30 с. Лозовский В.Р., Ерофеев-Щак В.А., Афонин С.А. О пепловых горизонтах и продуктах постэруптивных изменений пеплов в нижнем триасе Московской синеклизы // Изв. вузов. Геология и разведка. 2001. № 3. – С. 19–28. Н.К. Бахарев, Н.Г. Изох, А.Ю. Язиков НОВЫЕ ДАННЫЕ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СТРАТИГРАФИИ НИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ДЕВОНА САЛАИРА В ходе проведения биостратиграфических исследований девона Салаира в последние годы получен ряд важных результатов, существенно уточняющих понимание хода процесса седиментации и развитие биот в Салаиро-Кузнецком сегменте девонского палеобассейна. Одновременно возник и ряд дискуссионных вопросов, которые предлагаются к обсуждению. 1. Уточнена возрастная характеристика кайбальского надгоризонта (нижнелохковский подъярус). В парастратотипе сухой свиты по руч. Сухой в районе г. Гурьевск получены девонские конодонты: Pelekysgnathus cf. P. serratus Jentzsch, Pandorinellina exigua philipi (Klapper). В верхней части томскозаводской свиты и в петцевской свите обнаружен комплекс конодонтов зоны eurekaensis (Izokh, Chernigovsky, 2011). По стенке ж/д выемки вдоль северного борта Толсточихинского карьера можно наблюдать расслоение массивных известняков петцевской свиты. В данном пересечении они практически неотличимы от нижележащих известняков томскозаводской свиты. Таким образом, учитывая этот постепенный переход, в рамках Кайбальского трансгрессивного мегацикла (отвечающего нижнему лохкову) на Салаире более обоснованно выделяются: начальный (терригенный) этап, которому соответствует сухая свита, и завершающий (карбонатный), объединяющий томскозаводскую и петцевскую (= нижнекрековскую) свиты. 2. Фациальные переходы по простиранию массивных известняков малобачатской свиты отмечались ранее (Харин, 1958, 1968), и сейчас их можно наблюдать в крековской синклинали в окрестностях г. Гурьевск. В этой связи уместно отказаться от использования для этого стратона термина «горизонт». Белтирский трансгрессивный мегацикл, отвечающий верхнему лохкову и пражскому ярусу в полном обьеме, объединяет, таким образом, крековскую и малобачатскую свиты. 3. Существенное изменение произошло в понимании объема и возрастной интерпретации салаиркинского горизонта. Прежде всего, это справедливо в отношении верхнесалаиркинских слоев. Этот стратиграфический интервал сейчас предлагается понимать в типовых выходах теленгитского надгоризонта (разрез Б-819) в интервале слоев 15–20 (Стратотипические…, 1986, 1987). Верхнесалаиркинские слои отвечают конодоновым зонам kitabicus (ее верхней половине) и excavatus (в полном обьеме), по брахиоподам – зоне Protodouvillina praedistans (Grats.), по остракодам – зоне Miraculum biclivosum. Ранее интервал верхнесалаиркинских слоев включал лишь слой 15 разреза Б-819, а интервал слоев 16–20 рассматривался в качестве фациального аналога беловских известняков в терригенном типе разреза. Данные по конодонтам о возрасте беловского горизонта в типовых выходах (Изох и др., 2012а, б) показали ошибочность таких сопоставлений. Материалы III Всероссийского совещания Методика палеомагнитного изучения красноцветов / Под ред. В.П. Боронина. – Казань: Изд-во КГУ, 1979. – С. 114–129. Молостовский Э.А. Палеомагнитная стратиграфия верхней перми и триаса востока Европейской ­части СССР. – Саратов: Изд-во СГУ, 1983. – 167 с. Муравьев Ф.А., Балабанов Ю.П. Литолого-минералогическая и палеомагнитная характеристика пограничных отложений перми и триаса центральной части Московской синеклизы // Верхний палеозой России. Стратиграфия и фациальный анализ. – Казань: Изд-во КГУ, 2009. – С. 198–199. Палеомагнетизм палеозоя / Под ред. А.Н. Храмова. – Л.: Недра, 1974. – 238 с. Палеомагнитология / Под ред. А.Н. Храмова. – Л.: Недра, 1982. – 312 с. Сенников А.Г., Голубев В.К. К фаунистическому обоснованию границы перми и триаса в континентальных отложениях Восточной Европы. 1. Гороховец – Жуков овраг // Палеонтолог. журнал. № 3. – С. 88–98. Lozovsky V., Krasilov V., Afonin S., Burov B., Yaroshenko O. Transitional Permian-Triassic deposits in European Russia and non-marine correlations // Natura Bresciana. Ann. Mus. Giv. sc. Nat., brescia, Monografia. 2001. N. 25. 3010310. Claoue-Long J.C., Zhang Z.C., Ma G.G., Du S.H. The age of the Permian-Triassic boundary // Earth and Planet. Sci. Lett. 1991. Vol. 105. – P. 182–190. 37 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео38 4. Дискуссионным остается понимание объема и интерпретация фациальных взаимоотношений внутри шандинского горизонта. В типовых выходах шандинского горизонта (Акарачкинский карьер) не обнаружены конодонты древнее зоны serotinus, тогда как традиционно (Стратотипические…, 1986, 1987; Ключевые…, 2004; Middle-Upper Devonian…, 2011) шандинский горизонт сопоставлялся с интервалом конодонтовых зон nothoperbonus – serotinus. В разрезе 9 основанию зоны nothoperbonus соответствует основание слоя 21, к которому приурочено также первое появление ряда видов-индексов шандинского горизонта (брахиоподы Protodouvillina grandicula (Grats.) и Leptodontella zmeinigorskiana (Peetz in Bubl.), остракоды Miraculum bisulcatum Bakh). Объем шандинского горизонта в разрезе 9 ранее рассматривался в интервале слоев 21–26, тогда как по конодонтам этот интервал отвечает все той же зоне nothoperbonus. Ситуация усложняется и на более высоких стратиграфических уровнях разреза Б-819: в слоях 41 и 42 наряду с типично мамонтовскими остракодами и брахиоподами обнаружены конодонты, отвечающие (по мнению Н.Г. Изох) нижней части зоны inversus. Эти данные требуют дальнейшего анализа. Проведение корректной интерпретации всех материалов затруднено также и в связи с установленным фактом «таксономического перемешивания» комплексов брахиопод шандинских и пестеревских известняков (Язиков, Бахарев, см. этот выпуск). 5. Упраздняется выделение беловского горизонта. Во всех типовых выходах беловского горизонта района г. Гурьевска и по руч. Баскускан обнаружены конодонты Polygnathus serotinus Telford., что позволяет рассматривать беловские коралловые (ругозовые) известняки в качестве фациальных аналогов шандинских слоев (Изох и др., 2012а, б). 6. Граница между шандинским и мамонтовским горизонтами на Салаире проводится по смене регрессивной на трансгрессивную стадию развития бассейна – в основании красноцветной терригенной пачки, перекрывающей разнофациальные отложения верхней части шандинского горизонта. Данная граница наблюдается в северо-восточном борту Акарачкинского карьера. В серии разрезов шандинского горизонта установлен комплекс конодонтов зоны serotinus, а также аммоноидеи Mimagoniatites bohemicus (Barr.) (Бахарев и др., 2012). 7. Мамонтовский горизонт принимается авторами в трехчленном выражении и включает стратиграфически снизу вверх: малосалаиркинские, пестеревские и акарачкинские слои (Ключевые…, 2004; Middle-Upper Devonian…, 2011). Малосалаиркинские слои конодонтами и аммоноидеями не охарактеризованы. Первые зональные эйфельские конодонты Polygnathus costatus partitus и P. сostatus costatus установлены соответственно в 6-м и в 8-м слоях разреза Б-845 (Ключевые…, 2004; Izokh, 2011; Middle-Upper Devonian…, 2011), в мульде нижней части пестеревских известняков северо-западной части Малосалаиркинского карьера. В слоях с 3-го по 6-й того же разреза встречены аммоноидеи Fidelites cf. occultus (Whid.), Fidelites sp., Fidelites cf. fidelis (Barr.), Subanarcestes (?) sp., характерные для нижнеэйфельской зоны Pinacites jugleri (Бахарев и др., 2012). Учитывая этот биостратиграфический репер, авторы считают целесообразным проведение границы эмсского и эйфельского ярусов на Салаире в верхней части малосалаиркинских слоев. В верхней части пестеревского известняка Малосалаиркинского карьера обнаружены конодонты зоны australis (Ключевые…, 2004; Middle-Upper Devonian…, 2011). 8. Следующим региональным и глобальным маркером мамонтовского горизонта является выявленный в целом ряде разрезов изохронный комплекс аммоноидей. В верхней части типового разреза акарачкинских слоев района г. Гурьевск (слой 7 разреза Б-8410) (Ключевые…, 2004) обнаружены: Agoniatites cf. vanuxemi (Hall), Agoniatites cf. nodiferus (Hall), Fidelites sp., Cabrieroceras salairicum Nikolaeva (Бахарев и др., 2012; Bakharev, Sobolev, 2012). Идентичные аммоноидеи выявлены в разрезах сафоновской свиты окрестностей г. Прокопьевск (слои 13, 16 разреза БС-091 и слой 16 разреза БС-093) и в районе дер. Заречная (слой 11 разреза Б-8333) по правому берегу р. Большой Бачат (Бахарев и др., 2012; Middle-Upper Devonian…, 2011). Приведенный комплекс аммоноидей позволяет относить отложения по указанным местонахождениям к узкому биостратиграфическому интервалу зоны Agoniatites costulatus верхнего эйфеля (Becker, House, 2000). В ряде разрезов сафоновской свиты окрестностей г. Прокопьевск в близлежащих слоях с аммоноидеями обнаружен комплекс конодонтов, отвечающих зоне kockelianus, что также подтверждает позднеэйфельский возраст вмещающих их отложений (Izokh, 2011; Middle-Upper Devonian…, 2011). В непосредственной близости от местонахождений аммоноидей обнаружена и ассоциация брахиопод, отвечающая зоне Indospirifer pseudowilliamsi (включая и сам зональный вид). Изложенные данные позволили авторам сафоновскую и соответственно керлегешскую (как стратиграфически более древнюю) свиты первоначально рассматривать в качестве фациальных аналогов акарачкинских, пестеревских и частично малосалаиркинских слоев мамонтовского горизонта (Middle-Upper Devonian…, 2011). Однако полного единодушия в таких интер- Бахарев Н.К., Изох Н.Г., Соболев Е.С., Язиков А.Ю. Био- и литостратиграфические маркеры среднего девона Салаира // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгресс, 10–20 апреля 2012 г., Новосибирск: VIII Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. Новые направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых»: Сб. материалов в 2 т. Т. 2. – Новосибирск: СГГА, 2012. – С. 81–84. Изох Н.Г., Бахарев Н.К., Язиков А.Ю. Конодонты и брахиоподы из типовых выходов беловского горизонта (нижний девон, Северо-Восточный Салаир) // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2012. VIII Междунар. науч. конгресс, 10–20 апреля 2012 г., Новосибирск: VIII Междунар. науч. конф. «Недропользование. Горное дело. Новые направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых»: Сб. материалов в 2 т. Т. 1. – Новосибирск: СГГА, 2012. – С. 124–126 (2012а). Изох Н.Г., Язиков А.Ю., Бахарев Н.К. Возраст беловского горизонта (девон) Северо-Восточного Салаира по конодонтам // Палеонтология и стратиграфические границы. Материалы LVIII сессии Палеонтол. общества при РАН (2–6 апреля 2012 г., Санкт-Петербург). – СПб.: ВПО, 2012. – С. 58–59 (2012б). Ключевые разрезы девона Рудного Алтая, Салаира и Кузбасса / Н.К. Бахарев, Н.В. Сенников, Е.А. Елкин, Н.Г. Изох, А.А. Алексеенко, О.Т. Обут, О.А. Родина, С.В. Сараев, Т.П. Батурина, Т.П. Киприянова, И.Г. Тимохина, А.Ю. Язиков. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 104 с. Решения Всесоюзного совещания по разработке унифицированных стратиграфических схем докембрия, палеозоя и четвертичной системы Средней Сибири, 1979 г. Ч. II. (средний и верхний палеозой). – Новосибирск: СНИИГГиМС, 1982. – 130 с. Ржонсницкая М.А. Биостратиграфия девона окраин Кузнецкого бассейна. Стратиграфия. – Л.: Нед­ ра, 1968. – Т. 1. 288 с. Стратотипические разрезы нижнего и среднего девона Салаира. Теленгитский надгоризонт: терригенно-карбонатные фации. – Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН, 1986. – 143 с. Стратотипические разрезы нижнего и среднего девона Салаира. Теленгитский надгоризонт: карбонатные фации. – Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН, 1987. – 194 с. Харин Г.С. Новые данные по стратиграфии девона восточного склона Салаира // Материалы по геологии Западной Сибири. – М.: Госгеолтехиздат, 1958. Вып. 61. – С. 74–85. Харин Г.С. О положении акарачкинского и некоторых других горизонтов в стратиграфической схеме девона Юго-Западной окраины Кузбасса. – Томск, 1968. Т. 202. – С. 153–158. (Труды ТГУ). Bakharev N.K., Sobolev E.S. Ammonoidea and Middle Devonian biostratigraphy of the Salair // Biostratigraphy, paleogeography and events in Devonian and Lower Carboniferous (SDS/ IGCP 596 joint field meeting): Contributions of International Conference in memory of Evgeny A. Yolkin. Ufa, Novosibirsk, July 20 – August 10, 2011. – Novosibirsk: Publishing House of SB RAS, 2011. – P. 27–33. Becker R.T., House M.R. Devonian ammonoid zones and their correlation with established series andstage boundaries // Cour. Forsch.-Inst. Senckenb, 2000. Bd. 220. – S. 113–151. Izokh N.G. Biodiversity of Devonian conodonts from the West Siberia // Berichte des Institutes fr Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universitt Graz. IGCP 596 Opening Meeting. Graz, 19–24th September. 2011, Band 16. P. 49–51. ISSN 1608-8166. Izokh N.G., Chernigovsky S.V. Lower Lochkovian conodonts from Salair (southern West Siberia) // Biostratigraphy, paleogeography and events in Devonian and Lower Carboniferous (SDS / IGCP 596 joint field Материалы III Всероссийского совещания претациях у авторов сейчас нет. Прежде всего, подобные сопоставления не согласуются с данными по брахиоподам, в частности в отношении ассоциации брахиопод керлегешской свиты (горизонта). Комплекс керлегешских брахиопод включает целый ряд представителей стрингоцефалид: Chascothyris salairica Rzоn., Newberria (= Denckmannella) damesi (Holz.), N. circularis (Holz.) и Bornhardtina sp. (Ржонсницкая, 1968). Данные о нахождении видов первых двух родов вне живетского яруса в мировой литературе отсутствуют. Достаточно спорны и находки представителей рода Bornhardtina в верхнем эйфеле. По мнению А.Ю. Язикова, проблема заключена в исторически сложившейся ошибочной трактовке стратиграфической последовательности этого интервала девонского разреза. Вопервых, целая серия обнажений в окрестностях г. Прокопьевск, у дер. Заречная и в Баскусканском карьере последовательно, в рамках единой логической цепи была описана сверху вниз, т. е. в обратной стратиграфической последовательности. Этому способствовало отчасти и то, что во всех этих разрезах падение слоев близко к вертикальному, а нередко и запрокинутое. Во-вторых, в выделяемые стратоны (особенно это справедливо для сафоновского горизонта (свиты)) были объединены настолько разнообразные породные литотипы, что это еще больше запутало понимание характера седиментогенеза на этом небольшом участке среднедевонского палеобассейна. Обоснованно разрешить эту сложную противоречивую ситуацию возможно лишь при получении дополнительных данных. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-05-00737), Программ РАН 23 и 28, Интеграционного проекта 93, выполняемого совместно с УрО РАН. Авторы координируют свои исследования с программами работ по проекту 596 IGCP. 39 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео40 meeting): Contributions of International Conference in memory of Evgeny A. Yolkin. Ufa, Novosibirsk, July 20 – August 10, 2011. – Novosibirsk: Publishing House of SB RAS, 2011. – P. 59. Middle-Upper Devonian and Lower Carboniferous Biostratigraphy of Kuznetsk Basin. Field Excursion Guidebook. International Conference “Biostratigraphy, paleogeography and events in Devonian and Lower Carboniferous” (SDS / IGCP 596 joint field meeting) / Eds. N.K. Bakharev, N.G. Izokh, O.T. Obut, J.A. Talent / N.K. Bakharev, N.G. Izokh, A.Yu. Yazikov, T.A. Shcherbanenko, S.A. Anastasieva, O.T. Obut, S.V. Saraev, L.G. Peregoedov, V.G. Khromykh, O.A. Rodina, I.G. Timokhina, T.P. Kipriyanova. Novosibirsk, July 20 – August 10, 2011. – Novosibirsk: Publishing House of SB RAS, 2011. – 98 p. П.А. Безносов, В.С. Чупров, Э.В. Лукшевич РАЗРЕЗ ПОКАЯМСКОЙ СВИТЫ ПО реке ВОЛОНГА (ВЕРХНИЙ ДЕВОН, СЕВЕРНЫЙ ТИМАН) Покаямская свита является самым верхним стратиграфическим подразделением девона на Северном Тимане. Впервые она была выделена Г.И. Егоровым в 1957 г. при разведке Волонгского угольного месторождения. Ее отложения выходят на дневную поверхность в южной части западного склона Северо-Тиманского вала на восточном побережье Чешской губы и в нижнем течении р. Волонга. Свита сложена кварцевыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, содержащими карбонатные и углистые прослои. Полная мощность ее не превышает 250 м (Коссовой, 1963). По комплексу миоспор, а также фауне беспозвоночных и рыб самые низы свиты сопоставляются с задонским и елецким горизонтами нижнефаменского подъяруса, а основная вышележащая часть – с лебедянским и (или) оптуховским горизонтами среднефаменского подъяруса Центрального девонского поля (Коссовой, 1959; 1963; Ivanov, Luksevics, 1996; Esin et al., 2000). Остатки ихтиофауны из песчанистых известняков, залегающих в нижней части разреза покаямской свиты на р. Волонга, впервые были собраны Н.К. Говорко в 1940 г. (Коссовой, 1963). Д.В. Обручевым (1958) среди них были определены Phyllolepis sp., Bothriolepis ornata Eichw. и Holoptychius sp. К сожалению, данный материал не был ни описан, ни проиллюстрирован, а нынешнее место его хранения неизвестно. В результате полевых работ 2011 г. в нижней части разреза покаямской свиты по р. Волонга обнаружить остатки ихтиофауны не удалось. При этом из верхней части свиты была собрана коллекция костных остатков, принадлежащих антиарху Bothriolepis ciecere Lyarskaja, пахиостеоморфу cf. Dunkleosteus sp., акантоду «Devononchus» tenuispinus Gross, поролепиформу Holoptychius sp., двоякодышащим рыбам «Dipterus» sp. и Chirodipteridae gen. indet. (Безносов, 2011). Этот материал позволил уточнить как таксономический состав ихтиофауны покаямской свиты, так и возраст слагающих ее пород. Антиарх B. ciecere является видом-индексом одноименной зоны Главного девонского поля, соответствующей интервалу кетлерского горизонта. То же стратиграфическое распространение имеют и остатки акантода «D.» tenuispinus. Таким образом, верхи покаямской свиты относятся к верхнефаменскому подъярусу. Присутствие отложений этого возраста на Тимане отмечается впервые. В целом разрез покаямской свиты, по всей видимости, соответствует достаточно широкому интервалу, охватывающему большую часть фаменского яруса. Наряду с возрастом уточнены условия формирования отложений покаямской свиты. Разрез девона Волонгской структурно-фациальной зоны, выделенной Л.С. Коссовым (1971), обладает наибольшей стратиграфической полнотой и значительной мощностью по сравнению с осевой частью Северо-Тиманского вала и его восточным склоном. Подобная зональная закономерность отмечена также и для каменноугольных отложений Северного Тимана (Бархатова, 1959). Это позволяет предположить, что с начала позднего девона к западу от Северо-Тиманского вала в течение продолжительного времени существовал локальный седиментационный бассейн, унасле­ довавший в плане положение древнего Предтиманского краевого прогиба. Заложение этого суббассейна, по-видимому, связано с фазой тектоно-магматической активизации, происходившей на рассматриваемой территории в конце среднедевонского времени. К север-северо-западу от Волонгской зоны в осевых частях Северного Тимана и п-ова Канин расположены выходы позднепротерозойского фундамента, которые в позднедевонское время, очевидно, являлись областью денудации. Это подтверждается присутствием в песчаниках покаямской свиты в качестве акцессориев ставролита и кианита, характерных для рифейских пород (Оловянишников, 2004). Бархатова В.П. К стратиграфии каменноугольных отложений Северного Тимана // Геология и нефтеносность Тимано-Печорской области. – Л.: Гостоптехиздат, 1959. – С. 185–203. (Тр. ВНИГРИ, Вып. 133). Безносов П.А. Ихтиофауна из разреза покаямской свиты верхнего девона по р. Волонга (Северный Тиман) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы XX науч. конф. – Сыктывкар, 2011. – С. 19–22. Коссовой Л.С. К стратиграфии девона Северного Тимана // Геология и нефтеносность Тимано-Печорской области. – Л.: Гостоптехиздат, 1959. – С. 121–133. (Тр. ВНИГРИ, Вып. 133). Коссовой Л.С. Девонская система: Северный Тиман // Геология СССР. – М., 1963. Т. II. Ч. 1. – С. 290– 300. Коссовой Л.С. Некоторые вопросы стратиграфии и структурно-фациальная зональность девона Северного Тимана // Геология и полезные ископаемые северо-востока Европейской части СССР и севера Урала: Труды VII геол. конф. Коми АССР. – Сыктывкар, 1971. Т. 1. – С. 143–147. Обручев Д.В. К биостратиграфии ихтиофаун нижнего и среднего палеозоя СССР // Сов. геология. 1958. № 11. – С. 40–53. Оловянишников В.Г. Геологическое развитие полуострова Канин и Северного Тимана. – Сыктывкар: Геопринт, 2004. – 80 с. Чернов А.А. Геологическое исследование Северного Тимана в 1937 году. – М.: Изд-во МОИП, 1947. – 97 с. Esin D., Ginter M., Ivanov A. et al. Vertebrate correlation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous on the East European Platform // Cour. Forsch.-Inst. – Senckenberg. 2000. Vol. 223. – P. 341–359. Ivanov A.O., Luksevics E. Late Devonian vertebrates of the Timan // Daba un Muzejs. – Riga, 1996. N 6. – P. 22–33. Материалы III Всероссийского совещания Литологически разрез покаямской свиты по р. Волонга характеризуется наличием мощных пачек косослоистых песчаников, переслаивающихся с алевролитами, аргиллитами и углистыми прослоями. В породах отмечено присутствие трещин усыхания, знаков ветровой и волновой ряби на поверхностях напластований, углефицированных остатков корневых систем растений и текстур, характерных для палеопочв. Одно из обнажений вскрывает эрозионный врез палеорусла. Перечисленный комплекс литологических особенностей типичен для аллювиально-дельтовых фаций, включающих приливные равнины, пляжевые отмели, внутренние лагуны, русловые каналы и пр. Таким образом, отложения покаямской свиты в пределах Волонгской структурно-фациальной зоны образовались не в условиях открытой, периодически заливаемой морем лагуны, как считалось ранее (Оловянишников, 2004), а в обстановках обширной приливной аллювиально-дельтовой равнины. Они представляют собой верхнюю часть мощного дельтового комплекса, который начал формироваться, предположительно, еще во франском веке (Чернов, 1947). Отмеченные для покаямского интервала своеобразные сообщества ихтиофауны, вероятно, не являлись постоянными компонентами данной палеоэкосистемы и во внутридельтовые области проникали спорадически в периоды паводков, что объясняет совместное нахождение как неморских, так и типично морских форм. Г.С. Бискэ, Д.В. Алексеев, А.В. Дженчураева, О.Ф. Гетман КОРРЕЛЯЦИЯ СОБЫТИЙ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ В ТЯНЬ-ШАНЕ: БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ До 1991 г. проведены массовые биостратиграфические работы, обеспечившие успех как геологических съемок для территорий всех нынешних среднеазиатских государств и Казахстана, так и последовавших обобщений, а также качество сводных обзорных карт масштаба 1 : 500 000 и более мелких. Относительно менее изученной оставалась восточная, китайская часть ТяньШаня, где среднемасштабные съемочно-поисковые работы, начатые некогда при участии советских геологов, не были обеспечены хорошей биостратиграфической основой, а поиски далее проводились в отрыве от общего геологического изучения. Затем положение изменилось: были получены многочисленные изотопные (цирконометрия по отдельным зернам, Ar-Ar и др.) датировки гранитоидов, отчасти базитов и некоторых вулканитов, особенно многочисленные именно в китайском Тянь-Шане. В результате центр тяжести работ по датированию стратифицированных толщ сместился, и биостратиграфические работы были ослаблены или даже заброшены уже почти повсеместно, а специалисты почти исчезли. Между тем дела для них еще много. 41 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео42 В частности, отметим вопросы, принципиально важные для понимания геодинамики позднепалеозойского (с девона) периода в истории Тянь-Шаня, решение которых потребовало и еще требует биостратиграфических данных. Стратиграфия батиальных фаций, охарактеризованных и датированных по конодонтам и отчасти по радиоляриям. Принципиальные вопросы – начало и конец глубоководной седиментации в регионе, т. е. появление в начале палеозоя и закрытие в его конце океанических бассейнов. Первое событие отнесено к началу ордовика (Куренков, Аристов, 1995). Второе вызывает дискуссию, особенно в китайской и мировой англоязычной литературе, так как в Южном Тянь-Шане были обнаружены якобы позднепермские радиолярии. Постколлизионные гранитоиды, датированные началом перми, прорывают эти отложения, что делает невозможным их позднепермский возраст. И действительно, на территории Киргизии Южно-Тяньшанский (Туркестанский) океан несомненно не моложе конца карбона – самого начала перми, на что указывают находки Gondolella верхнего (s.str.) карбона и обломки крупных фораминифер не моложе касимовского, редко ассельского возраста, переотложенные в глубоководных турбидитах (Бискэ и др., 2012). Стратиграфия карбонатных серий шельфовых и внутриморских обстановок. Имеются ли перерывы в разрезах девона – карбона и с чем они связаны? По крайней мере первый их этих вопросов решается изучением бентоса карбонатных платформ. Доказательство непрерывности разрезов позволяет ставить под сомнение отнесение некоторых южно-тяньшанских покровов, образованных известняками девона – карбона, к шельфу Тарима. Достаточно большое разрешение в определении времени начала субдукции, что выражается в последовательном омоложении к югу (по восстанию) кровли известняков и соответственно подошвы турбидитов под тектоническими покровами, начиная с башкирского века в верхних покровах и кончая ассельским на бывшем Таримском шельфе. Соответственно, прослеживание тех же покровов по простиранию пояса требует точной датировки кровли разреза по комплексу фораминифер соответствующих возрастов. Следует также иметь в виду, что во многих случаях требуется переизучение и ревизия стратиграфической ценности многих видов и целых комплексов ископаемых, что является «обратной задачей» биостратиграфии после уточнения возраста многих известных свит ряда регионов, включая Тянь-Шань. Для некоторых важных групп (радиолярии) дело еще в самом начале. Бискэ Г.С., Алексеев Д.В., Ван Бо, Ван Фей, Гетман О.Ф., Дженчураева А.В., Зельтманн Р., Аристов В.А. Структуры позднепалеозойского надвигового пояса китайского Южного Тянь-Шаня // Доклады РАН. 2012. Т. 442. № 1. – С. 1–5. Куренков С.А., Аристов В.А. О времени формирования коры Туркестанского палеоокеана // Геотектоника. 1995. № 6. – С. 22–31. М.С. Бойко КУНГУРСКИЕ АММОНОИДЕИ УРАЛА Кунгурский комплекс является наименее представительным и изученным из нижнепермских аммоноидных комплексов Урала. Изначально это было связанно с относительно небольшим объемом этого яруса, признававшимся до недавнего времени, а также с особенностями геологического развития данного региона в этом интервале времени. Так, крупнейший знаток нижнепермских аммонидей Урала В.Е. Руженцев не считал возможным вообще выделять отдельный кунгурский комплекс и ярус в целом (Тихвинская и др., 1967). Позднее общие черты кунгурской ассоциации аммоноидей стали прорисовываться в работах М.Ф. Богословской последней четверти прошлого века. Впервые описанный Богословской (1976) комплекс происходит из кунгурских слоев Среднего Приуралья и включают следующие виды: Uraloceras tchuvaschovi Bogoslovskaya, 1976, U. alekense Bog., 1976, U. sofronizkyi Bog., 1976, Paragastrioceras kungurense Myrskaya, 1948, Paragastrioceras sp., Thalassoceras sp. Прочие находки, ранее указывавшиеся из кунгурских отложений, Богословская отбросила, как недостоверные (Чувашов, Богословская, 1981). Ситуация изменилась с присоединением к кунгурскому ярусу саранинского горизонта, ранее включавшегося в артинский ярус. Данное решение было принято на основании обна- Возраст комплекса Нен. АО, п-в Канин, м. Надтейсаля Propinacoceras sp. Нен. АО, Пай-Хой, р. Таб-ю, табъюская св. Epijuresanites primarius Нен. АО, Пай-Хой, р. Лиур-Яга, лиуръягинская св. Medlicottia postorbignyana Tumaroceras dignum Богословская (1997); единичная находка Нен. АО, Пай-Хой, р. Саяха, лиуръягинская св. «Margoceras sp. nov.» Борисенков (в печати); единичная находка Нен. АО, о. Вайгач, лекворкутская св., Epijur.vaigachensis Богословская (1997); единичная находка Коми, р. Воркута, лекворкутская св. Artinskia aff. ariensis Богословская, Школин, 1998; единичная находка Перм. край, р. Ирень (бас. р. Сылва), д. Сухая Речка, кошелевская св. Paragastrioceras kungurense Родовая принадлежность, возможно, вид будет отнесен к «Margoceras»; единичная находка Сверд. обл., Красноуф. р-н, п. Александровка, кошелевская св. Uraloceras alekense Богословская, 1976 Сверд. обл., Красноуф. р-н, п. Подгорное, кошелевская св. U. sofronizkyi Богословская, 1976 Перм. край, р. Барда(бас. р. Сылва), кошелевская св. U. tchuvashovi Богословская, 1976 Башкирия, р. Ай, с. Алегазово, иреньский горизонт, кошелевская св. U. cf. fedorowi Thalassoceras sp. Комплекс недоизучен, помимо указанных форм имеется несколько экземпляров плохой сохранности, с архаичной (сакмарского уровня) внешней морфологией Саргинский–саранинский Саранинский– филипповский Аммониты Казахстан, Актюбинская обл., гр. Жиль-Тау Комментарии (Богословская, Шиловский, 2006); единичная находка (Попов, 2005); единичная находка Аммоноидеи (без определений) указываются из восточного склона Жильтауской гряды, филипповский возраст присвоен из структурных соображений (Гусев и др., 1964) Башкирия, Салаватский р-н, с. Мечетлино, прав. бер. р. Юрюзань, мысовская св. U. tchuvaschovi, U. fedorowi, В основании разреза встречен также U. sp. nov., U. bogoslovskayae, вполне стандартный саргинский комплекс (Бойко, 2009) U. cf. suessi, Par. verneuili, Par. karpinskii Коми, р. Печора, ниже с. Усть-Унья, Каменный Бор, чернореченская св. U. tchuvashovi Средняя и нижняя части разреза охарактеризованы саранинскими формами: Neopronorites permicus Uraloceras fedorowi. Коми, Интинский р-н, р. Черная (бас. Косью). U. sp.1, 2, Par. sp., Sakmarites. sp. Находки не привязаны к местным подразделениям, на данный уровень помещены исходя из определений (Богословская, Школин, 1999) Коми, Вуктыльский р-н, р. Кобылка (бас. р. Печора), чернореченская св. ? Par. cf. subtrapezoidale, Par. kojimense, S. sp. Небольшой комплекс, вероятно, близкий к кожимскому (Борисенков, 2009) Коми, Интинский р-н, р. Кожим, чернореченская св. U. unicum, Par. kojimense, Par. subjossae, Par. varium Кроме указанных эндемиков, присутствуют типично саргинские средне-южноуральские формы (Богословская, Школин, 1999) Материалы III Всероссийского совещания ?Филипповский Иреньский Местонахождения (положение в таблице не в полной мере отражает их стратиграфическую последовательность) Соликамский Кунгурские аммоноидеи на Урале и сопредельных территориях 43 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео44 ружения в основании этого горизонта конодонтов Neostreptognathodus pnevi Kozur. Таким образом, кунгурский комплекс был просто расширен автоматическим включением в него списка саранинских аммоноидей. Такая ситуация мало помогала в решении стратиграфических задач, поскольку известный на тот момент саранинский комплекс был практически не отличим от нижележащего саргинского комплекса артинского яруса (Чувашов и др., 1999). Значимым моментом в изучении кунгурских аммоноидей и стратиграфии отечественного кунгура в целом явилось обнаружение аммоноидей вида U. tchuvaschovi Bog., 1976 в непосредственной близости от места находок Neostr. pnevi в разрезе Мечетлино. Эта форма изначально была описана Богословской по сборам Б.И. Чувашова из заведомо кунгурских (тогда считавшихся филлиповскими) отложений р. Барда. Эта находка позволила определить границу артинского и кунгурского ярусов по аммоноидеям, сделать ее узнаваемой, в том числе в отсутствии находок конодонтов. Важно также, что слои, лежащие ниже находок Neostr. pnevi и U. tchuvaschovi, также охарактеризованы конодонтами и аммоноидеями, что позволяет разграничивать саргинские (артинские) и саранинские (кунгурские) комплексы. Недавнее изучение аммоноидей из артинских отложений разреза Каменный Бор (р. Печора) из коллекций ЦНИГРмузея и материалов К.В. Борисенкова (ВСЕГЕИ) показало присутствие U. cf. tchuvaschovi в верхах этой толщи. Это предварительное наблюдение представляется очень важным, на наш взгляд, по следующим причинам: во-первых, это третья точка, из которой известны аммоноидеи этого вида; во-вторых, указанные находки происходят из верхней части разреза, низы которого также охарактеризованы аммоноидеями (Буравский, 2004). Таким образом, на сегодняшний момент мы имеем как минимум два разреза с границей артинского и кунгурского ярусов, охарактеризованных аммоноидеями, т. е. как с саргинским, так и саранинским их комплексами. А также один разрез с видом-маркером, в котором пока не определено соотношение кунгурских и артинских слоев. Общая картина распределения аммоноидей в разрезах кунгура Уральского региона приведена в таблице. По-прежнему сложной является картина распределения находок аммоноидей в верхнекунгурских отложениях Уральского региона. Надо отметить, что автор придерживается мнения об отсутствии уфимского яруса как стратона общей стратиграфической шкалы и, следовательно, рассматривает аммоноидеи соликамского возраста как кунгурские. Находки аммоноидей возраста среднеиреньского и выше представляют собой совершенно изолированные и единичные находки – одна находка из одного местонахождения. Попытки обосновать существование некоего «уфимского» этапа эволюции аммоноидей на таком материале представляются бесплодными, учитывая также общую бедность верхнекунгурских аммоноидей бореальных областей и сложность корреляций локальных толщ (Леонова, 2006). Таким образом, сейчас появляются вполне отчетливые перспективы составления аммоноидной характеристики кунгурского яруса и определения его нижней границы на основании смены комплексов. В то же время аммоноидеи верхнего кунгура изучены слабо, в том числе по объективным причинам, и их использование для обоснования верхней границы яруса на данный момент не результативно. Решение данного вопроса заключается, как видно из таблицы, в изу­чении самых северных разрезов региона. Работа выполнена при поддержке проекта президиума РАН № 12-П-5-1029. Богословская М.Ф. Кунгурские аммоноидеи Среднего Приуралья // Палеонтол. журн. 1976. № 4. – С. 43–50. Богословская М.Ф. Аммоноидеи из пермских отложений Пай-Хоя и острова Вайгач // Палеонтол. журн. 1997а. № 6. – С. 23–28. Богословская М.Ф., Школин А.А. Аммоноидеи // Биота востока Европейской России на рубеже ранней и поздней перми / ред. Т.А. Грунт, Н.К. Есаулова, Г.П. Канев. – М.: ГЕОС, 1998. – С. 245–251. Богословская М.Ф., Шиловский О.П. Головоногие моллюски // Верхняя пермь полуострова Канин / отв. ред. Т.Н. Грунт. – М.: Наука, 2006. – С. 30–32. Бойко М.С. Аммоноидеи из пограничных отложений артинского и кунгурского ярусов разреза Мечетлино (Башкирия) // Современные проблемы изучения головоногих моллюсков. Вып. 2. – М.: ПИН РАН, 2009. – С. 99–101. Борисенков К.В. Новые находки пермских аммоноидей на р. Кобылка (Северный Урал) // Палеонтол. журн. 2010. № 3. – С. 18–22. Буравский А.А. Условия образования нижнепермских терригенных отложений на реке Верхняя Печора // Материалы докладов XV Коми республиканской молодежной науч. конф. – Сыктывкар, 2004. Т. 1. – С. 147–149. Гусев А.К., Богатырев В.В., Игонин В.М., Солодухо М.Г. Стратиграфия верхнепалеозойских отложений Актюбинского Приуралья. – Казань: Изд-во Казанского ун-та. 1968. – С. 1–218. Леонова Т.Б. Роудские аммоноидеи в северных районах земного шара // Эволюция биосферы и биоразнообразия: Сб. статей. – М., 2006. – С. 540–551. Основные черты стратиграфии пермской системы СССР / Под ред. Г.В. Котляр, Д.Л. Степанова. – Л.: Недра, 1984. – 280 с. Попов А.В. Новый вид рода Epijuresanites (Ammonoidea) из пермских отложений Пай-Хоя // Па­ леонтол. журн. 2005. № 1. – С. 18–19. Тихвинская Е.И., Тихвиский И.Н., Игонин В.M. и др. Пермская система. Кунгурский ярус, его объем и распространение // Материалы по геологии востока Русской платформы. Вып. 2. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1967. – С. 354. Чувашов Б.И., Богословская М.Ф. Комплексы аммоноидей в нижней перми Среднего Урала // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1981. Т. 56. Вып. 2. – С. 89–102. Чувашов Б.И., Черных В.В., Богословская М.Ф., Мизенс Г.А. Биостратиграфия пограничных артинскокунгурских отложений Западного Урала и Приуралья // Верхнепермские стратотипы Поволжья. – М.: ГЕОС, 1999. – С. 336–369. ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕНЛОКСКИХ (СИЛУР) КОНОДОНТОВ В РАЗРЕЗАХ ЛИТВЫ В Литве венлокские, как все силурийские отложения в целом, перекрываются мощной толщей девонских, пермских, триасовых, юрских и меловых отложений. Поэтому их изучение проводится только на основе кернового материала глубоких буровых скважин. Венлокские отложения представлены более чем 100-метровой толщей разнофациальных отложений. В западной и в юго-западной части Литвы они представлены глубоководными аргиллитовыми сланцами с богатой граптолитовой фауной, а в восточных разрезах они состоят из лагунных красноцветных доломитовых мергелей с прослоями пластинчатого гипса. Распространение венлокских конодонтов в палеобассейне Материалы III Всероссийского совещания А. Бразаускас 45 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео46 Многолетний опыт исследования силурийских конодонтов позволил установить некоторые особенности их распространения в седиментационном бассейне на разных таксономических уровнях. Если рассматривать распределение венлокских конодонтов в седиментационном бассейне на родовом уровне, с точки зрения фациальной модели, разработанной Х. Нестор и Р. Эйнасто (1977) для Прибалтийского силурийского седиметационного бассейна, отчетливо видно, что представители рода Dapsilodus приурочены только к 5-й и частично 4-й фациальным зонам (рисунок). Распространение родов Pseudooneotodus и Decoriconus прослеживаются от 5-й до 3-ей фациальной зоны. Представители рода Panderodus установлены в 4-й и в 3-й фациальных зонах. Особи рода Walliserodus обнаружены только в 3-й фациальной зоне. Большинство видов рода Ozarkodina приурочены к 3-й и к 2-й фациальным зонам. Такой характер распространения венлокских конодонтов дает повод утверждать, что конодонтоносители, аппараты которых представлены конусовидными формами, обитали в глубоководной части бассейна, со сложными элементами – в мелководной. В начале 1990-х годов автором (Бразаускас, 1993) была осуществлена попытка для каждой изученной пробы подсчитать процентное содержание каждого вида, а также процентное соотношение конусовидных и морфологически сложных конодонтовых элементов. Прослеживание динамики упомянутого соотношения показало, что оно имеет определенную связь с этапами развития Прибалтийского силурийского седиментационного бассейна. Важно отметить, что независимо от глубины бассейна достаточно четко в разрезах выделяются кратковременные интервалы, в которых резко сокращается процентная доля конусовидных конодонтов, несмотря на то, что они приурочены к глубоководным частям бассейна. Отмеченные интервалы, как показало их сопоставление с граптолитовыми зонами, в разных разрезах оказались одновозрастными. Это обстоятельство дает еще один дополнительный стратиграфический инструмент при корреляции разнофациальных силурийских разрезов. В.В. Буланов НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МОРФОЛОГИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И ОНТОГЕНЕЗУ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ KARPINSKIOSAURIDAE (TETRAPODA, SEYMOURIAMORPHA) Сеймуриаморфные амфибии обособляются как группа внутри антракозавроморфного ствола, по-видимому, не позднее конца каменноугольного периода. Местонахождения с наиболее архаичными представителями отряда – Utegeniidae (Курты; Казахстан) – датируются поздним карбоном – ранней пермью (Ивахненко, 1987), но приурочены к району, детальная стратиграфия которого не разработана. В целом единственным косвенным подтверждением датировки является общая примитивность утигениид по сравнению со всеми другими, заведомо пермскими, представителями сеймуриаморф, однако проведение прямых корреляций с использованием самой группы невозможно, а другое фаунистическое наполнение типового местонахождения отсутствует. Древнейшие сеймуриаморфы, временне распространение которых фиксируется достаточно точно (североамериканские Seymouriidae), известны с начала ранней перми (Cutler Formation) и выглядят слишком специализированными, чтобы претендовать на роль предкового таксона для большинства известных семейств. Морфология сеймуриид демонстрирует ряд адаптаций к наземному образу жизни. Представители группы имеют сравнительно короткое тело, массивные конечности и их пояса. Гипертрофированные ушные вырезки являются результатом прогрессивного развития слухового аппарата, адаптированного к условиям наземной среды. Ларвальный этап онтогенеза сеймурий оканчивается сравнительно рано: при длине черепа 20 мм молодые сеймурии уже почти лишены желобов сейсмосенсорных органов на покровном дерматокраниуме (Klembara at al., 2007). Представители рода Seymouria известны из нижнепермских отложений Северной Америки и Европы. Близкими к сеймурии являются Discosauriscidae (Discosauricus, Ariekanerpeton и др.); их отличают меньшие размеры и более пролонгированный ларвальный период (Ивахненко, 1987; Bulanov, 2003). После обнаружения крупных сеймуриаморф, таких как Kotlassia и Karpinskiosaurus, в верхней перми Восточной Европы (Амалицкий, 1921) их традиционно сближали с северо- Материалы III Всероссийского совещания американскими сеймуриаморфами. Среди европейских родов особый интерес представляет Karpinskiosaurus, выделяемый в семейство Karpinskiosauridae. Валидность описанных внутри рода видов из-за фрагментарности типовых материалов не вполне очевидна, однако онтогенез, судя по имеющимся данным, проходил по сеймуриидному сценарию. Новые находки в местонахождении Монастырский овраг-D (Татарстан) указывают, что редукция сейсмосенсорных органов, обычно увязываемая с окончанием ларвальной стадии, происходит при длине черепа около 25 мм, т. е. значительно раньше по сравнению с другими восточно-европейскими родами (например, Microphon), а также дискозаврисцидами. Особи с длиной черепа около 50 мм (экз. ПИН, № 4617/158, местонахождение Бабинцево; Bulanov, 2003) уже имеют характерный для дефинитивной стадии ячеистый орнамент на большинстве покровных окостенений крыши черепа. Примерно на этой же стадии начинают окостеневать периотикальные структуры и exoccipitalia (Буланов, 2005). Показательно дефинитивное строение слуховой капсулы, образованной хорошо окостеневшими передне- и заднеушной костями, причем овальное окно, расположенное на конце образованного ими тубусоподобного выступа, сильно выдвинуто латерально в направлении ушной вырезки. Новые данные по морфологии черепа карпинскиозаврид получены при переизучении материалов из терминально-пермского местонахождения Самбуллак (Южное Приуралье), ранее описанных как один из видов Kotlassia – K. grandis (Твердохлебова, Ивахненко, 1994). Переизучение голотипа (экз. СГУ, № 104В/165), а также сопутствующих в местонахождении посткраниальных остатков указывает на их принадлежность к роду Karpinskiosaurus. Голотип сохранился очень фрагментарно, однако даёт возможность изучения отделов краниума, плохо представленных на других материалах по карпинскиозаврам. К таким структурам можно отнести квадратно-артикулярный комплекс, замечающие окостенения слуховых капсул, stapes, базисфеноид и др. Квадратная кость высокая, что косвенно указывает на ранний процесс оссификации palatoquadratum. Грацильность stapes экз. СГУ, № 104В/165 позволяет говорить о достаточно совершенном слуховом аппарате у карпинскиозаврид. Суставная поверхность квадратного мыщелка короткая, ровная, разделенная пережимом на латеральную и медиальную части. Суставная поверхность articulare тоже ровная и в два раза превышает по площади таковую quadratum. Строение квадратно-артикулярного сочленения допускает значительные по амплитуде продольные движения нижней челюсти в суставе, что хорошо согласуется с морфологией зубной системы карпинскиозавров, образованной однотипными зубами с крючковидно загнутыми коронками. Начиная с работ А.П. Амалицкого, была установлена одна из характерных особенностей карпинскиозаврид в строении посткраниального скелета – развитие высоких, апикально расширенных остистых отростков у позвонков предкрестцового отдела. Дополнительное препарирование посткраниума голотипа Karpinskiosaurus secundus (экз. ПИН, № 2005/81) и других остатков, относимых к этому виду, из типового местонахождения (Соколки), показало наличие таких отростков на протяжении почти всего предкрестцового отдела. Ориентация зигапофизов шейных позвонков и форма их центров указывают на хорошо выраженную вертикальную флексию шеи и приподнятое за счет этого положение головы. Остистые отростки у крестцовых позвонков не развиты, но сам крестец несет черты дополнительной консолидации. Ориентация поверхностей зигапофизов наклонная, что блокирует их взаимное смещение в горизонтальной плоскости. Связанные с крестцовыми позвонками интерцентры продольно расширены и широко подстилаются спереди и сзади торцевыми краями центров. Сохранность крестцовых ребер у голотипа позволяет установить наличие по меньшей мере двух крестцовых позвонков. Дистальный конец ребра следующего за ними позвонка на голотипе разрушен, однако судя по сильному развитию площадок для его крепления на центре, он, возможно, также мог иметь связь с тазовым поясом. В тазовом поясе карпинскиозавра следует отметить не типично глубокий гленоид с сильно нависающим верхним краем, в плечевом – высокую скапулярную пластину и хорошо развитый cleithrum. Сравнение с сеймурией показывает, что центры позвонков Karpinskiosaurus развиты сильнее: относительно размеров невральных дуг они более крупные и заметно удлинены. Таким образом, при сходном числе предкрестцовых позвонков карпинскиозавры имели более вытянутое тело. Центры позвонков Seymouria очень небольшие; зигапофизы, напротив, короткие и очень широкие, обеспечивающие прочность осевого скелета при наземной локомоции. У карпинскиозавров требуемая жесткость, вероятно, обеспечивалась за счет связок и сухожильного скелета, размещенных на гипертрофированных остистых отростках, которые у сеймурий развиты только 47 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео48 в шейном отделе позвоночника (White, 1939). Можно предположить также, что связочно-сухожильный скелет в сочетании с большей длиной тела обеспечивает бльшую свободу при ундуляционном движении, востребованном в условиях водной среды, с которой карпинскиозавры, несмотря на свою адаптивность к наземному существованию, с большой вероятностью были связаны трофически (Буланов, 2006). Анализ ключевых апоморфий карпинскиозаврид в строении черепа указывает, что они были накоплены преимущественно в результате прогрессивного развития тимпанальной области и челюстного аппарата. Увеличение размеров таблитчатых костей индуктивно связано с быстрым и ранним развитием перекрываемых ими периотикальных структур; разрастание tabularia в каудо-латеральном направлении приводит к характерному резкому изгибу затылочного края черепа и обусловлено, вероятно, необходимостью увеличения костного обрамления для annulus tympanicum (или функционально аналогичной ему структуры). Изменение направления приоритетного роста tabulare является причиной необычного подстилания этой кости лежащим впереди parietale, что не типично для всех остальных известных сеймуриаморф. В отличие от сеймуриид, у которых ушная вырезка почти доходит до орбиты, у Karpinskiosaurus передний край вырезки расположен на уровне средней части надвисочной кости, т. е. в исходном для сеймуриаморф положении. Как упоминалось выше, увеличение размеров вырезки карпинскиозавра происходит путем разрастания ее костного обрамления преимущественно в каудальном направлении и отчасти медиально за счет изгиба внешнего фланга надвисочной кости. Таким образом, несмотря на общую тенденцию к прогрессивному развитию наземной локомоции и слухового аппарата у карпинскиозаврид, с одной стороны, и сеймуриид, с другой, процесс этот происходил явно независимо, что свидетельствует об очень ранней, видимо, допермской, дивергенции таксонов. По морфологии черепа и посткраниального скелета карпинскиозавриды гораздо более тяготеют к котлассиоидным сеймуриаморфам (sensu Bulanov, 2003), чем собственно к сеймуриидам, а частичное сходство между обеими группами вызвано адаптацией к более наземному образу жизни и, как следствие, – принципиальным сходством онтогенетического сценария. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 11-04-01055, программы фундаментальных исследований № 28 Президиума Российской академии наук «Проблемы происхождения жизни и становления биосферы». Амалицкий В.П. Seymouridae. Северодвинские раскопки проф. В.П. Амалицкого. Вып. 2. – Петроград: Изд-во АН, 1921. – 14 с. Буланов В.В. Первые данные о карпинскиозаврах ишеевского фаунистического комплекса // Па­ леонтол. журн. 2005. № 2. – С. 77–80. Буланов В.В. Трофические адаптации сеймуриаморф (Parareptilia) и положение группы в структуре водных сообществ конца палеозоя // Эволюция биосферы и биоразнообразия: Сб. статей. – М.: Товарищество научн. изд. КМК, 2006. – С. 394–415. Ивахненко М.Ф. Пермские парарептилии СССР. – М.: Наука, 1987. Т. 223. – 159 с. (Тр. Палеонтол. ин-та АН СССР). Твердохлебова Г.И., Ивахненко М.Ф. Новые тетраподы из татарского яруса Восточной Европы // Палеонтол. журн. 1994. № 2. – С. 122–126. Bulanov V.V. Evolution and systematic of seymouriamorph parareptiles // Рaleontol. J. 2003. Sappl. 1. – P. 1–105. Klembara J., Berman D.S., Henrici A.C., Cernansky A., Werneburg R., Martens T. First description of skull of Lower Permian Seymouria sanjuanensis (Seymouriamorpha, Seymouriidae) at an early juvenile growth stage // Ann. of Carnegie Mus. 2007. Vol. 76. N 1. – P. 53–72. White T.E. Osteology of Seymouria bailorensis Broili // Bull. of the Mus. of Comp. Zool. – Harvard College. 1939. Vol. 85. – P. 325–409. Н.С. Бухман В данном сообщении приводятся некоторые предварительные результаты изучения каламитов из Ново-Кувакского местонахождения среднепермской палеофлоры (Наугольных, 2011; Бухман, 2011). Территориально это местонахождение расположено на крайнем северо-востоке Самарской области вблизи границы с Татарстаном и находится на юго-западной границе Бугульминско-Лениногорской группы местонахождений нижнеказанской флоры (Есаулова, 1986). Поэтому нет ничего удивительного в том, что видовой состав каламитов из Ново-Кувакского ­местонахождения близок к описанному Н.К. Есауловой и вполне соответствует нижнеказанскому подъярусу казанского яруса. В собранной нами коллекции в основном имеются представители видов Paracalamites frigidus Neuburg (11 образцов) и Paracalamites similis Zalessky (5 образцов). Для изученных образцов каламитов характерен относительно небольшой диаметр отливки и достаточно большое (в сравнении с диаметром внутренней отливки) расстояние между узлами (рис. 1, 2). На фотографиях представлены некоторые наиболее интересные из обнаруженных окаменелостей. Материалы III Всероссийского совещания О КАЛАМИТАХ ИЗ НОВО-КУВАКСКОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ СРЕДНЕПЕРМСКОЙ ПАЛЕОФЛОРЫ (КАЗАНСКИЙ ВЕК) Рис. 1 Фиг. 1, 2. Paracalamites frigidus Neuburg, экз. 2/5 (отливка внутренней полости ствола, противоположные стороны одного штуфа): на фиг. 1 в непосредственной близости от каламита виден плохо сохранившийся филлоид и широколанцетный объект с чешуйчатой периферией, на фиг. 2 виден узел и оттиски инфранодальных каналов, а также срединные бороздки на ребрах; фиг. 3. Paracalamites similis Zalessky, экз. 2/24 (отпечаток отливки внутренней полости ствола). В непосредственной близости видны отпечатки листьев (?) с частыми линейными жилками (или желобками) и розетковидный объект неясной этиологии; фиг. 4. Paracalamites similis Zalessky (слева, отпечаток отливки) и Paracalamites frigidus Neuburg (справа, отливка), экз. 2/75; фиг. 5а, 5б. Paracalamites frigidus Neuburg (отливка внутренней полости ствола), экз. 2/75, отливка в поперечном сечении имеет серповидную форму (фиг. 5б) 49 Рис. 2 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Фиг. 1а, 1б. Paracalamites frigidus Neuburg (отливка внутренней полости ствола, противоположные стороны одной отливки), экз. 3/3. Странным кажется дополнительный узел (выделен стрелкой); фиг. 2а, 2б. Paracalamites similis ���������������������� Zalessky�������������� (2а – отпечаток отливки, общий вид, 2б – структура узла), экз. 5/25, на фиг. 2а (в левом нижнем углу) – отпечатки веерных листьев, подозрительно часто соседствующих с отливками стволиков каламитов; фиг. 3а, 3б. Paracalamites frigidus Neuburg������������� �������������������� (3а – отливка, 3б – ее отпечаток), экз. 5/3, на фиг. 3б (в правой части) – отпечаток веерного листа 50 Бухман Л.М. Таксономический состав ископаемой флоры из местонахождения Новый Кувак (казанский ярус, верхняя пермь; Самарская область) // Эволюция органического мира в палеозое и мезозое. – СПб.: Изд-во Маматов, 2011. – С. 15–23. Наугольных С.В., Сидоров А.А. Первая находка репродуктивного органа неггератиофита в пермских отложениях России // Эволюция органического мира в палеозое и мезозое. – СПб.: Изд-во Маматов, 2011. – С. 65–70. Есаулова Н.К. Флора казанского яруса Прикамья. – Казань: Изд-во КГУ, 1986. – 176 с. А.С. Бяков ПЕРМСКАЯ БИОГЕОГРАФИЯ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ И ПРОБЛЕМА БИПОЛЯРНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФАУН Поздний палеозой и, в частности, пермский период является временем, когда дифференциация морских фаун проявилась наиболее ярко. В определенной степени это объясняется похолоданием климата (особенно в ранней перми), но, вероятно, в большей степени геократическим характером пермского отрезка геологической истории Земли, выразившимся в образовании многочисленных биогеографических барьеров на фоне формирования суперматерика Пангеи-2. В перми, когда климатическая зональность проявилась наиболее отчетливо, все исследователи признают существование трех крупных биохорий высокого ранга: Бореальной, Тетической и Гондванской (Нотальной), которые мы рассматриваем в ранге надобластей. В свою очередь в их пределах разные исследователи по разным группам фауны выделяют различные провинции. Также отметим, что ряд регионов на протяжении перми принадлежал различным биогеографическим надобластям. В частности, это касается Урала, до середины ранней перми входившего в состав Тетической надобласти (Ганелин, Котляр, 1984). То же самое относится и к ряду отдельных провинций (например, Новоземельскую провинцию Бореальной надобласти по двустворчатым моллюскам до начала средней перми мы включаем в состав Западнобореальной области, тогда как позднее она уже входит в Восточнобореальную область). Тетическая надобласть охватывает бассейны Северной Америки, Средиземноморья, Северного Кавказа, Ирана, Памира, Индокитая, Южного Китая, Южной Монголии, Приморья, Ко- Материалы III Всероссийского совещания рякии, Японии и характеризуется исключительным богатством таксономического состава двустворчатых моллюсков (Girthy, 1910; Chronic, 1952; Chen, 1962; Ciriacks, 1963; Nakazava, Newell, 1968; Newell, Boyd, 1970, 1995; Yancey, Boyd, 1983 и др.). Здесь широко проявлен эндемизм на семейственном уровне. Характерны многие группы двустворок, отсутствующие в бассейнах умеренных широт, – посидонииды, энтолииды, аннуликонхиды, изогномонииды, остреиды, алатоконхиды и др. Много паралледонтид, бакевеллид, миалинид, птеринеид, раличных групп пектинодных, птеринопектинид, шизодусов и некоторых близких к ним родов. Интересно, что пермские сообщества двустворок Северной Америки (Мид Континента и Аризоны) во многом близки западнобореальным, отличаясь лишь бльшим фаунистическим разнообразием (особенно среди пектинаций) и присутствием некоторых специфических родов (Goniophora, Cassianella, Costatoria, Gryphellina) (Newell, 1940; Chronic, 1952; Ciriacks, 1963). В то же время и в тех и других сообществах много миалин, бакевеллий, птеринеид, пермофорусов. Заметим, что, как правило, двустворки являются второстепенным элементом бентосных тетических сообществ, явно уступая, особенно в количественном отношении, брахиоподам и некоторым другим группам (Невесская, 1998). Бореальная надобласть. Бореальные сообщества двустворок отличаются прежде всего относительно невысоким таксономическим разнообразием, ранг которого не превышает семейственного или даже подсемейственного (Newell, 1955; Logan, 1967; Муромцева, Гуськов, 1984; Бяков, 2010 и др.). Из бореальных эндемичных подсемейств двустворок можно назвать только Kolymiinae, доминирующее во многих бассейнах востока Бореальной надобласти. Полностью отсутствуют здесь многие пектиноидные формы (посидонииды, энтолииды, аннуликонхиды и др.), алатоконхиды, изогномониды, ряд «индикаторных» тетических родов (Goniophora, Cassianella, Costatoria и др.). Весьма ограниченное распространение имеют птеринопектиниды, кардитиды и люциниды. Нередко в сообществах значительную роль играют нукулиды; велика доля родов, имеющих биполярное распространение, особенно Merismopteria, Undopecten, Myophossa, Cosmomya, Praeundulomya, Vacunella, Myonia, Megadesmus, Pyramus, Stutchburia. В отличие от бассейнов Тетиса, в некоторых бореальных бассейнах (в частности, цехштейновом бассейне Западной Европы и северо-восточноазиатских) двустворки являются одной из главных групп бентоса, будучи представленными большим количеством экземпляров и иногда играя породообразующую роль. В то же время изучение двустворчатых моллюсков восточной части Бореальной надобласти показало их значительное таксономическое разнообразие, в ряде случаев не уступающее таковому или даже превосходящее его в некоторых бассейнах Тетиса, что позволяет рассматривать эту группу в качестве одного из наиболее важных компонентов пермской морской биоты. Гондванская (Нотальная) надобласть включает в себя морские бассейны Южной Америки, Южной Африки, Индостана, Тибета, Океании (Тимор и Новая Каледония), Антарктиды, Австралии и Новой Зеландии. Сообщества двустворчатых моллюсков, так же как и в Бореальной надобласти, характеризуются относительно невысоким таксономическим разнообразием (Di­ckins, 1956 и др., Waterhouse, 1964, 2001 и др.; Rocha-Campos, 1970; Runnegar, 1970, 1972; Gonzalez, 1974 и др.). Наиболее примечательно присутствие в ранней перми эндемичного семейства Euridesmidae, а в средней – Permoceraminae. Имеется несколько эндемичных подсемейств пектиноидных, недавно установленных Б. Уотерхаузом (Waterhouse, 2001, 2008). Характерно также распространение группы иноцерамоподобных двустворчатых моллюсков подсемейства Atomodesmatinae, широко развито явление биполярности (на уровне родов и даже отдельных видов). В бассейне Парана (Бразильская провинция) присутствуют специфические солоноватоводные двустворки, включающие несколько эндемичных родов и эндемичное подсемейство Pinzonellinae (Runnegar, Newell, 1971). Виды двустворок, очень близкие, а иногда и практически идентичные с гондванскими (в частности, с западно- и восточноавстралийскими), встречены как в Западнобореальной, так и в Восточнобореальной областях Бореальной биогеографической надобласти. Здесь можно выделить по крайней мере пять стратиграфических уровней распространения биполярных таксонов (Бяков, 2011). Интересно отметить, что пермские бивальвиевые фауны Аргентины обнаруживают сходство с бореальными только на родовом уровне при практически полном отсутствии близких видов (Biakov, 2009). Можно предполагать, что трансэкваториальные миграции биполярных таксонов были неоднократными и происходили различными путями, в частности, через ряд «транзитных» зон. При этом проникновение гондванских (австралийских и новозеландских) двустворок в восточнобореальные бассейны были более частыми, что, по-видимому, облегчалось меньшей 51 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео52 ­ золированностью последних от Мирового океана. Судя по определенной диахронности пои явления некоторых таксонов в разных полушариях, эти миграции происходили, возможно, как из Южного полушария в Северное, так и обратно. Этому способствовали глобальные трансгрессии, наиболее крупные из которых были в начале асселя, середине кунгура, начале роуда и в кепитене. Обмен бивальвиевыми фаунами между бассейнами Аргентины и Бореальной надобласти был крайне затруднен, очевидно, из-за каких-то биогеографических барьеров. Наиболее вероятной причиной была значительная изолированность аргентинских бассейнов от акваторий Мирового океана. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 11-05-00053 и 11-05-00950. Бяков А.С. Зональная стратиграфия, событийная корреляция, палеобиогеография перми Северо-Востока Азии (по двустворчатым моллюскам). – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2010. – 262 с. Бяков А.С. Распространение биполярных двустворчатых моллюсков перми в Бореальной надобласти // Эволюция органического мира в палеозое и мезозое: Сб. научных работ. – СПб.: Изд-во Маматов, 2011. – С. 23–24. Ганелин В.Г., Котляр Г.В. Районирование и общая характеристика пермской системы на территории СССР. Восточно-Европейская подобласть // Основные черты стратиграфии пермской системы СССР. – Л.: Недра, 1984. – С. 16–20. Муромцева В.А., Гуськов В.А. Пермские морские отложения и двустворчатые моллюски Советской Арктики. – Л.: Недра, 1984. – 208 с. Невесская Л.А. Этапы развития бентоса фанерозойских морей. – М.: Наука, 1998. – 503 с. Biakov A.S. Similarities and differences of the lowermost Permian bivalve faunas of Patagonia and Northeast Asia // An approach to the Carboniferous-Early Permian Stratigraphy, Paleontology, Paleogeography and Paleoclimatology of the Calingasta-Uspallata subbasin (western Argentina) and Tepuel-Genoa basin (Patagonia). Field guidebook and abstracts. – Trelew: Museo Paleontologico Egidio Feruglio, 2009. – P. 65. Chronic H. Molluscan fauna from the Permian Kaibab formation Walnut Canyon, Arizona. Bull. Geol. Soc. Amer. 1952. Vol. 63. N 2. – P. 95–165. Chen C.-C. Lamellibranchiata from the Upper Permian of Ziyun, Guizhou (Kueichow) // Acta Palaeontologica Sinica. 1962. Vol. 10. N 2. – P. 191–203. Ciriacks K.W. Permian and Eotriassic bivalves of the Middle Rockies // Bull. Amer. Mus. Nat. History. 1963. Vol. 125. Art. 1. – 99 p. Dickins J.M. Permian pelecypods from the Carnarvon Basin, Western Australia // Bull. Bur. Miner. Resourc. Geol. and Geoph. Australia. 1956. N 29. – 42 p. Girthy G.H. Fauna of the Phosphate beds of the Park City formation in Idaho, Wyoming and Utah // U.S. Geol. Surv. 1910. Bull. 436. – 82 p. Gonzalez C.R. Bivalvos del Permico inferior de Chubut, Argentina // Acta geol. Lilloana. 1974. Vol. 12. N 13. – P. 233–271. Logan A. Permian bivalvia of Northen England // Palaeontographical Society. 1967. Vol. 121. N 518. – 72 p. Nakazawa K., Newell N.D. Permian Bivalves of Japan // Memoirs of the Faculty of Kyoto University, Series of Geol., Mineral. 1968. Vol. 35. N 1. – 108 p. Newell N.D. Invertebrate Fauna of the Late Permian Whitehorse Sandstone // Bulletin of the Geological Society of America. 1940. Vol. 51. – P. 261–336. Newell N.D. Permian pelecipods of East Greenland. Meddelelser om Gronland undgivne af kommissionen for videnskabelige undersogelser i Gronland. 1955. Bd. 110. N 4. – 48 p. Newell N.D., Boyd D.W. Oyster-like Permian bivalvia // Bull. of the American Museum of Natural History. 1970. Vol. 143. Art. 4. – P. 219–281. Newell N.D., Boyd D.W. Pectinoid bivalves of the Permian–Triassic crisis // Bull. of the American Museum of Natural History. 1995. N 227. – 95 p. Rocha-Campos A.C. Moluscos permianos da Formacao Rio Bonito (Subdrupo Guata) sc. // Boletin. Dep. Nac. Prod. Min. Div. Geol. Min. 1970. N 251. – 89 p. Runnegar B. Euridesma and Glendella gen. nov. (Bivalvia) in the Permian of Eastern Australia // Bull. Bur. Miner. Resourc. Geol. and Geophys. Australia. 1970. N 116. – P. 83–118. Runnegar B. Late Palaeozoic bivalvia from South America; provincial affinities and age // Ann. Acad. Brasil Sciencies. 1972. N 44, supl. – P. 295–312. Runnegar B., Newell N.D. Caspian-like relict molluscan fauna in the South American Permian // Bulletin of the American Museum of Natural History. 1971. Vol. 146. Art. 1. – New York: Columbia University. – 66 p. Yancey T.E., Boyd D.W. Revision on the Alatoconchidae: a remarkable family of Permian bivalves // Palaeontology. 1983. Vol. 26. N 3. – P. 497–520. Waterhouse J.B. Permian stratigraphy and faunas of New Zealand // Bull. Geol. Surv. of New Zealand. 1964. Vol. 72. – 101 p. Waterhouse J.B. Late Paleozoic Brachiopoda and Mollusca from Wairaki Downs, New Zealand // Earthwise. 2001. Vol. 3. – 195 p. Waterhouse J.B. Aspects of the evolutionary record for fossils of the Bivalve Subclass Pteriomorphia Beurlen. // Earthwise. 2008. Vol. 8. – 220 p. А.С. Бяков, И.Л. Ведерников На северо-востоке Азии в течение пермского периода существовали различные геодинамические обстановки, во многом определявшие особенности осадконакопления связанных с ними седиментационных бассейнов (Бяков и др., 2005). Особенно широко были распространены процессы терригенного осадконакопления, однако в каждом конкретном случае они имели свою специфику, определявшуюся типом бассейна седиментации. Наиболее ярко процессы терригенного осадконакопления проявились в Охотском и АянЮряхском бассейнах – в зоне перехода от Охотского массива к глубоководному его обрамлению, которому в современном тектоническом плане отвечает периферия массива и Аян-Юряхский антиклинорий. В течение пермского периода здесь накопилась мощная (до 7 км) толща песчано-глинистых осадков с существенной долей пирокластического материала, обусловленного влиянием Охотско-Тайгоносской вулканической дуги. Важно также отметить, что с пермскими породами Аян-Юряхского антиклинория связан ряд крупных месторождений золота, в частности, одно из крупнейших в мире – Наталкинское, прогнозные запасы которого составляют около 2 тыс. т. Пермские отложения Охотского и Аян-Юряхского бассейнов образуют сложно построенный комплекс осадков, испытывающий закономерные изменения условий их образования в направлении с юго-запада на северо-восток (в современных координатах) – от континентальных и прибрежно-морских обстановок до глубоководных, соответствующих подножию континентального склона. Нами разработана фациально-седиментационная модель строения пермских отложений Охотского и Аян-Юряхского бассейнов, которую можно представить в виде обобщенного литолого-фациального профиля и серии схематичных профилей, иллюстрирующих стадии его развития. Достоверность предложенной модели различна для разных частей рассматриваемых бассейнов и определяется прежде всего степенью изученности на современном уровне знаний пермских разрезов. Наибольшая изученность характеризует разрезы Аян-Юряхского и северовосточной периферии Охотского бассейна, гораздо меньше информации (прежде всего из-за их удаленности) по пермским разрезам центральных частей Охотского бассейна. Вещественный и гранулометрический состав отложений также весьма различен – от гравелитов и диамиктитов до глинистых сланцев и вулканитов. Практически во всех типах пород присутствует та или иная доля пирокластического материала, количество которого увеличивается при приближении к Охотскому массиву, где располагались вероятные центры извержений Охотско-Тайгоносской вулканической дуги. Доля туфовой составляющей здесь достигает не менее 10–20% объема пород; иногда встречаются и лавы основного состава (Бяков, Ведерников, 1990). Ярким доказательством первичного вулканогенного происхождения пермских пород Охотского и Аян-Юряхского бассейнов является резко повышенное содержание кремнезема в глинистых породах (в среднем 65,5 вес. %) (Ведерников, Бяков, 2007). Спецификой рассматриваемых бассейнов является широкое развитие глубоководных отложений, прежде всего, различных типов гравититов, среди которых выделен ряд макрофаций: проксимальных и дистальных турбидитов, дебризных, зерновых и глинистых потоков (дебритов, грейнитов и потоков тонкого илистого материала). Существенное значение играют также макрофации нефелоидитов и нарушеннослоистых алевролитов дегенеративной стадии рифтогенеза в условиях глубоководья. В отличие от верхнепалеозойских относительно мелководных циклично построенных отложений пассивной окраины Северо-Азиатского кратона (Будников и др., 2003), где цикличность определялась возвратно-поступательным движением береговой линии палеобассейна, трансгрессивно-регрессивный характер осадконакопления рассматриваемых бассейнов, особенно глубоководных его частей, распознается с большим трудом. Однако все наиболее значимые стратиграфические уровни, отражающие в главных чертах этапность развития системы бассейнов Cеверо-Восточной Азии, могут здесь быть распознаны. Следует подчеркнуть, что седиментологические предпосылки являются одним из важных факторов, контролирующих размещение золотого оруденения в пределах Аян-Юряхского Материалы III Всероссийского совещания ФАЦИАЛЬНО-СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТРОЕНИЯ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ОХОТСКОГО И АЯН-ЮРЯХСКОГО БАССЕЙНОВ (СЕВЕРО-ВОСТОК АЗИИ) 53 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео54 антиклинория. Так, большая часть месторождений золото-кварцевой формации, в частности, одно из крупнейших – Наталкинское, а также ряд более мелких (Родионовское), приурочены к двум основным литостратиграфическим уровням распространения турбидитов – нижнеомчакскому и верхнеродионовскому. Именно они, как показывают детальные литологостратиграфические исследования (Бяков, Ведерников, 1990), являются наиболее фациально изменчивыми во всем пермском разрезе, что многими специалистами-рудниками (Ручкина, 1990; Буряк, Хмелевская, 1997) расценивается как один из важнейших факторов литологического контроля золотого оруденения и позволяет рассматривать этот факт в качестве одного из главных прогнозно-поисковых критериев золотого оруденения указанного типа. Оруденение золото-сульфидно-вкрапленного типа может контролироваться литостратиграфическими уровнями с существенно глинистой, черносланцевой седиментацией, особенно характерной для пионерской и старательской свит, где сосредоточена основная масса сульфидов различного генезиса. Однако перспективы этого типа оруденения требуют углубленного изучения на основе надежной стратиграфической основы и всестороннего исследования вещественноминеральных характеристик пород. Таким образом, осуществление детального литофациального анализа отложений на основе созданных моделей осадконакопления глубоководных пермских отложений Аян-Юряхского бассейна позволяет осуществить региональный, а в ряде случаев и локальный прогноз золотого оруденения разного типа. Кроме того, расшифровка геологической структуры месторождений в районах развития дислоцированных толщ большой мощности также невозможна без детальных литолого-стратиграфических исследований и вызывает неоправданно большие затраты на бурение и другие виды работ. Как показали проведенные нами исследования, распределение фаций и мощностей одновозрастных пермских толщ изученных бассейнов весьма неравномерно. В то же время оно подчиняется общим закономерностям, установленным для процессов терригенного осадконакопления в переходной зоне от континента (в нашем случае – Охотского микроконтинента) к океану (морскому бассейну). Так же как и в классическом случае (Лисицын, 1988), здесь наблюдается два глобальных уровня осадконакопления – первый, отвечающий дельте, и второй – подножие континентального склона. Однако в нашем случае первый глобальный уровень седиментации не выражен в классическом виде, что, возможно, связано с отсутствием крупных речных систем, дренировавших Охотскую сушу. Этот уровень седиментации более отвечает так называемой обстановке линейной терригенной береговой линии (Селли, 1989), когда дельта не образуется вследствие перераспределения поступающего обломочного материала морскими течениями. В результате формируются достаточно сложные в плане и сечении геологические тела с довольно резкими перепадами мощностей (более чем в 2 раза на протяжении первых десятков километров). Наиболее ярким примером достаточно невыдержанного строения изученных пермских толщ являются отложения второго глобального уровня осадконакопления – подножия континентального склона. Именно этот уровень вскрыт в пределах большей части Аян-Юряхского антиклинория и изучен нами наиболее хорошо. Особенно наглядно сказанное можно проиллюстрировать на примере строения разрезов атканской и омчакской свит, накопившихся в течение кепитенского и первой половины вучапинского веков (гижигинское и первая половина хивачского времени). Обстановки этого времени трактуются нами как наиболее глубоководные с неоднократными резкими флуктуациями уровня моря, что находит отражение в формировании различных гравититов, прежде всего проксимальных и дистальных турбидитов, диамиктитов (дебритов), а также зерновых и глинистых потоков (грейнитов и потоков тонкого илистого материала). В частности, диамиктиты атканской свиты, образование которых связывается нами с транспортировкой в глубоководные части бассейна продуктов синхронного и субсинхронного вулканизма из пределов Охотско-Тайгоносской вулканической дуги (Бяков и др., 2010), наиболее ярко иллюстрируют сложность процессов образования и распределения гравититов. В мелководных обстановках осадконакопления, отвечающих собственно Охотскому массиву, диамиктиты, так же как и другие гравититы, не зафиксированы (Умитбаев, Вельдяксов, 1977). Они появляются в более глубоководных разрезах периферии Охотского массива, где обычно слагают толщу мощностью от 300 до 500 м, впрочем, в отдельных разрезах выклинивающуюся, что было зафиксировано нами во время полевых работ и ранее отмечалось другими геологами. Такое изменчивое строение толщи диамиктитов в ряде случаев позволяло (и позволяет) некоторым геологам (в первую очередь занимающимся поиском и разведкой золоторудных месторождений) говорить о якобы их «астратиграфичной» природе и связывать образование Будников И.В., Гриненко В.С., Клец А.Г. и др. Модель формирования верхнепалеозойских отложений востока Сибирской платформы и ее складчатого обрамления // Отечеств. геология. 2003. № 6. – С. 86–92. Буряк В.А., Хмелевская Н.М. Сухой Лог – одно из крупнейших золоторудных месторождений мира. – Владивосток: Дальнаука, 1997. – 156 с. Бяков А.С., Ведерников И.Л. Стратиграфия пермских отложений северо-восточного обрамления Охотского массива, центральной и юго-восточной частей Аян-Юряхского антиклинория. Препринт. – Магадан: СВКНИИ ДВО АН СССР, 1990. – 69 с. Бяков А.С., Ведерников И.Л., Акинин В.В. Пермские диамиктиты Северо-Востока Азии и их вероятное происхождение // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2010. № 1. – С. 14–24. Бяков А.С., Прокопьев А.В., Кутыгин Р.В. и др. Геодинамические обстановки формирования пермских седиментационных бассейнов Верхояно-Колымской складчатой области // Отечеств. геология. 2005. № 5. – С. 81–85. Ведерников И.Л., Бяков А.С. Некоторые литохимические особенности отложений перми и нижнего триаса Аян-Юряхского антиклинория (Северо-Восток России) по данным трехкомпонентного (SiO2, K2O, Na2O) анализа // Литохимия в действии: Материалы Второй всерос. школы по литохимии (Сыктывкар: 13–17 марта 2006). – Сыктывкар: Геопринт, 2006. – C. 51–52. Лисицын А.П. Лавинная седиментация и перерывы в осадконакоплении в морях и океанах. – М.: Наука, 1988. – 310 с. Ручкина Ю.Р. Литофации золотоносных черносланцевых толщ – индикаторы среды рудообразования // Сов. геология. 1990. № 3. – С. 32–41. Селли Р.К. Древние обстановки осадконакопления. – М.: Недра, 1989. – 294 с. Умитбаев Р.Б., Вельдяксов Ф.Ф. Тектоническое и металлогеническое районирование Охотского срединного массива и его обрамления // Вопросы геологии срединных массивов Северо-Востока СССР. – Магадан: СВКНИИ ДВНЦ АН СССР, 1977. – С. 79–98. Чумаков Н.М. Следы позднепермского оледенения на реке Колыме: отзвук гондванских оледенений на Северо-Востоке Азии? // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1994. Т. 2. № 5. – С. 130–150. Эпштейн О.Г. Верхнеполеозойские ледово-морские отложения бассейна истоков р. Колымы // Литология и полезн. ископ. 1972. № 3. – С. 112–127. Материалы III Всероссийского совещания диамиктитов то с местными центрами извержений, то даже трактовать их как мезозойские эксплозивные брекчии, чуждые пермскому разрезу. На юго-восточном фланге Аян-Юряхского антиклинория строение толщи диамиктитов остается в целом таким же, что и на периферии Охотского массива. На северо-восточном фланге Аян-Юряхского антиклинория строение толщи диамиктитов становится еще более сложным. Диамиктиты здесь появляются выше по разрезу собственно атканской свиты, полностью замещая на отдельных участках турбидитовые толщи, за счет чего создается ложное представление о трехкратном увеличении мощности атканской свиты, появлении выдержанного «безгалькового» уровня, якобы фиксирующего потепление климата (Эпштейн, 1972; Чумаков, 1994). Сами диамиктиты атканского уровня становятся нетипичными, материал крупной (галечной) размерности почти полностью исчезает, в ряде случаев они полностью замещаются неслоистыми аргиллитами, что дает основание выделять здесь «безгальковый» аналог атканской свиты – осеннинскую толщу. Все это создает большие трудности при проведении геологического картирования и в ряде случаев привело к существенным невязкам на границах листов геологических карт. Поэтому понимание закономерностей процессов образования гравититов помогает избежать таких ошибок. Исследования поддержаны РФФИ и ДВО РАН, проекты № 11-05-98569-р_восток, 11-05-00950 и 12-III-А-08-029. Л.И. Ветлужских СТРАТИГРАФИЯ КЕМБРИЯ САЯНО-БАЙКАЛЬСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ На территории Саяно-Байкальской горной области (СБГО) выделяются отложения всех отделов кембрия, охарактеризованных трилобитами, брахиоподами, водорослями, археоциатами и другими органическими остатками. В настоящее время известно довольно большое количество кембрийских разрезов, однако обнажены они неодинаково. В общем, кембрийские отложения выходят на дневную поверхность в виде отдельных блоков или ксенолитов среди магматических и метаморфических образований в нескольких структурно-фациальных зонах (рис. 1). 55 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео56 Рис. 1. Схема структурно-фациального районирования для нижнего палеозоя территории Саяно-Байкальской горной области по (Язмиру, Далматову, 1975), с измен. и дополн. автора 1 – границы зон; 2 – границы подзон; БЯЗ – Бирамьино-Янгудская зона, подзоны: Ян – Янгудская, Бр – Бирамьинская, Бм – Бамбуйская; Ц – Ципинская зона; УВЗ – Удино-Витимская зона, подзоны: Ер – Еравнинская, Тр – Туркинская; ДЗ – Джидинская зона; ОКЗ – Окино-Китойская зона, подзоны: Ок – Окинская, Кт – Китойская; X – Хамсаринская зона; 3 – опорные разрезы. Цифрами обозначены: 1 – бассейны рек Коокта и Иномакиткан; 2 – бассейн р. Келяна, левобережный приток руч. Аикта; 3 – бассейн р. Бамбуйка; 4 – бассейн р. Турка, правобережные притоки р. Сухая Бадота и Ямбуй; 5 – бассейн р. Забит; 6 – бассейн р. Горлык-Гол, руч. Серпентин-Горхон; 7 – бассейн р. Джида, падь Юхта Рис. 2. Схема стратиграфического расчленения кембрийских отложений Саяно-Байкальской горной области (Ветлужских, 2011) Рис. 3. Схема размещения разрезов и местонахождений с фауной в бассейнах рр. Ямбуй и Сухая Бадота. Масштаб 1 : 200 000. Сост. Б. А. Далматов, с дополн. Л. И. Ветлужских, 2005 Для СБГО предлагается следующая схема стратиграфического расчленения кембрийских отложений (рис. 2). Отложения верхнего кембрия впервые выделяются в Туркинской подзоне в бассейне р. Турки, по правобережным притокам Ямбуй и Сухая Бадота (рис. 3). Автору представляется следующий стратиграфический разрез данных отложений (снизу вверх): 1) курбинская свита (1500–2000 м) – преимущественно известняково-доломитовая с археоциатами; 2) пановская свита, в составе трех подсвит (1500–1800 м) – терригенно-карбонатная с трилобитами. Возраст курбинской свиты по комплексу археоциат определяется в пределах: томмотский (верхи) – атдабанский ярусы раннего кембрия. Возраст пановской свиты оценивается в пределах: ботомский ярус – поздний кембрий. В бассейне р. Сухая Бадота и на водораздельном пространстве pек Сухая Бадота, Большая и Малая Пановки, ключ Зумбуруки разрез пановской свиты имеет следующий вид (снизу вверх): 1. Нижняя подсвита (1000–1300 м) – конгломераты, конглобрекчии, алевросланцы, прослои песчаников и известняков с остатками трилобитов, археоциат, водорослей, микрофитолитов. 2. Средняя подсвита (более 800 м) – нижний контакт тектонизирован: а) известняки темносерые, алевритистые, окремненные, в верхней части пачки с остатками трилобитов и микрофитолитов, мощность более 70 м; б) сланцы филлитовидные, зеленовато-серые и серые, фациально замещаются темными известняками – 140 м, зона разлома; в) известняки темно-серые, алевритистые, с линзами и прослоями сланцев, мощность до 150 м; г) сланцы серые, розовато- и вишнево-серые – 50 м; д) переслаивание темно-серых до черных известняков с маломощными Рис. 4. Принципиальная схема биостратиграфического расчленения кембрийских отложений СБГО (Ветлужских, 2011) Материалы III Всероссийского совещания 1 – четвертичные отложения; 2 – мезозой – ендондинская свита; 3 – пановская свита; 4 – курбинская свита; 5 – андреевская свита; 6 – суванихинская свита; 7 – интрузивные образования; 8 – разломы: а – достоверные, б – предполагаемые; 9 – местонахождения ископаемых организмов 57 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео58 прослоями вишнево-серых сланцев. В известняках содержатся трилобиты, мощность – 150 м; е) сланцы филлитовидные зеленовато-серые (130 м); ж) известняки серые и темно-серые (до черных), мелкозернистые, грубослоистые с остатками брахиопод, трилобитов и водорослей (270 м). В северо-восточном направлении на водоразделе рек Большая и Малая Пановки, ключей Зумбуруки и Аэропортовский пановская свита наращивается отложениями верхнепановской подсвиты. 3. Верхнепановская подсвита (более 1200 м) характеризуется монотонным строением большей части разреза: а) серые и зеленовато-серые, темно-серые до черных грубослоистые песчаники с прослоями полимиктовых конгломератов, видимая мощность – 200 м; б) алевросланцы, глинистые и филлитовидные сланцы темно-серые до черных, предполагаемая мощность 1000 м. Последними работами (Минина, Катюха, Ветлужских, 2009) из разреза пановской свиты выделена микститовая толща верхнего девона – нижнего карбона, соответствующая верхней подсвите пановской свиты. Таким образом, в бассейне р. Турка, по ее правобережным притокам Ямбуй и Сухая Бадота развиты отложения верхнего кембрия (рис. 3), в которых выделяются региональные стратиграфические подразделения в ранге слоев с фауной (рис. 4). Работы выполнены при поддержке гранта РФФИ № 12-05-00324. Ветлужских Л.И. Трилобиты и биостратиграфия кембрийских отложений Саяно-Байкальской горной области. Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. – Новосибирск, 2011. – 18 с. Минина О.Р., Катюха Ю.П., Ветлужских Л.И. Новые данные о возрасте отложений Ямбуйского ксенолита (Удино-Витимская зона, Западное Забайкалье) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту): Материалы науч. совещ. Т. 2. – Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2009. – С. 20–22. О.Я. Гаген-Торн СТРОЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ВЕНДСКО-КЕМБРИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ГЛИНТОВОЙ ОБЛАСТИ ЮЖНОГО БЕРЕГА ФИНСКОГО ЗАЛИВА Вендско-кембрийские отложения в области Ладожско-Балтийского глинта, протянувшегося вдоль южного берега Финского залива, представлены алеврито-глинистой толщей, наблюдаемой в отдельных маломощных разрезах и скважинах. Смена вендских отложений кембрийскими на принятой стратиграфической схеме Ильменской серии листов и западнее изучаемого района в классических разрезах Прибалтики характеризуется крупным стратиграфическим перерывом в основании кембрийской толщи (Менс, Пиррус, 1971). Значимыми объектами для понимания строения и условий седиментации пограничных вендско-кембрийских отложений Ладожско-Балтийского глинта являются естественные обнажения на р. Черная у пос. Б. Ижора, обнажения на реках Воронка и Коваш. В прижиме левого берега р. Черная в коренном выходе высотой около 10 м и протяженностью около 20 м наблюдаются василеостровские глины алевритистые голубые и зеленоватосерые с охристым оттенком, с горизонтальной и волнистой слоистостью, подчеркнутой прослойками алевритового материала розовато-серой окраски. На поверхностях напластования наблюдаются ляминаритовые пленки. В толще отмечаются прослои ожелезненных глинистых алевролитов с интракластами слаболитифицированных алевритов. Вероятно, интракласты представляют собой корки взламывания, образовавшиеся после перерыва и уплотнения нижележащих осадков. Минералогический состав алевритовой и пелитовой фракций полимиктовый. Среди обломочных минералов алевритовой размерности преобладают слюды – мусковит и хлоритизированный биотит, кварц и единичные зерна микроклина. В тяжелой фракции преобладают аутигенные минералы сидерит и пирит (> 50 %), за ними следуют слюды и реже зерна магнетита, турмалина, циркона и титанита. В глинистом хлорит-каолиновом субстрате на отдельных участках видны линзы алевритового материала. В шлифах наблюдаются ожелезненные остатки клеток ископаемых прокариот, образующие неветвящиеся нитевидные структуры. Материалы III Всероссийского совещания Верхневендский возраст отложений подтверждается находками на этом обнажении в 1980-х годах Vеndotaenia antiqua Gnilovskaya, определенными М.Б. Гниловской (ПИН РАН). Разрез по седиментологическим признакам сопоставим с разрезом скважины, пробуренной во дворе ВСЕГЕИ (б. Геолком), приведенным М.Э. Янишевским (1939). Вышележащая алеврит-глинистая толща верхнего венда, относимая к воронковской свите и протягивающаяся в западном направлении до северной Эстонии, обнажена в приустьевой части р. Воронка. В естественном обнажении протяженностью около 3 м наблюдаются (снизу вверх): 1. Песчаник среднезернистый серый кварц-полевошпатовый с неясной косой слоистостью и миллиметровыми железистыми вкраплениями (ниже уреза воды). 2. Голубые глины тонко-волнистослоистые c ляминаритовыми пленками на поверхностях напластования (аналогичные наблюдаемым в ижорском разрезе) и линзовидным прослоем голубовато-серого мелкозернистого песчаника (на уровне уреза воды). Видимая мощность 1 м. На этом уровне М.В. Леоновым (ПИН РАН) в восьмидесятые годы обнаружены остатки Vеndotaenia antiqua Gnilovskaya. Выше уровня уреза воды в расчистках вскрыты: 3. Глины табачно-серые плотные с охристыми пленками на поверхностях напластования, 1 м. 4. Алевролиты голубовато-серые песчанистые, около 1 м. 5. Сантиметровое переслаивание серых плотных глин, голубовато-серых алевролитов со скорлуповатой отдельностью и песчаников, 1,7 м. 6. Песок глинистый палево-розоватого оттенка с сантиметровыми прослоями светло-серых среднезернистых песчаников, ожелезненных на поверхности напластования, 1,5 м. Верхняя часть прижима скрыта оползнем. В 30 м выше по реке еще одно обнажение протяженностью около 20 м с закрытым оползнем основанием (около 5 м). По литолого-стратиграфическим признакам можно предположить, что закрытая оползнем часть разреза наращивается вышеописанным разрезом. Выше оползня расчистками вскрыты: 7. Неравномерное дециметровое переслаивание глин голубовато-серых алевритистых с ячеистыми разрушенными конкрециями марказита и серых с охристыми примазками алевролитов, около 5 м. 8. Глины пестроокрашенные голубых, фиолетовых и желтых оттенков с горизонтальноволнистой прерывистой слоистостью содержат линзовидные песчаные прослойки. В кровле прослой ярко-желтых вязких глин (5 см), хорошо прослеживающийся по обнажению и задокументированный в скважине, пробуренной в устье р. Воронка. В этом прослое обнаружен лепидокрокит, 0,8 м. 9. Пески среднезернистые и алевриты белесые кварцевые мелкозернистые глинистые с тонкими сантиметровыми линзовидными пропластками лимонитизированных песчаников, 4,5 м. Пески перекрыты четвертичными валунными суглинками темно-коричневого цвета. Найденные в ляминаритовых глинах в основании разреза остатки Vеndotaenia antiqua Gnilovskaya указывают на принадлежность отложений к верхней подсвите василеостровской свиты котлинского горизонта. Наращивающие разрез пестроокрашенные алеврито-глинистые отложения узнаваемы в описаниях керна скважин, пробуренных в устье р. Воронка и в среднем течении р. Коваш, и традиционно отнесены к воронковской свите верхнего венда. Вышележащая (доордовикская) часть разреза в исследуемом районе не вскрыта. По данным бурения, в черте г. Ломоносов (в 44 км восточнее исследуемого района) на серых верхневендских глинах залегают слабосцементированные пески, глины и песчаники ломоносовской свиты нижнего кембрия. Вышележащие отложения, отнесенные предшественниками к «синим» кембрийским глинам и внешне очень похожие на воронковские, наблюдались в разрозненных мелких коренных выходах (до 2 м мощностью) в 22 км на восток от разрезов воронковской свиты на р. Воронка в среднем течении р. Коваш. Глины залегают моноклинально с пологим падением на юго-восток в сторону погружения северо-западного крыла Московской синеклизы под углами 9–12°. Голубые пластичные и плотные глины характеризуются неясной слоистостью, раковистым и скорлуповатым изломом и присыпками слюдистого материала по напластованию. Ближе к урезу воды голубая окраска становится интенсивнее. В отдельных прослоях появляется зеленоватый оттенок за счет глауконита, наблюдаемого в шлифах и приуроченного к алевритовым 59 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео60 пропласткам в глине. На поверхностях напластования наблюдаются ожелезненные, похожие на ляминаритовые, пленки и охристые пятна. В одном метре от подошвы прослеживается прослой (3–5 см) голубовато-серых мелкозернистых песчаников с тонкой горизонтальной слоистостью (мм), подчеркнутой темно-серыми прослойками. Поверхности напластования песчаника покрыты ожелезненными пленками, участками наблюдаются знаки ряби течения, ветвистой, мелкой, с высотой гребней до 2 мм Среди основных минералов преобладают кварц, гидрослюды, зеленый биотит (вероятно, хлоритизированный), редкие зерна полевых шпатов. В глинистой фракции преобладают гид­ рослюды, каолинит, хлорит, в незначительных количествах смешаннослойный иллит–смектит. Спорадически в тонкозернистой глинистой массе встречаются крупные зерна кварца, глауконита, полевого шпата, пирита. В тяжелой фракции наблюдаются титанистые минералы, эпидот и циркон. В глинах А.Ю. Иванцовым обнаружен Sabellidites cambriensis Janischevskii кембрийского возраста. Присутствие глауконита позволяет провести детальные изотопно-геохимические исследования глин. Так, например, по данным Е.Б. Андерсона и др. (2006) калий-аргоновым методом для глауконитов определен абсолютный возраст нижнекембрийских глин как 530–590 млн лет. По результатам силикатного анализа проб, отобранных из глин и алевролитов василеостровской, воронковской и ломоносовской свит, химический состав отложений стабилен. Несколько превышающее кларковое содержание Fe до 5,56 % в глинах воронковской свиты, вероятно, связано с гипергенными процессами. Дифрактограммы глин василеостровской, воронковской и ломоносовской свит имеют схожий облик. По совокупности литологических признаков и повышенному содержанию железа, присутствию лепидокрокита формирование алевро-глинистых отложений происходило в лагунных условиях, в периодически пересыхающих водоемах. Каолинит свидетельствует о гидрослюдис­ том составе глин, а присутствие остатков клеток ископаемых прокариот может указывать на умеренно гумидный климат. В кембрийское время условия осадконакопления немного изменились – бассейн стал открытым подвижным мелководьем, о чем свидетельствует появление песчаных прослоев с глау­ конитом. В целом облик и состав алеврито-глинистых толщ верхневендского (котлинского) и нижнекембрийского возраста очень схож, и скорее всего условия осадконакопления в верхнем венде – нижнем кембрии были стабильны. Значительного перерыва в осадконакоплении в исследуемом районе на границе венда и кембрия, вероятно, не было. Андерсон Е.Б., Савоненков В.Г., Шабалев С.И. Перспективы создания подземных могильников РАО в нижнекембрийских глинах Ленинградской области. – СПб., 2006. Т. ХI (Труды Радиевого ин-та им. В. Г. Хлопина). Менс К.А., Пиррус Э.А. О стратиграфии пограничных слоев венда и кембрия на северо-западе Русской платформы // Изв. АН СССР. Сер. геол. № 11. 1971. – С. 93–103; Янишевский М.Э. Кембрийские отложения Ленинградской области // Ученые записки ЛГУ. Серия географ. наук. № 25. Вып. I. – Л.: ЛГУ, 1939. – С. 4–31. В.Г. Ганелин ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЗОЙ СЕВЕРО-ВОСТОКА АЗИИ: ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ БИО- И СЕДИМЕНТОГЕНЕЗА Позднепалеозойский морской бассейн Северо-Востока Азии занимал площадь свыше 2 500 000 км2. Совместно с Таймырским он составлял биогеографически и седиментологически целостную систему бассейнов – Таймыро-Колымскую палеогеографическую область. Основные черты палеогеографии, био- и седиментогенеза области обусловлены деструкцией континентального шельфа, широко проявившейся ещё в середине раннего карбона и определившей общий палеогеографический рисунок системы бассейнов позднего палеозоя. По особенностям седиментогенеза и характеру биоты в пределах Северо-Востока Азии выделяются три палеогеографические области: Верхояно-Охотская, Колымо-Омолонская, Новосибирско-Чукотская. При значительной общности позднепалеозойской биоты имеются определённые особенности Материалы III Всероссийского совещания в седиментогенезе этих геохорий, а на отдельных стратиграфических интервалах выявляются и различия в составе бентоса, особенно это касается Новосибирско-Чукотского региона. Верхояно-Охотская область представляла собой пассивную окраину материка Ангариды, где накапливались мощные толщи терригенных осадков, образованные проградирующими конусами выноса крупных рек. Новосибирско-Чукотская область отвечает окраинным бассейнам Гипербореи (Арктиды). Располагающаяся между ними Колымо-Омолонская область, наиболее удалённая от источников сноса, сочетает в себе мелководные фации срединных поднятий и глубоководные образования обрамляющих их погруженных зон. Позднепалеозойский седиментогенез территории имеет регионально черносланцевый характер. Определяется широким и сплошным по разрезу распространением углеродистых, глинистых, углеродисто-кремнистых, пеплово-кремнистых отложений, местами марганцевоносных, повсеместно сульфидоносных. Отмеченные особенности увязывались автором с низкотемпературными гидротермами, обусловившими формирование высокоуглеродистых, существенно кремнистых, сульфидоносных осадков, формировавшихся в бассейне эвксинного типа (Ганелин, 1997). С черносланцевыми толщами тесно ассоциируют аутигенные карбонаты. Слагают как отдельные биогермы и биостромы внутри чёрносланцевых серий, так и толщи известняков значительной мощности, замещающие черносланцевые серии по простиранию и широко распространённые в Колымо-Омолонском и Новосибирско-Чукотском регионах. В пределах мелководных фаций срединных поднятий (Омолонский массив, Приколымье) к этим карбонатам приурочено наибольшее разнообразие раковинного бентоса, что позволяет рассматривать эти карбонатные экосистемы центрами расселения соответствующих сообществ. Изучение изотопии карбонатов, их макро-, микро- и ультрамикроструктур позволило выявить их микробиальную природу. Карбонаты среднего карбона – первой половины ранней перми пользуются незначительным распространением, слагая разобщённые маломощные биостромы и биогермы среди черносланцевых пород. Б.В. Покровский установил, что породы имеют низкие значения δ18О – от 12,5 до 15,9 ‰, что возможно связать с предположением о необычно интенсивном флюидном режиме, протекавшем в условиях гидротермальной активности. При этом карбонаты аномально обогащены лёгким изотопом – δ13С от –9,4 до –26,4 ‰, что свидетельствует о значительном присутствии в их составе биогенного карбоната. Широкое распространение карбонатов средней–поздней перми связано с трансгрессией, начавшейся в конце раннепермского времени. Карбонатные корки, биогермы, биостромы, так же как и нормально пластующиеся известняки, распространены повсеместно. Представлены очень тонкослоистыми породами, зловонными, с резким запахом сероводорода, часто насыщены тонкодисперсным пиритом, местами битуминозны. Мощность слагаемых ими толщ достигает местами 400 м. Особенности микроструктуры этих пород – сложены мельчайшими призмочками кальцита – породило ошибочное мнение об их обломочной природе. Считалось, что породы состоят из дезинтегрированных призм раковинного слоя иноцерамоподобных моллюсков – «колымиевые известняки». Детальные исследования соответствующих структур с несомненностью показали аутигенность этих пород и их микробиальную природу. Изотопный состав карбонатов, в отличие от раннепермских пород, характеризуется «нормально морскими» для пермского периода значениями в δ13C = 4,1 ± 1,4 ‰ и широкими вариациями в δ18О = = 15,5–28,8 ‰. Характер латерального распределения соответствующих толщ позволяет полагать, что карбонаты формировались, по-видимому, на разных уровнях стратифицированного бассейна как в пределах фотической, так и в афотической зоне. Можно думать, что их происхождение связано с жизнедеятельностью неких гипотетических прокариот, фиксирующих морской карбонат, строгих анаэробов, но факультативных фото-хемоавтолитотрофов. Можно предположить наличие здесь консорциума из фотосинтезирующих анаэробных серных бактерий и архей. Адаптационная стратегия последних, как известно, позволяет им распространиться по всей толще океанских вод. Не меньший интерес, чем рассмотренные карбонаты черносланцевых серий, представляет собой другой член этих серий – позднепермские микститы, образующие пояс в пределах окраины Ангариды от Южного Верхоянья до Северного Приохотья. Другой пояс этих пород обрамляет южную и юго-восточную окраины Омолонского массива. В Верхоянье и Приохотье микститы приурочены к мощным (до 1500 м) глинисто-сланцевым комплексам пассивной окраины Ангарского континента. Здесь породы являются рудовмещающими для крупных и очень крупных золотых месторождений штокверкового типа. На Омолонском массиве мощность толщ, вмещающих аналогичные породы, составляет 30–60 м, увеличиваясь до 200–300 м в его краевых частях и районах, пограничных с Гижигинским прогибом. Особенностью пород являет- 61 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео62 ся их тиллитоподобный облик – песчаный, гравийно-галечный и валунный материал хаотично рассеян в темно-сером и чёрном глинисто-алевритовом, как правило, неслоистом матриксе, имеющим часто характерную концентрически-скорлуповатую отдельность. Другой особенностью пород является преимущественно вулканогенный характер обломков андезито-дацитового, реже липаритового состава. Светлые, разрушенные и изменённые обломки вулканогенных пород, разбросанные в тёмном матриксе, придают породам рябой облик, что и послужило их именованию в полевом геологическом сленге «рябчиками». Менее распространены, но известны, аналогичные породы и в среднем карбоне. Существуют различные взгляды на природу этих образований. Они рассматривались и как ледниково-морские отложения, и как продукты разрушения гипотетических вулканических поясов и дуг (Бяков и др., 2010; Устрицкий, 1975). Ряд особенностей распространения, состава и морфологии этих образований позволяет предположить их вероятную принадлежность к классу флюидно-эксплозивно-грязевых систем. Сочетание бактериальных карбонатов и продуктов мощного грязевого вулканизма, являющихся продуктом разгрузки глубинных флюидов, широко распространено в аноксидных обстановках современных внутренних и океанических бассейнов и описано в ряде работ последних десятилетий (Блинова, 2006; Леин, 2004). Черносланцевая «аномальность» позднепалеозойского седиментогенеза Северо-Востока вполне корреспондируется со своеобразием его позднепалеозойской бентосной биоты. Последняя, как известно, резко обеднена таксономически и весьма эндемична. Причину этого обычно видят в её высокоширотном положении и холодноводности. Однако ранее автором было показано, что ареалы распространения так называемых бореальных, холодноводных фаун не согласуются с этими представлениями. Вместе с тем была выявлена тесная корреляция появления соответствующих сообществ с процессами рифтогенеза и заложением глубоких черносланцевых бассейнов (Ганелин, 1997). Вещественный состав позднепалеозойских комплексов на Северо-Востоке Азии, также как и характер биотопов позднепалеозойского бассейна, наводит на предположение о том, что определяющую роль в формировании осадков и населения этого бассейна играли процессы, связанные с глубинной дегазацией недр. Последняя проявилась, по-видимому, как в виде высачиваний холодных флюидов (сипов), приуроченных к региональной системе разломов (трещин), так и в эксплозивно-грязевой форме, связанной с коровыми градиентами. Результатом явился интенсивный вынос восстановленных соединений, в первую очередь метана и сероводорода, определивших экологию бассейна. Приуроченность наибольшего разнообразия бентоса к толщам бактериальных карбонатов даёт основания думать, что своеобразие соответствующей биоты имеет не климатическую, а трофическую природу. Сформировавшиеся здесь восстановленные биомы представляют собой симбиоз его обитателей с аноксидными хемо-метанотрофными и фототрофными прокариотами. При этом наиболее специализированные формы, такие как иноцерамоподобные моллюски, достигавшие гигантских размеров, являлись, по-видимому, эндосимбионтами. Рассмотренные особенности позднепалеозойского био-седиментогенеза не ограничиваются Северо-Востоком Азии. Аналогичные сообщества и биотопы фрагментарно присутствуют в обширном Памиро-Гималайском поясе, Внутренней Монголии, Российском Приморье. Но наиболее яркие аналоги представлены в Южном полушарии, в позднепалеозойских отложениях Гондваны. Глобальное распространение подобных биотопов даёт основания предполагать глобальный характер позднепалеозойской глубинной дегазации и связанную с ней деструкцию земной коры. Результатом явилось формирование позднепалеозойских сульфидных бассейнов и свойственной им сульфидной биоты, что и определило биогеографическое своеобразие позднепалеозойской биосферы. Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ, проект №11-05-00950. Бяков А.C., Ведерников И.Л, Акинин В.В. Пермские диамиктиты Северо-Востока Азии и их вероятное происхождение // Вестник СВНЦ ДВО РАН. 2010. № 1. – С. 14–24. Блинова В.Н. Состав и происхождение углеводородных флюидов в грязевых вулканах залива Кадис. Автореферат дисс. ... канд. геол.-минер. наук. – М., МГУ, 2006. – 30 с. Ганелин В.Г. Бореальная бентосная биота в структуре позднепалеозойского мирового океана // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1997. № 3. – С. 29–42. Леин А.Ю. Аутигенное карбонатообразование в океане // Литология и полезн. ископ. 2004. № 1. – С. 3–35. Устрицкий В.И. История развития Северо-Востока СССР в позднем палеозое // Верхний палеозой Северо-Востока СССР. – Л.: НИИГА, 1975. – С. 54–75. М.Р. Геккер Предлагаемая схема корреляции турнейских и визейских отложений Подмосковного, Донецкого и Динантского бассейнов представлена в таблице. Данные о распространении упоминаемых ниже таксонов приведены в публикациях Н.П. Василюк (1960), М.Р. Геккер (Hecker, 2002), Т.А. Добролюбовой (1958), Л.Ф. Кузиной и В.И. Полетаева (1991), М.Х. Махлиной с соавторами (1993), В.И. Полетаева с соавторами (Poletaev et al., 1990), Е.Д. Сошкиной (1960), В.В. Огаря (Ogar, 2010) и в ряде других. В Подмосковном бассейне комплекс спор нижней части купавнинской свиты отвечает нижней части зоны VI, сопоставляемой с конодонтовой зоной lower sulcata. Отмеченные в малевской свите ругозы Siphonophyllia ex gr. cylindrica предполагают корреляцию с подзоной RC1β. В чернышинской подсвите присутствуют фораминиферы Spinoendothyra spinosa и Tournayella discoidea (индекс-таксоны зоны Cf2), а также ругозы Sychnoelasma konincki и Cyathoclisia (индекс-таксоны зоны RC3). Комплекс ругоз верхней части богородицкой подсвиты включает Siphonodendron junceum и Lithostotion maccoyanum (виды-индексы подзоны RC7β). Виды-индексы основания верхнего варнантия (бригантия) известны из основания алексинской свиты (споры Tripartites vetustus) и нижней ее части (фораминиферы Loeblichia ukrainica и ругозы Lonsdaleia floriformis); в верхней части свиты отмечены фораминиферы Janishewskina (индекс-таксон верхней части подзоны Cf6δ). Присутствие комплекса однокамерных фораминифер в нижней части базалиевской свиты Донецкого бассейна и ругоз Conilophyllum в ее средней части предполагает корреляцию с зонами MFZ 1–MFZ 2. Присутствие Chernyshinella glomiformis и Laxoendothyra parakosvensis в комплексе фораминифер каракубской свиты предполагает корреляцию с зоной MFZ 3, присутствие Tuberendothyra tuberculata и ругоз Cyathoclisia и Keyserlingophyllum в волновахской свите – корреляцию с зоной MFZ 4 и нижней частью зоны RC3. Комплекс фораминифер зоны Td карповской свиты включает Carbonella, Planoendothyra, Spinoendothyra, Inflatoendothyra и Dainella, что предполагает корреляцию с зоной MFZ 6. Присутствие Eoparastaffella и двустворчатых моллюсков Levitusia humerosa в основании зоны Va карповской свиты позволяет сопоставить этот уровень с основанием зоны MFZ 8 (Avins Event). Скелеватская свита характеризуется молиньясским комплексом фораминифер: ее основание коррелируется с основанием визейского яруса по появлению Eoparastaffella simplex, присутствие Eoendothyranopsis donica в зонах Vb–Vc предполагает корреляцию с верхней частью зоны MFZ 9, присутствие Globoendothyra numerabilis в подзоне Vd1 – с 13 Mamet Zone, присутствие Uralodiscus rotundus и Paraarchaediscus в Vd2 – с зоной MFZ 11. Комплекс аммонитов основания стыльской свиты, включающий Bollandites donetsensis, B. mediocris, Bollandoceras stylensis и Dimorphoceras sp., отвечает зоне upper Bollandites – Bollandoceras (верхний ливий). Комплекс фораминифер верхней части стыльской – нижней части донецкой свит включает индекс-таксоны подзоны Cf6α-γ (15 Mamet Zone, нижний варнантий): Vissariotaxis, двустенные Palaeotextularia, Globoendothyra globulus и примитивные Howchinia. Основание подзоны Vf2 сопоставляется с основанием бригантия благодаря присутствию Tripartites vetustus; в этой же подзоне отмечены характерные для бригантия Goniatites aisenvergi, Loeblichia ukrainica и Janishewskina. Комплекс ругоз донецкой свиты отвечает верхнему асбию – нижнему бригантию; комплекс ругоз межевской свиты, включающий Corwenia rugosa и Orionastraea aff. prerete, отвечает более высоким уровням бригантия. Далеко не все индекс-таксоны, установленные в стратотипической местности, могут быть использованы для корреляции с Подмосковным и Донецким бассейнами. Так, Chernyshinella glomiformis и Palaespiroplectammina tchernyshinensis отмечены в Подмосковном бассейне на более высоком уровне, в нижней части чернышинской свиты; в Донецком бассейне P. tchernyshinensis появляется в основании волновахской свиты. Prochernyshinella disputabilis (вид-индекс зоны MFZ 3) появляется в Донецком бассейне на более низком уровне, в средней части базалиевской свиты. Ругозы Caninophyllum появляются в Подмосковном бассейне в упинской свите – на Материалы III Всероссийского совещания ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕЛЯЦИИ ТУРНЕЙСКИХ И ВИЗЕЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ (НИЖНИЙ КАРБОН) ПОДМОСКОВНОГО И ДОНЕЦКОГО БАССЕЙНОВ СО СТРАТОТИПИЧЕСКОЙ МЕСТНОСТЬЮ (БЕЛЬГИЯ) 63 Корреляция турнейских и визейских отложений Подмосковного и Донецкого бассейнов со стратотипической местностью (Бельгия) ПОДМОСКОВНЫЙ RC9 MFZ 15 RC8 β MFZ 14 α MFZ 13 MFZ 10 MFZ 6 γ β MFZ 4 RC2 Ve Vd Vc γ MFZ 2 f1 e2 β чернышинская подсвита агеевская подсвита d1 d2 Td c2 волновахская св. упинская св. малевская св. MFZ 1 α↓ d2 Vb Tc c1 каракубская св. RC1 α’-α’’ ↓ стыльская св. f2 d1 MFZ 3 Cf1 Астье Hastarian Астье Hastarian β Vf Va нижняя пачка черепетская св. γ донецкая св. RC3 Ивуар Ivorian Ивуар Ivorian α α ← верхняя пачка глубоковская св. RC4 β1 MFZ 7 MFZ 5 Vg бобриковская св. MFZ 9 α1 Cf2 межевская св. e1 RC5 MFZ 8 Cf3 подсвита Sa↑ RC6 β2 α2 подсвита щекинская самарская св. Tb в. β тарусская св. веневская св. михайловская св. алексинская св. ольховецкая богородицкая Полетаев и др. (1990) скелеватская св. γ-δ MFZ 11 Махлина и др. (1993) купавнинская св. Tb базалиевская св. Tb нижн. MFZ 16↑ MFZ 12 α 64 Poty et al. (2006) карповская св. α-β Cf5 ДОНЕЦКИЙ БАССЕЙН (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ) тульская св. Cf6 γ1 Cf4 Молиньясий Moliniacian Ливий Livian Молиньясий Moliniacian ВИЗЕЙСКИЙ ЯРУС Варнантий Warnantian γ2 БАССЕЙН RC7 Poty et al. (2006) Conil et al. (1990) Conil et al. (1990) Cf7↑ δ ТУРНЕЙСКИЙ ЯРУС Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ДИНАНТСКИЙ БАССЕЙН Василюк Н.П. Нижнекаменноугольные кораллы Донецкого бассейна. – Киев: Наукова Думка, 1960. – 179 с. Добролюбова Т.А. Нижнекаменноугольные колониальные четырехлучевые кораллы Русской платформы // Тр. ПИН АН СССР. 1958. Т. 70. – 224 с. Кузина Л.Ф., Полетаев В.И. Новые визейские аммоноидеи Донбасса и Днепровско-Донецкой впадины // Палеонтол. журн. 1991. № 3. – С. 35–45. Махлина М.Х., Вдовенко М.В., Алексеев А.С. и др. Нижний карбон Московской синеклизы и Воронежской антеклизы. – М.: Наука, 1993. – 219 с. Сошкина Е.Д. Турнейские кораллы Rugosa и их взаимоотношения с девонскими / Ред. В.А. Варсанофьева // Сборник трудов по геологии и палеонтологии. – Сыктывкар: Коми филиал АН СССР, 1960. – С. 272–329. Conil R., Groessens E., Laloux M. et al. Carboniferous guide Foraminifera, corals and conodonts in the Franco-Belgian and Campine Basins: their potential for widespread correlation // Cour. F.-I. Senkenberg. 1990. Vol. 130. – P. 15–30. Hecker M.R. Correlation of the Dinantian of the East European Platform and Urals with the type area (Belgium) // Canadian Soc. Petrol. Geol. Mem. 2002. N 19. – P. 51–78. Menning M., Alekseev A.S., Chuvashov B.I. et al. Global time scale and regional stratigraphic reference scales of Central and West Europe, East Europe, Tethys, South China, and North America as used in the DevonianCarboniferous-Permian Correlation Chart 2003 (DCP 2003) // PPP. 2006. Vol. 240. N 1–2. – P. 318–372. Ogar V.V. New data on the Carboniferous corals of the Donets Basin // Palaeoworld. 2010. Vol. 19. – P. 284–293. Poletaev V.I., Brazhnikova N.E., Vasilyuk N.P. et al. Local zones and major Lower Carboniferous biostratigraphic boundaries of the Donets Basin (Donbass), Ukraine, U.S.S.R. // Cour. F.-I. Senkenberg. 1990. Vol. 130. – P. 47–59. Poty E., Devuyst F.-X., Hance L. Upper Devonian and Mississippian foraminiferal and rugose coral zonations of Belgium and Northern France: a tool for Eurasian correlations // Geol. Mag. 2006. Vol. 143. – P. 829–857. Материалы III Всероссийского совещания более низком уровне, чем основание зоны RC3; Sychnoelasma появляется в Донецком бассейне в подзоне Td2 – на более высоком уровне, чем в Западной Европе и в Подмосковном бассейне. Gnathodus bilineatus, известный со среднего асбия, появляется в Подмосковном и Донецком бассейнах на более высоких уровнях – в верхней части тульской свиты и в средней части донецкой свиты. При корреляции нижнекаменноугольных отложений Центральной России и Донецкого бассейна с Западной Европой М. Меннингом и его соавторами (Menning et al., 2006) не были учтены многие данные о распространении индекс-таксонов фораминифер и гониатитов; распространение индекс-таксонов спор и кораллов также не было принято во внимание. В результате возраст большинства региональных подразделений был существенно занижен. В.Н. Глинский РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖИВЕТСКИХ ПСАММОСТЕИД В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ На территории восточной части Главного девонского поля (ГДП) естественные выходы пород живетского яруса сосредоточены в пределах Псковской и Ленинградской областей. Наиболее крупные обнажения протягиваются вдоль рек Лемовжа, Луга, Ящера, Оредеж, Плюсса, Гдовка, Еглина и их притоков (рисунок). В связи с неопределенным положением верхней границы живетского яруса (Esin et al., 2000; Mark-Kurik, 2000; Ivanov, Lebedev, 2011) здесь приводятся данные только по арукюласкому, буртниекскому и гауйскому горизонтам. В общих чертах вопрос распространения живетских псаммостеид ГДП был освещен в монографии Д.В. Обручева и Э.Ю. Марк-Курик (1965), однако данные в большей степени касались западной части ГДП (Латвия, Эстония), где на тот момент было известно больше местонахождений, богатых материалом по псаммостеидам. Позже также для западной части ГДП (Латвия, Эстония, Белорусь) Э.Ю. Марк-Курик (Mark-Kurik, 2000) был проведен анализ распространения среднедевонских позвоночных, включающий в себя живетские псаммостеиды. Основываясь на публикациях (Обручев, Марк-Курик, 1965; Аверьянов, 1990; Ivanov et al., 2005; Ivanov, Glinskiy, 2011; Ivanov, Lebedev, 2011; Глинский, 2012) и результатах пересмотра 65 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Карта местонахождений живетских псаммостеид восточной части ГДП, цифрами обозначены местонахождения (номера в тексте), фигурами – зоны по бесчелюстным 66 коллекций музеев, уточнен таксономический состав и распространение живетских псаммостеид в восточной части ГДП. В арукюласком горизонте выделяются две зоны по бесчелюстным: Pycnosteus palaeformis и Pycnosteus pauli (Mark-Kurik, 2000). В пределах нижней зоны Pycnosteus palaeformis встречаются следующие таксоны: Schizosteus striatus (Осьмино (1) (цифрами обозначены местонахождения на карте) на р. Саба; Хилок (2) на р. Луга; родник Хотнежа у р. Лемовжа (3); Сиверская (4), Белогорка (5), Новосиверская (6) на р. Оредеж; Химози (7) у г. Гатчина; Боровня на р. Боровенка (29)), Schizosteus asatkini (Твердять (8) на р. Луга; Кропивна (9) на р. Плюсса; Химози у г. Гатчина), Schizosteus cf. asatkini (Осьмино на р. Саба; родник Хотнежа у р. Лемовжа; Сиверская, Новосиверская на р. Оредеж), Tartuosteus giganteus (Псоедь (10), Осьмино на р. Саба; Хилок и Клескуши (12) у р. Луга; Сиверская, Новосиверская на р. Оредеж; Зайцево (11); Лядинки на р. Вейенка (30)), Pycnosteus palaeformis (Осьмино на р. Саба; родник Хотнежа у р. Лемовжа; Твердять, Клескуши, Старицы (13), Кабацкий ручей (14), Муравейно (15) на р. Луга; Рождествено (16), Сиверский ручей (17), Сиверская, Новосиверская, Белогорка, Вырица (18) на р. Оредеж; Зайцево; р. Орлинка (19)); Psammolepis proia (Псоедь на р. Саба; Сиверский ручей, Сиверская, Белогорка, Зеленая Гора (20) на р. Оредеж; Зайцево; р. Орлинка). В верхней зоне Pycnosteus pauli встречаются Schizosteus striatus (р. Долгая (21); правый берег р. Лемовжа у Хотнежи (22)), Tartuosteus cf. giganteus (Еврейно (23) на р. Гдовка), Pycnosteus pauli (р. Долгая; правый берег р. Лемовжа у Хотнежи; Еврейно на р. Гдовка), Ganosteus artus (Еврейно на р. Гдовка), Psammolepis proia (Еврейно на р. Гдовка). В буртниекском горизонте в западной части ГДП выделяются зоны Pycnosteus tuberculatus и Psammolepis abavica (Mark-Kurik, 2000), граница между которыми в восточной части пока не прослеживается. В пределах буртниекского горизонта на восточной части ГДП встречаются Tartuosteus maximus (карьер Новинка (24)), Pycnosteus tuberculatus (р. Кемка (25); карьер Новинка; Нестерково (26) на р. Оредеж; Теппо у р. Еглина (27)); Ganosteus stellatus (р. Кемка; карьер Новинка; Нестерково на р. Оредеж; Теппо у р. Еглина), Psammolepis abavica (карьер Новинка; Нестерково на р. Оредеж), Psl. sp. (Теппо у р. Еглина), Psammosteus bergi (карьер Новинка; Теппо у р. Еглина). Гауйскому горизоту в западной части ГДП по бесчелюстным отвечает зона Psammolepis paradoxa. На территории Ленинградской области аналоги горизонта часто представлены пустыми толщами (Долговка на р. Ящера; Толмачево и карьер Зеленое озеро на р. Луга; частично Бор на р. Оредеж (устное сообщение А.О. Иванова)). В Псковской области отложения горизонта вскрыты в Печорском карьере (28), где встречены многочисленные остатки Psammolepis alata. Также, вероятно, к гауйским псаммостеидам следует отнести Ganosteus stellatus (Бор на р. Оредеж (31)), чьи переотложенные остатки встречаются в аматском горизонте (Mark-Kurik, 1968; Glinskiy, 2011). Комплексы живетских псаммостеид разных частей ГДП существенно различаются между собой (таблица). Так на территории восточной части ГДП в зоне Pycnosteus palaeformis присутствует Schizosteus asatkini. Не наблюдается характерного для Латвии и Эстонии арукюлаского вида Tartuosteus? luhai. Количественно в отложениях арукюлаского горизонта преобладают остатки родов Pycnosteus и Psammolepis. В буртниекском горизонте на восточной части ГДП граница между зонами по бесчелюстным пока не прослеживается, Psammolepis abavica встречается в комплексе с Tartuosteus maximus, Ganosteus stellatus и Psammosteus bergi, количественно преобладают остатки Pycnosteus, Ganosteus, Psammosteus. Отложения гауйского горизонта восточной части ГДП бедны фауной, из псаммостеид присутствуют Ganosteus stellatus, Psammolepis alata. Аверьянов А.О. Новое местонахождение среднедевонских позвоночных в Ленинградской области. – СПб., 1990. Т. 213. – С. 4–15 (Труды ЗИН РАН). Глинский В.Н. Новые данные по псаммостеидным бесчелюстным из арукюлаского горизонта (средний девон) Ленинградской области // Палеонтология и эволюция биоразнообразия в истории Земли (в музейном контексте): Сб. науч. работ. – М.: ГЕОС, 2012. – 150 с. Обручев Д.В., Марк-Курик Э.Ю. Псаммостеиды (Agnatha, Psammosteidae) девона СССР. – Таллинн: Ин-т. геол. АН ЭССР, 1965. – 305 с. Esin D., Ginter M., Ivanov A. et al. Vertebrate correlation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous on the East European Platform // Cour. Forsch.-Inst. 2000. Vol. 223. – P. 341–359. Glinskiy V. Psammosteid agnathans from the Amata Regional Stage of the Oredezh River Basin, Leningrad Region // The Eighth Baltic Stratigraphical Conference. Abstracts. 2011. – P. 23. Ivanov A., Glinskiy V. Vertebrate assemblage from the Burtnieki Regional Stage (Givetian) of Leningrad region // Biostratigraphy, Paleogeography and Events in Devonian And Lower Carboniferous in memory of E. A. Yolkin. Contributions of international conference. 2011. – P. 55–56. Ivanov A., Lebedev O. Devonian Vertebrate Localities in the Luga River Basin (Leningrad Region, Russia). Guidebook for the field trip. – St. Petersburg, 2011. – 37 p. Ivanov A., Zhuravlev A., Stinkulis G. et al. Devonian sections of North-West of East European Platform. Guidebook of the post-conference field trip. – St. Petersburg: Publishing House, St. Petersburg State University, 2005. – 74 p. Mark-Kurik E. New finds of psammosteids (Heterostraci) in the Devonian of Estonia and Latvia // Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Chemistry. Geology. 1968. N 17 (4). – P. 409–424. Mark-Kurik E. The Middle Devonian fishes of the Baltic States (Estonia, Latvia) and Belarus // Cour. Forsch.-Inst. 2000. Vol. 223. – P. 309–324. Материалы III Всероссийского совещания Комплексы живетских псаммостеид западной (Латвия, Эстония) и восточной (Россия) частей ГДП 67 В.К. Голубев Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ГРАНИЦЫ ВЕРХНЕГО ОТДЕЛА ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ НА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЕ 68 Верхний отдел пермской системы в Международной (МСШ) и в Общей, принятой в России (ОСШ), стратиграфических шкалах, несомненно, имеет разный объём. Однако точное сопоставление данных шкал затруднительно, так как МСШ основана на разрезах морских отложений Китая, а ОСШ – на континентальных разрезах Европейской России. В ОСШ верхний, татарский, отдел подразделяется на два яруса: северодвинский и вятский (рисунок). На Русской плите татарскому отделу соответствуют сухонский, путятинский, быковский, нефёдовский и жуковский горизонты. Сухонский горизонт отвечает остракодовой зоне Suchonellina inornata – Prasuchonella nasalis и соответствует нижнесеверодвинскому подъярусу. Путятинский горизонт отвечает остракодовой зоне Suchonellina inornata – Prasuchonella stelmachovi и соответствует верхнесеверодвинскому подъярусу. По позвоночным путятинский горизонт подразделяется на два подгоризонта. На границе между подгоризонтами в комплексах рыб исчезают платисомусы и акулы и широкое распространение получают тойемии. В сообществе четвероногих позвоночных на этом рубеже исчезают все диноцефалы, появляются парейазавры, дицинодонты, горгонопии и многие другие териодонты, характерные для тетраподных фаун Гондваны. Фауны наземных позвоночных Восточной Европы и Гондваны в это время приобретают максимальное сходство. Нижнепутятинский подгоризонт отвечает тетраподной зоне Suchonica vladimiri. Верхнепутятинский подгоризонт охватывает тетраподные зону Deltavjatia vjatkensis, зону Chroniosaurus dongusensis и нижнюю часть зоны Chroniosaurus levis. Быковский горизонт отвечает остракодовой зоне Wjatkellina fragilina – Dvinella cyrta и соответствует нижневятскому подъярусу. Он охватывает верхнюю часть тетраподной зоны Chroniosaurus levis, зону Jarilinus mirabilis и нижнюю часть зоны Chroniosuchus paradoxus. Нефёдовский и жуковский горизонты отвечают верхневятскому подъярусу. Этот подъярус исходно выделялся в объёме остракодовой зоны Wjatkellina fragiloides – Suchonella typica. Однако жуковская остракодовая фауна характеризуется некоторыми особенностями, отличающими её от типичного комплекса Wjatkellina fragiloides – Suchonella typica. Вероятно, в будущем стратиграфический интервал, отвечающий жуковскому горизонту, будет выделен в особую остракодовую зону. Нефёдовский горизонт охватывает верхнюю часть тетраподной зоны Chroniosuchus paradoxus, жуковский горизонт в полном объёме соответствует тетраподной зоне Archosaurus rossicus. Татарский отдел Европейской России сложен исключительно континентальными отложениями, нет ни одного морского прослоя. Это полностью исключает проведение прямых биостратиграфических корреляций типовых разрезов МСШ и ОСШ. Тем не менее возможна опосредованная корреляция, так как в обоих шкалах могут быть выделены уровни, отвечающие одним и тем же геологическим событиям. Нижняя граница верхнепутятинского подгоризонта отвечает событию появления на территории Восточной Европы гондванских тетрапод. Несмотря на широко распространённое мнение о существовании континентальной Пангеи в пермском периоде, миграция наземных позвоночных была весьма ограниченной. На протяжении большей части пермского периода тетраподная фауна Восточной Европы развивалась независимо от тетраподных фаун других регионов мира, в частности, Южной Африки. В перми было только два относительно непродолжительных периода интенсивного обмена элементами между фаунами Восточной Европы и Гондваны: в конце уфимского века и в середине путятинского времени. Следующая инвазия гондванских элементов на территории Европейской России произошла уже в начале триаса, в конце вохминского времени (Голубев, 1999). Все эти контакты приходятся на периоды максимальных регрессий и связанных с ними экологических кризисов и массовых вымираний в морских экосистемах. Очевидно, в регрессивные эпохи появлялись проходы для миграции тетрапод, отсутствовавшие в периоды трансгрессий. Вероятно, в перми Пангея не представляла собой единую сушу, но была расчленена эпиконтинентальными морями на ряд крупных континентов, населённых определёнными тетраподными фаунами. Во времена регрессий между этими блоками суши возникали сухопутные перешейки, по которым и проходила миграция тетрапод. Если это предположение верно, то появление гондванских тетрапод на территории Восточной Европы в середине путятинского времени связано с крупной регрессией и вымиранием морской фауны в самом конце средней перми (гваделупия). То есть нижняя граница 69 Материалы III Всероссийского совещания Стратиграфическая шкала верхнепермских отложений Европейской России и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео70 верхнепутятинского подгоризонта (середина верхнесеверодвинского подъяруса татарского отдела) примерно соответствует нижней границе верхнего, лопинского, отдела пермской системы МСШ. Это заключение не противоречит палеомагнитным данным: обе границы располагаются внутри отрицательно намагниченных отложений, отвечающих палеомагнитной зоне R2P (Голубев, Сенников, 2011; Shen et al., 2010). Таким образом, нижняя граница татарского отдела располагается внутри гваделупского отдела МСШ и, судя по палеомагнитным данным, примерно соответствует границе вордского и кептенского ярусов (Jin et al., 2000). В окрестностях пермотриасового рубежа на территории Восточной Европы произошло несколько важных событий, из которых стратиграфический интерес представляют крупнейшая перестройка континентальной биоты на границе жуковского и вохминского времён и инвазия гондванских тетрапод (капитозавроидных темноспондилов) в конце вохминского времени. Ранее было сделано предположение, что именно инвазия гондванских элементов была связана с регрессией и массовым вымиранием в морских экосистемах в самом конце перми (Голубев, 1999). В данном случае граница перми и триаса МСШ соответствовала бы границе вохминского и рыбинского горизонтов. Но это не подтверждается палеомагнитными данными: утверждённая в настоящее время граница перми и триаса располагается внутри толщи положительно намагниченных пород (Yin et al., 2001), отвечающих палеомагнитной зоне N1T палеомагнитной шкалы Европейской России. Таким образом, граница перми и триаса по палеомагнитным данным располагается внутри нижневохминского подгоризонта (рисунок). Поскольку крупная регрессия и связанное с ней массовое вымирание морской биоты произошло несколько раньше принятого в настоящее время рубежа перми и триаса (Yin et al., 2001), можно уверенно сопоставлять с данным событием крупнейшую перестройку восточноевропейской биоты на границе жуковского и вохминского времён. Голубев В.К. Биостратиграфия верхней перми Европейской России по наземным позвоночным и проблемы межрегиональных корреляций пермских отложений // Доклады Междунар. симп. «Верхнепермские стратотипы Поволжья» (Россия, Казань, 28 июля – 3 августа, 1998 г.). – М.: Геос. 1999. – С. 228–240. Голубев В.К., Сенников А.Г. Среднепермское событие в истории фауны тетрапод Восточной Европы // Позвоночные палеозоя и мезозоя Евразии: эволюция, смена сообществ, тафономия и палеогеография: Материалы конф., посвященной 80-летию со дня рождения В. Г. Очева (1931–2004) 6 декабря 2011 г. – М.: ПИН РАН, 2011. – С. 13–16. Jin Y.G., Shang Q.H., Cao C.Q. Late Permian magnetostratigraphy and its global correlation // Chinese Scien­ce Bulletin. 2000. Vol. 45. – P. 698–705. Shen S.Z., Henderson C.M., Bowring S.A. et al. High-resolution Lopingian (Late Permian) timescale of South China // Geol. J. 2010. Vol. 45. – P. 122–134. Yin H.F., Zhang K.X., Tong J.N., Yang Z.Y., Wu S.B. The Global Stratotype Section and Point (GSSP) of the Permian-Triassic boundary // Episodes. 2001. Vol. 24. – P. 102–114. А.В. Гоманьков КОСТОВАТОВСКИЙ ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И ПРОБЛЕМА КАЗАНСКО-УРЖУМСКОЙ ГРАНИЦЫ НА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЕ В настоящей работе используется шкала пермской системы, утверждённая Межведомственным совещанием по среднему и верхнему палеозою Русской платформы 1988 г. (Решения…, 1990), с изменениями, принятыми в книге «Стратотипический разрез…» (2001). Новая общая стратиграфическая шкала перми, включённая в третье издание Стратиграфического кодекса России (2006), непригодна для использования по номенклатурным причинам (Гоманьков, 2007). При анализе стратиграфического распределения местонахождений ископаемой флоры в татарском ярусе Восточно-Европейской платформы можно обратить внимание на то, что большинство местонахождений, содержащих обильные, разнообразные и хорошо сохранившиеся растительные остатки, приурочено к нескольким очень узким стратиграфическим «горизонтам» или «уровням», разделённым значительными по мощности интервалами, в которых растительные остатки встречаются сравнительно редко и имеют, как правило, плохую сохранность. Так, большинство флористических местонахождений вятского возраста приурочено к так называемому «горизонту старичных глин», который прослеживается на севере Восточно-Европейской Материалы III Всероссийского совещания платформы в середине вятского горизонта (Бороздина, Олферьев, 1970). К этому стратиграфическому уровню относятся местонахождения Аристово I и Аристово II на Малой Северной Двине, Мулино на Вятке, а также большое количество местонахождений, вскрытых буровыми скважинами на междуречье Вятки и Сухоны: Виледь, Дор, Калиновка, Луптюг, Титово. В Южном Приуралье к этому же уровню приурочено местонахождение Вязовка, флористически и тафономически очень похожее на Аристово I. Если двигаться от горизонта старичных глин вниз по разрезу, то следующий уровень с богатыми местонахождениями флоры оказывается приуроченным примерно к середине вишкильского горизонта. На этом уровне оказываются такие богатейшие местонахождения, как Исады на Сухоне и Александровка в Южном Приуралье. Местонахождения в нижней части вишкильского горизонта (Опоки и Устье Стрельны на Сухоне, Котельнич и Слободской на Вятке) сравнительно редки и содержат обычно растительные остатки, таксономически однообразные и плохой сохранности. А ещё ниже по разрезу следует уржумский горизонт, в котором местонахождения растительных остатков почти полностью отсутствуют (исключения составляют местонахождение Вострое на Сухоне и, возможно, Бекечево в Южном Приуралье). Такое распределение ископаемых растений в татарском ярусе Восточно-Европейской платформы объяснялось «геологической эволюцией», т. е. сменой обстановок осадконакопления и, как следствие, условий захоронения растительных остатков (Гоманьков, 2002). Следующий (при движении сверху вниз по разрезу) после палеоботанически почти «немого» уржумского горизонта уровень высокой концентрации флористических местонахождений приходится примерно на границу казанского и татарского ярусов. К этому уровню относятся такие местонахождения, как Костоваты и Чепаниха в Удмуртии, Донаурово и Шихово-Чирки на Вятке, а также, возможно, Каргалинские рудники в Южном Приуралье, хотя не исключено, что в этом последнем местонахождении флороносная толща отвечает весьма широкому возрастному интервалу, который нецелесообразно квалифицировать как некий стратиграфический «уровень». Если местонахождения верхнетатарского подъяруса представляют известную татариновую флору (Гоманьков, Мейен, 1986), то в упомянутых более древних уржумско-казанских местонахождениях явно представлен иной флористический комплекс, который по местонахождению Костоваты можно назвать костоватовским. Для него характерно присутствие пельтаспермовых рода Odontopteridium и (или) близкого к нему рода Ustyugia. Часто встречаются также листья рода Phylladoderma подрода Phylladoderma. В Костоватах и Чепанихе к этим таксонам добавляются папоротники (Pecopteris sp.), пельтаспермовые рода Compsopteris, кордаиты, а в Каргалинских рудниках – хвойные рода Quadrocladus и дикранофилловые рода Steirophyllum. Несмотря на то, что точное определение возраста костоватовского комплекса представляет собой задачу, чрезвычайно важную для целей фитостратиграфии, разрешение этой задачи кажется достаточно трудным. Местонахождение Шихово-Чирки приурочено к разрезу, в котором представлен стартотип нижней границы татарского яруса (Стратотипический разрез…, 2001), и находится ниже этой границы, т. е. относится к верхам казанского яруса. При движении из Шихово–Чирков вниз по Вятке можно наблюдать, как пестроцветы максимовских слоёв Н.Н. Форша (1963), с которых начинается разрез уржумского горизонта, фациально замещаются на характерную толщу тонкослоистых розовых мергелей. В разрезе у д. Коряково хорошо видно, как эта толща перекрывает белые известняки с характерной морской фауной казанского яруса. Но дальше на восток эти известняки фациально замещаются континентальными красноцветами белебеевской свиты, и в нижнем течении Вятки в районе устья р. Уржумка видно, что розовые мергели подстилаются уже этими красноцветами, к которым и приурочено местонахождение Донаурово. Такое сопоставление позволяет считать, что местонахождение Донаурово соответствует верхам казанского яруса. Однако геологи КГУ, исходя в своих корреляциях из стратотипических для казанского яруса разрезов Приказанского Поволжья, на нижней Вятке проводили границу казанского и татарского ярусов внутри толщи белебеевских красноцветов, так что, согласно их корреляциям, местонахождение Донаурово имеет раннеуржумский возраст. В.И. Игнатьев (1962), считая толщу, к которой приурочено местонахождение Донаурово, татарской, протягивал её через бассейн р. Кильмезь на правобережье Камы и синхронизировал с той толщей, к которой приурочены местонахождения Костоваты и Чепаниха. Однако к этой же толще приурочено местонахождение позвоночных Сидоровы Горы на Каме, которому приписывается (Ивахненко и др., 1997) даже раннеказанский возраст. И.И. Молостовская (СГУ) по остракодам определяла казанский возраст для местонахождения Костоваты. Такой же «казанский» комплекс остракод определён из слоёв белебеевской свиты, расположенных непосредственно ниже флороносного слоя местонахождения Донаурово. 71 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео72 Следует, однако, помнить, что в стратотипическом разрезе у д. Шихово-Чирки «казанский» комплекс остракод проходит в максимовские слои Форша (Стратотипический разрез…, 2001). Для решения проблемы положения границы казанского и татарского ярусов на нижней Вятке (от которого зависит возраст местонахождения Донаурово, а следовательно, и всего костоватовского комплекса) необходимо тщательное опробование на остракоды в этом районе верхов белебеевской свиты и толщи розовых мергелей, а также этой же толщи в среднем течении Вятки, там, где она перекрывает морские отложения казанского яруса. Бороздина З.И., Олферьев А.Г. О принципах выделения вятского горизонта в разрезе татарского яруса юго-восточного борта Московской синеклизы // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1970. № 1. – С. 114–120. Гоманьков А.В. Флора и стратиграфия татарского яруса Восточно-Европейской платформы. Автореф. дис. ... докт. геол.-минер. наук. – М., 2002. – 48 с. Гоманьков А.В. Стратиграфическая шкала терминальной перми: история и современность // Верхний палеозой России: стратиграфия и палеогеография: Материалы Всерос. конф., посвященной памяти проф. В.Г. Халымбаджи, 25–27 сентября 2007 г. – Казань: Изд-во КГУ, 2007. – С. 73–76. Гоманьков А.В., Мейен С.В. Татариновая флора (состав и распространение в поздней перми Евразии). – М.: Наука, 1986. – 174 с. Ивахненко М.Ф., Голубев В.К., Губин Ю.М. и др. Пермские и триасовые тетраподы Восточной Европы. – М.: ГЕОС, 1997. – 215 с. Игнатьев В.И. Татарский ярус центральных и восточных областей Русской платформы. Ч. I. Стратиграфия. – Казань: Изд-во КГУ, 1962. – 334 с. Решения Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы с региональными стратиграфическими схемами. Ленинград, 1988 г. Пермская система. – Л.: ВСЕГЕИ, 1990. – 48 с. Стратиграфический кодекс России. Издание третье. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 96 с. Стратотипический разрез татарского яруса на р. Вятка. – М.: ГЕОС, 2001. – 140 с. Форш Н.Н. О стратиграфическом расчленении и корреляции разрезов татарского яруса востока Русской платформы по комплексу литолого-стратиграфических, палеомагнитных и палеонтологических данных // Палеомагнитные стратиграфические исследования. – Л.: Гостоптехиздат, 1963. – С. 175–211. Н.В. Горева, А.С. Алексеев ПОЛОЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ МОСКОВСКОГО ЯРУСА КАМЕННОУГОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ Московский ярус в стратиграфической последовательности карбона Подмосковья был установлен С.Н. Никитиным в 1890 г. Позднее А.П. Иванов (1926) дал характеристику четырех выделенных им горизонтов московского яруса, хотя и не указал их стратотипов. Более дробное, сначала литологическое, а потом и биостратиграфическое деление горизонтов было разработано на южном крыле Московской синеклизы (Иванова, Хворова, 1955). История становления современной стратиграфической схемы московского яруса подробно приведена в работе М.Х. Махлиной с соавторами (2001). В настоящее время московский ярус – один из четырех отечественных ярусов пенсильванской подсистемы каменноугольной системы, ратифицированный Международным союзом геологических наук (Gradstein et al., 2004). Однако биостратиграфические маркеры его нижней границы до сих пор не определены, и стратотип не зафиксирован. Сложность ситуации в отношении фиксации нижней границы московского яруса связана прежде всего с тем, что она не может быть определена в типовой местности (Подмосковье), поскольку здесь верейский горизонт с большим перерывом залегает на породах нижнего карбона и только в пределах Азовской палеодолины на верхнебашкирских континентальных отложениях. Членами Международной рабочей группы по выбору нижней границы московского яруса для обсуждения предлагались различные маркеры. Среди фораминифер: первое появление видов Aljutovella aljutovica или Depratina prisca и рода Eofusulina. Среди конодонтов: первое появление (FAD) (1) Declinognathodus donetzianus в линии D. marginodosus – D. donetzianus; (2) Idiognathoides postsulcatus в линии I. sulcatus – I. postsulcatus; (3) Diplognathodus ellesmerensis в линии D. orhanus – D. ellesmerensis; (4) Streptognathodus expansus в линии S. preexpansus – S. expansus. В качестве возможных кандидатов для установления GSSP рассматриваются разрезы в первую очередь Южного Урала и Южного Китая. Материалы III Всероссийского совещания В отечественной шкале московский ярус традиционно начинается с FAD фузулинид Aljutovella aljutovica Rauser, считающегося совпадающим с основанием верейского горизонта. Этот вид долгие годы рассматривался как практический индекс, определяющий основание московского яруса в пределах Западной Пангеи. Однако Aljutovella aljutovica в разрезе Аскын на Южном Урале (гипостратотип башкирского яруса) по уточненным данным встречается лишь со слоя 35, в 28 м выше всеми принимаемой границы (основание слоя 31), в связи с чем Е.И. Кулагина (2008) предложила в качестве индекса FAD Depratina (Profusulinella) prisca Deprat. Это изменяет сложившееся определение нижней границы московского яруса, делая ее более древней. Кроме того, D. prisca не известна в верейском горизонте Подмосковья. Обобщение данных по распространению фузулинид в пограничных отложениях башкирского и московского ярусов в Евразии (Восточно-Европейская платформа, Донбасс, Урал, ТяньШань, Кантабрийские горы) показало, что в бассейнах этой территории в башкирское время шло развитие единого ствола фузулинид с небольшими провинциальными особенностями в эволюционной линии Staffelliformes staffellaeformis – Profusulinella parva – Pr. rhomboides – Tikhono­ vichiella pseudoaljutovica – Aljutovella aljutovica. Трудность корреляции со средним пенсильванием Американского континента связана с тем, что в Северной Америке зафиксированы лишь фрагменты этого ствола из-за периодического характера миграции фузулинид из Евразии в Северную Америку. Волна обширной миграции приходится на поздневерейское – каширское время, когда в бассейнах Мидконтинента США и Восточно-Европейской платформы отмечается максимальное количество близких видов (Groves et al., 2007). Сейчас рассматриваются и другие таксоны фузулинид, в частности, FAD представителей рода Eofusulina (Groves and Task Group, 2011), но их первое появление в типовой местности московского яруса приурочено к каширскому горизонту, хотя в Донбассе эофузулины отмечены ниже, в известняке К1 (Nemirovska et al., 2010). Установлено, что наибольшим преимуществом при определении границ ярусов обладают конодонты как группа пелагических организмов, имеющая широкое географическое распространение, меньшую зависимость от фаций и высокие темпы эволюции. В рабочей группе обсуждались различные варианты. Первоначально это были виды Declinognathodus donetzianus Nemyrovska и Idiognathoides postsulcatus Nemyrovska, появляющиеся вблизи основания московского яруса (известняк К2) в Донбассе. Из них наиболее подходящим представлялся D. donetzianus. Выявлено, что первое появление Declinognathodus donetzianus установлено в основании московского яруса, как оно понимается в настоящее время в типовой местности (альютовская свита) (Махлина и др., 2001), и это событие может быть перспективно для определения данной границы. Уточнен диагноз этого вида, его географическое распространение, стратиграфический диапазон, выявлены филогенетические связи с предковым видом Declinognathodus marginodosus (Немировская, 1990). Однако этот вид имеет ограниченное распространение и обнаружен пока только в Донбассе, Подмосковье и на Южном Урале (разрез Басу). Более широко распространен второй из предложенных маркеров – Idiognathoides postsulcatus, который присутствует в Донбассе, Подмосковье, на Южном Урале, в Кантабрийских горах (Испания) и в Мидконтиненте США, но его появление в различных регионах асинхронно. Китайскими специалистами было предложено использовать в качестве маркера FAD Diplo­ gnathodus ellesmerensis Bender (Qi et al., 2007). Этот вид имеет большой стратиграфический диапазон, будучи найден и значительно выше, в подольском горизонте Подмосковья, Архангельской области и Южного Урала (Дальний Тюлькас), но встречается единично, а его предок неизвестен. При демонстрации разрезов Южного Китая Qi Y. с коллегами (2010) выдвинули предложение рассматривать появление продвинутых форм S. expansus или S. suberectus в качестве потенциального уровня башкирско-московской границы. Позднее примитивные формы S. expansus были названы S. preexpansus и рассматриваются как предковые для S. expansus (Qi et al., 2011). Принятие такого уровня вряд ли приемлемо, так как значительно понижает границу московского яруса, практически до середины башкирского яруса. Таким образом, поиск маркера нижней границы глобального московского яруса вблизи подошвы верейского горизонта на данном этапе зашел в тупик. Изучение конодонтов типовой местности московского яруса показало, что почти все виды платформенных конодонтов верейского времени представляют собой морфологические типы, возникшие значительно раньше. Составляющие основной фон верейской фауны конодонтов такие виды, как Declinognathodus marginodosus Grayson и Neognathodus atokaensis Grayson, появляются еще в башкирском веке. Столь же распространенные в верейском комплексе виды рода Idiognathoides также являются раннепенсильванскими. Лишь два вида этого рода (I. ouachitensis и I. tuberculatus) имеют более позднее, но еще доверейское происхождение. Род Idiognathodus также возник в доверейское время. 73 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео74 Платформенные конодонты каширского времени характеризуются существенно иным морфологическим обликом, а в таксономическом отношении резко отличаются от ранее существовавших форм. Основу характерного облика конодонтов каширского горизонта составляют наиболее часто встречающиеся виды: Neognathodus bothrops, N. znensis, N. nataliae, N. medadultimus, N. kashiriensis, Idiognathodus praeobliquus, I. obliquus, I. delicatus, Swadelina dissectа. Все это, наряду с зафиксированным во всех изученных разрезах на территории Московской синеклизы резким изменением родового и видового состава конодонтов в основании каширского горизонта, дало основание высказать мнение о том, что биостратиграфически более обоснованным является проведение границы московского яруса не в подошве верейского горизонта, а в его кровле, т. е. в основании нынешнего каширского подъяруса (Барсков, Алексеев, 1975; Барсков и др., 1980; Горева, 1984). В этом отношении данные по конодонтам хорошо согласуются с историческим развитием аммоноидей, согласно которым московский ярус начинается с отложений каширского горизонта. Верейский горизонт по сопоставлению с отложениями Донбасса, содержащими аммоноидеи, объединялся с нижележащими отложениями под названием каяльского яруса (Руженцев, Богословская, 1978). Столь же резкая смена на границе верейского и каширского горизонтов отмечена С.С. Лазаревым и в комплексах брахиопод (Махлина и др., 2001). В качестве маркера этой границы мы предлагаем FAD Neognathodus bothrops Merrill, известного в США и Подмосковье. Это довольно существенное изменение объема московского яруса, но на практике мелекесский горизонт башкирского яруса и верейский московского имеют общий комплекс конодонтов и не могут быть корректно разделены. Кроме того, есть основание полагать, что верхняя граница московского яруса будет также передвинута вверх, примерно в среднюю часть хамовнического горизонта касимовского яруса. Работы поддержаны РФФИ, проект 12-05-00106. Барсков И.С., Алексеев А.С. Конодонты среднего и верхнего карбона Подмосковья // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1975. № 6. – С. 84–99. Барсков И.С., Алексеев А.С., Горева Н.В. Конодонты и стратиграфическая шкала карбона // Изв. АН СССР. Сер. геол. 1980. № 3. – С. 43–45. Горева Н.В. Конодонты московского яруса Московской синеклизы // Палеонтологическая характеристика стратотипических и опорных разрезов карбона Московской синеклизы. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – С. 44–122. Иванов А.П. Средне- и верхнекаменноугольные отложения Московской губернии // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1926. Т. 4. Вып. 1–2. – С. 133–176. Иванова Е.А., Хворова И.В. Стратиграфия среднего и верхнего карбона западной части Московской синеклизы // Тpуды ПИН АН СССР. 1955. Т. 53. – 279 с. Кулагина Е.И. Граница башкирского и московского ярусов (средний карбон) на Южном Урале в свете эволюции фузулинид // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2008. Т. 83. Вып. 1. – С. 33–43. Махлина М.Х., Алексеев А.С., Горева Н.В. и др. Средний карбон Московской синеклизы (южная часть). Т. 2. Палеонтологическая характеристика. – М.: Научный Мир, 2001. – 328 с. Немировская Т.И. Самые поздние представители рода Declinognathodus в пограничных отложениях башкирского и московского ярусов Донецкого бассейна // Палеонтолог. сб. 1990. № 27. – С. 39–42. Руженцев В.Е., Богословская М.В. Намюрский этап в эволюции аммоноидей. Поздненамюрские аммоноидеи // Труды ПИН АН СССР. 1978. Т. 167. – 338 с. Gradstein F.M., Ogg O., Smith A.G. A Geologic Time Scale 2004. Cambrige University Press. 2004. – 589 p. Groves J.R., Kulagina E.I., Villa E. Origin of the fusulinid Profusulinella in Eurasia and North America // Journal Paleontology. 2007. Vol. 81. N 6. – Р. 227–237. Groves J. and Task Group. Report of the Task Group to establish a GSSP close to the existing BashkirianMoscovian boundary // Newsletter on Carboniferous Stratigraphy. 2011. Vol. 29. – P. 30–33. Nemirovska T.I., Matsunaga M., Ueno K. Conodont and fusuline composite biostratigraphy across the Bashkirian/Moscovian boundary in the Donets Basin, Ukraine: the Malonikolaevka section // Newsletter on Carboniferous Stratigraphy. 2010. Vol. 28. – P. 60–66. Qi Y., Lambert L.L., Barrick J.E., Groves J.R. et al. New interpretation of the conodont succession of the Naqing (Nashui) section: candidate GSSP for the base of the Moscovian Satge, Luosu, Luodian, Guizhou, South China // Carboniferous carbonate succession from shallow marine to slope in Southern Guizhou. Guide Book for field excursion. Nov. 25 – Nov. 30, 2010. Nanjing, 2010. – P. 65–77. Qi Y., Wang Zh., Wang Y. et al. Stop 1. Nashui section, Luodian County // Pennsylvanian and Lower Permian carbonate succession from shallow marine to slope in southern Guizhou. Bashkirian-Moscovian-KasimovianGzhelian boundary intervals and cyclothemic deposition. Field excursion C3. XVIth International Congress on the Carboniferous and Permian. June 21–24, 2007, Nanjing, China, 2007. – P. 8–16. Qi Y., Wang X., Lambert L.L., Barrick J.E. et al. Three potential levels for the Bashkirian-Moscovian boundary in the Naqing section based on conodonts // Newsletter on Carboniferous Stratigraphy. 2011. Vol. 29. – P. 61–64. В.М. Горожанин, Е.Н. Горожанина, Е.И. Кулагина Разрез Верхняя Кардаиловка рассматривается как претендент на роль глобального стратотипа нижней границы серпуховского яруса (Nikolaeva et al., 2009; Richards, 2011). Разрез расположен в Баймакском районе Башкирии, на границе с Оренбургской обл., на правом берегу р. Урал напротив д. Верхняя Кардаиловка (координаты: N 52°17′, E 058°55′). В 2010–2011 гг. российской рабочей группой (ИГ УНЦ РАН, ПИН РАН, МГУ) во главе с председателем каменноугольной комиссии МСК России А.С. Алексеевым проводились комплексные литолого-стратиграфические исследования разреза, в которых также принимал участие председатель Международной подкомиссии по каменноугольной стратиграфии B.C. Richards (2011). Работы были сосредоточены на верхневизейско-серпуховском интервале разреза, который был маркирован через метровый интервал (Кулагина и др., 2010; Nikolaeva et al., 2011). Начало разреза фиксируется в двух метрах ниже кровли криноидных известняков жуковского (тульского) горизонта верхнего визе, где вбит алюминиевый стержень с нулевой отметкой (pin 0). Возраст этих известняков определен по фауне конодонтов зоны Gnathodus texanus и фораминифер слоев Glomodiscus oblongus – Paraarchaediscus koktjubensis (Пазухин, Горожанина, 2002; Кулагина, 2011). Цель настоящего сообщения – охарактеризовать структурные особенности разреза и его геологическую позицию, основываясь на результатах радиометрических и петрографических исследований. В структурном отношении разрез находится на восточном крыле Кардаиловской синклинали в центральной части Магнитогорского мегасинклинория, относящегося к палеоостроводужной зоне. Литологическая характеристика. Маркированный разрез, общей мощностью около 55–57 м, расчленяется на несколько пачек. На закарстованной поверхности криноидных известняков залегает пестрая пачка вулканогенно-кремнисто-глинистых пород мощностью 11 м, сложенная тонко переслаивающимися глинами, кремнистыми и известковистыми туфоаргиллитами, туфоалевролитами с прослоями кремнистых мергелей с реликтами выщелоченных ругоз и криноидей, с фрагментами растительных остатков (Орлова, Мамонтов, 2011). В верхней части появляются глауконитовые алевролиты и туфопесчаники. Отложения относятся к жуковскому горизонту верхнего визе, зоне Gnathodus texanus (Nikolaeva et al., 2011). Выше (инт. 13–21 м) залегает пачка темно-серых пелитоморфных плитчатых и нодулярных известняков верхнего визе (предположительно алексинский, михайловский, веневский горизонты). В интервале 16–17 м отмечаются два прослоя (5 и 12 см) желтой глины туфового происхождения. Граница визейского и серпуховского ярусов фиксируется в интервале 19–20 м. Известняки серпуховского яруса представлены толщей светло-серых толсто-среднеслоистых известняков (вакстоунов) с аммоноидеями, радиоляриями и криноидеями (мощностью около 40 м). В верхнесерпуховской части разреза (ход 2) наблюдается биогерм, сложенный криноидными вакстоунами-пакстоунами с аммоноидеями и мелкими табулятами, появляются прослои мшанково-криноидных грейнстоунов. В интервале 38,5–40 м отмечаются линзы темно-серых кремней. Обстановки осадконакопления. Резкий переход от криноидных грейнстоунов открытого шельфа к вулканогенно-осадочной глинисто-мергелистой толще связан с тектоно-вулканическими событиями в жуковское время – расширением Магнитогорского рифтогенного прогиба в начале позднего визе и заполнением новообразованных оперяющих грабенов глинисто-вулканогенными (пепловыми и туфовыми) осадками (Горожанина и др., 2009). Прослои углистокремнистых сланцев и мергелей в данной толще являются фоновыми осадками заполнения бортовой зоны грабена на фоне общей трансгрессивной седиментации глобального характера. Карбонатные отложения позднего визе и серпуховского века представлены относительно глубоководными гониатитовыми фациями в конденсированном типе разреза, формировавшемся в пострифтовую стадию на склоне палеограбена. Образование небольшого биогерма в верхнесерпуховских отложениях характерно для зоны склона. Индикаторы постседиментационных тектонических деформаций. С наличием в регионе крупных субмеридиональных разломов сдвигового типа – Кизильского и Магнитогорского (Знаменский, 2008) связано развитие оперяющих зон деформаций. Зона таких деформаций при- Материалы III Всероссийского совещания ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ РАЗРЕЗА ВЕРХНЯЯ КАРДАИЛОВКА (ЮЖНЫЙ УРАЛ), КАНДИДАТА В GSSP НИЖНЕЙ ГРАНИЦЫ СЕРПУХОВСКОГО ЯРУСА 75 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео76 урочена к контакту криноидных известняков жуковского горизонта с перекрывающей пачкой вулканогенно-кремнисто-глинистых пород. Ранее эта зона была описана как палеокарстовая поверхность с остатками палеопочвы (Кулагина и др., 2010). Наблюдаемая картина действительно соответствует карстовому процессу, однако не древнему (визейскому), а значительно более молодому (миоценовому), развившемуся в зоне тектонического нарушения. Карстовые полости имеют трубообразную форму с ромбовидными очертаниями, вниз они переходят в трещины, направление которых согласуется с сетью тектонической трещиноватости. Поверхность известняков разбита трещинами на блоки, один из них опущен по сравнению с единой поверхностью напластования. В перекрывающей слоистой толще отложения деформированы, однако они смяты в антиклинальную складку, а не в синклинальную, как следовало бы ожидать при карстовом проседании блока. Складка представляет собой флексурный перегиб слоев пластичных пород над приподнятым и опущенным блоками известняков. Амплитуда складки –1 м (рис. 1, а, б). В глине отмечаются послойные и секущие гипсовые прожилки толщиной до 2 см, подчеркивающие мелкую складчатость (плойчатость) глинистых слоев, направление роста кристаллов гипса говорит о заполнении пустот типа трещин отрыва. Вблизи отметки 4 м наблюдается тектоническое нарушение – взбросо-надвиг небольшой амплитуды (15 см), который проявлен контрастной окраской контактирующих глинистых прослоев – бурых ожелезненных и серовато-белых осветленных пород (рис. 1, в). Тектоническая зона шириной около 2 м выражена зоной осветления. На фоне белого монтмориллонита вдоль кливажных трещин контрастно проявляется налет черного цвета, который, возможно, образовался в результате миграции углеводородов по зоне разлома (твердые битумоиды присутствуют также в срастании с гипсовыми прожилками). Зона осветления выделяется повышенными значениями радиоактивности – на фоне естественной радиоактивности известняков (5–15 мкр/час) значения в ней достигают 120 мкр/час, в том числе и в закарстованных известняках (до 45 мкр/час) (рис. 2). В верхней части глинистой толщи на контакте ее с известняками влияние молодых тектонических движений выражается в интенсивной трещиноватости алеврокремнистых прослоев и линзовидной форме пластов мергелей и песчаников. Малоамплитудные смещения по этим тектоническим трещинам принимаются некоторыми геологами за синседиментационные подводно-оползневые структуры. О наличии горизонтальных смещений в толще известняков сви- Рис. 1. Деформация карбонатно-терригенной пачки верхневизейских пород в зоне тектонического нарушения (а, б, в) и характер залегания известняков пограничной зоны визейского и серпуховского ярусов (г) детельствуют межпластовые зеркала скольжения в 13 м выше начала разреза (pin 13). Выше, в монотонной толще известняков верхнего визе и серпухова, тектонические смещения выражены слабее. Тектоническая трещиноватость проявлена в виде пересекающихся трещин и кулисообразно расположенных кальцитовых прожилков. При общем моноклинальном залегании слоев (аз.пд. 230 < 25) отчетливо проявлены два направления трещиноватости: северо-западное и субмеридиональное. Между отметками 35 и 36 м проходит зона нарушений, выраженная в рельефе небольшой ложбиной северо-западного простирания. Приграничные породы визейского и серпуховского ярусов в интервале 18–22 м не несут признаков значительного тектонического воздействия (рис. 1, г). Выводы. Верхневизейско-серпуховские отложения в разрезе Верхняя Кардаиловка представляют собой последовательность осадков, сформировавшихся в обстановке погруженной (затопленной) карбонатной платформы (drowned carbonate platform). Погружение началось в конце жуковского времени и связано с активизацией вулкано-тектонических процессов в Магнитогорско-Богдановском грабене, что совпало с глобальной поздневизейской трансгрессией. В серпуховское время при стабилизации тектонического режима в этой зоне грабена формировались относительно глубоководные гониатитовые фации известняков. Пестрая туфо-карбонатно-кремнисто-глинистая толща, образовавшаяся в начале позднего визе, в постпалеозойское время испытала слабые деформации сдвигового характера, которые привели к развитию трещиноватости и мелкой приразломной складчатости, относительно слабо нарушающей первичное залегание пород. Зона влияния тектонических нарушений находится стратиграфически ниже предлагаемой границы и не может сказаться на ее обосновании. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 10-05-01076. Горожанина Е.Н., Пазухин В.Н., Горожанин В.М. Палеофациальная модель осадконакопления нижнекаменноугольных отложений на Южном Урале // Материалы междунар. полевого совещ. «Типовые разрезы карбона России и потенциальные глобальные стратотипы», Уфа – Сибай, 13–18 августа 2009 г. – Уфа: ДизайПолиграфСервис, 2009. – С. 12–21. Знаменский С.Е. Структурная эволюция Магнитогорской мегазоны (Южный Урал) в позднем палеозое // ДАН. 2008. Т. 420. № 1. – С. 85–88. Кулагина Е.И., Николаева С.В., Ричардс Б. и др. Геологический объект международного значения на Южном Урале // Материалы VIII Межрегион. геолог. конф. – Уфа: ДизайПолиграфСервис, 2010. – С. 30–34. Кулагина Е.И. Фораминиферовая последовательность в нижневизейских отложениях разреза Верхняя Кардаиловка на Южном Урале // Геологич. сб. № 9. Юбилейный выпуск. – Уфа: ДизайнПолиграфСервис, ИГ УНЦ РАН, 2011. – С. 54–62. Орлова О.А., Мамонтов Д.А. Первая находка хвощевидных в визейских вулканогенно-терригенных отложениях разреза Верхняя Кардаиловка (Южный Урал) // Биостратиграфия, палеогеография и события Материалы III Всероссийского совещания Рис. 2. Радиометрическая характеристика разреза Верхняя Кардаиловка 77 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео78 в девоне и нижнем карбоне (Международная подкомиссия по стратиграфии девона / Проект 596 МПГК): Материалы Междунар. конф., посвященной памяти Е.А. Елкина. Уфа, Новосибирск, 20 июля – 10 августа 2011 г. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. – С. 124–125. Пазухин В.Н., Горожанина Е.Н. Разрез «Верхняя Кардаиловка» // Путеводитель геологических экскурсий по карбону Урала. Ч. 1. Южноуральская экскурсия / Под ред. Б.И. Чувашова. – Екатеринбург: ИГиГ УрО РАН, 2002. – С. 59–67. Nikolaeva S.V., Kulagina E.I., Рazukhin N.N. et al. Paleon­tology and microfacies of the Serpukhovian in the Verkhnyaya Kardailovka section, south Urals, Russia: potential candidate for the GSSP for the Visan-Serpukhovian boundary. – Newsletters on Stratigraphy, 2009, 43. – Р. 165–193. Nikolaeva S.V., Richards B.C., Kulagina E.I. et al. Summary of Research at the Verkhnyaya Kardailovka section (South Urals) – a candidate for the Visean-Serpukhovian boundary GSSP // Abstracts. The XVII International Congress on the Carboniferous and Permian, July 2011. – P. 98. Richards B.C. Report of the task group to establish a GSSP close to the existing visan–serpukhovian boundary Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 2011. – P. 26–29. Д.А. Груздев, А.В. Журавлев, Д.Б. Соболев ИЗОТОПЫ УГЛЕРОДА И КИСЛОРОДА В РАЗРЕЗЕ ВЕРХНЕФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПАЙ-ХОЯ, река СИЛОВА На основании сопоставления данных по литологии и стратиграфии верхефаменских отложений в разрезе на р. Силова (Пай-Хой) были установлены предполагаемые рубежи биотических событий «annulata» и «dasberg» (Груздев и др., 2011). Посмотреть их отражение в изотопных характеристиках углерода и кислорода являлось следующим этапом наших исследований. Результаты определения величин δ13C и δ18O представлены вариационными кривыми на рисунке, здесь же приведена литологическая колонка с кривой колебаний относительного уровня моря. Изотопные соотношения углерода и кислорода варьируют в широком диапазоне: от +1,1 до +4,3 ‰ для δ13C и от 23,2 до 29,0 ‰ для δ18O. Распределение величин δ13C и δ18O по разрезу неравномерное, с многочисленными экскурсами в стороны минимальных и максимальных значений. Нередко по разрезу отмечаются закономерные изменения изотопного состава углерода и кислорода, которые выражены в синхронных экскурсах величин δ13C и δ18O. В этом отношении наиболее значимые события приурочены к нижней и верхней части конодонтовой зоны postera. В первом случае наблюдается резкое облегчение изотопного состава как углерода (с 2,8 до 1,1 ‰), так и кислорода (с 28,0 до 25,4 ‰). Во втором случае, напротив, если утяжеление изотопного состава углерода происходит в целом постепенно с 2,6 до 4,3 ‰, то для кислорода это происходит скачкообразно и с гораздо большей амплитудой (с 23,3 до 28,7 ‰). Событийному уровню «annulata» соответствует сопряженный с трансгрессией значительный сдвиг в изотопном соотношении углерода (рисунок), что, возможно, отвечает широко развитому распространению аноксных условий на глубоководных шельфах. Бескислородное событие «das­ berg» также маркируется положительным сдвигом изотопного соотношения углерода (рисунок). Не исключено, что реальную картину изменения изотопных систем затушёвывают пост­ седиментационные, в том числе и постдиагенетические процессы преобразования, развитые в породах разреза (окременение, стилолитизация). Разложение карбонатов и измерение изотопного состава углерода и кислорода в режиме непрерывного потока производились на аналитическом комплексе, включающем в себя систему подготовки и ввода проб Gas Bench II, соединенную с масс-спектрометром DELTA V Advantage фирмы Thermo Fisher Scientific (Бремен, Германия). Значения δ13C даны в промилле относительно стандарта PDB, δ18O – стандарта SMOW. При калибровке были использованы международные стандарты МАГАТЭ NBS18 (calcite) и NBS19 (TS-limestone). Ошибка определения составляет ±0,1 ‰. Груздев Д.А., Соболев Д.Б., Журавлев А.В. Возможное отражение событий Annulata и Dasberg в верхнедевонских отложениях Пай-Хоя, р. Силова // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 20-й науч. конф. Института геологии Коми НЦ УрО РАН. Сыктывкар, 13–15 декабря 2011 г. – Сыктывкар, 2011. – C. 44–46. Материалы III Всероссийского совещания Стратиграфическая колонка средне-верхнефаменских отложений с вариациями δ13C и δ18O, р. Силова 79 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Т.А. Грунт 80 ПЕРМСКОЕ СЕМЕЙСТВО KANINOSPIRIFERIDAE KALASHNIKOV, 1996 (ОТРЯД SPIRIFERIDA, BRACHIOPODA) В ПЕРМСКИХ БАССЕЙНАХ БОРЕАЛЬНОЙ И НОТАЛЬНОЙ КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН Во внетропических зонах осадконакопления второй половины пермского периода была широко распространена характерная и очень представительная группа крупных тонкоребристых спириферид. Ее первые представители были описаны как Spirifer striato-paradoxus Toula, 1874 из пермских отложений (формация Капп Старостин) Шпицбергена. В 1964 г. из этих же отложений близкий вид Sp. striato-plicatus был описан Гоббеттом. В разрезах восточного побережья п-ова Канин (Чешская губа) представители этой группы впервые были описаны Б.К. Лихаревым (1943) под названием Spirifer kaninensis Licharew. Данный вид был избран в качестве типового для рода Kaninospirifer Kulikov, Stepanov, 1975 (Степанов и др., 1975). На основе рода Kaninospirifer как одного из наиболее характерных представителей этой группы, известных к тому моменту, Н.В. Калашниковым (Kalashnikov, 1996) было установлено подсемейство Kaninospiriferinae Kalashnikov, 1996, переведенное позднее в ранг семейства (Грунт, 2006). Большое внимание было уделено таксономии этой группы Б. Уотерхаузом (Waterhouse, 2004), который установил два новых рода: Fasciculatia (типовой вид: F. greenlandicus Waterhouse, sp. nov. из Гренландии) и Gobbettifera (типовой вид: G. angulata Waterhouse, sp. nov. из Канадской Арктики), отнесенных к тогда же установленному им новому подсемейству Gypospiriferinae семейства Spiriferidae King. В состав подсемейства Kaninospiriferinae, отнесенного к семейству Neospiriferidae Waterhouse, 1968, в дополнение к типовому роду, Уотехауз (2004) включил Imperiospira Archbold et Thomas, Quadrospira Archbold, 1997 и Wadispirifer Waterhouse, 2004. Эти три рода широко распространены в пермских отложениях Перигондваны (в основном, Западной Австралии), что свидетельствует о биполярном распределении каниноспириферид на протяжении пермского периода. Грунт (2006) предложила рассматривать состав семейства Kaninospiriferidae в объеме двух подсемейств: Kaninospiriferinae Kalashnikov, 1996 и Gypospiriferinae Waterhouse, 2004. Грунт также высказала мнение о близости родов Fasciculatia и Gobbettifera к Kaninospirifer и о возможности сведения этих двух родов в синонимику последнего. В фундаментальной сводке, посвященной системе брахиопод отряда Spiriferida (J. Carter In: “Treatise on invertebrate paleontology”, vol. 5, 2006), не были учтены не только данные ­Уотерхауза, но и более ранние работы Калашникова (Калашников, 1961; 1998; Kalashnikov, 1996). В «Treatise...» отмечена лишь слабая изученность рода Kaninospirifer и его сходство с Betaneospirifer Gatinaud, 1949. О том, что данный род был описан достаточно подробно и на его основе было установлено подсемейство, не упоминается вообще. В «Treatise…» род Kaninospirifer рассматривается в составе подсемейства Neospiriferinae Waterhouse, 1968 семейства Trigonotretidae Schuchert, 1893. Таким образом, не только относительно таксономического положения рода Kaninospirifer в составе надсемейства Spiriferoidea, но даже его самостоятельности существуют различные точки зрения. Анализ оригинальных коллекций, собранных автором в пермских разрезах п-ова Канин в 2001 г. и Шпицбергена (формация Капп Старостин) в 2009 г. с привлечением дополнительных материалов из коллекций Института геологии Коми НЦ, позволяет прийти к следующим выводам: Фиг. 1, 2. Fasciculatia striatoparadoxus (Gobbett, 1964): 1 – Музей естественной истории, Берлин, экз. MB-B.1530; цельная раковина с поврежденной наружной скульптурой с разных сторон (×0,75); 2 – Музей естественной истории, Берлин, экз. MB-B.1532; изолированная брюшная створка снаружи и со стороны замочного края (×1); С-З Шпицберген, фиорд Экман, Талдомригген; формация Капп Старостин, средняя часть, казанский ярус (сб. Грунт, 2009; обр. TR-1/59) Фиг. 3, 4. Kaninospirifer kaninensis (Licharew, 1943): 3 – Институт геологии, Коми НЦ, экз. 280/163; брюшная створка изнутри (х1); 4 – Институт геологии, Коми НЦ, экз. 280/438; спинная створка снаружи и изнутри; восточное побережье полуострова Канин (Чешская губа), между устьями рек Бол. Крутая и мысом Надтейсаля; биармийский отдел, ?уржумский ярус 81 Материалы III Всероссийского совещания и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео82 Роды Kaninospirifer и Fasciculatia обладают самостоятельной морфологической характеристикой. Первый род характеризуется присутствием лишь дельтириальных килей, в то время как у второго присутствуют также админикулы. Возможно, на конечной стадии развития произошла редукция админикул. К роду Kaninospirifer, кроме типового, достоверно относятся еще два вида: K. borealis Kulikov et Stepanov, 1975 и K. stepanovi Grunt, 2006, происходящие из казанских отложений Чешской губы. Некоторые виды, указывавшиеся ранее в составе Kaninospirifer, в действительности относятся к роду Fasciculatia, так как характеризуются присутствием админикул. Не является обоснованным отнесение группы родов, близких к Kaninospirifer, к подсемейству Neospiriferinae Waterhouse, 1968, которое, в свою очередь, включено в состав семейства Trigonotretidae Schuchert, 1893 (см. Carter, 2006). Пермское семейство Kaninospiriferidae, предковым для которого является семейство Spiriferidae, отличается чрезвычайной изменчивостью, аберрантным и рекуррентным характером признаков как наружного, так и внутреннего строения (крупные размеры, стегидиум и макушечное утолщение внутри брюшной створки, развитые в различной степени, степень выраженности админикул, вплоть до их редукции), что характерно для завершающего этапа развития группы (рисунок). Грунт Т.А. Отряд Spiriferida // Верхняя пермь полуострова Канин. – М.: Наука, 2006. – С. 151–164. Калашников Н.В. Спирифериды перми Европейского севера России. – М.: ГЕОС, 1998. – 137 с. Лихарев Б.К. О новом пермском Spirifer, приближающемся к Sp. striatus Sow. // Изв. АН СССР. Отд. биол. наук. 1943. № 5. – С. 279–285. Степанов Д.Л., Куликов М.В., Султанаев А.А. Стратиграфия и брахиоподы верхнепермских отложений полуострова Канин // Вестн. ЛГУ. 1975. № 6. – С. 51–65. Kalashnikov N.V. Kaninospiriferinae: A new subfamily of the Spiriferidae (Brachiopoda) // Brachiopods: Proc. of the Third Intern. Brachiopod congr. Sudbury (Canada), 1996. – P. 133–134. Carter J.L. Spiriferoidea // Treatise on invertebrate paleontology / Pt. H: Brachiopoda revized, Vol. 5. Rhynchonelliformea (part). – The University of Kansas Boulder, Colorado and Lawrence. Kansas, 2006. – P. 1689–2320. Waterhouse J.B. Permian and Triassic stratigraphy and fossils of the Himalaya in Northern Nepal. Oamaru: Earthwise. 2004. Vol. 6. – 228 p. А.В. Данилова ПРИМЕНЕНИЕ ПАЛИНОФАЦИАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГЕНЕЗИСА КАЗАНСКИХ ТЕРРИГЕННЫХ ПОРОД острова КОЛГУЕВ В последние годы для реконструкции обстановок древнего осадконакопления все более широко применяется палинофациальный анализ, основанный на изучении всего органического вещества, выделенного из породы для палинологического анализа. Палинофациальный анализ, или метод палинофаций, созданный А. Комба (А. Kombaz) в 1964 г., в отличие от классического спорово-пыльцевого анализа, где исследуются только споры и пыльца, включает в себя исследование всего рассеянного органического вещества (РОВ), содержащегося в мацерате. В палинологическом мацерате РОВ присутствует в структурной или деструктурированной форме (Методические рекомендации…, 1985). Структурное органическое вещество представлено палиноморфами. Палиноморфы могут быть морского (микрофораминиферы, большинство диноцист, акритархи, некоторые празинофиты, многие одноклеточные водоросли) и континентального (проблематичный микрофитопланктон, споры и пыльца) происхождения. Деструктурированное РОВ представлено микроскопическим растительным детритом разной степени катагенеза – палинодебрисом. В морских и прибрежно-морских фациях палинодебрис встречается в виде обломков и обрывков лейптинита, витринита и инертинита. При удалении от береговой линии в сторону моря количество фрагментов палинодебриса и их размер уменьшаются (Петросьянц, 1990). Все микрокомпоненты РОВ (палиноморфы, палинодебрис и аморфное органическое вещество), содержащиеся в породе и используемые обычно при определении обстановок осадконакопления, называются палинофацией. Термин «палинофация» широко используется за Кабанова В.М., Костеша О.Н., Шиховцева Л.Г. Сравнительная характеристика верхнеюрских палинофаций пласта Ю13 на примере Крапивинского нефтяного и Мыльджинского газоконденсатного месторождений (Томская область) // Актуальные вопросы геологии и географии Сибири: Материалы науч. конф., посвященной 120-летию основания Томского университета. 1–4 апреля 2008 г. Т. 2. – Томск: Томск. ГУ, 2008. – С. 66–69. Методические рекомендации по использованию микрофоссилий растительного и проблематичного происхождения для выявления обстановок древнего осадконакопления / под. ред. М.А. Петросьянц. – М.: ВНИГНИ, 1985. – 17 с. Петросьянц М.А. Значение микрофоссилий различного происхождения для реконструкций обстановок осадконакопления // Проблемы современной палинологии. Статьи советских палинологов к VI Междунар. палинолог. конф. (Калгари, Канада, 1984). – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 35–38. Шишлов С.Б. Секвенс-стратиграфия верхнего палеозоя острова Колгуев // Нефтегазовая геология. Теория и практика. http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2008.pdf Habib D. Sedimentary origin of North Atlantic Cretaceous palynofacies // Deep Drill Ras. in Atlantic Ocean: Continental margins and paleoenvironment. 1979. – P. 420–437. Материалы III Всероссийского совещания рубежом. В классификации Habib D. (Habib, 1979) выделены следующие палинофации: экзинитовые (континентальные), трахеальные и микринитовые (прибрежно-морские), ксеноморфные (морские). В 1998 г. В.М. Кабановой введено определение минеральной палинофации (Кабанова и др., 1998). В работах российских палинологов чаще встречаются термины «комплекс микрофоссилий различного происхождения» или «палиноориктоценоз». В настоящее время существуют различные методические разработки российских палинологов по использованию мокрофоссилий для реконструкций условий осадкообразования в разных нефте-, газо- и угледобывающих регионах. Новые аспекты, раскрывающие прикладные возможности палинологического метода, освещены в работах М.А. Петросьянц, М.В. Ошурковой, Л.В. Ровниной, Г.В. Мусиной, И.Р. Макаровой, О.Н. Костеша, Л.Г. Шиховцевой, Т.В. Стуковой и др. При установлении генезиса казанских отложений изучался мацерат каждого палинологического образца, представляющий собой спектр из структурного и деструктурированного РОВ и характеризующий условия осадконакопления в конкретной ситуации. В каждом образце устанавливался и описывался определенный тип палинофации (в ряде случаев переходный тип от одной палинофации к другой) и прослеживалась смена и чередование палинофаций по разрезам скважин. Был изучен керн четырех скважин (140-Колгуев, Песчаноозерская 1/4, Северо-Западная-202 и Таркская-4), вскрывающих казанские терригенные отложения на о. Колгуев. В казанских отложениях скв. 140-Колгуев (инт. 1697,0–1542,0 м) установлены микринитовые (в инт. 1697,0–1581,0 м) и трахеальная с признаками микринитовой (гл. 1542,0 м) палинофации. Микринитовые палинофации характеризуются наличием большого количества корродированной пыльцы двухмешковых и мелких спор, палинодебрис слабоокатанный, сорти­ рованный. Полученные данные могут свидетельствовать о прибрежно-морских условиях осадконакопления с активной гидродинамикой, возможно, об обстановках берегового бара. Трахеальная с признаками микринитовой палинофация отличается обилием крупного структурного палинодебриса (в основном растительного детрита, кутикул растений и трахеид) и большим количеством пыльцы и меньшим по сравнению с предыдущей палинофацией количеством спор. Осадконакопление происходило скорее всего в прибрежно-морских условия со спокойной гидро­динамикой (прибрежные марши, лагуны). В казанских отложениях скважин Песчаноозерская 1/4 (инт. 2030,5–1836,2 м), Северо-Западная-202 (инт. 2565,1–2259,2 м) и Таркская 4 (инт. 2052,3–2031,0 м) установлено чередование по разрезам минеральных с признаками микринитовых и минеральных с признаками ксеноморфных палинофаций, характеризующихся обилием аморфного органического вещества, обеднением количественного состава миоспор в породе, увеличением доли двухмешковой пыльцы и палиноморф неопределенного систематического положения Laricoidites sp., появлением в спектрах акритарх. Немаловажно и наличие в палинологических мацератах большого количества спор очень плохой сохранности. Все вышеперечисленное указывает на то, что осадконакопление происходило в прибрежно-морских и морских мелководных условиях с активной гидродинамикой. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в казанское время на южной части территории осадконакопление происходило в условиях морского мелководья, прибрежных маршей и лагун в непосредственной близости к суше, на которой произрастали древние хвойные леса с подлеском из древовидных папоротников и плаунов. В северной части о. Колгуев в казанское время осадконакопление происходило в морских условиях открытого мелководного шельфа. Полученные данные не только согласуются с литолого-фациальными исследованиями (Шишлов, 2008), но и дополняют их. 83 А.В. Дронов Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ОСАДОЧНЫЕ СЕКВЕНЦИИ И ЭВСТАТИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ В ОРДОВИКСКОМ БАССЕЙНЕ БАЛТОСКАНДИИ 84 Колебания уровня моря – один из наиболее существенных факторов, влияющих на характер седиментационной и биотической эволюции любого осадочного бассейна. Они определяют внутреннюю пластовую геометрию и внешнюю форму осадочных тел, заполняющих седиментационный бассейн, характер фациальных переходов, распределение поверхностей перерывов и несогласий, а также распределение биоты и степень насыщенности осадка палеонтологическими остатками. Помимо непосредственного влияния на глубину бассейна, изменения уровня моря могут служить неким спусковым механизмом для разнообразных гидрологических, климатических и биотических изменений и событий (Munnecke et al., 2010). Все это делает построение кривых колебаний уровня моря для различных седиментационных бассейнов и реконструкцию глобальной кривой эвстатических колебаний уровня Мирового океана важным объектом изучения. Условия формирования ордовикских отложений в эпиконтинентальном бассейне Балтоскандии варьируют от открытого шельфа с черносланцевой или глубоководной морской красноцветной седиментацией до тайдалитов и темпеститов внутреннего шельфа. Скорость накопления осадков, мощность стратиграфических подразделений, распределение фаций и геометрия пластов внутриосадочных секвенций контролируются преимущественно климатом через продуктивность карбонатной фабрики и колебаниями уровня моря. Основываясь на анализе региональных поверхностей перерыва и распределении характерных фаций в разрезе и по площади, в ордовикском бассейне Балтоскандии выделено и прослежено 14 осадочных секвенций, отвечающих колебаниям уровня моря 3-го порядка (Dronov et al., 2011). Реконструкция кривой колебаний уровня моря для ордовикского бассейна Балтоскандии базируется на следующих допущениях: 1) основные эрозионные региональные несогласия являются отражением крупных падений уровня моря и форсированных регрессий. Чем более широко по площади развито региональное несогласие и чем более глубокий эрозионный врез отмечается в его подошве, тем большей предполагается амплитуда падения уровня моря; 2) основные трансгрессивные эпизоды распознаются по расширению площади распространения специфических относительно глубоководных фаций. Чем большую территорию они занимают, тем большим был подъем уровня моря. Наиболее существенные несогласия с глубокой эрозией подстилающих отложений в ордовикском бассейне Балтоскандии совпадают с подошвами Нижнелаторпской (II), Нижневезенбергской (VIII), Нижнетоммарпской (XIII) и Верхнетоммарпской (XIV) осадочных секвенций. Амплитуды Хирнантской эрозии сопоставимы с амплитудами эрозии, отмеченными на современных шельфах в результате падения уровня Мирового океана, вызванного четвертичным оледенением. При этом эрозия в основании Нижнетоммарпской (XIII) секвенции глубже, чем в подошве Верхнетоммарпской (XIV). Сопоставимое по площади развития региональное несогласие, хотя и без столь глубокого вреза в подстилающие отложения, отмечается в подошве Нижневезенбергской (VIII) секвенции. Глубокая эрозия подстилающих отложений ассоциируется также с подошвой Латорпской (нижнелаторпской (II)) секвенции, на которой к тому же отмечается наиболее крупномасштабное смещение фаций в сторону бассейна. Менее выраженные несогласия отмечены в подошвах Верхнелаторпской (III), Кундаской (V), Таллиннской (VI), Кегельской (VII), и Юнсторпской (XII) осадочных секвенций. Среди этих регрессий максимальную относительную амплитуду имеет, по-видимому, та, что соответствует поверхности несогласия в подошве Верхнелаторпской секвенции (III). Несколько меньшей была амплитуда регрессии в подошве Кундаской (V) секвенции, а эрозия в подошве Таллиннской (VI) и Юнсторпской (XII) осадочных секвенций была меньше, чем в подошве Кундаской (V). Регрессия в подошве Кегельской (VII) секвенции имеет наименьшую амплитуду среди тех, что попадают в эту категорию. Падения уровня моря минимальной амплитуды отмечены границами секвенций, на которых следы эрозии подстилающих отложений выражены слабо. Это относится к подошвам Волховской (IV), Верхневезенбергской (IX), Нижнефьякаской (X) и Верхнефьякаской (XI) секвенций. Среди них максимальная амплитуда регрессии предполагается в подошве Волховской секвенции, а наименьшая в подошве Верхневезенбергской секвенции. Материалы III Всероссийского совещания Анализ пространственного распределения наиболее глубоководных фаций в бассейне седиментации позволяет разбить трансгрессивные события на три группы: большой, средней и малой амплитуды. К первой группе относятся трансгрессии, соответствующие трансгрессивным трактам седиментационных систем Пакерортской (I), Нижнелаторпской (II), Верхнелаторпской (III), Волховской (IV), Нижневезенбергской (VIII), Нижнефьякаской (X) и Юнсторпской (XII) секвенций. Ко второй группе – трансгрессии секвенций V, VII, XI, XII и XIV. Наконец, к группе трансгрессий малой амплитуды – трансгрессивные тракты секвенций VI и IX. Максимальная амплитуда подъема уровня моря предполагается для секвенции III. В это время в ордовикском бассейне Балтоскандии впервые получают распространение относительно глубоководные красноцветные фации, которые занимают довольно большую площадь. С этой крупнейшей трансгрессией связана также миграция новой фауны в бассейн и переход от приливно-отливного к штормовому режиму седиментации. Практически весь Балтийский континент (Русская платформа) в это время был практически полностью покрыт морем впервые в ордовикском периоде. Две другие крупные трансгрессии произошли во время формирования трансгрессивных трактов секвенций I и II. О том, что это были трансгрессии большой амплитуды, свидетельствует распространение черносланцевой седиментации в мелководных областях бассейна (Диктионемовая трансгрессия в секвенции I) и возвращение морских условий седиментации после крупноамплитудной регрессии в основании секвенции II. Амплитуда Волховской трансгрессии была несколько меньше, чем амплитуда нижнеордовикских трансгрессий. Однако следует иметь в виду, что регрессия в подошве волховской секвенции была малой амплитуды, поэтому последующее повышение уровня моря лишь усилило предшествовавшую трансгрессию и привело к увеличению глубины бассейна. Глубина бассейна и площадь развития красноцветных фаций достигли максимума в волховское время. Крупные трансгрессии произошли также в раннепоркуниское (секвенция XIII), кейла-оандуское (секвенция VIII) и вормсиское (секвенция X) время. Две последние трансгрессии отмечены инвазией черных сланцев в осевую часть Ливонского трога в Южной Эстонии и Латвии (Сланцы Моссен и Фьяка). Трансгрессии средней амплитуды произошли в кундаское (секвенция V), йыхвиско-кейлаское (секвенция VII), пиргуское (секвенции XI и XII) и позднепоркуниское (секвенция XIV) время. Следующие одна за другой трансгрессии средней амплитуды, которые не прерываются форсированной регрессией сравнимой амплитуды, накладываясь друг на друга, дают кумулятивный эффект. В результате уровень моря достигает своей максимальной позиции в раннепиргуское время (секвенция XI), несмотря на то, что амплитуда индивидуальных трансгрессий была средней. Максимально высокое положение уровня моря маркируется появлением морских красноцветных отложений в осевой части Ливонского трога (Юнсторпская свита). Трансгрессия, в ходе которой сформировалась юнсторпская секвенция (XII), наследует повышение уровня моря во время формирования подстилающей верхнефьякаской секвенции (XI), и глубина ­бассейна достигает своего максимума в это время. Следует отметить, что черные сланцы ­занимают наиболее дистальную позицию на обобщенном фациальном профиле ордовикского бассейна Балтоскандии. Обычно именно они первыми появляются в области развития отно­ сительно мелководных отложений, когда уровень моря начинает быстро подниматься пос­ ле пред­шествовавшей регрессии. Но если уровень моря продолжает повышаться и глубина ­бассейна увеличивается, вентиляция бассейна также увеличивается, и черные сланцы отступают и замещаются морскими красноцветными отложениями. Трансгрессии минимальной амплитуды ассоциируют с секвенциями (VI и IX). В отложениях, слагающих эти осадочные секвенции, ощущается недостаток осадкоемкого пространства в мелководных обстановках седиментации. Большинство осадочных секвенций ордовикского бассейна Балтоскандии хорошо коррелируется с соответствующими секвенциями Лаврентии (Ross and Ross, 1995), Гондваны (Videt et al., 2010), Сибири (Kanygin et al., 2010) и платформы Янцзы (Su, 2007), что, по-видимому, свидетельствует в пользу эвстатической природы связанных с ними колебаний уровня моря. Однако амплитуда соответствующих по времени трансгрессий и регрессий на разных континентах зачастую различна, что, по-видимому, отражает влияние регионального тектонического фактора. В целом реконструированная кривая колебаний уровня моря для ордовикского бассейна Балтоскандии оказывается более близкой к кривой, составленной для платформы Янцзы, чем к кривой, опубликованной для Северо-Американской платформы. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, гранты № 10-05-00848 и 10-05-00973. 85 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео86 Dronov A.V., Ainsaar L., Kaljo D. et al. Ordovician of Baltoscandia: facies, sequences and sea-level changes // J.C. Gutirrez-Marco, I. Rbano and D. Garca- Bellido (Eds.)/ Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geolgico y Minero de Espaa, Madrid, 2011. – P. 143–150. Kanygin A., Dronov A., Timokhin A., Gonta T. Depositional sequences and palaeoceanographic change in the Ordovician of the Siberian craton // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2010. Vol. 296. N 3–4. – P. 285–294. Munnecke A., Calner M., Harper D.A.T., Servais T. Ordovician and Silurian sea-water chemistry, sea-level, and climate: A synopsis // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010. Vol. 296. – P. 289–413. Ross C.A., Ross J.R.P. North American depositional sequences and correlations // J.D. Cooper, M.L. Droser, S.C. Finney (Eds.) Ordovician Odyssey: Short Papers for the 7-th Intern. Symp. on the Ordovician System. Fullerton, 1995. – P. 309–313. Su Wenbo. Ordovician sea-level changes: evidence from the Yangtze platform // Acta Palaeontologica Sinica. 2007. Vol. 46 (Suppl.). – P. 471–476. Videt B., Paris F., Rubino J.-L. et al. Biostratigraphical calibration of the third order Ordovician sequences of the northern Gondwana platform // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010. Vol. 296. N 3–4. – P. 350–375. А.В. Дронов, А.В. Каныгин, А.В. Тимохин, Т.В. Гонта ГЕО- И БИОСОБЫТИЯ В ОРДОВИКЕ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ При исследовании последних лет получены новые данные, существенно меняющие и дополняющие наши представления об эволюции Сибирского палеоконтинента в ордовике. В эволюции палеозойской биосферы ордовикский период играет особую роль. Это время «Великой ордовикской биодиверсификации», когда появились практически все типы современных животных, а к концу ордовикского периода приурочено одно из пяти крупнейших массовых вымираний в истории Земли. В последние годы были поставлены специальные комплексные сравнительные исследования эволюции биоты и осадконакопления в эпиконтинентальных ордовикских бассейнах Русской и Сибирской платформ. Основное внимание было уделено выявлению следов эвстатических колебаний уровня моря, климатических изменений и изменений интенсивности вулканизма, которые, как считается, были одними из ведущих абиотических факторов, оказавших влияние на эволюцию биосферы (Herrmann et al., 2004; Дронов, 2009; Harper, 2011). Важнейшие результаты проведенных исследований: 1) по распространению региональных несогласий и характеру распределения фаций в опорных разрезах ордовика Сибирской платформы впервые выявлены крупные осадочные циклиты (осадочные секвенции), отвечающие относительным колебаниям уровня моря продолжительностью 1–9 млн лет (Dronov et al., 2009; Kanygin et al., 2010). Эти секвенции довольно хорошо коррелируются с осадочными секвенциями, описанными в ордовике Русской платформы и других палеозойских палеоконтинентов (в пределах той точности, с которой дает возможность это делать на сегодняшний день биостратиграфический метод), что позволяет предполагать их эвстатическую природу. Однако при сопоставлении кривых относительных колебаний уровня моря, построенных для ордовика Сибирской и Русской платформ, выяснилось, что характер кривой колебаний уровня моря, близкий к таковому на Русской платформе, выявлен для всех платформ, располагавшихся в ордовике в южном полушарии, т. е. для всех платформ Гондванской группы. В то же время кривая колебаний уровня моря для ордовика Сибирской платформы существенно отличается от них и близка к характеру кривой для Северо-Американской платформы; 2) проведенный сравнительный анализ эволюции осадконакопления в ордовике на Русской и Сибирской платформах продемонстрировал существенную их разнонаправленность. На Русской платформе разрез начинается толщей кварцевых песчаников, аналогичных тем, что слагают весь разрез ордовика Гондваны. Эти песчаники сменяются вверх по разрезу холодноводными карбонатами, а венчают разрез тепловодные тропические карбонаты. Такой характер эволюции осадконакопления отражает быструю миграцию Балтийского палеоконтинента в течение ордовика из приполярных широт Южного полушария в приэкваториальные (Dronov, Rozhnov, 2007). Направленность эволюции осадконакопления в ордовике Сибирской платформы имеет совершенно другой характер. Нижний и низы среднего ордовика представлены здесь тропиче- Материалы III Всероссийского совещания скими карбонатами, которые сменяются в верхах среднего ордовика кварцевыми песчаниками. Верхний ордовик представлен холодноводными карбонатами (Dronov et al., 2009). Описанный тренд не может быть объяснен прохождением Сибирского палеоконтинента в течение ордовика через различные климатические пояса, как это было в случае с Балтикой, так как, по палеомагнитным данным, он в течение всего ордовика располагался в приэкваториальной зоне (Cocks, Torsvik, 2007). Аналогичный тренд в эволюции осадконакопления в течение ордовика демонстрирует и Северо-Американская платформа, также находившаяся в течение всего периода в приэкваториальной зоне (Cocks, Torsvik, 2007). Такой характер эволюции осадконакопления объясняется здесь апвеллингом холодных глубинных океанических вод и проникновением их в относительно мелководный эпиконтинентальный бассейн Мидконтинета (Holland, Patzkovski, 1996; Herrmann and Haupt, 2010; Ettensohn, 2010). Аналогичное объяснение может быть предложено и для оценки характера эволюции осадконакопления в ордовике Сибирской платформы (Дронов, 2009; Dronov, 2009; Dronov, 2011). Следует отметить, что распространение «нубийских фаций» на Сибирской платформе сопровождается появлением здесь типичных для ордовика Гондваны ихнофоссилий. Об этом свидетельствует уникальная находка в Байкитских песчаниках гигантских следов Rusophycus, отмечавшихся ранее только на палеоматериках Гондванской группы (Seilacher, 2007; Kushlina, Dronov, 2011); 3) обнаружение многочисленных прослоев вулканического пепла в отложениях верхнего ордовика Сибирской платформы (Dronov et al., 2011) свидетельствует об интенсивном вулканизме на западной (в современных координатах) окраине платформы и о наличии под современным чехлом Западной Сибири верхнеордовикской вулканической дуги, протянувшейся примерно параллельно современному руслу Енисея. Время активности этой вулканической дуги на удивление точно совпадает со временем активности Таконской вулканической дуги, располагавшейся вдоль восточного (в современных координатах) побережья Северо-Американского континента. Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что Таконская и Енисейская дуги составляли единую систему и располагались на единой активной континентальной окраине двух разных континентов (Сибирского и Северо-Американского). Ситуация подобна современной Андско-Кордильерской активной окраине вдоль западного побережья как Северной, так и Южной Америки. Дрейф в направлении этой дуги Балтики и других континентальных блоков и микроконтинентов вполне укладывается в эту концепцию. Активность Таконской вулканической дуги давно уже рассматривается рядом специалистов как свидетельство влияния вулканических извержений на происшедшие в позднем ордовике глобальные климатические изменения (Huff et al., 1992). Считается, что именно возрастание интенсивности вулканических извержений в конце ордовика могло привести к глобальному похолоданию, завершившемуся Хирнантским оледенением (Herrmann et al., 2010; Keller, Lehnert, 2010). Находки многочисленных пепловых прослоев в верхнем ордовике Сибирской платформы существенно подтверждают этот аргумент. В Северной Америке даже генезис кварцитов Эурека связывается с вулканической активностью и сопутствующим ей похолоданием (Keller, Lehnert, 2010). На Сибирской платформе, однако, развитие Байкитских песчаников предшествует по времени вулканической активности и сопровождающим ее пепловым прослоям. Ясно поэтому, что похолодание произошло здесь раньше и не связано напрямую с вулканизмом (Дронов, 2011). По-видимому, уничтожение тропической карбонатной фабрики и распространение «нубийских» фаций, сменяющихся вверх по разрезу холодноводными карбонатами, на Сибирском и Северо-Американском континентах связано с одним и тем же процессом внедрения холодных вод в мелководные и теплые эпиконтинентальные бассейны. Процесс этот, по-видимому, связан с апвеллингом и/или перераспределением направления океанических течений в результате тектонической перестройки. Резкое увеличение таксономического разнообразия биоты в среднем и позднем ордовике, получившее название «Великой ордовикской биодиверсификации», было вызвано резким расширением ареалов обитания холодноводной биоты, связанным с внедрением холодных водных масс в мелководные эпиконтинентальные бассейны. Этот же процесс замещения теплых водных масс в большинстве эпиконтинентальных бассейнов холодными вызвал постепенное похолодание (Trotter et al., 2008). Верхнеордовикский эпизод интенсивного вулканизма лишь усилил эту тенденцию и привел к формированию обширного ледникового щита на Южном полюсе, где располагался Гондванский материк. Гляциоэвстатическое падение уровня Мирового океана во время Хирнантского оледенения привело к осушению огромных площадей, занятых до этого мелководными эпиконтинентальными бассейнами, и, как следствие этого, к одному из крупнейших в истории планеты массовых вымираний. Позднеордовикский эпизод интенсивного вулканизма, непосредственно 87 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия предшествовавший Хирнантскому оледенению, был связан с субдукцией Балтийской плиты под Американо-Сибирскую. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 10-05-00848. 88 Дронов А.В. Философия секвентной стратиграфии // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2009. Т. 84. Вып. 4. – С. 103–108. Дронов А.В. Загадка байкитских песчаников (средний ордовик Сибирской платформы) / А.С. Алексеев (ред.) // ПАЛЕОСТРАТ-2011. Годичное собрание секции палеонтологии МОИП и Моск. отд. Палеонтолог. общества при РАН. Москва, 24–26 января 2011 г. Программа и тезисы докладов. – М.: Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, 2011. – С. 32–33. Cocks L.R.M., Torsvik T.H. Siberia, the wandering northern terrane, and its changing geography through the Paleozoic // Earth-Science Reviews. 2007. Vol. 82. – P. 29–74. Dronov A., Rozhnov S. Climatic changes in the Baltoscandian basin during the Ordovician: sedimentological and palaeontological aspects // Acta Palaeontologica Sinica. 2007. Vol. 46 (Suppl.). – P. 108–113. Dronov A.V., Kanygin A.V., Timokhin A.V. et al. Correlation of Eustatic and Biotic Events in the Ordovician Paleobasins of the Siberian and Russian Platforms // Paleontological J. 2009. Vol. 43. N 11. – P. 1477–1497. Dronov A.V., Huff W.D., Kanygin A.V., Gonta T.V. K-bentonites in the Upper Ordovician of the Siberian Platform / J.C. Gutirrez-Marco, I. Rbano and D. Garca-Bellido (Еds.) // Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geolgico y Minero de Espaa, Madrid, 2011. – P. 135–141. Ettensohn F.R. Origin of the Late Ordovician (mid-Mohawkian) temperate-water conditions on southeastern Laurentia: Glacial or tectonic? / S.C. Finney and W.B.N. Berry (Еds.) // The Ordovician Earth System. Geol. Soc. of Amer. Spec. Pap. 2010. Vol. 466. – P. 163–175. Harper D.A.T. A sixth decade of the Ordovician period: status of the research infrastructure of a geological system / J.C. Gutirrez-Marco, I. Rbano and D. Garсa-Bellido, (Eds.) // Ordovician of the World. Cuaderuos del Museo Geominero, 14. Instituto Geolgico y Minera de Espaa, Madrid, 2011. – P. 3–9. Herrmann A.D., Patzkowsky M. E., Pollard D. The impact of paleogeography, pCO2, poleward ocean heat transport and sea level change on global cooling during the Late Ordovician // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2004. Vol. 206. – P. 59–74. Herrmann A.D., MacLeod K.G., Leslie S.A. Did a volcanic meda-eruption cause global cooling during the Late Ordovician? // Palaios. 2010. Vol. 25. – P. 831–836. Herrmann A.D., Haupt B.J. Toward identifying potential causes for stratigraphic change in subtropical to tropical Laurentia during the Mohawkian (early Later Ordovician) / S.C. Finney and W.B.N. Berry (Eds.) // The Ordovician Earth System. Geol. Soc. of Amer. Spec. Pap. 2010. 466. – P. 29–35. Holland S.M., Patzkowsky M.E. Sequence stratigraphy and long-term paleoceanographic change in the Middle and Upper Ordovician of the eastern United States / B. Witzke, G. Ludvigson, J. Day (Eds.) // Paleozoic Sequence Stratigraphy: Views from the North American Craton. Geol. Soc. of Amer. 1996. Spec. Pap. 306, Boulder, Colorado, USA. – P. 117–129. Huff W., Bergstrm S.M., Kolata D.R. Gigantic Ordovician volcanic ash fall in North America and Europe: Biological, tectonomagmatic, and event-stratigraphic significance // Geology. 1992. Vol. 20. – P. 875–878. Kanygin A., Dronov A., Timokhin A., Gonta T. Depositional sequences and palaeoceanographic change in the Ordovician of the Siberian craton // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2010. Vol. 296. N 3–4. – P. 285–294. Keller M., Lehnert O. Ordovician paleocarst and quartz sand: Evidence of volcanically triggered extreme climates? // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2010. Vol. 296. – P. 297–309. Kushlina V.B., Dronov A.V. A giant Rusophycus from the Middle Ordovician of Siberia / J.C. GutirrezMarco, I. Rbano and D. Garca-Bellido (Eds.) // Ordovician of the World. Cuadernos del Museo Geominero, 14. Instituto Geolgico y Minero de Espaa, Madrid, 2011. – P. 279–285. Seilacher A. Trace fossil analysis., Berlin, Heidelberg, New York: Springer, 2007. – 226 p. Trotter J., Williams I., Barnes C. et al. Did Coolind Oceans Trigger Ordovician Biodiversification? Evidence from Conodont Thermometry // Science. 2008. Vol. 321. – P. 550–554. Ю.В. Ермакова, А.Н. Реймерс, А.С. Алексеев Конодонтовая стратиграфия гжельского яруса и подстилающих его верхнекасимовских отложений хорошо изучена в Подмосковье (Alekseev et al., 2009) и на Южном Урале (Davydov et al., 2008). Однако исключительно полный разрез гжельского яруса расположен в карьере Яблоневый овраг на правобережье р. Волга выше Самары. Он имеет статус гипостратотипа и достаточно подробно изучен (Калмыкова, Кашик, 1975; Муравьев, 1983, 1984), но важные для стратиграфии конодонты ранее установлены лишь на нескольких уровнях (Алексеев и др., 1986). Нами этот разрез детально опробован на конодонты. Нумерация пачек принята по И.С. Муравьеву и др. (1983). Вскрытая в карьере последовательность представлена чередованием пачек известняков в различной степени доломитизированных и доломитов. Весьма характерен залегающий выше перерыва тонкий линзовидный прослой рыжих глин (пачка 10), прослеживающийся по всему карьеру. На данный момент опробована верхняя часть касимовского (начиная с пачки 3) и нижняя часть гжельского (начиная с самой верхней части пачки 7) ярусов суммарной мощностью около 72 м. Всего отобраны и обработаны 132 образца общим весом 162 кг. Конодонты обнаружены в 50 образцах, содержащих около 800 конодонтовых элементов, в том числе около 700 платформенных. Значительные по мощности интервалы, в которых конодонтов нет или они представлены единичными экземплярами, чередуются с маломощными интервалами, где число конодонтов существенно возрастает (до 50 экз./кг и более). Редкость конодонтовых элементов объясняется мелководностью бассейна, осадки в котором накапливались с довольно высокой скоростью, что приводило к разбавлению осадочным материалом, а также, возможно, низкой или специфической трофностью этой части моря. На существенное влияние последнего фактора указывает преобладание в пробах ювенильных форм, которые не могли достигать взрослой стадии. Выявленные комплексы конодонтов позволяют выделить с различной степенью обоснованности пять зон, установленных для верхнего карбона России (Горева, Алексеев, 2010). Нижнее подразделение (нижняя часть пачки 3 – пачка 6, обр. 3.2.1–6.3.1, мощность 22,5 м) соответствует зоне S. firmus и выделяется по появлению вида-маркера Streptognathodus firmus Kozitskaya. Этот интервал отвечает средней и верхней частям дорогомиловского горизонта. Кроме вида-индекса, здесь встречены такие формы, как Streptognathodus pawhuskaensis Harris et Hollingsworth, Idiognathodus toretzianus Kozitskaya, I. praenuntius Chernykh, S. aff. vitali Chernykh, I. pictus Chernykh, I. mestsherensis Goreva et Alekseev, S. sp. A Sungatullina, H. minutus Ellison, Adetognathus sp. и не получившие точных определений ювенильные формы. Вышележащая зона S. zethus (?) (инт. 22,5–34,5 м; обр. 7.1.2–7.4.2) характеризуется крайне обедненным комплексом конодонтов, представленным единичными экземплярами H. minutus Ellison, Adetognathus sp., Streptognathodus sp. A Sungatullina. Однако по своему стратиграфическому положению этот интервал соответствует зоне S. zethus, которая также выделяется в Подмосковье. Поэтому в разрезе Яблоневый овраг мы выделяем зону zethus условно, как отвечающую самой верхней части дорогомиловского горизонта. Следующая вверх зона I. simulator (инт. 34,5–49 м; обр. 7.4.3– 9.2.1) определяется по появлению вида Idiognathodus simulator (Ellison), который маркирует границу гжельского яруса (Heckel et al., 2007; Villa et al., 2009). Комплекс этой зоны содержит Idiognathodus pictus Chernykh, I. simulator (Ellison), I. bachmuticus Kozitskaya, I. auritus Chernykh, I. toretzianus Kozitskaya, I. luganicus (Kozitskaya), I. sinistrum (Chernykh), I. kalitvensis (Kozitskaya), Streptognathodus pawhuskaensis Harris et Hollingsworth, S. cf. neverovensis Goreva et Alekseev, S. sp. A Sungatullina, S. ruzhencevi Kozur, S. firmus Kozitskaya, S. aff. firmus Kozitskaya, S. aff. vitali Chernykh,, Streptognathodus sp. B, Gondolella sublanceolata Gunnell, Hindeodus sp., Adetognathus sp. Конодонты на этом уровне чрезвычайно многочисленны, здесь появляются, хотя и редкие, представители глубоководного рода Gondolella, что свидетельствует об эвстатическом максимуме уровня моря, который хорошо прослеживается и в Подмосковье. Одновременно появляются спикулы кремневых губок. Эта зона соответствует нижней части добрятинского горизонта в его новом определении, если в общей шкале России нижняя граница гжельского яруса будет закреплена Материалы III Всероссийского совещания ЗОНАЛЬНОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ КАСИМОВСКОГО И ГЖЕЛЬСКОГО ЯРУСОВ (ВЕРХНИЙ КАРБОН) КАРЬЕРА ЯБЛОНЕВЫЙ ОВРАГ (САМАРСКАЯ ЛУКА) ПО КОНОДОНТАМ 89 90 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, геои биособытия Разрез пограничных отложений касимовского и гжельского ярусов в карьере Яблоневый овраг по появлению Idiognathodus simulator. Верхней части добрятинского горизонта принадлежит зона S. vitali (инт. 49–67 м; обр. 11.1.2–14.4.3). Этот интервал обеднен конодонтами, здесь найдены только Streptognathodus pawhuskaensis Harris et Hollingsworth, S. ruzhencevi Kozur и новый вид рода Adetognathus с очень узкой изогнутой платформой практически без скульптуры на парапетах, а также единичные ювенильные экземпляры стрептогнатодусов. Перечисленные виды не дают основания для выделения следующей конодонтовой зоны, но по стратиграфическому положению этот интервал соответствует зоне S. vitali (установлена в амеревской свите добрятинского горизонта гжельского яруса (Горева, Алексеев, 2010)). Кроме того, встреченные нами в 11 и 12 пачках виды S. pawhuskaensis Harris et Hollingsworth и S. ruzhencevi Kozur входят в комплекс этой зоны. Появление здесь вида Adetognathus sp. nov. (обр. 11.1.2) говорит о существенной смене относительно глубоководных условий осадконакопления весьма мелководными. Последнее подразделение, которое выделяется в изученной части разреза, – это зона S. virgilicus (инт. 67–72,5 м; обр. 14.4.4–15.1.5). Она определяется по появлению Streptognathodus virgilicus Ritter и эквивалентна павловопосадскому горизонту и нижней части ногинского горизонта (Горева, Алексеев, 2010). В комплексе этой зоны встречены Streptognathodus pawhuskaensis Harris et Hollingsworth, S. ruzhencevi Kozur, S. virgilicus Ritter, S. gracilis Stauffer et Plummer, S. sp. B, Adetognathus sp. (рисунок). Аналогичное явление эпизодического роста обилия конодонтовых элементов в касимовском и гжельском ярусах Среднего Поволжья (скв. Пестрецы-11 в Татарии) установлено Г.М. Сунгатуллиной (2008), выявившей идентичную последовательность зон. Вероятно, эти особенности типичны для всей Волго-Уральской области. Алексеев А.С., Барсков И.С., Халымбаджа В.Г. и др. Отряд Conodontophorida // Атлас фауны верхнего карбона и нижней перми Самарской Луки. – Казань: изд-во Казанского ун-та. 1986. – С. 128–135. Горева Н.В., Алексеев А.С. Конодонтовые зоны верхнего крабона России и их глобальная корреляция // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2010. Т. 18. № 6. – С. 35–48. Калмыкова М.А., Кашик Д.С. О пограничных слоях карбона и перми Самарской Луки (карьер «Яблоневый овраг») // Стратиграфия и биогеография морей и суши каменноугольного периода на территории СССР: Сб. статей. – Киев: Bзд-во при Киевском ГУ, 1975. – С. 69–76. Козицкая Р.И., Косенко З.А., Липнягов О.М., Немировская Т.И. Конодонты карбона Донецкого бассейна. – Киев: Наукова думка, 1978. – 134 c. Муравьев И.С., Ермошкин Н.В., Шуликов Е.С. Верхнекаменноугольные и нижнепермские отложения Самарской Луки. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1983. – 127 с. Муравьёв И.С. и др. Разрез Яблоневый овраг (Самарская Лука) как гипостратотип гжельского яруса и возможный стратотип границы карбона и перми // Тр. АН СССР. Мин. геол. СССР. МСК. Т. 13. Верхний карбон СССР, 1984. – С. 26–42. Сунгатуллина Г.М. Биостратиграфия верхнекаменноугольных отложений востока Русской плиты по конодонтам // Уч. зап. Казанского ГУ. 2008. Т. 150. Кн. 3. Естественные науки. – С. 183–197. Черных В.В. Зональный метод в биостратиграфии. Зональная шкала нижней перми Урала по конодонтам. – Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2005. Alekseev A.S., Goreva N.V., Isaqkova T.N. et al. Gzhel section stratotype of the Gzhelian stage // Type and reference Carboniferous sections in the south part of the Moscow Basin. Moscow, 2009. – P. 115–137. Davydov V.I., Chernykh V.V., Chuvashov B.I. et al. Faunal assemblage and correlation of Kasimovian – Gzhelian Transition at Usolka Section, Southern Urals, Russia (a potential candidate for GSSP to define base of Gzhelian Staage) // Stratigraphy. 2008. Vol. 5. N 2. – P. 113–135. Heckel P.H., Alekseev A.S., Barrick J.E. et al. Cyclothem (“digital”) correlation and biostratigraphy across the global Moscovian–Kasimovian–Gzhelian stage boundary interval (Middle–Upper Pennsylvanian) in North America and Eastern Europe // Geology. 2007. Vol. 35. – P. 607–610. Villa E., Alekseev A.S., Barrick J.E. et. al. Selection of the conodont Idiognathodus simulator (Ellison) as the event marker for the base of the global Gzhelian Stage (Upper Pennsylvanian, Carboniferous) // Palaeoworld. 2009. Vol. 18. – P. 114–119. Материалы III Всероссийского совещания 1 – известняк; 2 – доломит; 3 – глина; 4 – каверны; 5 – конкреции кремней; 6 – гастроподы; 7 – брахиоподы; 8 – кораллы. Номера образцов со штрихом после последней цифры – образцы, собранные в 2010 г. и дублирующие утраченные при пересылке пробы 2009 г. 91 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия А.В. Зайцев, Б.Г. Покровский 92 К ЛИТОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕСТОВСКОЙ ОПОРНОЙ СКВАЖИНЫ (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ) Ордовикские отложения широко распространены в пределах Русской плиты и ее обрамления. На дневную поверхность они выходят узкой полосой вдоль южного побережья Финского залива, формируя т. н. Ордовикское плато. Также они вскрыты бурением в Южной Прибалтике и на территории Московской синеклизы. В пределах Московской синеклизы они обнаружены в центральной и западной ее частях, где залегают на глубинах порядка 1500–2500 м и достаточно хорошо охарактеризованы палеонтологически. Территория Балтоскандии и Московской синеклизы в ордовикское время представляла единый морской бассейн. При этом для северной (наиболее хорошо изученной) части Прибалтийского бассейна характерны условия существенно карбонатной мелководной седиментации, в то время как более глубоководному Московскому бассейну присуща преимущественно глинистая терригенная седиментация. Естественной границей Балтийского и Московского бассейнов следует считать Ловатский вал, сформировавшийся в поздневендское время и служивший неким барьером, ограничивающим взаимосвязь между западной и восточной частями бассейна. Это подтверждается не только различием режимов седиментации, но и различием биот этих двух частей ордовикского бассейна Русской плиты. На востоке Московский бассейн, вероятно, был связан с Южно-Уральским бассейном через Пачелмский и Пошехонско-Солигаличский прогибы (Дмитровская, 1980), что подтверждает присутствие здесь ряда форм конодонтов, характерных для Мидконтинентальной провинции (Протасевич, 1989). Несмотря на то, что изучение ордовикских отложений Московской синеклизы ведется достаточно продолжительное время (40-е – начало 90 гг. XX в.), степень их палеонтологической и биостратиграфической изученности недостаточна. Очевидно, что ряд стратиграфических уровней до настоящего времени не имеет достаточно обоснованных датировок и разными исследователями трактуется в широком возрастном диапазоне. Это связано как с несовершенством использовавшейся в тот период времени палеонтологической систематики, так и слабой изученностью таких ортостратиграфических групп фауны, как акритархи и конодонты. Из сказанного ясно, что вопросы био- и литостратиграфии ордовикских отложений территории Московской синеклизы требуют дальнейшего изучения. Однако количество сохранившегося керна и разница в литологическом составе вызывают существенные затруднения при попытке корреляции этих разрезов с прибалтийскими. Керн большинства скважин, пробуренных в западной части синеклизы и наиболее литологически сходных с прибалтийскими, до настоящего времени не сохранился. Таким образом, новые данные по литолого-геохимическим исследованиям Пестовской скважины весьма интересны. Пестовская опорная скважина пробурена в 50-х годах XX в. на территории Новгородской области и охватывает практически весь стратиграфический интервал ордовика. Разрез снизу вверх: Волховская свита сложена зеленовато-серыми, желтовато-охристыми вакстоунами с вишнево-бурыми пятнами, развитыми по биотурбациям. Вниз по разрезу глинистость пород постепенно увеличивается, и известняки постепенно переходят в темные буровато-серые алевритистые аргиллиты бугинской свиты. Обуховская свита. В кровле представлена зеленовато-серыми известняками с тонкопесчаной примесью, постепенно переходящими в глинистые мадстоуны. В средней части светлые, зеленовато-серые мелкозернистые доломиты. Нижняя половина свиты сложена зеленовато-серыми, в разной степени глинистыми вак- и пакстоунами с флазерной слоистостью. Полометская свита. Вверху светло-серые, зеленоватые флазернослоистые пакстоуны. В средней части породы содержат сульфидные стяжения, развитые по биотурбациям, присутствует тонкопесчаная примесь. Березайская и грязновская свиты. Имеют сходный литологический состав, и в настоящее время точное проведение границы между свитами вызывает затруднение. В кровле интервала зеленовато-серые глинистые мадстоуны и вакстоуны с фосфатными брахиоподами. Вниз по разрезу размер биокластового материала увеличивается и породы переходят в флазернослоистые пакстоуны. В нижней части породы содержат редкие крупные биокласты с окисленными сульфидными стяжениями, развитыми по биотурбациям, присутствует алевро-песчаная примесь. Материалы III Всероссийского совещания Литологическая колонка Пестовской скважины с кривой по изотопам углерода 93 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео94 Шундоровская свита. В кровле зеленовато-серые волнистослоистые вак- и пакстоуны с крупными биокластами и мшанками. В нижней половине свиты породы содержат тонкопесчаную примесь и постепенно переходят в темно-серые песчанистые доломиты с глауконитом. Хревицкая свита. В кровле серые доломиты с песчаной примесью, вниз по разрезу переходящие в серые, слегка зеленоватые, в разной степени доломитизированные пакстоуны с темно-серыми пятнами и прослоями, обогащенными кукерситовым материалом. В нижней части породы содержат переотложенных мшанок. Меглинская свита. В верхней части зеленовато-серые мадстоуны, внизу переходящие в вакстоуны с прослоями буровато-кремово-серых доломитов, затем в светло-серые доломиты с песчаной примесью и глинистыми прослоями мощностью 2–3 мм. В средней части светлосерые флазернослоистые доломитизированные пакстоуны со стилолитами, подчеркнутыми скоплением кукерситового материала. Для породы характерны крупные перекристаллизованные биокласты. В нижней части свиты серые, зеленовато-серые доломиты с разным количеством мелко-тонкопесчаной примеси. В основании биокластовые вак-пакстоуны. Ратынская свита. Вверху светло-серые, кавернозные доломиты с тонкопесчаной примесью, вниз по разрезу переходящие в зеленовато-серые неравномерно доломитизированные пятнистые глинистые мадстоуны с флазерной текстурой. В средней части светло-серые мелкозернистые долмиты, в нижней – зеленовато-серые вакстоуны. Варлыгинская свита. В верхней части зеленовато-серые, буровато-серые пятнистые пакстоу­ ны с печаной примесью. Вниз по разрезу они переходят в буровато-кремово-серые, участками желтовато-серые, зеленоватые мелкозернистые доломиты. Предварительная интерпретация полученных новых данных по распределению в изученном разрезе изотопов δ13С и δ18О позволяет интерпретировать эти отложения как интервал, охватывающий дарривильский – катийский ярусы (рисунок). Интерпретация производилась с помощью изотопной шкалы, разработанной для Балтийского региона (Ainsaar et al., 2010). Авторы выражают благодарность Ю.А. Иванову, Н.В. Оленевой и Н.В. Клавдиевой (Апрелевское отделение ВНИГНИ) за предоставленные материалы. Е.Л. Зайцева, Н.К. Фортунатова, А.Г. Швец-Тэнэта-Гурий, О.А. Карцева, М.А. Бушуева, А.В. Баранова, Г.В. Агафонова, А.И. Михеева, Е.В. Рахимова ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ И НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДА ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ПРОВИНЦИИ Верхнедевонские и нижнекаменноугольные отложения запада Волго-Уральской нефтегазоносной провинции характеризуются полифациальным составом, различающимися мощностями и сложными пространственными взаимоотношениями стратонов. Детальное изучение разрезов, анализ биостратиграфических, литологических, седиментологических и геофизических данных позволили выделить четыре структурно-формационные зоны: центральная и бортовая части палеовпадины, склон и центральная часть палеосвода (Фортунатова и др., 2007). Рассматриваемые отложения содержат разнообразные органические остатки, значимость которых в разнофациальных отложениях неодинакова. Достоверность проводимой корреляции между различными фациями основана на зональных подразделениях по фораминиферам, конодонтам, брахиоподам, остракодам и миоспорам. Резкое различие в строении разрезов, степень их изученности, а также неоднозначная корреляция зон по разным группам фоссилий и их соотношение с региональными стратиграфическими подразделениями обуславливают трудности в обосновании и прослеживании границ стратиграфических подразделений разного уровня и определяют комплексное использование разнообразных критериев. Основополагающими для расчленения, корреляции разрезов осадочных толщ и прослеживания стратиграфических границ являются биостратиграфические критерии. В разрабатываемой в последние годы Международной стратиграфической шкале предложены биостратиграфические маркеры проведения ярусных границ верхнего девона и нижнего карбона Материалы III Всероссийского совещания (Зональная…, 2006; Соболев, Евдокимова, 2008), которые прослеживаются на западе ВолгоУрала с разной степенью достоверности. Маркером границы среднего и верхнего девона (живетского и франского ярусов) выбраны ранние представители конодонтов группы Ancyrodella rotundiloba – A. pristina и A. soluta. В современной конодонтовой шкале она проходит внутри конодонтовой подзоны Lower Mesotaxis falsiovalis. Установление точного положения данного уровня в Урало-Поволжье затруднено, так как вид Mesotaxis falsiovalis встречается не ниже саргаевского горизонта, а находки видов-маркеров единичны в верхней части тиманского горизонта (Ovnatanova, Kononova, 2008). На западе Волго-Урала граница среднего и верхнего отделов проводится внутри терригенного комплекса, который характеризуются отчетливо выраженным ритмическим строением. Этот уровень разными исследователями сопоставляется с основанием пашийского, с основанием тиманского, с серединой тиманского или с основанием саргаевского горизонтов. Исследованиями авторов установлено, что наиболее отчетливая седиментационная граница приурочена к основанию тиманского горизонта и связана с началом нового трансгрессивного этапа осадконакопления. В разрезах сводов рассматриваемая граница резко проявлена разноамплитудными перерывами, которым в палеопрогибах соответствуют отложения подводных конусов выноса, отражающихся в сейсмической записи в виде клиноформ. Граница франского и фаменского ярусов в региональной схеме Русской платформы принята в основании волгоградского горизонта, отвечающего по объему конодонтовым подзонам LowerMiddle triangularis и миоспоровой зоне Corbulispora viminea – Geminospora vasjamica. В западной части Волго-Уральской провинции в большинстве скважин она проводится условно, так как не имеет достоверного палеонтологического обоснования и проходит внутри однородной по литологическому составу толщи. В пределах центральных частей и склонов палеосводов данный уровень выражен размывом и отсутствием отложений волгоградского горизонта, а также широким развитием в нижнем фамене многочисленных поверхностей размыва, проявленных в виде обломочных известняков «горизонтов переотложения» или пластов глин. Конодонты вида-индекса P. triangularis встречены в немногих разрезах центральных и бортовых частей палеовпадин (Губарева, 2003). Нижняя граница каменноугольной системы в конодонтовой шкале проводится по появлению Siphonodella sulcata в филогенетическом ряду S. praesulcata – S. sulcata и отвечает основанию гумеровского горизонта в региональной стратиграфической схеме Русской платформы. На большей части Волго-Уральской провинции этому уровню соответствует перерыв. Вышеназванный биостратиграфический маркер установлен в депрессионных разрезах платформенной части Башкортостана (Юнусов и др., 2000) и Пермского Прикамья (Чижова, Сташкова, Стукова, 2007), а также в единичных разрезах Южно-Татарского свода (Губарева, 2003). В западной части провинции граница девона и карбона достоверного палеонтологического обоснования не имеет и проводится по литологическим и седиментологическим критериям. Она отчетливо проявляется в сводовых разрезах, где перерыв в осадконакоплении фиксируется сменой верхнефаменских карбонатов пачками пород с большим количеством обломочных отложений. Менее четко она выражена в депрессионных разрезах, представленных ритмично построенной глинисто-карбонатной толщей. Граница турнейского и визейского ярусов остается остродискуссионной среди специалистов. Она маркируется появлением фораминифер Eoparastaffella simplex в эволюционном ряду Eoparastaffellina rotunda – Eoparastaffella simplex, однако прослеживание данного маркера на западе Волго-Урала затруднено в связи с широким развитием терригенных фаций. В непрерывных разрезах пограничных отложений на западе Волго-Урала, приуроченных к центральной части палеовпадин, выделены две формации: косьвинская карбонатно-глинистая и нижневизейская глинисто-песчаная (Фортунатова и др., 2007). В депрессионных частях нижняя граница косьвинского горизонта выражена сменой карбонатного режима осадконакопления глинистым. На сводах косьвинской формации соответствуют перерыв и образование коры выветривания. Нижняя граница радаевского горизонта также выражена сменой режима осадконакопления глинистого глинисто-песчаным. На сводах этому уровню соответствует перерыв. Следовательно, обе границы выражены сменой режимов осадконакопления, отвечающих границам этапов в развитии бассейна. Так как эти уровни соответствуют перерыву в пределах палеосводов и отвечают единому регрессивному этапу, границу турне и визе следовало бы проводить в кровле радаевского горизонта. Общая тенденция смены карбонатной седиментации терригенной, смена вещественного состава дают основание принять данную границу в основании радаевского горизонта. Границу визейского и серпуховского ярусов в планетарном масштабе определяет появление конодонтов Lochriea ziegleri в эволюционной линии L. mononodosa – L. nodosa – L.ziegleri. 95 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео96 В Волго-Уральской провинции прослеживание этого биостратигарфического маркера требует дополнительных исследований. На западе провинции данная граница имеет слабую палеонтологическую аргументацию и проводится условно по литологической смене пород. В сводовых разрезах она проявлена сменой открыто-шельфовых отложений рифовыми, сохранившимися в виде реликтов. В депрессионной зоне граница не выражена. Граница нижнего и среднего карбона принята (Кагарманов, 1998) в подошве вознесенского горизонта и соответствует основанию цефалоподовой зоны Homoceras-Hudsonoceras, конодонтовой зоны Declinagnothodus noduliferus и фораминиферовой зоны Plectostaffella bogdanovkensis. Биостратиграфическим маркером нижне-среднекаменноугольной границы (миссисипской и пенсильванской подсистем) является вид Declinognathodus noduliferus, установленный в разрезах бортовых и центральных частей палеовпадин на востоке провинции. В западной части ВолгоУральской провинции этот рубеж отмечен перерывом различной амплитуды до полного отсутствия башкирских отложений. Таким образом, большинство ярусных границ рассматриваемого стратиграфического диапазона на западе Волго-Урала подчеркивается перерывами в осадконакоплении, особенно хорошо проявленными в разрезах сводового типа. На бортах палеовпадин и в центральных их частях им соответствуют глинисто-терригенные и карбонатные клиноформенные образования. Губарева В.С. Девонская система / Геология Татарстана: Стратиграфия и тектоника. – М.: ГЕОС, 2003. – С. 83–102. Зональная стратиграфия фанерозоя России / Науч. ред. Т.Н. Корень. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 256 с. Кагарманов А.Х. Проблемы общей шкалы каменноугольной системы // Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. Вып. 30. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1998. – С. 21–28. Соболев Н.Н., Евдокимова И.О. Девонская система // Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. – С. 52–60. Фортунатова Н.К, Зайцева Е.Л., Швец-Тэнэта-Гурий А.Г. и др. Новые подходы к стратиграфическому расчленению верхнедевонско-нижнекаменноугольных отложений западной части Волго-Уральской провинции // Стратиграфия и ее роль в развитии нефтегазового комплекса России. – СПб.: ВНИГРИ, 2007. – С. 303–334. Чижова В.А., Сташкова Э.С., Стукова Т.В. Горизонты турнейского яруса каменноугольных отложений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Стратиграфия и ее роль в развитии нефтегазового комплекса России. – СПб.: ВНИГРИ, 2007. – С. 334–351. Юнусов М.А., Масагутов Р.Х., Архипова В.В. и др. Башкирский ярус юго-востока Юрюзано-Айской впадины // Зональные подразделения карбона общей стратиграфической шкалы России: Материалы Всерос. совещания 29–31 мая 2000 г. – Уфа: Гилем, 2000. – С. 112–113. Ovnatanova N.S., Kononova L.I. Frasnian Conodonts from the Eastern Russian Platform // Paleontological J. 2008. Vol. 42. N 10. 2008. – P. 997–1166. А.В. Зверева, Л.Г. Перегоедов, В.В. Силантьев НЕМОРСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ СЕВЕРО-ВОСТОКА ТУНГУССКОЙ СИНЕКЛИЗЫ Первые исследования позднепалеозойских неморских двустворчатых моллюсков (НДМ) северо-востока Тунгусской синеклизы (Айхальский, Олгуйдахский, Мало-Ботуобинский районы) проведены О.А. Бетехтиной. В состав определенных ею комплексов НДМ вошли родовые и видовые таксоны, встречающиеся во многих бассейнах Ангариды (Горловском, Минусинском, Кузнецком и др.). Анализ распространения НДМ по разрезам 50 скважин и двух обнажений позволил ей совместно с другими геологами расчленить верхнепалеозойские отложения изученной территории и предложить схему их сопоставления с разрезами других бассейнов Ангариды. В то же время ею была отмечена определенная эндемичность комплексов НДМ и выделен новый род Palaeomoncetia (Акульшина и др., 1986; Бетехтина, 1986). В 2005 г. группа палеонтологов СНИИГГиМС начала работы на разрезах верхнего палеозоя Средне-Моркокинской, Алымджа-Моркокинской и Хампинской площадей (рис. 1) Айхальско- Материалы III Всероссийского совещания го и Мало-Ботуобинского районов с целью уточнения стратиграфических границ и восстановления условий осадконакопления. В результате изучения разрезов 47 скважин отобрано 290 образцов раковин НДМ из конекской и айхальской свит. Эти находки приурочены в основном к алевролитам, реже к аргиллитам. Степень сохранности НДМ невысокая. Как правило, они представляют собой внешние ядра створок, из-за чего большинство экземпляров возможно определить лишь до рода. Кроме того, из-за небольшого диаметра керна крупные створки представителей таких родов, как Anthraconaia, Abakaniella и Amnigeniella, часто представлены только своими фрагментами. Из 14 установленных родов наиболее распространены морфологически близкие роды Mrassiella и Mrassiellina, обладающие округлыми раковинами небольших размеров. В целом в разрезе можно достаточно уверенно выделить три комплекса НДМ. Нижний приурочен к конекской свите. Средний характеризует среднюю часть айхальской свиты схемы 1979–1982 гг. или ее объем по схеме 2011 г. (Сивчиков В.Е., 2011). Верхний комплекс отнесен к верхней части айхальской свиты схемы 1979–1982 гг. (рис. 2). Комплекс НДМ конекской свиты включает 8 видов, относящихся к 6 родам: Anthraconaia, Curvirimula, Abakaniella, Amnigeniella, Mrassiella, Mrassiellina. Входящие в комплекс виды Abakaniella cf. prima, A. cf. tungusensis, Anthraconaia cf. vulgaris, Curvirimula cf. trapesiforma характерны для мазуровского комплекса фауны, распространенного в безугольной свите Минусинского бассейна. Это позволяет высказать предположение о среднекаменноугольном возрасте вмещающих отложений. Комплекс средней части айхальской свиты включает 22 вида, относящихся к 13 родам. В разрезе впервые появляются такие роды, как Abiella, Myalina, Orthomyalina, Palaeomoncetia, и уверенно неопределимые формы двустворок, традиционно относимые (Бетехтина, 1974) к сборной «группе М». Видовой и родовой состав НДМ соответствует алыкаевскому комплексу, распространенному в верхнекаменноугольных отложениях Кузнецкого, Минусинского и Горловского бассейна. Комплекс верхней части айхальской свиты (в объеме схемы 1979–1982 гг.) включает представителей 8 родов. В разрезе появляются новые роды Goniophora и Pseudomodiolus; в то же время исчезают Orthomyalina, Palaeomoncetia, Amnigeniella, Mrassiellina, Curvirimula. Род Goniophora известен из промежуточной свиты Кузбасса, а вид Pseudomodiolus soanensis – из кендерлыкской свиты ЮВ Казахстана. Это позволяет отнести данные отложения к бургуклинскому горизонту ранней перми. Наибольшее число НДМ встречено в скважинах, расположенных на восточной и северовосточной частях Средне-Моркокинской площади. Выявленный здесь комплекс НДМ по видовому составу близок к тому, который установлен ранее О.А. Бетехтиной (1986). Различие заключается лишь в присутствии в наших сборах представителей рода Amnigeniella (рис. 2). На Хампинской площади фауна НДМ обнаружена в семи скважинах, в каждой из которых встречен только один уровень с двустворками. Все местонахождения приурочены к верхним частям разрезов. Установленный комплекс неморских двустворчатых моллюсков включает виды, известные из алыкаевской (С3) и промежуточной свит (Р1) Кузнецкого бассейна. Провести границу между каменноугольными и пермскими отложениями по имеющимся данным пока не представляется возможным, поэтому вмещающие породы отнесены нами к айхальской свите в объеме, принятом в схеме 1979–1982 гг. Наиболее интересен Алымджа-Моркокинский район. В изученных скважинах, кроме НДМ, встречены морские двустворчатые Рис. 1. Схема расположения изученных площадей 97 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео98 Рис. 2. Распространение видов неморских двустворчатых моллюсков в каменноугольных и пермских отложениях северо-востока Тунгусской синеклизы моллюски и брахиоподы. В скважинах 04054 и 00052 в нижней части разреза (122,0–148,0 м и 160,0–171,0 м) наблюдается чередование прослоев с морской (брахиоподы и двустворчатые моллюски) и неморской (НДМ) фауной. Для алевролитов, содержащих остатки НДМ, характерна пиритизация. Комплекс фауны, в том числе и НДМ (Goniophora sp., Pseudomodiolus soanensis), свидетельствует о нижнепермском возрасте отложений (бургуклинский горизонт, верхи айхальской свиты схемы 1979–1982 гг.). Проведенные исследования позволили расширить родовой и видовой состав неморских двустворчатых моллюсков рассматриваемой территории (рис. 2). Наибольшим видовым и количественным разнообразием НДМ характеризуются средние части изученных разрезов, относимые к айхальской свите (С3–Р1). Общими родами для каменноугольных отложений Западной Европы и северо-востока Тунгусской синеклизы являются Curvirimula Weir, 1960 и Anthraconaia Trueman et Weir, 1946. Можно отметить, что если на территории Западной Европы род Curvirimula исчезает к концу среднего карбона, то в пределах Тунгусской синеклизы его отдельные представители продолжают встречаться в отложениях верхнего карбона. Границу между средним и верхним карбоном целесообразно проводить по появлению рода Palaeomoncetia Betekhtina, 1986. На территории Алымджа-Моркокинского участка граница между каменноугольными и пермскими отложениями может быть проведена по появлению в разрезе рода Goniophora, известного из нижнепермских отложений (промежуточной свиты) Кузбасса. В ряде разрезов установлены интервалы, характеризующиеся быстрой сменой морских и неморских условий осадконакопления. Акульшина Е.П., Бетехтина О.А. и др. Геология алмазоносных отложений верхнего палеозоя Тунгусской синеклизы. – Новосибирск: Наука, 1986. – С. 20–28. Бетехтина О.А. Приложение 1, 2 // Геология алмазоносных отложений верхнего палеозоя Тунгусской синеклизы. – Новосибирск: Наука, 1986. – С. 161–182. Отчет о результатах работ по построению палеогеографических схем пермских отложений Сибирской платформы. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 2011. КОРРЕЛЯЦИЯ ЖИВЕТСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ЮГО-ВОСТОКЕ ТАТАРСТАНА Геолого-поисковые работы поиска нефти на юго-востоке Татарстана начались еще в 40-е годы прошлого столетия. Глубокими скважинами были вскрыты терригенные отложения вплоть до кристаллического фундамента. Нефтеносность живетских отложений носила локальный характер, поэтому интерес к этим отложениям поутих. В тектоническом плане исследуемые живетские отложения приурочены к южному куполу Татарского свода (ЮТС), расположенному на юго-востоке Республики Татарстан. На северозападе свод граничит с Прикамским прогибом. Его западный склон граничит с Мелекесской впадиной, восточный с Благовещенской, юго-восточный с Салмышской, южный с Бузулукской, северо-восточный с Бирской седловиной. Юго-восточный склон ЮТС моноклинально ступенчато погружается в юго-восточном направлении в сторону Сергиевско-Серноводско-Абдулинского авлакогена. Живетские отложения в пределах Восточного Татарстана залегают трансгрессивно в зависимости от геодинамического режима на верхнепротерозойских, частично эйфельских отложениях либо непосредственно на кристаллическом фундаменте. Трансгрессивное залегание живетских отложений подтверждает несогласное налегание их на нижележащие горизонты и перекрытие площади развития эйфельских образований осадками живетского возраста. Ритмичность формирования живетских отложений на юго-востоке Татарстана подтверждается всем имеющимся информативным материалом. Живетский ярус объединяет воробьевский, ардатовский и муллинский горизонты, соответствующие трем крупным ритмам седиментации: три песчаные пачки выше сменяются более тонкозернистыми и карбонатными осадками. Отложения воробьевского горизонта распространены в пределах вершины Южно-Татарского свода, его западного, юго-восточного и южного склонов. Отложения ардатовского и муллинского горизонтов развиты практически повсеместно. Стратиграфическое расчленение разреза девонских отложений Восточно-Европейской платформы, представленное на сводном разрезе, принято на основании решения МСК в 1991 г. Нижняя граница живетского яруса проводится по подошве песчаного пласта ДIV, верхняя – по кровле аргиллитовой пачки, лежащей над песчаным пластом ДII или над репером «черный известняк». Воробьёвский горизонт, нижняя граница которого отбивается по кровле репера «нижний известняк», характеризуется разнозернистым составом базальных песчаников, содержащих гравийный материал и каолинитовый цемент. Выше залегает алеврито-глинистая пачка. Обе пачки охарактеризованы одновозрастными спорово-пыльцевыми комплексами, которые подтверждают отнесение их к воробьевскому горизонту. В пределах юго-востока Татарстана толщина отложений воробьёвского горизонта изменяется в широких пределах, кроме того, отмечается значительная изменчивость литолого-фациального состава слагающих пород. Максимальные толщины воробьевских отложений составляют Материалы III Всероссийского совещания И.П. Зинатуллина 99 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео100 25, в среднем 16 м, в северо-восточном направлении происходит постепенное выклинивание отложений воробьевского горизонта. На севере и северо-востоке Татарстана песчаная пачка в нижней части воробьевского горизонта залегает на эродированной поверхности кристаллического фундамента. На юге, юговостоке и юго-западе Татарстана – на породах эйфельского яруса. В составе крупных ритмов первого порядка в живетских отложениях выделяются и более мелкие ритмы. В воробьевском горизонте формируются два ритма, соответствующие песчаным пластам ДIV-а и ДIV-б, очень редко встречается третий прослой ДIV-в. Характер подстилающих отложений оказывает существенное влияние на литологические особенности пород воробьевского горизонта. В случае залегания их на породах эйфельского яруса, причем значительной мощности, песчаники менее грубозернистые, отсортированные и отличаются меньшим содержанием аллотигенного каолинита в цементе. В разрезах, где породы воробьевского горизонта залегают на элювии кристаллического фундамента, песчаники средне- и крупнозернистые, гравийные, с каолинитовым цементом, прослои косослоистые. Верхняя аргиллитовая пачка воробьевского горизонта сложена темно-серыми аргиллитами с прослоями глинистых алевролитов, чередующихся с сидерито-шамозитовыми скоплениями, в единичных разрезах с прослоем карбонатных пород, нередко содержит примесь песчаного, реже гравийного (до 5 мм) материала. По данным Н.М. Страхова (1960), подавляющее большинство морских железных руд приурочено либо к началу крупных и длительных волн погружений, к эпохам трансгрессий, либо к концу этих волн, отчетливо избегая их срединных моментов. Следовательно, можно уверенно относить данный тип породы к кровельной части воробьевских отложений, служащей разделом между воробьевским и ардатовским горизонтами. Аргиллитовая пачка воробьевского горизонта четко фиксируется на кавернограммах и является дополнительным репером под названием «фонарик». Воробьевская волна трансгрессии, распространявшаяся с юга и юго-востока, захватила юго-восточный склон Русской платформы, южный и юго-восточный склон ЮТС. Осадко­ образование происходило в условиях прибрежной равнины и мелководной шельфовой зоны. С развитием трансгрессии песчаники сменялись глинисто-алевритовыми, а на крайнем юговостоке и карбонатными илами (репер «фонарик»). На Матросовском месторождении прослои карбонатов и мергелей с обломками раковин брахиопод и двустворок отмечаются в скважинах 7252 и 7234. Кроме карбонатов, в шлифах отмечается ожелезненная органика, содержание которой не превышает 25 %. Мощность аргиллитовой пачки воробьевского горизонта в большинстве разрезов составляет 3–6, реже 10–12 м. Также нужно отметить, что в некоторых скважинах Сулинской площади толщина этой пачки уменьшается до 1 м, а на Бавлинском месторождении песчаные пласты ардатовских отложений сливаются с песчаными пластами воробьевского горизонта. Поверхность осадконакопления отложений была подвержена небольшому размыву, о чем свидетельствуют встреченные в керне намывы галек глины и грубозернистые фракции. Как дополнительный коррелятив разделения живетских отложений использовался гранулометрический анализ, медианный диаметр зерен. При сопоставлении данных гранулометрического анализа по пластам ДIII и ДIV отмечено, что пласты воробьевского возраста более грубозернистые. Разнозернистые песчаники встречаются во всех горизонтах живетского яруса, но их процентное содержание резко уменьшается от воробьевского до муллинского горизонта (таблица). Размеры средних медианных диаметров зерен кварца также уменьшаются снизу вверх, породы становятся более отсортированными. Ардатовский горизонт шиВстречаемость основных типов пород роко распространен, покрывает в пластах живетского яруса почти всю исследуемую терриРазнозернистые Мелкозернистые Песчаники торию за исключением наиболее Пласты песчаники, % песчаники, % алевритовые, % приподнятых участков северноДII 5,9 17,6 35,3 го купола Татарского свода. Ардатовские слои трансгрессивно ДIII-а 8 68 24 залегают на воробьевских слоях, ДIII-б 10 40 50 эйфельском ярусе бавлинской ДIII-в 17,5 67,7 14,8 свиты и на породах кристаллиДIV-а 41,3 56,2 2,4 ческого фундамента. Нижняя ДIV-б 73,1 22,7 4,2 граница проводится по кровле Батанова Г.П., Данилова Т.Е. О ритмичности в девонских и каменноугольных отложениях Восточной Татарии // Труды ТатНИПИнефть. – Казань, 1959. – С. 8–10. Миропольская Г.Л. О прерывистости осадконакопления в терригенной толще девона на Востоке Татарии // Изв. КФАН СССР. Серия геология. 1957. № 6. – С. 5–20. Миропольская Г.Л., Герасимова Е.Т., Логинова В.Н., Тузова Л.С. Нефтеносность девона Востока Татарии // Литология и фации. 1960. Т. II. Вып. VI. – С. 142 (Труды КФАН СССР). Материалы III Всероссийского совещания верхней алевролито-глинистой и алеврито-глинисто-известковистой пачке воробьевского горизонта, верхняя – по кровле карбонатной пачки «средний известняк». В случае залегания на кристаллическом фундаменте встречаются разнозернистые песчаники с примесью гравийного материала. Похожие породы встречаются на Матросовском месторождении на восточном блоке, они связаны с размывом воробьевского горизонта, по виду эти породы напоминают кору выветривания. Песчаный пласт разделяется аргиллитовыми пропластками на два и на юго-востоке на три прослоя (ДIII-а, ДIII-б, ДIII-в). Верхняя карбонатно-аргиллитовая пачка сложена в основании темно-серыми до черных, тонкослюдистыми, хорошо отмученными аргиллитами, прослоями с небольшой примесью алевритового материала, особенно в нижней части прослоя. В средней части пачки выделяется репер «средний известняк», представленный доломитами, доломитовыми известняками, известняками. Характер осадков говорит о широкой прерывистой трансгрессии моря, начавшейся в воробьевское время и захватившей почти всю территорию Татарстана в ардатовское время. С развитием трансгрессии в ардатовское время связано двух-, реже трехкратное чередование прибрежно-морских и мелководно-морских фаций. В воробьевских отложениях на каротажном материале отмечается высокая расчлененность разреза по данным ГК, НГК и ГГК. По данным спектрального анализа, в воробьевских отложениях отмечается аномалия содержания урана (U) и тория (Th). Такие высокие аномалии (по U в 5 и по Th в 10 раз), превышающие их среднее содержание в породах из вышележащих ардатовских отложений, характерны для пород из верхней части бийского горизонта и пород фундамента. Высокая расчлененность разреза в воробьевских пластах по естественной радиоактивности, регистрируемая при замерах гамма-каротажа, может быть использована как дополнительный коррелятив между трудно разделяемыми пластами ардатовского и воробьевского возраста. Сопоставление разрезов скважин Ромашкинского, Бавлинского и Матросовского месторождений с использованием литологической характеристики керна наглядно демонстрирует изменчивый характер отложений живетского яруса на рассматриваемой территории с выпадением отдельных частей ритмов. Стратификация разреза воробьевско-ардатовских отложений имеет большое практическое значение и может быть использована, во-первых, при оценке перспектив нефтегазоносности не только этих, но и выше- и нижезалегающих комплексов пород в пределах всей юго-восточной части Татарстана; во-вторых, при проектировании мероприятий по разработке отдельных продуктивных горизонтов терригенной толщи девона и тем самым способствовать более эффективной их эксплуатации. А.О. Иванов ЭЛАСМОБРАНХИИ КАЗАНСКОГО ЯРУСА ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ Эласмобранхиевые хрящевых рыб (подкласс Elasmobranchii) достаточно часто упоминаются в списках позвоночных для казанских отложений европейской части России (например, Миних, Миних, 2009), но их описания очень редки. В последнее время собран новый материал, существенно расширяющий таксономическое разнообразие пермских акул. В нижнеказанских отложениях местонахождения Усть-Коин, расположенного в Западном Притиманье (Республика Коми), на р. Вымь, ниже устья р. Коин, встречены зубы ктенакантида Glikmanius occidentalis (Leidy) (рисунок, фиг. 1), зубы лонхидиида «Lissodus» sp. (Malysheva et al., 2000), зубы и плавниковые шипы нового рода сфенакантид (фиг. 3, 4). Зубы этого нового рода были ранее описаны как Xenosynechodus egloni Glikman из уржумского местонахождения 101 102 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, геои биособытия Класс CHONDRICHTHYES Подкласс ELASMOBRANСHII Отряд Symmoriiformes Семейство Stethacanthidae Stethacanthus altonensis (St. John, Worthen) (= Pinegocaptus rosanovi (А. Minikh)) Материалы III Всероссийского совещания Ишеево (Миних, Миних, 1996). Однако зуб X. egloni, выбранный автором вида как голотип (Гликман, 1980), существенно отличается от зубов из Ишеево строением коронки и основания (Иванов, 2010). Из местонахождения Усть-Коин упомянуты, но не изображены плавниковые шипы Wodnika (?) striatula Munster (Миних, Миних, 2009), возможно, также относящиеся к новому сфенакантиду. Зубы полиакродонтида «Polyacrodus» sp. (фиг. 7, 8) и анахронистидного неоселяха Cooleyella amazonensis Duffin, Richter, Neis (фиг. 12), а также разнообразные чешуи эвлеляхиевых акул (фиг. 18) найдены в нижнеказанских отложениях немдинской свиты Чимбулатского карьера, район г. Советск, бассейн р. Немда, Кировская область. На двух уровнях в казанских отложениях скв. 31 во Владимирской области, Вязниковский район, д. Воиново, на правом берегу р. Клязьма обнаружены многочисленные зубы разно­ образных полиакродонтид, включая представителя нового рода этого семейства (фиг. 5, 6), зубы анахронистидного неоселяха Cooleyella amazonensis (фиг. 11) и чешуи различных эвселяхий (фиг. 14–17). Остатки акул найдены в двух казанских местонахождениях Татарстана. В первом местонахождении Котловка, на правом берегу р. Кама, в 10 км ниже г. Нижнекамск слои камышлинского горизонта нижнеказанского подъяруса содержат зубы сфенакантида Sphenacanthus sp. (фиг. 2), полиакродонтида «Polyacrodus» sp. (фиг. 10) и редкие чешуи эвселяхий. В отложениях этого же горизонта в местонахождении Печищи, на правом берегу р. Волга, напротив г. Казань были встречены зубы нового рода Sphenacanthidae, полиакродонтида «Polyacrodus» sp. (фиг. 9) и анахронистидного неоселяха Cooleyella amazonensis (фиг. 11) и немногочисленные чешуи. Ранее из верхнеказанских отложений этого местонахождения были обнаружены зубы ктенакантида Glikmanius occidentalis, описанные как новый вид Ctenacanthus volgensis А. Minikh (Миних, Миних, 1996). Кроме того, в казанских отложениях р. Пинега в Архангельской области установлен G. occidentalis, определенный как C. volgensis, и Ctenacanthus kurgaensis А. Minikh (Миних, Миних, 1996; Миних, 1999), который вероятнее всего относится к роду Cladodus. Из казанских отложений р. Пинега и п-ва Канин описаны зубы симмориида Stethacanthus altonensis (St. John, Worthen), выделенные в новый таксон Pinegocaptus rosanovi (A. Minikh) (Миних, 2006), но являющиеся младшим синонимом ранее известного таксона (Иванов, 2010). Ревизованный список таксонов эласмобранхиев из казанского яруса включает: Эласмобранхии казанского яруса Фиг. 1 – Glikmanius occidentalis (Leidy), зуб, косой лабиальный вид; Республика Коми, р. Вымь, Усть-Коин; нижнеказанский подъярус. Фиг. 2 – Sphenacanthus sp., зуб, 2а – лабиальный и 2б – косой латеральный виды; Татарстан, р. Кама, Котловка; нижнеказанский подъярус, камышлинский горизонт. Фиг. 3, 4 – Sphenacanthidae gen. nov.; Республика Коми, р. Вымь, Усть-Коин; нижнеказанский подъярус: 3 – плавниковый шип, латеральный вид; 4 – зуб, лингвальный вид. Фиг. 5, 6 – Polyacrodontidae gen. nov., зубы; Владимирская обл., д. Воиново, скв. 31; казанский ярус: 5 – глубина 47,5 м, лингвальный вид; 6 – глубина 47,5 м, 6а – косой латеральный и 6б – окклюзарный виды. Фиг. 7–10 – «Polyacrodus» sp., зубы: 7, 8 – Кировская обл., Чимбулатский карьер; нижнеказанский подъярус, немдинская свита: 7 – лингвальный и 8 – лабиальный виды; 9 – окклюзарный вид; Татарстан, р. Волга, Печищи; нижнеказанский подъярус, камышлинский горизонт; 10 – окклюзарный вид; Татарстан, р. Кама, Котловка; нижнеказанский подъярус, камышлинский горизонт. Фиг. 11–13 – Cooleyella amazonensis Duffin���������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������������������� , Richter������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� , Neis������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� , зубы: 11 – латеральный вид; Владимирская обл., д. Воиново, скв. 31, глубина 47,5 м; казанский ярус; 12 – окклюзарный вид; Кировская обл., Чимбулатский карьер; нижнеказанский подъярус, немдинская свита; 13 – базальный вид; Татарстан, р. Волга, Печищи; нижнеказанский подъярус, камышлинский горизонт. Фиг. 14–18 – эвселяхиевые чешуи: 14–17 – Владимирская обл., д. Воиново, скв. 31; казанский ярус; 14, 17 – глубина 48,5 м, 15, 16 – глубина 47,5 м; 18 – Кировская обл., Чимбулатский карьер; нижнеказанский подъярус, немдинская свита. Масштабная линейка для 1 – 1, 3 – 5 mm, 4, 7 – 200, 2, 5, 6, 8–18 – 100 µm 103 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео104 Отряд Ctenacanthiformes Семейство Ctenacanthidae Glikmanius occidentalis (Leidy) (= Ctenacanthus volgensis (А. Minikh)) Cladodus kurgaensis (А. Minikh) Когорта Euselachii Отряд Hybodontiformes Семейство Sphenacanthidae Sphenacanthus sp. Sphenacanthidae gen. nov. Семейства Lonchidiidae «Lissodus» sp. Семейства Polyacrodontidae «Polyacrodus» sp. Polyacrodontidae gen. nov. Подкогорта Neoselachii Семейство Anachronistidae Cooleyella amazonensis Duffin, Richter, Neis Эласмобранхиевые хрящевых рыб демонстрируют значительное таксономическое разно­ образие и широкое распространение в казанское время. Работа выполнялась при поддержке темплана фундаментальных НИР СПбГУ 3.0.93.2010 и гранта Сепкоски – PalSIRP. Гликман Л.С. Эволюция меловых и кайнозойских ламноидных акул. – М.: Наука, 1980. – 248 с. Иванов А.О. Систематическое положение пермской акулы Xenosynechodus // Палеонтология и стратиграфия перми и триаса Северной Евразии: Материалы V Междунар. конф. – М., 2010. – С. 68–70. Миних А.В. Новые виды акул рода Ctenacanthus Ag. из казанского яруса верхней перми бассейна реки Пинеги // Труды НИИ геологии Саратовского ГУ. Новая серия. 1999. Т. 1. – С. 133–136. Миних А.В. Класс Сhondrichthyes // Верхняя пермь полуострова Канин / Отв. ред. Т.А. Грунт. – М.: Наука, 2006. – С. 180–183. Миних А.В., Миних М.Г. Ихтиофауна перми Европейской России. – Саратов: Наука, 2009. – 244 с. Миних А.В., Миних М.Г. Рыбы // Стратотипы и опорные разрезы верхней перми Поволжья и Прикамья. – Казань, 1996. – С. 258–269. Malysheva E.O., Ivanov A.O., Beznosov P.A. et al. Facies and ichthyofauna of the Kazanian from the Vym’ River (Komi Republic, Russia) // Ichthyolith Issues, Spec. Publ. 2000. 6. – Р. 59–63. Н.Г. Изох, О.Т. Обут, Е.А. Суслова НОВЫЕ НАХОДКИ КОНОДОНТОВ В ВЕРХНЕМ ОРДОВИКЕ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ В связи с пересмотром региональных схем палеозоя Средней Сибири остается актуальным вопрос о биостратиграфическом расчленении ордовикских отложений региона. Необходимость создания региональной шкалы по конодонтам для Алтае-Саянской складчатой области определяется тем, что ряд границ ярусов и подъярусов ордовикской системы Международной стратиграфической шкалы определен по конодонтам (основание тремадока и его подъярусы, средний подъярус фло, основание дапингия, верхний подъярус дарривила, третий подъярус катия). Поэтому, наряду с граптолитовыми зонами, зональные подразделения по конодонтам имеют важное значение для межрегиональных корреляций ордовикских отложений. Региональная зональная шкала по конодонтам для Алтае-Саянской складчатой области впервые предложена в 2003 г. (Изох и др., 2003). Она имеет большие пробелы в связи с отсутствием данных, так как находки конодонтов в отложениях ордовика региона достаточно редки (Москаленко, 1977; Решения…, 1983; Изох и др., 2003, 2005; Сенников и др., 2002, 2011). Выделены зональные интервалы «fluctivagus», proteus, elegans, evae, «variabilis-suecicus», flexuosus (= «serra»), compressa и undatus, ordovicicus (Изох и др., 2003, 2005). Продолжается детальное опробование на микрофауну терригенно-карбонатных и кремнисто-терригенных разрезов ордовика с целью выявления новых местонахождений конодонтов. Полученные в последние годы коллекции конодонтов, характеризующие разные стратиграфические уровни, небогаты, но представлены космополитными таксонами, по которым возможно выделение зональных комплексов. Изох Н.Г., Обут О.Т., Ивата К., Сенников Н.В. Ассоциации конодонтов в ордовике Алтае-Саянской складчатой области // Вестник ТГУ. Серия Науки о Земле (геология, география, метеорология, геодезия). Прил. № 3 (II), апрель 2003. Проблемы геологии и географии Сибири: Материалы науч. конф., посвященной 125-летию основания ТГУ и 70-летию образования геолого-географического факультета (2–4 апреля 2003 г.). – Томск, 2003. – С. 88–90. Изох Н.Г., Сенников Н.В., Обут О.Т. Находка на Алтае нового уровня в зональной ордовикской конодонтовой шкале Алтае-Саянской складчатой области // Эволюция жизни на Земле: Материалы III Междунар. симп. (1–3 ноября 2005 г., г. Томск) / Отв. ред. В.М. Подобина. – Томск: ТГУ, 2005. – С. 125–127. Москаленко Т.А. Ашгиллские конодонты на Горном Алтае // Проблемы стратиграфии ордовика и силура Сибири / ред. Б.С. Соколов, А.В. Каныгин. – Новосибирск: Наука, 1977. Вып. 372. – С. 74–83 (Труды ИгиГ СО АН СССР). Решения Всесоюзного стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири (Новосибирск, 1979). Ч. I. Верхний протерозой и нижний палеозой. – Новосибирск, 1983. – 215 с. Сенников Н.В., Обут О.Т., Изох Н.Г., Ивата К. Конодонтовые зоны верхнего кембрия – нижнего ордовика западной части Алтае-Саянской складчатой области // Проблемы биохронологии в палеонтологии и геологии: Тез. докл. XLVIII сессии Палеонтолог. общества при РАН (8–12 апреля 2002 г.). – СПб., 2002. – С. 127–128. Сенников Н.В., Обут О.Т., Буколова Е.В., Толмачева Т.Ю. Литолого-фациальная и биоиндикаторная оценки глубины формирования раннепалеозойских осадочных бассейнов палеоазиатского океана // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 10. – С. 1488–1516. Материалы III Всероссийского совещания Новые находки получены из двух разрезов в северо-западной части Горного Алтая и в югозападной части Республики Тыва. Из карбонатно-терригенного разреза аналогов гурьяновской свиты, расположенного на правом борту р. Бия, между посёлками Кебезень и Тулой, в районе устья руч. Чеченек (СЗ Горный Алтай), конодонты получены впервые из двух прослоев комковатых и глинистых известняков с многочисленными обломками раковинной фауны. Ассоциация конодонтов средней сохранности представлена Panderodus gracilis (Branson and Mehl), Phragmodus undatus Branson and Mehl и Erraticodon sp., характерными для зон Belodina compressa и Phragmodus undatus позднего сандбия. Разрез карргинской свиты на правом борту р. Карга в районе пос. Мугур-Аксы сложен переслаиванием карбонатных и терригенных пород (ЮЗ Республики Тыва). Конодонты встречены на четырех уровнях и представлены Amorphognatus cf. ordovicicus Rhodes, Belodina compressa Branson et Mehl, Panderodus gracilis (Branson et Mehl), Protopanderodus sp., Panderodus serratus Rexroad, Panderodus unicostatus (Branson et Mehl), Baltoniodus sp. и Aphelognathus aff. pyramidalis Branson, Mehl et Branson. Выявленная ассоциация характерна для зоны Amorphognathus ordovicicus верхнего катия – хирнанта. Новые находки конодонтов дополняют сведения о таксономическом разнообразии и показывают большое сходство горноалтайских и тувинских ассоциаций верхнего ордовика. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект № 05-00-553), программы РАН 28. Исследования проведены также в соответствии с программой работ по проекту 591 IGCP. Г.С. Искюль ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ГРАНИЦ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОРИЗОНТОВ ОРДОВИКА В СКВАЖИНЕ 10 (ЛИСИНО) На северо-западе России карбонатные отложения ордовика, выходящие на поверхность вдоль линии Балтийско-Ладожского глинта, детально расчленены по комплексу литологических и палеонтологических признаков благодаря наличию представительных разрезов. Южнее глинта данные отложения известны преимущественно по схематичным описаниям структурно-картировочных скважин, выполненным в 60–70-х годах XX в. с использованием ныне устаревшей схемы расчленения. Положение границ большинства региональных горизонтов здесь можно определить лишь крайне приблизительно. По этой причине большой интерес представляет скв. 10, пробуренная с полным отбором керна в окрестностях д. Лисино (Волосовский район Ленинградской области, 36 км к югу от глинта). Скважиной вскрыт разрез ордовика от пакерортского горизонта (нижний отдел) до изварской свиты (верхний отдел); границы региональных горизонтов от волховского до идавереского могут быть диагностированы по лито- 105 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео106 логическим маркёрам – горизонтам «твердого дна» (ТД), событийным прослоям и уровням резкого изменения литологии, известным из разрезов глинта и тыловой части Ижорского плато. Краткой характеристике этих уровней и посвящена настоящая работа. ТД в подошве волховского (BII) горизонта расположено внутри пачки «дикари» и представляет собой хорошо известную поверхность с норками Gastrohaenolites (Дронов и др., 1998). В скв. 10 данное ТД обладает желтой гетитовой импрегнацией (~ 1 см), покрыто тонкой пленкой глауконита, слабонеровное; норки заполнены мелкими зернами глауконита глубиной до 4 см. Норки – единственное отличие от таких же ТД, расположенных ниже и выше по разрезу «дикарей». К сожалению, точное положение данной границы в керне «дикарей» установить нельзя. Подошва пачки «желтяки» (относительная глубина 136,6 м) маркирована резкой сменой высококарбонатных биокластовых известняков-«дикарей», сильно доломитизированных, с обильными зернами глауконита, глинистыми, существенно иловыми известняками-«желтяками», почти лишенными глауконита, с тонким (3 см) слоем бордового мергеля в основании. Данный уровень интерпретируется как поверхность морского затопления (Дронов и др., 1998). ТД в подошве кундаского (BIII) горизонта (135,2 м) легко диагностируется благодаря литологическому контрасту подстилающих (глауконитовые известняки пачки «фризы») и перекрывающих («нижний чечевичный слой») пород, а также по насыщенной светло-серой фосфатной импрегнации (первое появление данного типа импрегнации). ТД состоит из двух индивидуальных поверхностей с неровным эрозионным рельефом амплитудой до 7 см. В подошве «нижнего чечевичного слоя» отмечаются редкие интракласты с желтой гетитовой импрегнацией, иссверленные Trypanites, с тонкими гетитовыми корками. Аналогичный характер пограничных отложений BII/ BIII наблюдается во всех разрезах Ижорского глинта (от р. Луга до г. Кирхгоф) и восточнее. С данного ТД начинается интервал почти исключительного доминирования поверхностей перерыва с серой фосфатной импрегнацией, завершающийся в верхах кукрузеского горизонта. ТД в подошве азериского (CIa) горизонта (128 м), как и в разрезах Ижорского глинта, диагностируется по совокупности основных признаков (морфологии и минерализации) и стратиграфического положения. С одной стороны, это первое зрелое ТД, расположенное выше волховско-кундаской границы (в 7,2 м, в разрезах глинта – в 6,5–7,3 м выше), внутри «верхнего чечевичного слоя» (в разрезах глинта над ним). С другой стороны, это последняя поверхность перерыва с гетитовой импрегнацией в разрезах Ижорского глинта. Импрегнация пятнистая, ярко-желтая (гетитовая) и серая (фосфатная), глубиной до 2 см. Поверхность ТД пронизана частыми субвертикальными норами (сверлениями?) шириной 3–10 мм, обусловливающими в поперечном сечении бугристо-зубчатый рельеф «крепостной стены». Близкий облик данное ТД имеет в ряде разрезов Ижорского глинта (карьер Тайцы, г. Кирхгоф). Кровля слоев с Delfasaphus delfinus Lawrow (125,1 м) маркирована тонким прослоем биокластового пакстоуна/грейнстоуна (1–2 см). Градационная сортировка биокластов и резкий контраст с вмещающими илистыми и существенно глинистыми известняками указывает на событийную (темпеститовую) природу данного прослоя. В разрезах глинта он установлен во всех известных обнажениях CIa от р. Копорка до р. Волхов. Данный маркёр залегает на глубине 0,5 (скв. 10), 0,95 (р. Лава), 1,0 (р. Волхов) и 1,1 м (Тайцы) ниже подошвы горизонта ласнамяги; примерно в 0,2 м над маркёром располагается литологически резкая граница глинисто-карбонатной и карбонатной частей азериского разреза, принятая нами в качестве границы дубовикской и порожской свит. В 10–20 см ниже и выше маркёра порода обогащена мелкими (0,05–0,1 мм) зернами кварца (до 1 %). Нижняя граница ласнамягиского (CIb) горизонта (124,4 м) проводится нами по основанию маломощной серии поверхностей перерыва с серой фосфатной импрегнацией, лежащей в 0,45 м (скв. 10), 0,86 м (Волхов, Лава) и 0,9 м (Тайцы) над кровлей дубовикской свиты. В разрезах рек Лава и Волхов серия из трех перерывов целиком умещается в слое k Р.Ф. Геккера – массивном пласте мощностью 27–30 см, представляющем собой интервал резкого обмеления и сильной стратиграфической конденсации. В разрезах Ижорского глинта и в скв. 10 пограничные отложения CIа/CIb представлены катагенетическими доломитами; измененная в процессе метасоматоза фосфатная импрегнация ярко выделяется на фоне пестроцветных доломитов своим мелоподобным обликом (белым цветом и маркостью). Мощность серии перерывов возрастает здесь до 0,6 м, а их количество до 7; часть из них представляют собой горизонты ТД. Нижняя граница кукрузеского (CII) горизонта в пределах Эстонского и Ленинградского месторождений горючих сланцев-кукерситов проводится по подошве промпачки (Рыымусокс, 1970). Благодаря пропорциональному уменьшению сланценосности отложений CIc-CIII ее фланги продолжают распознаваться в разрезе как интервал максимального обогащения керогеном кукерсита (КК) и за пределами этих месторождений. КК присутствует в виде тонких прослоев Дронов А.В., Корень Т.Н., Толмачева Т.Ю. Методика событийной стратиграфии в обосновании корреляции региональных стратонов на примере нижнего ордовика северо-запада России. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 1998. – 88 с. Искюль Г.С. Распределение мощности и литофаций осадочных тел как отражение структурно-фациальной зональности ордовикских отложений восточной Балтии: новые данные // II Междунар. науч.практич. конф. молодых ученых и специалистов памяти акад. А.П. Карпинского. – СПб., 2011. – C. 8–13. Рыымусокс А.К. Стратиграфия вируской и харьюской серий (ордовик) Северной Эстонии. – Таллин: Варгус, 1970. – 343 с. Селиванова В.А. Отчет о геолого-гидрогеологической съемке листа О-35-VI (в масштабе 1 : 200 000). – Л., 1960 (фондовая). Geology and Mineral Resources of Estonia. – Tallinn: Estonian Acad. Publ. 1997. – 436 р. Материалы III Всероссийского совещания кукерсита между известняковыми пластами и в рассеянном виде в самих известняках. Проведенное нами сопоставление скважин и разрезов Ижорского плато в интервале BII–CIII показывает, что промпачка и ее фланги прослеживаются повсеместно на восток от Ленинградского месторождения (карьер Алексеевский, скв. Хотыницы-437) через скважины 10, Медниково-343 и Грязно-578 до по меньшей мере скв. Сиверская. В скважине № 10 данный интервал представлен пачкой переслаивания буровато-коричневых КК-содержащих известняков, тонких (1–7 см) прослоев кукерсита и голубовато-серых глинистых известняков общей мощностью 0,92 м (выход керна неполный и истинная мощность, по видимому, должна быть выше на 0,7 м). Подошва пачки и горизонта CII располагается на относительной глубине 100 м. ТД в кровле кукрузеского горизонта (86,6 м). В скв. 10 кровля кукрузеского горизонта маркирована серией из трех пиритизированных ТД со сверлениями Trypanites, расположенных в интервале мощностью 1,5 м. Верхнее ТД с глубокими (до 15 см) норами Thalassinoides располагается на литологически резкой границе вийвиконнаской (высококарбонатной с рассеянным КК и прослоями кукерсита) и грязновской (глинисто-карбонатной без КК) свит. Выше данной границы в нерастворимом остатке пород грязновской свиты наблюдается массовое появление празинофитов Leiospheridia и более редких Tasmanites, что является одним из палеонтологических признаков кукрузеско-идавереской границы в разрезах Эстонии (Geology…, 1997). Благодаря литологическому контрасту данный уровень может быть установлен также в старых описаниях структурно-картировочных скв. 343 (слои 28/27), 437 (слои 31/30), 578 (слои 64/63). Мощность горизонта CII в этих скважинах определена нами как 16,6, 15,7 и 18,2 м. Сравнение скв. 578 с близрасположенной скв. Сиверская показывает отсутствие в разрезе последней верхов CII, срезанных до-среднедевонским размывом. «Событийные» биокластовые прослои установлены также в ухакуском (CIc) и йыхвиском горизонтах, горизонты ТД – в ласнамягиском, ухакуском, кукрузеском и йыхвиском. Их увязка с подгоризонтами, трилобитовыми и конодонтовыми зонами на выходах – дело ближайшего будущего. Мощность стратонов в контексте палеогеографии. В скв. 10 установлены мощности волховской свиты BI–IIvl (3,3 м), BIII (7,2 м), CIa (3,9 м), CIb+c (24,4 м), CII (13,4 м), CIII (23,5 м, CIIIgr – 11,9 м, CIIIsch – 11,6 м). По сравнению с разрезами Ижорского глинта, расположенными севернее, разрез скв. 10 обладает более яркими признаками мелководной седиментации: – в интервале нижнего ордовика – отсутствием «диктионемовых» черных сланцев или иных тонкотерригенных (илистых) отложений; – в интервале среднего ордовика – наличием сокращенной по мощности последовательности отложений, в BIII и CIa – высококарбонатных, с частыми фосфатизированными поверхностями перерыва (с признаками вторичной эрозии), с «дополнительными» пачками и прослоями пород с железистыми оолитами. Это типичный мелководно-конденсированный карбонатный разрез сводовой части Готланд-Сяського палеоподнятия (Искюль, 2011). Для сравнения, в разрезах Ижорского глинта (северный склон палеоподнятия) мощность BI-IIvl достигает 5–6, CIa – 7,7 м. На уменьшение мощности волховской свиты к югу от глинта указывала еще В.А. Селиванова (1960); так, в скв. 343 мощность BI–IIvl составляет 4,1, в скв. 437 – 3,8, в скв. 578 – 3 м. Мощность BI–IIvl в скв. Сиверская составляет 3,5 м (переинтерпретирована нами по скв. 578). Сокращение мощности CIа к югу от российского глинта установлено впервые; нужно отметить, что суммарная мощность BIII+CIа+CIb+CIc в скв. 10 (35,4 м) и в переинтерпретированных нами скважинах В.А. Селивановой (31–37 м) весьма близки, что позволяет предполагать наличие в последних сокращенных разрезов CIа. Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 10-05-00973а. 107 А.Ф. Исламов, Р.Р. Хасанов, Ш.З. Гафуров Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ УГЛЕЙ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА 108 На востоке Восточно-Европейской платформы (Волго-Уральский регион) имеют место многочисленные проявления ископаемого угля (Блудоров, 1964; Угольная база…, 2000), связанные преимущественно с отложениями карбона (визейский ярус) и перми (казанский ярус). Угольно-сырьевые ресурсы региона в настоящее время не востребованы экономикой, но их изуче­ние представляет научно-теоретический интерес с позиции реконструкции условий древнего осадконакопления и прогноза состава и качества углей. Исследования последних лет позволили уточнить состав, строение, характер залегания и условия формирования угольных пластов в регионе. Торфоуглеобразование в визейское и казанское время происходило в существенно разных ландшафтно-географических условиях, что нашло отражение в особенностях вещественного состава углей. Область распространения визейских угольных залежей охватывает восточный борт Мелекесской впадины, западный склон и северную часть купола Южно-Татарского свода, юго-восточный склон Северо-Татарского свода, юго-западный склон Башкирского свода, юго-западный борт Верхнекамской впадины и северо-западный район Бирской седловины. Закономерности распространения визейских залежей угля объясняются палеотектоническими, палеогеоморфологическими и фациальными условиями формирования угленосной толщи (Угольная база…, 2000). Условия залегания и строение угленосных отложений меняются в зависимости от местоположения залежей. Мощные угольные пласты приурочены к понижениям на поверхности турнейской карбонатной толщи, в образовании которых принимали участие процессы эрозии и карста. Литологическое наполнение врезов представлено отложениями елховского, радаевского, бобриковского и тульского горизонтов визейского яруса, сложенными песчаниками, алевролитами, аргиллитами и содержащими угольные пласты различной мощности (до 40 м). В целом мощность бобриковского угольного пласта варьирует в широких пределах и достигает 10–40 м при глубине залегания 900–1400 м. По природному типу визейские угли гумусовые, по марочному составу относятся к каменным (марка Д), участками обладают свойствами бурых (3Б). Они характеризуются невысокой зольностью (15–26 %), содержание серы в углях от 1,49 до 10,22 %. Минеральное вещество представлено преимущественно каолинитом, в подчиненном количестве встречаются кварц, альбит, кальцит, пирит и др. Визейские угли обладают специфическим химическим составом. В составе золы преобладают оксиды кремния и алюминия, в среднем 48,90 и 39,73 % (Угольная база..., 2000). Угли содержат локальные геохимические аномалии и повышенные концентрации редких элементов, в том числе и редкоземельных. Особенность распределения последних в визейских углях заключается в преобладании относительной доли легких лантаноидов над тяжелыми. Специфика вещественного состава визейских углей определяется особенностями условий их формирования. Угленосная формация карбона формировалась в ранневизейское время на пассивной континентальной окраине в обстановке гумидного литогенеза. Однако климат отличался некоторой (вероятно, сезонной) засушливостью, на что указывают особенности анатомического строения растений-углеобразователей. Фациальные условия углеобразования во врезах отличались большим разнообразием и изменчивостью. По А.П. Блудорову (Блудоров, 1964), осадконакопление происходило в условиях различных фаций – потоков (аллювия), пойм аллювиальных равнин, озерных, озерно-болотных и болот. Угли состоят в основном из остатков высших наземных растений. Повышенная сернистость углей обусловлена геохимическим режимом торфяных залежей. Сера в углях представлена в основном органической формой нахождения. По Л.Я. Кизильштейну (1975), при дефиците реакционноспособного двухвалентного железа, связывающего биогенный сероводород в сульфиды железа, сероводород реагирует с ОВ торфа, образуя сероорганические соединения. Преобладание в составе общей серы углей ее органических форм указывает на дефицит железистых соединений, поступающих из зоны размыва, сложенной в основном карбонатными породами. Преимущественно кварц-полевошпатовый состав визейских пород и широкое развитие в обрамлении угольных залежей карбонатных толщ являются причиной повышенного содержания кремния и алюминия, а также легких лантаноидов в составе визейских углей. Материалы III Всероссийского совещания Закономерности и характер размещения казанских угольных пластов отличаются от визейских. Угленосные отложения в пермских отложениях залегают широкой полосой северо-западного простирания между нижним течением рек Вятки и Белой (Блудоров, 1964). Большинство углепроявлений сосредоточено на юге Удмуртии и в северо-восточной части Татарстана. Угленосная формация включает до 4–6 угольных пластов мощностью 0,1–1,75 м. В разрезе угли представлены линзовидными телами, которые часто замещаются глинами. Угли гумусовые, по марочному составу бурые (1Б), средне-высокосернистые (до 4 %) с зольностью 40–48 % (Блудоров, 1964; Угольная база…, 2000). Основное минеральное вещество – глинистая масса смешанного иллит-монтмориллонитового состава с высокой долей терригенных минералов и сульфидов железа. Специфической особенностью является металлоносность углей, связанная с накоплением в приконтактовых участках угольных пластов концентраций Pb, Ge, Cu, Ag, Мо, Cr и Ni. В целом геохимическая специализация пермских углей определяется триадой Ge–Cu–Ag. Повышенное содержание металлов связано с широким развитием в обрамлении углей красноцветных отложений аридного литогенеза, представленных молассовым комплексом (продукты разрушения Уральских гор). В результате исследований в казанских углях впервые обнаружены фаунистические остатки, которые могут дать важную информацию не только о времени образования осадка, но и об условиях его накопления. Электронно-микроскопические исследования позволили выявить фоссилизированные раковины фораминифер, реликты чешуи древних рыб и смоляных тел, преобразованных в янтарь. Впервые в казанских углях Волго-Уральского региона обнаружены раковины мелиолид с фоссилизированными псевдоподиями (Сухов и др., 2010). Исследованное углепроявление расположено в Южной Удмуртии вблизи деревни Голюшурма. Угольный пласт приурочен к байтуганским слоям нижнеказанского подъяруса. В пермских отложениях рассматриваемой территории это первый случай, когда на раковине в хорошем состоянии сохраняются псевдоподии или ложноножки. Псевдоподии или ложноножки – это протоплазматические отростки у фораминифер, которые служат как для передвижения, так и для захвата пищи. Они покрывают всю поверхность раковины. При этом наблюдаются как прямые, так и изогнутые псевдоподии. Большая часть изогнутых псевдоподий располагается на боковой стороне и выглядит примятой. Создается впечатление, что раковина лежала на изогнутых псевдоподиях до их фоссилизации. Среда обитания фораминифер – моря и океаны. Факт нахождения их остатков в углях (древних торфяниках) позволяет предположить, что они были занесены в болотную среду в результате кратковременного затопления торфяника морской водой. Высокая степень сохранности остатков указывает на то, что в этот период организмы были, по всей видимости, живы. Фоссилизация произошла настолько быстро, что биологическому разрушению не были подвержены ложноножки, состоящие из цитоплазматических выростов. В том же образце Голюшурминского углепроявления обнаружены реликты органического вещества, напоминающие по форме чешую рыб. Чешуйки характеризуются хорошей сохранностью, видны годичные кольца роста. Изучение органических реликтов под электронным микроскопом показало, что участками по чешуйкам развивается пиритизация, проявленная в форме фрамбоидов бактериального происхождения. Спектр элементного рентгеновского анализа показал, что чешуйки состоят из апатита – основного материала чешуй современных рыб. Различается несколько видов чешуи: плакоидная, ганоидная и костная (Анисимова, Лавровский, 1983). В пермских углях обнаружены ганоидная и циклоидная типы чешуи. Ганоидная встречается преимущественно у рыб. Чешуйки имеют ромбическую форму, тесно сочленяются одна с другой, так что тело оказывается заключенным в панцирь. Среди современных рыб ее имеют панцирные щуки и многоперы, относящиеся преимущественно к пресноводным видам. Циклоидная форма – одна из разновидностей костистых чешуек. У современных рыб ее уже нет, а чешуйки состоят из костных пластинок (костная чешуя). Находка реликтов чешуи древних рыб в составе бурых углей казанского возраста указывает на контакт палеоторфяника с рекой. Наряду с фаунистическими находками, в казанских углях обнаружено большое количество смоляных телец округлой и овальной формы размером до 3–5 мм. При нагревании смолы происходит вспенивание и растекание по образцу с выделением резкого характерного хвойного запаха. Происхождение смоляных тел в углях связано с сохранением заполненных смоляных ходов в растениях-углеобразователях, которые относятся к хвойным разновидностям. Верхнепермские угленосные осадки формировались в обстановке бассейна форланда. Пермский литогенез характеризуется преобладанием ярко выраженных аридных черт, однако в казанское время в связи с трансгрессией моря на восточной периферии платформы в прибрежной зоне возникают очаги гумидного климата, благоприятные для торфообразования. 109 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео110 ­ о результатам проведенных исследований можно сказать, что торфяная седиментация в П казанское время отличалась неустойчивостью. Она протекала в условиях заболоченных низменных равнин, которые были подвержены периодическому затоплению морскими или речными водами. Можно констатировать, что торфоуглеобразование в карбоне и перми протекало в существенно разных условиях, что обусловило специфику состава углей. Реконструкция условий формирования палеоторфяников позволяет детализировать условия осадконакопления на расматриваемой территории. Анисимова И.М., Лавровский В.В. Ихтиология. – М.: Высшая школа, 1983. – 255 с. Блудоров А.П. История палеозойского угленакопления на юго-востоке Русской платформы. – М.: Наука, 1964. – 275 с. Кизильштейн Л.Я. Генезис серы в углях. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ГУ, 1975. – 198 с. Сухов Е.Е., Хасанов Р.Р., Исламов А.Ф. Находка мелиолид в ископаемых углях казанского яруса Волго-Уральского региона // Палеонтология и стратиграфия перми и триаса Северной Евразии: Материалы V Междунар. конф., посвященной 150-летию со дня рождения В.П. Амалицкого (1860–1917), Москва, 22–23 ноября 2010 г. – М.: Палеонт. ин-т им. А.А. Борисяка РАН, 2010. – С. 114–116. Угольная база России. Т. 1: Угольные бассейны и месторождения Европейской части России (Северный Кавказ, Восточный Донбасс, Подмосковный, Камский и Печорский бассейны, Урал) / Ш.З. Гафуров, И.А. Ларочкина, А.А. Тимофеев, Р.Р. Хасанов. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2000. – С. 133–169. Е.М. Кирилишина, Е.В. Карпова, Л.И. Кононова КОНОДОНТОВЫЕ БИОФАЦИИ, КАРБОНАТНЫЕ МИКРОФАЦИИ И ПАЛЕОБАТИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕРХНЕФРАНСКИХ И НИЖНЕФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ К настоящему времени опубликовано большое число работ по стратиграфии, палеонтологии, литологии и палеогеографии девона Русской платформы. Однако современный уровень исследований требует комплексного подхода к изучению геологических разрезов. Цель настоящей работы – сопоставить изменения конодонтовых биофаций и микрофаций карбонатных пород на примере разрезов двух скважин Ульяново-1 (УГ-1) и Задонская-1 – Ольшанец (ЗДОЛ-1), расположенных на территории Воронежской антеклизы и вскрывших пограничный франскофаменский интервал (рис. 1). Предварительные данные приведены в нескольких публикациях (Кирилишина, Кононова, 2004; Кирилишина, 2006; 2007; Kirilishina, Karpova, Kononova, 2011а, б). Классификация литологических разностей пород проводилась по методике Е. Флюгеля (Fluegel, 2004). Подобная работа была проделана ранее для скв. Новохоперская 8750/1, расположенной юго-восточнее исследуемой территории (Кирилишина, Карпова, 2004). Скважинами вскрыты евлановский и ливенский горизонты франского яруса, а также задонский и елецкий горизонты фаменского яруса верхнего девона. Изученные отложения представлены чередованием карбонатных и глинисто-карбонатных толщ различных структурных типов с редкими и маломощными прослоями обломочных пород (рис. 2). Известно, что на основе распределения конодонтов в разрезах выделяются т. н. конодонтовые биофации, которые характеризуются преобладанием в одновозрастных комплексах тех или иных родов или видов, приуроченных к определенным условиям обитания (Барсков, 1995). Для позднего девона аналогичные биофации выделялись и проводились палеоэкологические реконструкции (Druce, 1973; Халымбаджа, 1981; Аристов, 1994 и др.) В рассматриваемых разрезах конодонты распределены достаточно равномерно. По всему интервалу преобладают полигнатиды, встречаются икриодиды, пелекисгнатиды, в фаменских отложениях присутствуют палматолепиды (Кирилишина, Кононова, 2004; Кирилишина, 2006). Выделены четыре конодонтовые биофации, при этом учитывались только платформенные конодонтовые элементы хорошей сохранности. Из рассматриваемой части разреза для извлечения конодонтов растворено около 90 кг породы (145 образцов в среднем по 0,6 кг), извлечено более 4500 конодонтовых элементов (из них более 1000 платформенных элементов хорошей сохранности). Биофация 1 пелекисгнатид-икриодидная – прибрежно-мелководная – характеризуется присутствием представителей родов Pelekysgnathus и/или Icriodus, их содержание в комплексах составляет 10–30, в редких случаях до 100 %. Биофация 2 полигнатидная I (Polygnathus-I) – относительно мелководная, отличается преобладанием гладких или слабоскульптированных представителей рода Polygnathus (Po. acutatus Khalym., Shinkaryov et Gatovsky, Po. alvenus Ovn. et Kon., Po. aspelundi Sav. et Fun., Po. deplanatus Khalym., Shinkaryov et Gatovsky, Po. glaber glaber Ulrich et Bassler, Po. macilentus Kuzmin, Po. maximovae Ovn. et Kon., Po. pomeranicus Matyja, Po. politus Ovn., Po. praepolitus Kononova et al., Po. seraphimae Ovn. et Kon., Po. subincompletus Ovn. et Kon., Po. zinaidae Kon. et al.), их количество составляет 40–100 %. Биофация 3 полигнатидная II (Polygnathus-II) – относительно глубоководная, характеризуется преобладанием скульптированных представителей рода Polygnathus (Po. aequalis Kl. et L., Po. azygomorphus Arist., Po. brevis Mil. et Young., Po. colliculosus Arist., Po. costulatus Arist., Po. evidens Klapper et Lane, Po. imparilis Klapper et Lane, Po. krestovnikovi Ovn., Po. krutoensis Kir. et Kon., Po. siratchoicus Ovnatanova et Kuzmin, Po. torosus Ovnatanova et Kononova, Po. unicornis Mull. et Mull). Их количество составляет 40–100 % от общего числа присутствующих форм. Биофация 4 палматолепид-полигнадидная – относительно более глубоководная, характеризуется присутствием представителей рода Palmatolepis (10–100 %). По распределению конодонтовых биофаций по разрезам построены кривые изменения относительной глубины бассейна для исследуемого интервала в конкретных его участках (рис. 2). Выделено 10 микрофаций карбонатных пород. Ассоциации этих микрофаций характеризуют разные фациальные зоны бассейна. Также предпринята попытка оценить палеоглубины бассейна и их вариации во времени на основе литологических данных (Чехович, 2010). Зона 1 соответствует осевой и внутренней (обращенной к берегу) частям прибрежной отмели (0–5 м) вместе с расположенной за отмелью лагуной (0–10 м). Характерные микрофации криноидно-остракодо-брахиоподовые и полибиокластовые пак- и вакстоуны, доломитистые комковато-сгустковые известковые вакстоуны, интракластовые (моноседикластовые) известковые флаутстоуны, обломочные породы (песчаники и алевролиты). Зона 2 включает внешний склон отмели и верхнюю часть мелководного шельфа (10–15 м). Характеризуется коралловыми известковыми фреймстоунами и строматолитовыми доломитовыми байндстоунами. Зона 3 нижняя и средняя части мелководного шельфа (10–50 м). Характерны микрофации криноидно-остракодо-брахиоподовые и полибиокластовые известковые грейнстоуны, слабо- Материалы III Всероссийского совещания Рис. 1. Схема расположения изученных разрезов 1 – границы тектонических структур; 2 – местоположение скважин 111 112 и биособытия 1 – известняк; 2 – известняк глинистый; 3 – известняк доломитизированный; 4 – глина; 5 – песчаник; 6 – песок; 7 – стратиграфические перерывы; цифрами 1–5 показаны конодонтовые биофации, объясн. в тексте; 8 – батиметрическая кривая, построенная на основе распределения конодонтовых биофаций; 9 – батиметрическая кривая, построенная на основе характерных фациальных зон, цифры 0–5 соответствуют номерам фациальных зон, объясн. в тексте Рис. 2. Сопоставление верхнефранских и нижнефаменских отложений в изученных разрезах и распределение в них конодонтовых биофаций Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Аристов В.А. Ритмичное чередование биофаций конодонтов в разрезе как отражение смены обстановок (верхний девон Русской платформы) // Симпозиум «Эвстатические колебания уровня мирового океана в девоне» (9–22 июля 1994., Москва–Ухта): Сб. тезисов докладов. – М.: ПИН РАН. – С. 3. Барсков И.С. Конодонты // Микропалеонтология: Учебник / Н.И. Маслакова, Т.Н. Горбачик и др. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – С. 186–220. Карпова Е.В. Седименто- и литогенез отложений девона Воронежской антеклизы. Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. – М., 2004. – 24 с. Кирилишина Е.М., Карпова Е.В. Литологическая и конодонтовая характеристика пограничных отложений франа и фамена Новохоперского района (Воронежская обл.) // Эволюция тектонических процессов в истории Земли: Материалы молодежной школы-конференции XXXVI Тектонического совещания. – М., 2004. – C. 282–287. Кирилишина Е.М., Кононова Л.И. Конодонтовые биофации во франском бассейне юго-запада Московской синеклизы // Вестн. МГУ. Серия 4. Геология. 2004. № 2. – С. 32–40. Кирилишина Е.М. Конодонты верхнефранских и нижнефаменских отложений Воронежской антеклизы. Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. – М.: МГУ, 2006. – 24 с. Кирилишина Е.М. Конодонтовые биофации верхнего франа и нижнего фамена (верхний девон) Воронежской антеклизы // Верхний палеозой России: стратиграфия и палеогеография: Материалы Всерос. конф. (25–27 сентября 2007 г., Казань). – Казань: КазанскийГУ, 2007. – С. 134–138. Родионова Г.Д., Умнова В.Т., Кононова Л.И. и др. Девон Воронежской антеклизы и Московской синеклизы. – М., 1995. – 265 с. Халымбаджа В.Г. Конодонты верхнего девона востока Русской платформы, Южного Тимана, Полярного Урала и их стратиграфическое значение // Казань, Казанский ГУ, 1981. – 212 с. Чехович П.А. Карбонатные платформы в раннепалеозойских осадочных бассейнах. Седиментационные характеристики и методы изучения // Жизнь Земли. Вып. 32: Геология, геодинамика, экология, музеология: Сб. науч. трудов Музея землеведения МГУ / В.А. Садовничий, А.В. Смуров. – М.: Изд-во МГУ, 2010. – С. 104–131. Druce E.C. Upper Paleozoic and Triassic conodont distribution and the recognition of biofacies // Geol. Soc. Amer. Spec. Pap. 1973. N 141. – P. 191–237. Fluegel E. Microfacies analysis of limestones. Analysis, interpretation and application. Berlin: Springer-Verlag, 2004. – 976 p. Johnson D.I., Klapper G., Sandberg C.A. Devonian eustatic fluctuations in Euramerica // Geol. Soc. America Bull. 1985. Vol. 96. N 5. – P. 567–587. Boulder. Kirilishina E.M., Karpova E.V., Kononova L.I. Conodont Biofacies, Carbonate Microfacies and Paleobathymetric Analysis in Upper Frasnian and Lower Famennian Strata (Upper Devonian), Voronezh Anteclise, Russian Platform // Biostratigraphy, paleogeography and events in Devonian and Lower Carboniferous (SDS/ IGCP 596 joint field meeting): Contributions of Intern. Conf. in memory of Evgeny A. Yolkin. – Novosibirsk: Publ. House of SB RAS, 2011а. – P. 74–77. Kirilishina E.M., Karpova E.V., Kononova L.I. Paleobathymetric Analysis on Conodont Biofacies and Carbonate Microfacies in Upper Frasnian and Lower Famennian Strata (Upper Devonian), Voronezh Anteclise, Russian Platform // Proceed. of the Sixth Intern. Conf. “Environmental Micropaleontology, Microbiology and Meiobenthology”, Russia, Moscow. – М.: PIN RAS, 2011б. – P. 137–140. Материалы III Всероссийского совещания доломитистые сгустковые известковые грейнстоуны, интракластовые известковые рудстоуны с матриксом, представленным биокластовым грейнстоуном. Зона 4 – верхняя часть глубоководного шельфа (50–100 м) – максимальные глубины для девонского эпиконтинентального бассейна Воронежской антеклизы (Родионова и др., 1995; Карпова, 2004). Характеризуется слабодоломитистыми известковыми мадстоунами, глинами известковыми и известковистыми. С учетом распределения карбонатных микрофаций по разрезам изученных скважин построены кривые изменения относительной глубины разных участков бассейна (рис. 2). Сопоставлены оценки относительной глубины рассматриваемого участка бассейна на основе полученных палеонтологических и литологических данных (рис. 2). Результаты дополняют друг друга, основные трансгрессивно-регрессивные пики совпадают и соответствуют пикам на кривых колебания уровня моря для всей Русской платформы (Родионова и др., 1995) и для девона Евроамерики (Johnson et al., 1985). Работа выполнена в рамках проекта МПГК-596. 113 Г.Н. Киселев Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ИССЛЕДОВАНИЯ АКАДЕМИКОМ Д.В. НАЛИВКИНЫМ ПАЛЕОЗОЙСКИХ ЦЕФАЛОПОД РОССИИ 114 Многочисленные научные труды академика Дмитрия Васильевича Наливкина свидетельствуют о разносторонности его интересов и многогранности таланта. В период обучения на первых курсах Горного института Д.В. Наливкин проявил интерес к палеонтологии и палеобиологии. Он изучал четвертичные отложения Апшеронского полуострова, там самостоятельно собрал значительную коллекцию моллюсков (двустворок и гастропод), систематизировал, описал ее и в 1914 г. опубликовал свои первые две статьи, ставшие в дальнейшем основой его дипломной работы. При изучении моллюсков он уделял большое внимание биологическим вопросам изученных организмов, сравнивая образцы с близкими современными представителями. Позднее данный метод получил в палеонтологии название актуопалеонтологического. Опыт изучения четвертичных моллюсков позволил Дмитрию Васильевичу в зрелые годы успешно работать с коллекциями палеозойских моллюсков, в том числе и с материалом наружнораковинных цефалопод. Еще в предвоенные годы он изучает в комплексе с брахиоподами представителей наутилоидных цефалопод из семилукских и воронежских слоев девона Русской платформы (1930), среднего палеозоя верховьев рек Колымы и Хандыги (1936), из силурийских и раннедевонских отложений Северного острова Новой Земли (1936) и из девона Главного девонского поля (1941). Обобщенные материалы публикаций даны в разделе «Наутилоидеи» в «Атласе руководящих форм ископаемых фаун СССР» Т. 3 «Девонская система» (1947). В различных работах по палеонтологической тематике Д.В. Наливкиным описано более 50 видовых таксонов наутилоидных цефалопод, относящихся к 11 родам: Pachtoceras, Coelocyrtoceras, Cyrtoceras, Phragmoceras, Gomphoceras, Poterioceras, Gephuroceras, Yovellania, Arshiacoceras, Mecynoceras, Orthoceras s.l. В том числе им изучено 14 новых видов из отложений верхнего силура – нижнего девона (Новая Земля – 4 вида, Восточный склон Урала – 2 вида, Главное девонское поле – 8 новых видов). Коллекции позднесилурийских и раннедевонских цефалопод позднее изучены Ф.А. Журавлевой (1972), которая обосновала по результатам исследования внутренних структур двух видов из работ Д.В. Наливкина два новых рода: Elvanocera, Urtasumoceras. Один вид назван в честь Д.В. Наливкина – Asbestoceras nalivkini F. Zhuravkeva, 1972. Большая аналитическая работа по использованию цефалопод в учебном процессе проведена Д.В. Наливкиным при подготовке к публикации русского издания «Основ палеонтологии» К. Циттеля (1934), где он – один из авторов раздела «Класс Cephalopoda» (с. 723–773). В этой сводке коллективом авторов даны диагнозы для 56 родов наутилоидных цефалопод и приведено их стратиграфическое распространение в интервале ордовик – пермь. Эти материалы, наряду с опубликованными сводками по силуру и девону, использованы при подготовке «Основ палеонтологии. Моллюски-головоногие. Т. 1: Наутилоидеи, эндоцератоидеи, актиноцератоидеи, бактритоидеи, аммоноидеи» (1962). Марковский Б.П., Наливкин Д.В. Задонские и елецкие слои. – М.–Л., 1934. Вып. 313. – С. 1–38. (Труды ГГГУ). Наливкин Д.В. Семилукские и воронежские слои // Изв. ГГГУ. 1930. Т. 49. Вып. 1. – С. 53–95. Наливкин Д.В.Среднепалеозойские фауны верховьев рек Колымы и Хандыги. Материалы по изучению Охотско-Колымского края. – М.: ГОНТИ, 1936. Серия 1. Вып. 4. – С. 1–29. Наливкин Д.В. Фауна силура и девона Северного острова Новой Земли. – Л.: Госгеолиздат, 1936. Т. 58. – С. 5–18 (Труды Арктич. ин-та). Наливкин Д.В. Цефалоподы Главного девонского поля. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – С. 255– 263. Наливкин Д.В. Класс Cephalopoda, отряд Nautiloidea // Атлас руководящих форм ископаемых фаун СССР. Т. 3. Девонская система. – М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1947. – С. 155–159. Основы палеонтологии. Моллюски-головоногие. Т. 1. – М.: Наука, 1962. – 438 с. Циттель К. Основы палеонтологии (палеозоология). Ч. 1. Беспозвоночные / Переработано палеонтологами СССР под ред. А.Н. Рябинина. – Л.–М.–Грозный–Новосибирск: Гос. научн.-техн. горногеол.-нефт. изд-во, 1934. – 1056 с. О.Л. Коссовая, Т.Н. Исакова, В.А. Хорошавин, И.О. Евдокимова, Д.И. Леонтьев, А.И. Николаев В отличие от обнаженной части Донецкого бассейна, сведения о каменноугольных отложениях погруженной части Восточного Донбасса довольно ограничены. При стратиграфическом расчленении каменноугольных отложений в скважинах принимается традиционная разбивка на индексированные известняки и свиты (Лутугин, Степанов, 1913; Айзенверг, 1963) (рисунок). В дальнейшем свиты получили собственные названия (Унифицированная…, 1990). Стратиграфическая схема Донбасса претерпевала последовательные изменения в связи с дальнейшим усовершенствованием ОСШ. В отличие от Украинской части Донбасса, где существует самостоятельная региональная схема (Полетаев и др., 2011), в Легенде Донецкой серии ГГК-200 (1999) и в практике геологоразведочных работ для территории Восточного Донбасса (Россия) используются региональные подразделения Восточно-Европейской платформы (ВЕП). Тем не менее, при корреляции наиболее полно изученного типового разреза обнаженной части Донбасса с подразделениями ВЕП возникают расхождения, и границы региональных стратонов, по данным разных авторов, сопоставляются с разными известняками и зачастую в довольно широких диапазонах. В настоящее время нет однозначной корреляции подъярусов башкирского и московского ярусов и одновозрастных подразделений Донбасса. Обсуждается положение границы московского яруса в интервале известняков K1–K3, мячковского горизонта от известняка M10 до N1. Опубликованные результаты изучения разреза Изварино показали существенное различие в корреляции подразделений Донбасса и ВЕП по фузулинидам и конодонтам. Так, расхождение в определении нижней границы каширского горизонта охватывает интервал K 8–L5; граница мячковского горизонта проводится по границе известняка М10 (Fohrer et al., 2007), что в целом согласуется со схемой Русской платформы (Унифицированная…, 1990) и более поздними публикациями, где граница проведена по М102 (The Carboniferous…, 1996). В то же время существует и вариант определения нижней границы московского яруса по известняку K2, каширского горизонта по L1 и мячковского горизонта по N1 (Махлина и др., 2001). В Легенде Донецкой серии ГГК-200 (1999) для восточной части Донбасса принята такая последовательность свит: отложения верхней части башкирского яруса отвечают белокалитвенской свите (С24) в объеме известняков I1–I4, каменская свита (С25) с границей по известняку K1 сопоставляется с верейским горизонтом, алмазная свита (С26) почти в полном объеме коррелируется с каширским горизонтом, горловская свита (C27) (интервал M1–M10) соответствует подольскому и низам мячковского горизонта. Вышележащая исаевская свита с границей по известняку N1 сопоставляется с большей частью мячковского и кревякинским горизонтом касимовского яруса (в традиционном понимании). Изученные авторами отложения охватывают интервал от верхов башкирского яруса до подольского горизонта московского яруса включительно. Вскрытый бурением интервал разреза в пяти скважинах, расположенных в долине р. Кагальник (правый приток р. Дон), был передан на определение в 2008–2011 гг. Он охватывает известняки I4 свиты С24 (I) – известняки М10 (за исключением известняка М102). Скважины пробурены ОАО «Южгеология» на территории Большовской и северной части Восточной Каменецкой разведочных площадей в Ростовской области при проведении поисковых работ на уголь. Исследования фузулинид, остракод, конодонтов и кораллов позволили получить комплексную характеристику известняков и наметить границы стратиграфических подразделений (горизонтов и ярусов), которые в ряде случаев отличаются от принятых в настоящее время (Унифицированная…, 1990; Легенда, 1999). Фауна из известняка I4 (фораминиферовый вакстоун с мелкими остракодами) (скв. 9242, гл. 799,4–800,0 м) бедная, встречены редкие Plectostaffella, Millerella, Endothyranella и архедисциды. Присутствие архедисцид позволяет рассматривать этот известняк в составе башкирского яруса, поскольку наиболее широкое распространение архедисциды имели в позднебашкирское время и обычно отсутствуют или крайне редко встречаются в более молодых отложениях Материалы III Всероссийского совещания БИОСТРАТИГРАФИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ БАШКИРСКОГО – МОСКОВСКОГО ЯРУСОВ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ДОНБАССА (РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) ПО МАТЕРИАЛАМ БУРЕНИЯ 115 116 и биособытия Сопоставление стратиграфических подразделений Донбасса и ВЕП по данным разных авторов Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Материалы III Всероссийского совещания в­ ерейского горизонта московского яруса. В образце из известняка K1 (гл. 753,79–753,8 м) появляются единичные Verella sp. Распространение этого рода на Русской платформе, Урале и в Средней Азии также приурочено к отложениям, подстилающим верейский горизонт. В Донбассе вереллы – Verella prolixa (Sheng) и V.? transiens Gink. et Villa указываются в известняках I22 и I3 башкирского яруса (Davydov, 2009). Таким образом, комплекс, включающий Verella aff. normalis Rum., Semistaffella elegantula Raus., Eostaffella grozdilovae Maslo et Vachard, позволяет относить известняк K2 (скв. 9242, гл. 659,8–659,9 м) также к верхней части башкирского яруса. Граница московского яруса в той же скв. 9242 определяется в подошве известняка K3 (гл. 611,1–611,2 м). Основанием для проведения границы верейского подъяруса на этом уровне является смена вереллового сообщества появлением нового комплекса с Pseudostaffella ex. gr. gorskyi (Put.), Pseudostaffella subquadrata Grozd. et Leb., Ozawainella ex gr. crassiformis Put. с основания этого известняка. Близкий комплекс прослежен выше в известняке K31 и не встречен ниже по разрезу. Ozawainella ex gr. crassiformis Put. известна с низов московского яруса. Выше отложения более глубоководные и содержат спикулы губок, створки остракод. Следующее обновление комплекса происходит на уровне известняка K4, где встречены первые скелневателлы Skelnevatella skelnevatica (Put). В Московской синеклизе этот вид распространен совместно с типичными альютовеллами в верейском горизонте. На Южном Урале, по данным Е.И. Кулагиной (2008), Skelnevatella skelnevatica появляется раньше типичных нижнемосковских альютовелл вида Aljutovella aljutovica, но она, несомненно, верейский вид. По мнению указанного автора, в эволюционной линии Profusulinella – Aljutovella появление фрагментарной складчатости, характерной для Skelnevatella skelnevatica, свидетельствует в пользу раннемосковского возраста этого вида, поскольку морфологический признак складчатых септ не известен у видов из башкирского яруса. Однако есть точка зрения (Davydov, 2009), что в Донбассе некоторые «типично московские» виды, в том числе и Skelnevatella skelnevatica, могут появиться раньше, чем в Московской синеклизе, т. е. в верхах башкирского яруса. В скв. 9242 альютовеллы, типичные для верейского горизонта Московской синеклизы, Поволжья и Урала, фиксируются только с известняка K63. Как характерные для основания верейского горизонта скельневателлы указываются на Урале (Иванова, 2008). Массовые разнообразные альютовеллы появляются в известняке K63 и характерны для верхней части верейского горизонта Московской синеклизы, Поволжья и Урала. Граница каширского подъяруса (горизонта) проводится по полученным материалам в известняке K8 (гл. 165,6–165,7 м), который содержит типичные формы каширского горизонта Priscoidella cf. priscoidea (Raus.) – зональный вид нижней части каширского горизонта Московской синеклизы. Данная корреляция совпадает с границей каширского горизонта по фузулинидам в разрезе Изварино (Fohrer et al., 2007). Мы придерживаемся проведения границы по появлению вида-индекса, хотя в известняке K7 появляются единичные Beedeina ex gr. schellweini (Staff.), характерные уже для каширского горизонта Московской синеклизы. Предположительно граница каширского горизонта может быть опущена и до основания известняка K7. Предлагаемая граница проходит ниже основания алмазной свиты, которая сопоставлялась с каширским горизонтом (Легенда, 1999), и границы марьевского горизонта (Махлина и др., 2001). Более молодые отложения вскрыты скв. 9244 в интервале известняков L2–L7. Комплекс, характерный для нижней части каширского подъяруса, встречен в известняках L2 и включает Eofusulina sp., Ozawainella ex gr. tingi (Lee), Eoschubertella lata (Lee et Chen), Neostaffella ex gr. larionovae (Raus. et Safon.). Появление Eofusulina типично для каширского горизонта Московской синеклизы. В более древних отложениях верейского горизонта Московской синеклизы эофузулины не указывались. В Донбассе Eofusulina triangula определена в известняке К2 и приурочена к основанию московского яруса Тетической области (Davydov, 2009). Анализ состава комплекса фузулинид из известняка L2 скв. 9244 свидетельствует в пользу каширского возраста вмещающих отложений. Так, виды из группы larionovae известны из нижней части каширского горизонта в разрезе по балке Долгой (Путеводитель…, 1975), а массовое нахождение озаваинелл обычно для каширского горизонта и особенно его верхней части. Появление Eoschubertella lata (Lee et Chen) характерно для каширского горизонта (Раузер-Черноусова и др., 1951). Выше по разрезу в известняке L3 встречена Eoschubertella aff. obscura (Lee et Chen), известная также из известняка L4 разреза Изварино (Fohrer et al., 2007). В известняке L5 из скв. 9244 фиксируются характерные шарообразные бедеины, часто присутствующие в низах каширского подъяруса как Московской синеклизы, так и в известняке L5 разреза Изварино. Beedeina aff. bona (Chern. et Raus.) характерна для верхней части каширского и низов подольского горизонта Саратовского Поволжья. Beedeina ninensis Put. известна в интервале известняков L4–L6 по р. Дон и юго-восточной части Большого Донбасса. Указанное распределение фузулинид в скв. 9244 117 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео118 практически полностью совпадает с данными по разрезу Изварино и характеризует нижнюю часть каширского (марьевского) горизонта. В известняке L6, наряду с уже указанными эоштафеллами, неоштафеллами, озаваинеллами и др., появляются Novella evoluta mosquensis Raus. и Neostaffella ozawai (Lee et Chen), характерные для верхней части каширского горизонта. Подольский горизонт. Отложения верхней части московского яруса вскрыты скважинами, пробуренными на Большовской площади Ростовской области. Для определения предоставлены образцы из известняков M7–M10. В известняке М72 из скв. 9203 (гл. 551,20–551,5 м) присутствует смешанный каширско-подольский комплекс с Neostaffella ex gr. umbilicata (Putr. et Leont.), Profusulinella aff. trisulcata (Thomps.). Уровень известняка M7 рассматривался в качестве границы подольского горизонта при проведении корреляции с Московской синеклизой (Махлина и др., 2001). Однако существует и более низкое определение границы по М1 (Fohrer et al., 2007). Типичный подольский комплекс установлен в скв. 9204 на гл. 511,1–511,2 м из фораминиферово-криноидного известняка (М9) с многочисленными фузулинидами Ozawainella sp., Fusuluna ex gr. shellwieni (Staff.), Fusulina sp., ?Putrella sp., Palaeotextularia sp., Neostaffella ex gr. larionovae Raus. et Saf., Beedeina sp. Из криноидно-водорослевого известняка с редкими остракодами (скв. 9203, известняк M9 в скважине 9205, гл. 1037,6–1037,6 м) определен вид Idiognathodus obliguus Kos., встречающийся в интервале каширского-подольского горизонтов ВЕП (Алексеев, Горева, 2001). Уровень известняка M7 условно рассматривается здесь как граница подольского горизонта, так как известняки L7–M6 пропущены при отборе. Наиболее разнообразный комплекс фауны (конодонты, оcтракоды, фузулиниды, кораллы) установлен в известняке М10, где в интервале M100–М101 отобрано шесть образцов. В биодетритовом известняке с мшанками, водорослями, мелкими фораминиферами, фузулинидами и кораллами встречены фораминиферы Fusulina cf. paradistenta Saf., Fusulina ex gr. adelpha Saf., Fusulina ex gr. pseudoelegans Chern. Sestrophyllum symmetricum (Dobr.) (Rugosa) описан из подольского горизонта Московской синеклизы и известняков M5–M10 Донецкого бассейна. Интервал, относящийся к известняку М101, представлен глинистыми известняками с большим количеством остракод и редкими конодонтами. Здесь в скв. 9205 в инт. 749,2–750,0 м встречены остракоды Amphissites sp., Shivaella aff. brazoensis (Coryell et Sample), Roundyella sp., Moorites elongatus (Coryell et Sample), Healdia persimplex Ershova, H. ampla Roundy, H. simplicissima Harlton, Acratia sp. Присутствие в комплексе вида Healdia persimplex характено для отложений подольского горизонта Московской синеклизы и свиты С27 Донбасса. Конодонты представлены Streptognathodus dissectus Koz., в настоящее время этот вид выделяется как зональный в Донбассе в интервале известняков M3–M8 (Fohrer et al., 2007) и сопоставляется с каширским горизонтом. Интервал распространения данного вида на ВЕП – верхняя часть каширского – подольский горизонт (The Carboniferous…, 1996), что в целом не противоречит полученным данным. Таким образом, комплексный анализ различных групп органических остатков, изученных из скважин восточной части Донбасса, позволяет определить границу московского яруса по известняку K3, границу каширского горизонта – по известняку К8. Интервал известняков М7–М101 относится по полученным данным к подольскому горизонту. Айзенверг Д.Е., Бражникова Н.Е., Новик Е.О., Ротай А.П., Шульга П.Л. Стратиграфия каменноугольных отложений Донецкого бассейна. – Киев, 1963. – 182 с. Алексеев А.С., Горева Н.В. Глава 9. Конодонты // Средний карбон Московской синеклизы (южная часть) Т. 2. Палеонтологическая характеристика. – М.: Научный мир, 2001. – С. 113–140. Иванова Р. Верхнебашкирский подъярус Урала и его границы с московским ярусом по фузулинидам // Проблеми страграфii камяновугильноi системи. – Kиїв, 2008. – C. 95–102. Кулагина Е.И. Граница башкирского и московского ярусов (средний карбон) на Южном Урале в свете эволюции фузулинид // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2008. Т. 83. Вып. 1. – С. 33–44. Легенда Донецкой серии листов Государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1 : 200 000 (издание второе). – Ростов-на-Дону, 1999. Лутугин Л.И., Степанов П.И. Донецкий каменноугольный бассейн // Угольные месторождения в России. – СПб., 1913. – С. 112–143. (Труды Геологического комитета, Россия, Санкт-Петербург). Махлина М.Х., Алексеев А.С., Горева Н.В., Исакова Т.Н., Друцкой С.Н. Средний карбон Московской синеклизы. Т. 1: Стратиграфия. – М., 2001. – 243 с. Полетаев В.I., Вдовенко М.В., Щоголев О.К. Стратотипи регiональних стратиграфiчних пiдроздiлiв карбону i нижньoї пермi Доно-Днiпровського прогину. – Київ: Логос, 2011. – 236 с. Путеводитель экскурсии по Донецкому бассейну: Междунар. конг. по стратиграфии и геологии карбона (Москва, 1975) / Д.Е. Айзенверг, А.М. Бабенко, Н.Г. Беленко и др. – М.: Наука, 1975. – 360 с. Раузер-Черноусова Д.М., Грызлова Н.Д., Киреева Г.Д. и др. Среднекаменноугольные фузулиниды Русской платформы и сопредельных областей. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 380 с. Унифицированная субрегиональная стратиграфическая схема среднекаменноугольных отложений Доно-Днепровского прогиба: Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы с региональными стратиграфическими схемами. Каменноугольная система. Ленинград, 1988 г. – Л.: ВСЕГЕИ, 1990. – 4 с. Davydov V.I. Bashkirian-Moscovian transition in Donets Basin: the key for Tethyan-Boreal Correlation. Типовые разрезы карбона России и потенциальные глобальные стратотипы. Южноуральская экскурсия. – Уфа, 2009. – С. 188–192. Fohrer B., Nemirovska T.I., Samankassou E., Ueno K. The Pennsylvanian (Moscovian) Izvarino section, Donets Basin, Ukraine: a multidisciplinary study on microfacies, biostratigraphy (Conodonts, foraminifers, and ostracods), and paleoecology. The Paleontological Society. 2007. Memoir 69. Suppl. N 5. Vol. 81, 85. The Carboniferous of the World. The Former USSR, Mongolia, Middle Eastern Platform, Afganistan, Iran. Editor: Carlos Martinez Diaz. IUGS publ. 33. 1996. Vol. 3. – 524 p. НИЖНЯЯ ГРАНИЦА КУНГУРСКОГО ЯРУСА В РАЗРЕЗАХ СЕВЕРА УРАЛА И ПАЙ-ХОЯ Одна из приоритетных задач при формировании МСШ – сохранение нижнепермских ярусов, выделенных на территории России. Кроме сохранения названий ярусов как номинатипов, важнейшей задачей является определение и обоснование ярусных границ для утверждения точек глобальных стратотипов границ (ГСГТ). Нижняя граница пермской системы и соответственно ассельского яруса определена и ратифицирована в разрезе Айдаралаш (Казахстан). Парастратотипом границы на территории России рассматривается разрез Усолка. Для сакмарского, артинского и кунгурского ярусов выбраны маркеры границ и разрезы-кандидаты в стратотипы границ – соответственно Кондуровка, Дальний Тюлькас и Мечетлино. После посещения IPC разреза Мечетлино он был забракован из-за редкой встречаемости конодонтов, диагенеза осадков в переходных слоях и невозможности датирования границы из-за переотложенных цирконов. Выбранный ранее маркер Neostreptognethodus pnevi остался неизменным, а в качестве конкурирующего кандидата в стратотипы границы кунгурского яруса МСШ был предложен разрез Pequop в США. Дополнительные исследования в районе Мечетлино выявили более представительный песчано-карбонатный разрез, расположенный в 700 м от предыдущего, который содержит более многочисленный комплекс конодонтов в пограничном интервале, а также аммоноидей и фузулинид (Чувашов, Черых, 2011). Нижняя граница кунгурского яруса в этом разрезе определена по появлению N. pnevi Kozur и N. lectulus Chern., которые известны также в разрезах США (Behnken, 1975; Clark et al., 1979; Wardlaw, Collinson, 1986) и Канады (Henderson, 1999). На территории Приуралья нижняя граница кунгурского яруса, соответствующая подошве саранинского горизонта, относимого ранее к артинскому ярусу, до настоящего времени не имела надежного обоснования и распознавалась с большим трудом. Лишь незначительное число разрезов на Урале содержит конодонты, определяющие границу кунгура и саранинского горизонта (Чувашов и др., 1997). Однако имеются разрезы, где N. pnevi встречен совместно с аммоноидеями. Комплекс аммоноидей обычно представлен позднеартинскими видами, наряду с которыми присутствует Uraloceras fedorovi Karp. Эти отложения обычно относились к артинскому ярусу. В переходном интервале разреза Мечетлино вблизи находок N. pnevi впервые обнаружен Uraloceras tchuvaschovi Bogoslovskaya (Бойко, 2010) и описан из кошелевской свиты басс. р. Сылва (Богословская, 1976). Поскольку кунгурский и уфимский ярусы ОСШ, установленные на территории ВЕП, представлены преимущественно лагунными и континентальными отложениями и не содержат аммоноидей, границы ярусных и региональных подразделений могут быть решены только на разрезах морских отложений Северного и Полярного Урала (басс. рек Подчерем и Щугор, хребет Пай-Хой, о. Вайгач, Печорский бассейн), Северо-Востока России (Верхоянье и Колымо-Омолонский регион) и Канадского Арктического архипелага. Опорным разрезом Полярного Урала является разрез р. Кожым. Артинско-кунгурский интервал там представлен косьинской, чернореченской и кожимской свитами. Верхняя часть косьинской и нижняя часть чернореченской свит содержат позднеартинский (саргинский) комплекс аммоноидей, включающий характерные позднеартинские виды Waagenina subinterrupta (Krot.) и Sakmarites vulgaris (Karp.). Верхняя часть черноречен- Материалы III Всероссийского совещания Г.В. Котляр, П.П. Пискун, К.В. Борисенков 119 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео120 ской свиты (с основания слоя 482) содержит, наряду с позднеартинскими, такие виды, как Talassoceras gemmellaroi Karp., Paragastrioceras kojimense Tch., P. subtrapezoidale Max. et Tch., Uraloceras popovi Andr., U. fedorovi Karp., Waagenina subinterupta (Krot.) (Биота.., 1998). Комплекс считался позднеартинским. Аналогичный комплекс был установлен на р. Кобылка, левом притоке р. Подчерем в составе Paragastrioceras subtrapezoidale Max. et Tch., P. kobylkense Borisenkov, P. cf. suessi (Karpinsky), Uraloceras fedorovi Karp., Waagenina subinterupta (Krot.) (Борисенков, 2010). Позднее в верхней части разреза на р. Кобылка был определен типично кунгурский вид Uraloceras tchuvaschovi Bogoslovskaya, встреченный в зоне Neostreptognathodus pnevi разреза Мечетлино (Бойко, 2010). Оба комплекса в настоящее время считаются характерными для саранинского горизонта кунгурского яруса. Возраст перекрывающей кожимской свиты принимается однозначно как кунгурский – филипповский. Нижняя часть талатинской свиты в стратотипе на Северо-Западном Пай-Хое, содержащая комплекс аммоноидей, аналогичный приведенным ниже с Uraloceras fedorovi Karp., Paragastrioceras cf. suessi (Karpinsky), Waagenina subinterupta (Krot.), и ряд других видов аммоноидей, отнесены В.И. Устрицким (Основные черты…, 1984) к артинскому ярусу. Аналогом талатинской свиты на Северо-Восточном Пай-Хое является лиурьягинская свита. Учитывая пересмотренный в последнее время возраст рассматриваемого комплекса аммоноидей, а также то, что перекрывающие слои на Урале имеют филипповский возраст (Чувашов и др. 1997), а на Северо-Восточном Пай-Хое содержат Tumaroceras volkodavi Andrianov, слои низов талатинской, а соответственно и лиурьягинской свит следует относить к саранинскому горизонту кунгурского яруса. Таким образом, нижние границы талатинской, лиурьягинской свит слоя 482 чернореченской свиты и отложений басс. р. Кобылка следует считать нижней границей кунгурского яруса. Содержание и распределение аммоноидей, брахиопод и двустворок в разрезах Северо-Восточного Пай-Хоя, аналогичное таковым в разрезах Северо-Востока России, позволяет нижнюю границу кунгурского яруса в верхоянских разрезах опустить в основание хабахской свиты. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проекты 11-05-00053 и 11-05-00950. Биота Востока Европейской России на рубеже ранней и поздней перми / Ред. Т.А. Грунт, Н.К. Есаулова и Г.П. Канев. – М.: ГЕОС, 1998. – 356 с. Богословская М.Ф. Кунгурские аммоноидеи Среднего Предуралья // Палеонтол. журн. 1976. № 4. – С. 43–50. Богословская М.Ф., Устрицкий В.И., Черняк Г.Е. Пермские аммоноидеи Новой Земли // Палеонтол. журн. 1982. № 4. – С. 58–67. Бойко М.С. Аммоноидеи из пограничных отложений артинского и кунгурского ярусов разреза Мечетлино (Южный Урал) // Бюлл. МОИП. 2010. Отд. геол. Т. 85. Вып. 5. – С. 33–39. Основные черты стратиграфии пермской системы СССР / Ред. Г.В. Котляр, Д.Л. Степанов. – Л.: Недра, 1984. – 289 с. Чувашов Б.И., Богословская М.Ф. и др. Кунгурский ярус // Cтратиграфия. Геол. корреляция. Т. 5Б. № 3. 1997. – С. 9–21. Чувашов Б.И., Черных В.В. Разрез Мечетлино (Южный Урал) – потенциальный лимитотип нижней границы кунгурского яруса // ДАН. 2011. Т. 441. № 5. – С. 657–660. Behnken F.H. Leonardian and Guadalupian (Permian) conodont biostratigraphy in western and southwestern United States // J. Paleont. 1975. Vol. 49. N 2. – Р. 284–315. Clark D.L., Carr T.R., Behnken F.H. et al. Permian Conodont Biostratigraphy in the Great Basin // Brigham Young University Geology Studies. 1979. Vol. 26. Part 3. – P. 143–150. Henderson Ch.M. Correlation of Cisuralian and Guadalupian stages in the Sverdrup Basin, Canadian Arctic archipelago // XIV ICCP. Pander Society. Can. Paleontol. Conf. Abstrs. Calgary, 1999. – P. 57–58. Wardlaw B.R., Collinson J.W. Paleontology and deposition of the Phosphoria Formation // Contributions to Geology, University of Wyoming. 1986. Vol. 24. N 2. – P. 107–142. А.В. Куриленко Территория Восточного Забайкалья характеризуется широким спектром геологических образований, формировавшихся в промежуток времени от раннего архея до кайнозоя. Структурное районирование Забайкалья затруднено глубоким уровнем эрозии бывших складчатых сооружений и многократной их переработкой процессами тектоно-магматической активизации. Районирование, принятое при создании полистных и серийных легенд ГГК-200/2, 1000/2, 1000/3, основано на анализе формационного состава, возраста и структурных планов геологических образований преимущественно байкало-герцинской эпох, определивших контуры главных структур (Геологическое строение..., 1997). В регионе с севера на юг выделяются три структуры первого порядка: Сибирская платформа, Селенгино-Становая и Монголо-Охотская области, которые в свою очередь подразделяются на структуры второго порядка – структурноформационные зоны. Отложения девона в Забайкалье развиты в пределах Монголо-Охотской области, включающей в границах рассматриваемого региона Хэнтэй-Даурскую, Агинскую, Аргунскую и Верхнеамурскую структурно-формационные зоны (СФЗ). Монголо-Охотская область с севера ограничена Монголо-Охотским глубинным разломом, на юге продолжается на территории Монголии и Китая. Между собой СФЗ разграничены структурными швами II порядка. Девонские отложения, развитые в пределах Забайкалья, вошли в стратиграфические схемы, принятые МСК в 1991 г. (Решения…, 1994): рабочую схему девонских отложений Южного Забайкалья (западная часть Монголо-Охотской складчатой системы) и унифицированную схему девонских отложений Приамурья (Буреинский массив и центральная часть МонголоОхотской складчатой системы). Согласно схемам в Хэнтэй-Даурской СФЗ, в составе девона условно выделены агуцинская свита (Dag) для центральной части и горячинская толща (Dgr) для южной, охватывающие всю девонскую систему. В Агинской СФЗ мощные кремнистовулканогенно-терригенные отложения расчленены на чиндантскую (D1n), усть-борзинскую (D1–2ub), цаган-норскую (D2–3cn) свиты. В Аргунской СФЗ на докембрийском континентальном основании залегают в восточной части таловская (D1tl), ильдиканская (D1–2il), яковлевская (D3jak) свиты в Газимуро-Заводском районе и даньковская (D1–2dn)-жиргодинская (D2–3zr) в Усть-Уровском, представленные мощными терригенно-карбонатными, кремнисто-терригенными и терригенными сериями. Для западной части зоны выделена макаровская (Dmk) свита девона. В Верхнеамурской СФЗ на раннепротерозойский метаморфический комплекс наложены рифей-нижнекембрийские образования, выше которых находится сложнопостроенный синклинорий, сложенный силурийскими, девонскими (большеневерская (D1bn), имачинская (D1–2im), ольдойская (D2–3ol), тепловская (D3tp) свиты) и нижнекаменноугольными карбонатно-терригенными отложениями. Сложность строения разрезов среднего палеозоя региона, представленных интенсивно дислоцированными и метаморфизованными толщами, приводит к неоднозначности понимания разными специалистами объемов стратиграфических подразделений. К настоящему времени получены новые данные по биостратиграфии отложений девона Агинской, Аргунской и Верхнеамурской СФЗ на основании комплексного изучения различных групп фауны. Основу современного биостратиграфического расчленения девонских отложений Аргунской и Верхнеамурской зон составляют результаты исследований брахиопод и криноидей. Для всех ярусов девона в схеме (Решения…, 1994) определены зоны и слои с брахиоподами и после ее принятия слои с криноидеями, которые детализируют принятую схему (Атлас..., 2002). Стратоны часто не имеют смыкаемости, но их последовательность четко диагностируется в разрезах. Биостратиграфическое расчленение девона по криноидеям включает слои со Scyphocrinites mariannae, соответствующие переходному пржидольско-лохковскому пограничному интервалу; слои с Costatocrinus bicostatus – Tastjicrinus paucicostatus, отвечающие нижнелохковскому подъярусу; слои с Amazaricrinus ildicanensis – пражскому ярусу; слои с Paradecacrinus orientalis – эмсскому ярусу; слои с Raricrinus minimus – Vasticrinus vastus – эйфельскому ярусу; слои с Ononicrinus gracilis – живетскому ярусу; слои с Hexacrinites? stukalinae – нижнефранскому подъярусу; слои с Platycrinites? subtuberosus – верхнефаменскому подъярусу. Возраст стратонов, определенный Материалы III Всероссийского совещания О НЕОБХОДИМОСТИ АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ СХЕМ ДЕВОНА ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ 121 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео122 по криноидеям, подтвержден данными по другим группам ископаемых организмов (Атлас..., 2002; Kurilenko, Kulkov, 2008). В объяснительной записке к схемам отмечалось, что нижняя граница девона в пределах Монголо-Охотского складчатого пояса палеонтологически не обоснована. Традиционное положение границы силурийской и девонской систем в Восточном Забайкалье отвечает нижней границе большеневерского горизонта, получившей палеонтологическую характеристику уже после принятия схем в связи с определением криноидей рода Scyphocrinites, характерных для разнофациальных отложений пржидоли и лохкова европейских разрезов, севера Африки и Азии (Атлас…, 2002; Куриленко и др., 1999). Таким образом, нижняя граница большеневерского горизонта должна проводиться на уровне верхнего пржидоли. Новые определения фаунистических остатков позволили уточнить возрастной диапазон многих местных стратиграфических подразделений. Удалось доказать позднепржидольско-раннеэмсский возраст большеневерской свиты, позднепржидольско-раннелохковский возраст макаровской толщи, пражско-эйфельский возраст ильдиканской, живетско-фаменский возраст яковлевской свит. Разрез с фауной живета – раннего франа, ранее рассматриваемый в составе макаровской свиты, отнесен к яковлевской свите, так как в стратотипе первой (ее предлагается считать толщей) определены криноидеи позднего пржидоли – раннего лохкова. В региональной схеме (Решения…, 1994) для западной части Аргунской СФЗ приняты аргалейская свита позднефаменско-ранневизейского возраста и ирамская толща нижнего-среднего визе, распространенные в пределах небольших тектонических блоков. Вопрос об их положении относительно друг друга вызывал многочисленные споры, начиная с 20-х годов прошлого столетия. На картах разного масштаба отмечались места находок фауны в ирамской толще, однако ее определения никогда не приводились. По результатам изучения криноидей получены данные, подтвержденные палинологическим анализом, указывающие на более древнее положение ирамской толщи относительно аргалейской свиты. Восстановление нормальной стратиграфической последовательности позволило сопоставить разрез ирамской толщи – аргалейской свиты с литологически сходными и синхронными отложениями, развитыми в восточной части Аргунской зоны, и рассматривать их в составе яковлевской (D2–3jak) и газимурозаводской (C1gz) свит (Гос. геол. карта…, 2010). Агинская мегазона представлена, по мнению ряда исследователей, коллажом различных по размерам террейнов (блоков) (Парфенов и др., 1999; Гос. геол. карта…, 2010 и др.): Среднеононским, Ононским, Уртуйским и Борзинским. До последнего времени считалось, что отложения девона встречены только в пределах Ононского террейна. Его нижний структурный этаж сложен карбонатно-вулканогенно-терригенными отложениями достаточно глубоководного бассейна, развивавшегося предположительно от ордовика до раннего карбона. В региональной стратиграфической схеме для девона Агинского района выделены чиндантская, устьборзинская, цаганнорская свиты, составляющие единую непрерывную серию. Свиты сравнительно однообразны по литологическому составу, охарактеризованы единичными находками ископаемой фауны, слагают складчатые структуры, осложненные многочисленными разрывными нарушениями. В принятой семью годами позже легенде Даурской серии листов для ГК-200 в девонский разрез была включена нижняя часть зун-шивеинской (D3–C1z) свиты. Возраст терригенной чиндантской свиты принимался раннедевонским на основании редких находок ругоз Embolophyllum mansfieldense (Dun.) в небольшом тектоническом блоке в районе пос. Дурбочи, сложенном рифовыми, генетически отличными от основного разреза, отложениями, наиболее сходными с таковыми устьборзинской свиты. По данным В.А. Амантова (1963), в устьборзинской свите известны находки фауны, характеризующей преимущественно широкий возрастной диапазон. Ранне-среднедевонский возраст стратона основывался на определении криноидей неудовлетворительной сохранности. Структурное положение цаган-норской свиты между устьборзинской и зун-шивеинской определяло её возраст условно позднеживетско-среднефаменским. Низы последней охарактеризованы находками брахиопод, близких Cyrtospirifer verneuili Murch., широко распространенных в верхнем фране – фамене и криноидей Bicostulatocrinus circumvallatus (Yelt.), Pentaridica pulcher (Yelt.), появляющихся в верхнем фамене. По данным, полученным при ГДП-200 в 2007–2010 гг., доказана тождественность отложений, относимых к чиндантской и устьборзинской свитам, возраст последней определен в интервале живетского-франского веков (Куриленко и др., 2010, 2011). Разрезы свит изучены в стратотипической местности, а чиндантской также в единственном фаунистически охарактеризованном разрезе в районе пос. Дурбочи. В стратотипе чиндантской свиты выделен комплекс миоспор живетского века, в районе пади Дурбочи определены миоспоры и ругозы (определение Ю.И. Оноприенко) Xistriphyllum ex gr. spinulosum (Soshkina), Betanyphyllum Амантов В.А. Стратиграфия и история развития Агинской структурной зоны Забайкалья // Материалы по геологии Дальнего Востока и Забайкалья. – Л.: ВСЕГЕИ, 1963. Т. 81. – С. 3–14. (Труды ВСЕГЕИ). Аристов В.А., Голионко Б.Г., Лыхин Д.А. и др. Конодонтовая стратиграфия чиндантской, устьборзинской и уртуйской свит Агинской зоны Монголо-Охотского пояса (Забайкалье) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2007. Вып. 5. Т. 2. – С. 46–48. Атлас фауны и флоры палеозоя – мезозоя Забайкалья / А.В. Куриленко, Г.В. Котляр, Н.П. Кульков и др. – Новосибирск: Наука, 2002. – 714 с. Геологическое строение Читинской области. Объяснительная записка к геологической карте масштаба 1 : 500 000 / К.К. Анашкина, К.С. Бутин, Ф.И. Еникеев и др. – Чита: ГГУП «Читагеолсъемка», 1997. – 239 с. Государственная геологическая карта Российской Федерации. Масштаб 1 : 1 000 000 (третье поколение). Лист М-50 – Борзя / Е.А. Шивохин, А.Ф. Озерский, Н.А. Артамонова и др. – СПб.: КФ ВСЕГЕИ, 2010. – 553 с. Куриленко А.В., Бретштейн Ю.С., Бутин К.С. Новые биостратиграфические и палеомагнитные данные по девону западной части Монголо-Охотского складчатого пояса // Тихоокеан. геология. 1999. Т. 18. № 6. – С. 93–103. Куриленко А.В., Раитина Н.И., Ядрищенская Н.Г. Новые палеонтологические находки в устьборзинской свите (Восточное Забайкалье) // Геология и минерагения Забайкалья. – Чита: Изд-во ЗабГГПУ, 2010. – С. 87–96. Материалы III Всероссийского совещания cf. soetenicum (Schluter), возраст которых живетский. Из стратотипа нижней подсвиты устьборзинской свиты Л.Н. Неберикутиной выделены живетские споры, а из средней и верхней подсвит – микрофоссилии, свидетельствующие о живетско-франском возрасте вмещающих отложений. Кроме того, в верхнеустьборзинской подсвите встречены криноидеи (определение А.В. Куриленко) Vasticrinus sp., водоросли (определение В.А. Лучининой) Rothpletzella devonica (Maslov), фораминиферы (определения Р.М. Ивановой) Moravammina?; спикулы кремниевых губок tetractines и pentactines и радиолярии Trilonche davidi (Hinde) и T. cf. obtusa Hinde (определение О.Т. Обут), конодонты (определения В.А. Аристова, Н.Г. Изох): Icriodus ex gr. symmetricus Br. et. Mehl, Mesotaxis sp., Panderodus sp., Polygnathus sp., Ancyrodella sp., Palmatolepis sp., Ancyrognathus cf. triangularis Young (Аристов и др., 2007; Куриленко и др., 2010), встречающиеся преимущественно в живетских-франских отложениях. На основании новых данных возраст устьборзинской свиты определен в интервале живетский – франский века, при этом возраст нижней подсвиты вероятнее всего ограничивается только живетским временем. Литологическое сходство чиндантской свиты и нижне-среднеустьборзинской подсвит, а также одновозрастность вмещаемых ими комплексов миоспор и фауны позволяют параллелизовать данные отложения. Палинологические остатки, одновозрастные устьборзинским, выделены в том числе и из старатотипа чиндантской свиты, в связи с чем она должна быть упразднена. Впервые получила палеонтологическое обоснование и цаган-норская свита. Л.Н. Неберикутиной (ВГУ) определены микрофоссилии Apiculatisporis famenensis (Naum.) Oshurk., Coverrucosisporites megalothelis (Naum.) Oshurk., Didacites radiatus (Kedo) Obukh., D. versabilis (Kedo) Van Veen, Hymenozonotriletes echinatus Naum., H. luteolus (Naum.) Kedo, Iugisporis pullus (Naum.) Oshurk., I. vulgaris (Naum.) Oshurk., Laevigatosporites ovalis Kos., Leiosphaeridia compacta Nekr., L. plicata Nekr., Stenozonotriletes supragrandis Kedo, позволяющие сделать вывод о фаменском возрасте ее нижней подсвиты. Выделение перекрывающей зун-шивеинской свиты в настоящее время невалидно, поскольку в 90-х годах XX в. в ее стратотипическом разрезе А.С. Бяковым, Г.А. Стукалиной, Л.И. Попеко определена раннепермская фауна, позволяющая отнести вмещающие отложения к каменноугольно-раннепермской чиронской серии. В процессе ГДП-200 также выяснено, что развитие девонских отложений не ограничивается Ононским террейном. Блоки устьборзинской свиты с обильными комплексами акритарх и спор, содержащими характерные для девона формы, выделены в Среднеононском террейне из отложений, ранее считавшихся рифейскими и нижнетриасовыми (Куриленко и др., 2011). Cтратиграфические схемы девона Забайкалья, принятые IV ДВ МРСС (Решения…, 1994), за прошедшие 20 лет претерпели существенные изменения, которые в той или иной мере нашли отражение при создании полистных и серийных легенд ГГК-50/2, 200/2, 500/2, 1000/3. В статье обобщены данные, накопленные за два последних десятилетия, однако до сих пор остаются нерешенными вопросы корреляции разрезов различных террейнов Забайкалья, возрастное обоснование некоторых стратонов, преимущественно в Агинской зоне; фаунистически не подтверждено наличие девонских отложений в Хэнтэй-Даурской СФЗ. Работа выполнена при финансовой поддержи гранта РФФИ № 12-05-00324. 123 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео124 Куриленко А.В., Ядрищенская Н.Г., Раитина Н.И. Девон Агинской зоны Восточного Забайкалья: проблемы и состояние изученности // Биостратиграфия, палеогеография и события в девоне и нижнем карбоне. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. – С. 83–85. Парфенов Л.М., Попеко Л.И., Томуртого О. Проблемы тектоники Монголо-Охотского орогенного пояса // Тихоокеанская геология. 1999. Т. 18. № 5. – С. 24–43. Решения Четвертого Межведомственного регионального стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою юга Дальнего Востока и Восточного Забайкалья. – Хабаровск: ХГГГП, 1994. – 124 с. Kurilenko A.V., Kulkov N.P. A proposed crinoid zonation of the Devonian deposits of eastern Transbaikal // Bull. of Geosci. 83(4). Prague, 2008. – Р. 461–472. Н.А. Кучева, Л.И. Мизенс ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ БРАХИОПОД В ОТЛОЖЕНИЯХ ВЕРХНЕГО ФАМЕНА – НИЖНЕГО ВИЗЕ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ В южной части Уватского структурно-фациального района Западно-Сибирской равнины параметрической скв. Курган-Успенская 1 (КУ-1) и рядом картировочных скважин вскрыты образования позднего девона и раннего карбона. Отложения фаменского и турнейского ярусов на данной территории развиты широко и представлены преимущественно морскими шельфовыми фациями, реже (лишь в низах турнейского яруса) встречаются карбонатно-сульфатные лагунные образования. Среди нижневизейских отложений распространены как морские, так и континентальные фации (Мизенс и др., 2011; Степанова и др., 2011; Решение..., 1999). Пограничные отложения девона и карбона брахиоподами охарактеризованы слабо. В верхней части фамена (фораминиферовая зона Quasiendothyra kobeitusana) встречаются немногочисленные представители рода Cyrtospirifer. В водорослевых известняках скв. КУ-1 (2314,2 м) обнаружены единичные Cyrtospirifer sp., в криноидных известняках скв. ВК-49 (753,1–764,7 м) наблюдаются обломки створок Cyrtospirifer ex gr. sibiricus (Leb.), в аналогичных известняках скв. ВК-53 (791,6–800,0 м) присутствуют редкие скопления раковин Cyrtospirifer sibiricus (Leb.) и C. kobeitusensis Martynova., детрит строфоменид и Rugosochonetes sp. indet. Для установления возраста отложений значимо присутствие видов Cyrtospirifer kobeitusensis и C. sibiricus. Первый встречается в фаменском ярусе Центрального Казахстана и наиболее широко распространен в его верхней части, второй характерен для верхов фамена Донбасса, Урала, Тянь-Шаня, Кузбасса и Центрального Казахстана. Совместное местонахождение этих видов характерно для Центрального Казахстана (Фауна..., 1975). В скв. ВК-53 непосредственно выше отложений с Cyrtospiriferidae (784,4–791,6 м) в криноидных известняках наблюдается комплекс брахиопод другого систематического состава: Rugosochonetes sp. indet., Mucrospirifer sp. indet., M. cf. pseudoposterus Besn. Совместное присутствие последнего таксона (распространенного в турнейском ярусе Кузбасса) с фораминиферами зоны Bisphaera malevkensis позволяет отнести данный интервал к низам турнейского яруса. Скв. ВК-53 – единственное в районе местонахождение брахиопод раннего турне и разрез, где по двум группам фауны установлена стратиграфическая граница девона и карбона (Мизенс и др., 2011). В отложениях верхнего турне брахиоподы имеют крайне неравномерное распространение и ярко выраженную зависимость от фаций. В инт. 1794–2050 м скв. КУ-1 наблюдаются переслаивающиеся органогенные и глинистые известняки и известковые аргиллиты. В криноидных известняках обнаружены единичные Mesochorispira cf. grimesi (Hall) (2012,9 м), Mesochorispira sp. (1982,5 и 1905,4 м) и редкие Orbiculoidea? sp., Schuchertella sp., Spirifer missouriensis (Swall.) и Cleiothyridina kusbassica Besn. (2006,4–2010,2 м). В глинистых известняках в инт. 2001,9–2004,8 м отмечаются единичные Maoristrophia? sp., Unispirifer ex gr. theodorovitshi (Fot.), Tylothyris cf. laminosus (McCoy), Brachythyris ex gr. suborbicularis (Hall); а выше, в инт. 1869,3–1874,4 м наблюдаются Camarotoechia ex gr. elegantula Row., Tulathyris cf. subpyriformis Sem. et Moell., Phricodothyris? sp. На глубине 1865,0 м вскрыты криноидно-брахиоподовые известняки с многочисленными мелкими Marginatia sp. indet., единичными Punctospirifer? sp. и Athyridida. В целом немногочисленная, но достаточно разнообразная по систематическому составу ассоциация этого интервала включает таксоны, встречающиеся в отложениях верхнего турне Центрального Казахстана, Материалы III Всероссийского совещания Кузбасса, Урала, Северной Америки и Западной Европы (Литвинович и др., 1969; Наливкин, 1979; Решение..., 1991; Сарычева и др., 1963). Следующий охарактеризованный брахиоподами фрагмент разреза зафиксирован в инт. 498–1177 м. Известняки нижней части интервала (1080,1–1098,8 м) включают брахиоподы, встречающиеся как в верхнем турне, так и нижнем визе. Здесь обнаружены немногочисленные Schuchertella sp., Rugosochonetes aff. taidonensis Sok., Marginatia sp., Rhynchopora aff. coopensis (Shum.), Unispirifer sp. indet., Spirifer cf. aschliariki Sim., Eumetria сf. kasachstanica Sim., имеющие распространение в Центральном Казахстане и Кузбассе (Литвинович и др., 1969; Сарычева и др., 1963). В песчано-известняковых отложениях инт. 952,0–1058,5 м комплексы брахиопод разнообразны по систематическому составу и включают две группы таксонов. В первой группе на фоне видов, распространенных в нерасчлененных отложениях верхнего турне – нижнего визе, Schuchertella sp., Marginatia sp., Unispirifer sp. и Spirifer cf. aschliariki Sim., впервые в разрезе скв. КУ-1 появляются Rugosochonetes cf. ischimicus Nal., Dictyoclostus deruptus (Rom.), Syringothyris sp. indet., Spirifer ex gr. kasachstanensis Sim. Вторая группа состоит из таксонов Plicochonetes cf. nalivkiniformis Aksen., Marginatia ex gr. mirabilis Litv. и Plicochonetes cf. nalivkiniformis Aksen., известных только в отложениях визейского яруса Казахстана (Литвинович, 1962; Литвинович и др., 1969). Появление с основания данного интервала визейских видов позволяет отнести рассматриваемые отложения к нижнему подъярусу визейского яруса. В раннем визе, как и позднем турне, отчетливо проявляется фациальная приуроченность комплексов. Наиболее разнообразные по систематическому составу ассоциации наблюдаются в глинистых известняках и включают главным образом роды отряда Spiriferidida, реже Productida; в песчаниках распространены представители подотрядов Chonetidina и Productidina, причем хонетиды образуют маломощные монотаксонные скопления; строфомениды и атиридиды встречаются во всех типах пород. Фрагмент разреза, вскрытый скв. ВК-44 (429,5–541,0 м) и представленный переслаивающимися известняками, глинистыми известняками и аргиллитами, по литологии близок к позднетурнейско-ранневизейским породам скв. КУ-1. Среди брахиопод здесь распространены таксоны, известные в отложениях верхнего турне – нижнего визе (Мизенс и др., 2011). При сравнении ассоциаций брахиопод из отложений скважин ВК-44 и КУ-1 устанавливаются как общие черты, так и значительные отличия. В обоих комплексах постоянно отмечаются многочисленные Schuchertella sp., Rugosochonetes ex gr. ischimicus Nal., Plicochonetes sp., реже встречаются Marginatia? sp., Dictyoclostus ex gr. deruptus (Rom.), Unispirifer sp. В обеих скважинах присутствуют представители рода Mesochorispira, однако в скв. КУ-1 встречается вид M. cf. grimesi, а в скв. ВК-44 этот род представлен формами, по внешним признакам близкими к группе Mesochorispira subgrandis, характерной для нижнетерсинского горизонта верхнего турне Кузбасса и изредка встречающейся в основании подъяковского горизонта визейского яруса (Сарычева и др., 1963). Род Plicochonetes в скв. ВК-44 также представлен видом P. cf. kingiricus (Nal.), известным из отложений турне – нижнего визе Казахстана (Литвинович и др., 1969). Здесь же установлены таксоны, необнаруженные в скв. КУ-1, прежде всего следует указать Megachonetes zimmermanni (Paeck.) – доминирующий вид данного сообщества, крупные формы которого наблюдаются по всему разрезу и особенно многочисленны в нижней части, где образуют послойные скопления. В инт. 456,1–459,5 м присутствуют единичные Leptagonia analoga (Phill.), а на глубине 462,8 м – Avonia minima (Tolm.). Leptagonia analoga и Megachonetes zimmermanni являются космополитными видами для позднего турне и раннего визе (Наливкин, 1979), Avonia minima указывается в образованиях турнейского возраста Кузбасса и Северной Америки (Сарычева и др., 1963). Комплекс с массовыми Megachonetes zimmermanni не позволяет однозначно определить ярусную принадлежность включающих его отложений, ассоциация фораминифер указывает скорее на их позднетурнейский (верхи) возраст (Мизенс и др., 2011). Интервал 561,0–952,0 м скв. КУ-1 представлен красноцветными породами континентального происхождения (Степанова и др., 2011). В верхней части палеозойского разреза скв. КУ-1 (498,0-561,0 м) вскрыты переслаивающиеся органогенно-обломочные известняки и известняковые песчаники с разнообразными органическими остатками. В немногочисленном комплексе брахиопод появляются Spirifer ex gr. soschkini Litv. и единичные Globosoproductus sp. indet. Вид Spirifer soschkini известен из нижневизейских отложений Казахстана (Литвинович, 1962), род Globosoproductus – наиболее древний представитель группы гигантоидных продуктид, появление последнего в ранневизейском комплексе свидетельствует о верхней части данного возрастного диапазона. В результате проведенных исследований установлено, что отложения верхов девона и нижнего карбона юга Уватского района включают, наряду с фораминиферами, разнообразные бра- 125 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео126 хиоподы; этим они отличаются от одновозрастных образований значительной части территории Западной Сибири, в том числе и стратотипического Нюрольского района. Ассоциации брахиопод нижнего карбона (турне – нижнее визе) тяготеют к сообществам шельфа Казахстанского континента, а также Кузнецкого бассейна Ангариды (Клец, 2005; Кучева, 2010). Выявленные комплексы могут применяться для обоснования возраста отложений, их корреляции, а также в качестве биостратиграфической основы могут быть использованы для уточнения региональной схемы Западной Сибири, включая и разработку зональности по брахиоподам. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-00561). Клец А.Г. Верхний палеозой окраинных морей Ангариды. – Новосибирск: Гео, 2005. – 240 с. Кучева Н.А. Распространение брахиопод в отложениях турне – нижнего визе юга Западной Сибири // Эволюция жизни на Земле: Материалы IV Междунар. симп. – Томск: ТМЛ-Пресс, 2010. – С. 270–272. Литвинович Н.В. Каменноугольные и пермские отложения западной части Центрального Казахстана // Материалы по геологии Центрального Казахстана. – М.: Изд-во МГУ, 1962. – 389 с. Литвинович Н.В., Аксенова Г.Г., Разина Т.П. Стратиграфия и литология отложений нижнего карбона западной части Центрального Казахстана. – М.: Недра, 1969. – 448 с. Мизенс Г.А., Кучева Н.А., Степанова Т.И. и др. Стратиграфия и условия образования девонских и каменноугольных отложений Тобол-Убаганского поднятия и Вагай-Ишимской впадины (юго-западная окраина Западной Сибири) // Литосфера. 2011. № 4. – С. 20–44. Наливкин Д.В. Брахиоподы турнейского яруса Урала. – Л.: Наука, 1979. – 248 с. Решение III Казахстанского стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою. Ч. 1. Докембрий и палеозой. – Алма-Ата: АН Каз. ССР, 1991. – С. 3–7; 110–135. Решения Межведомственного совещания по рассмотрению и принятию региональной стратиграфической схемы палеозойских образований Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 1999. – 80 с. Сарычева Т.Г., Сокольская А.Н., Безносова Г.А., Максимова С.В. Брахиоподы и палеогеография карбона Кузнецкой котловины // Труды ПИН АН СССР. Т. XCV. – М.: Изд-во АН СССР, 1963. – 548 c. Степанова Т.И., Кучева Н.А., Мизенс Г.А. и др. Стратиграфия палеозойского разреза, вскрытого параметрической скважиной Курган-Успенская-1 (юго-западная окраина Западной Сибири) // Литосфера. 2011. № 3. – С. 3–21. Фауна пограничных отложений девона и карбона Центрального Казахстана // Материалы по геологии Центрального Казахстана. – М.: Недра, 1975. Т. XVIII. – 142 с. Т.Б. Леонова К ВОПРОСУ О ГРАНИЦЕ РАННЕЙ И СРЕДНЕЙ ПЕРМИ Вопрос о положении границы между нижним и средним отделами перми остается дискуссионным на протяжении последнего десятка лет. Фиксация этой границы внутри формации Роуд Каньон по появлению вида конодонтов Jinogondolella nankingensis в стратотипе Международного стандарта в Техасе привнесла много путаницы в понимание этой проблемы. Игнорирование данных по другим важным стратиграфическим группам ископаемых, таким как аммоноидеи и фузулиниды, не дает возможности точно устанавливать этот уровень в различных областях земного шара. Как в США, так и в Тетической области наиболее значимые изменения в развитии этих двух групп отмечаются ниже уровня принятой границы, в основании формации Роуд Каньон (США) и в основании кубергандинской свиты (ЮВ Памир) соответственно (Левен, 2009; Леонова, 2011). Трассирование рассматриваемой границы в Тетической области по конодонтам пока также не дает положительных результатов, поскольку находки мелко- и тепловодных «зазубренных» гондонеллид, к которым относится Jinogondolella, очень редки, а положение находок в разрезах часто трактуется неоднозначно (Левен, Богословская, 2006). Все эти обстоятельства заставляют нас вернуться к использованию для корреляций в глобальном масштабе аммоноидей (таблица), а в Тетической области фузулинид как наиболее надежных реперов при расчленении и сопоставлении пограничных разрезов нижней и средней перми. Распространение основных групп ископаемых в стратотипических разрезах Гваделупия достаточно подробно рассмотрено в работе Л. Ламберта и др. (Lambert et al., 2000). Из приведенных списков аммоноидей и их изображений с очевидной ясностью следует, что кардинальная смена аммоноидной фауны происходит в основании формации Роуд Каньон, т. е. на 10–20 м ниже уровня утвержденной границы между отделами. Попытки разделить комплекс аммоноидей из формации Роуд Каньон на отдельные подкомплексы (Левен, Богословская, 2006) по- Материалы III Всероссийского совещания Сопоставление казанского яруса в разных регионах казали, что первый (нижняя треть Роуд Каньон) и второй (верхняя часть той же Регион Казанский ярус формации, относимая по конодонтам к США, Мексика Формации Road Canyon, Phosphoria, роудскому ярусу) подкомплексы пракPalo Quemado тически идентичны, незначительные Памир, Афганистан Кубергандинский ярус видовые отличия скорее связаны с биогеографическими и тафономическими Китай Формации Kufeng Hutang (Dongwuli Member), Shuang-Putang особенностями местонахождений. В Тетической области из пограничТимор Слои Тае-Веи ных отложений аммоноидеи известны Австралия Формация Кулкилия и ее аналоги из кубергандинской свиты Памира и Арктич. Канада Формации Assistance и Van Hauen кубергандинского яруса (нижней части Верхоянье Деленжинская свита и ее аналоги серии Чохан) Афганистана. Как покаНовая Земля Геркинская, Кочергинская свиты зали исследования, определения афВолго-Урал Казанский ярус ганских форм были сделаны не совсем корректно, и комплекс аммоноидей из верхней части кубергандинского яруса в разрезе Тезак не идентичен вордскому сообществу из слоев Созио о. Сицилия, а чрезвычайно близок к кубергандинскому комплексу Юго-Восточного Памира. Аммоноидеи из разрезов Куберганды (в основном из нижней части кубергандинской свиты) и Тезак (из верхней части кубергандинского яруса) представлены одними и теми же родами и идентичными или близкими видами (Paraceltites sp., Parapronorites kubergandensis Leonova, Propinacoceras sp., Eothinites sp., Agathiceras asiaticum Toumanskaya, Sosiocrimites sp., Stacheoceras sp., Neopopanoceras pamiricum (Toumanskaya), что говорит об их одновозрастности (Леонова, 2011). Дополнительным подтверждением служат находки одинаковых форм в нижней и верхней частях кубергандинского яруса в его стратотипе. Эти факты не позволяют проводить даже ярусную границу между нижней и верхней его частями и тем более нижний подъярус относить к нижней перми, а верхний к средней. Все аммоноидеи кубергандинского яруса имеют роудский возраст. В Южном Китае большая часть разрезов, содержащих аммоноидеи, относится к зоне замкнутых бассейнов со специфическими условиями осадконакопления. Найденные там формы являются узкими эндемиками и не представляют интереса для отдаленных корреляций. Только единичные китайские виды широко распространенных родов (Daubichites, Demarezites, Stacheo­ ceras) позволяют датировать эти разрезы роудским веком. В Северном Китае в отложениях формации Шуан-Путан найдено несколько видов Daubichites и Medlicottia (Му Линь, 2008). В высокоширотных областях определен свой специфический комплекс аммоноидей, известный из разрезов Арктической Канады, Северо-Востока России, Новой Земли и ВолгоУральского региона. Он представлен видами родов Daubichites, Sverdrupites, Anuites, Medlicottia, Biarmiceras, Neouddenites и Altudoceras, которые позволяют проводить достаточно надежные отдаленные корреляции (Леонова и др., 2002; Шиловский, Леонова, 2009; Leonova, 2007; 2011). В глобальном масштабе роудские отложения хорошо коррелируются по наличию в них представителей Daubichites – США, Арктическая Канада, Новая Земля, Верхоянье, Дальний Восток, Китай (Северный и Южный) и Австралия. Род Sverdrupites широко представлен в северных областях земного шара: Арктическая Канада, Новая Земля, Верхоянье, Волго-Уральский регион. Почти во всех этих районах найдены также Medlicottia postorbignyana и виды Biarmiceras. Присутствие Demarezites позволяет сопоставлять разрезы США, Мексики, Китая, Тимора, а Paraceltites известен из США, Мексики, Китая, Памира и Афганистана. Кроме указанных роудских родов-маркеров, многие формы из этих комплексов по уровню своего эволюционного развития хорошо сопоставляются друг с другом (виды родов Propinacoceras и Stacheoceras). В стратотипической местности средней перми в Техасе отложения с роудскими аммоно­ идеями залегают над формацией Cathedral Mountain, которая достаточно точно коррелируется с отложениями кунгурского яруса по конодонтам, фузулинидам и другим группам ископаемых. На Восточно-Европейской платформе, где расположен стратотип кунгурского яруса, граница между нижним и средним отделами перми не может быть определена и надежно обоснована по материалам аммоноидей, поскольку кунгурский комплекс стратотипической местности сильно обеднен. На сегодняшний день имеются данные лишь по нескольким находкам на Среднем Урале (Богословская, 1976) и из Башкирии у с. Мечетлино (Бойко, 2010). Более молодые отложения, охарактеризованные аммоноидеями (роудским комплексом), ранее были известны в прилегающих к Уралу областях (на Новой Земле), которые по сопутствующим им фораминиферам, двустворкам, брахиоподам, мшанкам и другим ископаемым были 127 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео128 сопоставлены с уфимским ярусом Русской платформы (Богословская и др., 1982). В связи с открытием комплекса аммоноидей в казанских отложениях Волго-Уральского региона казанский ярус теперь сопоставляется с роудским. Этот вывод подтверждается и находками конодонтов Kamagnathus khalimbadzhai, K. volgensis (Черных, 2003; Черных, Силантьев, 2004) в стратотипических разрезах казанского яруса. С некоторой долей условности можно говорить о том, что начало средней (Биармийской) перми на Восточно-Европейской платформе соответствует основанию казанского яруса. Более точное положение границы может быть определено при получении более полных данных. Комплексы аммоноидей могут служить надежным корреляционным репером для сопоставления пограничных отложений нижней и средней перми. Для более точного установления положения границы между отделами необходимо проводить дополнительные детальные исследования разрезов, перспективных для таких задач, т. е. сложенных непрерывными последовательностями пород в интервале от кунгура до роуда. Богословская М.Ф. Кунгурские аммоноидеи Среднего Предуралья // Палеонтол. журн. 1976. № 4. – С. 43–50. Богословская М.Ф., Устрицкий В.И., Черняк Г.Е. Пермские аммоноидеи Новой Земли // Палеонтол. журн. 1982. № 4. – С. 58–67. Бойко М.С. Аммоноидеи из пограничных отложений артинского и кунгурского ярусов разреза Мечетлино (Южный Урал) // Бюлл. МОИП. 2010. Отд. геол. Т. 85. Вып. 5. – С. 33–39. Левен Э.Я. Верхний карбон и пермь Западного Тетиса: фузулиниды, стратиграфия, биогеография. – М.: ГЕОС, 2009. – 237 с. Левен Э.Я., Богословская М.Ф. Роудский ярус перми и проблемы его глобальной корреляции // Стратиграфия. Геол. корреляция. 2006. Т. 14. № 2. – С. 67–78. Леонова Т.Б. Кубергандинский (среднепермский) комплекс аммоноидей Юго-Восточного Памира (Таджикистан) // Бюлл. МОИП. 2011. Отд. геол. Т. 86. № 3. – С. 21–31. Леонова Т.Б., Есаулова Н.К., Шиловский О.П. Первая находка казанских аммоноидей в Волго-Уральском регионе // Докл. РАН. 2002. Т. 383. № 4. – С. 509–511. Му Линь. Аммоноидная характеристика кунгурско–роудских отложений Китая // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2008. № 3. – С. 42–51. Черных В.В. Глобальная корреляция артинского и кунгурского ярусов по конодонтам // Литосфера. 2003. № 1. – С. 64–71. Черных В.В., Силантьев В.В. Конодонты казанского яруса среднего Поволжья // Докл. Всерос. сов. «Структура и статус Восточно-Европейской стратиграфической шкалы пермской системы, усовершенствование ярусного расчленения верхнего отдела пермской системы общей стратиграфической шкалы». – Казань: Каз. ГУ, 2004. – С. 83–86. Шиловский О.П., Леонова Т.Б. Первая находка среднепермских аммоноидей с территории Марий Эл // Современные проблемы изучения головоногих моллюсков. Морфология, систематика, эволюция, экология и биостратиграфия. – М.: ПИН РАН, 2009. – С. 96–98. Lambert L.L., Lehrmann D.J., Harris M.T. Correlation of the Road Canyon and Cutoff Formations, West Texas, and Its Revelance to Establishing an International Middle Permian (Guadalupian) Series in Guadalupian Symposium / B.R. Wardlow, R.E. Grant, D.M. Rohr (Eds). Smithsonian Inst. Press. Washington. 2000. – P. 153–183. Leonova T.B. Correlation of the Kazanian of the Volga-Urals with the Roadian of the global Permian scale // Paleoworld. 2007. Vol. 16. – P. 246–253. Leonova T.B. Permian Ammonoids: Biostratigraphy, Biogeography, and Ecology // Paleontol. J. 2011. Vol. 45. N 10. – P. 1206–1312. Э.В. Лукшевич, А.О. Иванов, И.А. Зупиньш КОМПЛЕКСЫ ДЕВОНСКИХ ПОЗВОНОЧНЫХ АНДОМСКОЙ ГОРЫ И КОРРЕЛЯЦИЯ С РАЗРЕЗАМИ ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ Полнота разреза отложений среднего и верхнего девона Главного поля (ГДП) закономерно уменьшается в направлении с запада на восток, однако на северо-востоке разрез на Андомской горе полнее, чем на окружающей территории восточной части поля. Андомская гора представляет собой уникальный геологический памятник, состоящий из серии обнажений девонских отложений и находящийся в Вытегорском районе Вологодской области, на юго-восточном берегу Онежского озера, к югу от устья р. Андома (рис. 1). В результате полевых работ в течение нескольких сезонов и на основании подробного седиментологического и палеонтологического анализа отложений этого разреза выделены три свиты, отличающиеся составом и содержащие комплексы разнообразных и многочисленных остатков позвоночных (Иванов и др., 2006). В основании разреза девонских отложений залегает павликовская свита, сложенная тонко- и мелкозернистыми кварцевыми песчаниками преимущественно коричневатых или темно-красных тонов, составляющими до трети общей мощности свиты, которые чередуются с редкими прослоями глинистых алевролитов. Большую часть разреза образуют плохосортированные породы смешанного песчано-глинистого состава со значительным содержанием слюды. В разрезе свиты преобладает горизонтальная и слабовыраженная косая слоистость. Плохая сортировка и неясная текстура осадочного материала указывают на высокую скорость осадконакопления. Остатки позвоночных редки, они обнаружены только на двух уровнях в верхней части свиты в обнажении на северном берегу. Среди них встречены немногочисленные, иногда окатанные пластинки и кости разнощитковых бесчелюстных, пластинокожих и лопастеперых рыб (рис. 2). Среди них наибольшее биостратиграфическое значение имеют находки таксонов Watsonosteus sp., Glyptolepis sp. и Laccognathus panderi (Gross). Подобный по составу комплекс позвоночных характеризует отложения буртниекского и гауйского возраста западной части ГДП. В западной части ГДП Watsonosteus найден в отложениях абавского уровня (верхняя часть буртниекского горизонта); виды рода Glyptolepis встречаются в широком интервале от арукюлаского горизонта до снетогорских слоев плявиньского горизонта; Laccognathus panderi известен из отложений гауйской и аматской свиты (Mark-Kurik, 2000; Esin et al., 2000). Таким образом, комплекс позвоночных из верхов павликовской свиты можно сопоставить с верхнеживетским интервалом плакодермных зон Watsonosteus – Asterolepis ornata западной части ГДП (Mark-Kurik, 2000). Павликовскую свиту несогласно перекрывают отложения андомской свиты, представленные толщей тонко- и мелкозернистых слабоцементированных песчаников и песков, которые доминируют в разрезе, составляя более 45% общей мощности свиты, чередующихся с тонкими слоями алевролитовых глин и алевролитов. В разрезе также представлены конгломераты, образованные песчаной матрицей, катышами глины вплоть до галечного размера и брекчии, содержащие большое количество фрагментированных остатков позвоночных (т. н. «рыбные брекчии»). Для песчаных пород характерны разнообразные текстуры: мульдообразная косая, мелкая рябь течения и волнения, причем в некоторых случаях слои с рябью течения весьма мощные. Для глинистых и алевритовых пород характерна горизонтальная слоистость. Окраска пород пестрая: наблюдаются светло-серые, желтоватые, розовые, красные, фиолетовые, голубые и желтовато-коричневые тона. Характерной чертой является биотурбация тонкозернистых песчаников, алевролитов и глин; сильно биотурбированные слои занимают вплоть до 20% общей мощности свиты. В отложениях андомской свиты встречены остатки лингулид, двустворчатых и брюхоногих моллюсков, позвоночных, высших растений, обильные следы жизнедеятельно- Материалы III Всероссийского совещания Рис. 1. Карта-схема Андомской горы с точками сборов фоссилий (по Иванову и др., 2006) – А. Схема структуры девонских отложений (по Lukevis et al., 2005, с изменениями) – Б 129 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео130 Рис. 2. Распространение таксонов ихтиофауны в разрезе Андомской горы; белые кружки – таксоны, определенные в открытой номенклатуре (cf.) сти беспозвоночных (Mikula et al, in press), а также многочисленные и разнообразные остатки позвоночных (рис. 2). Осадочные породы андомской свиты, по-видимому, образовались на приливно-отливной равнине, в зоне литорали и сублиторали, а условия надлиторали не были характерны. В эрозионных углублениях нижней части свиты отмечены скопления пластинок разнощитковых и пластинокожих, шипы акантод, кости лопастеперых и лучеперых рыб. Биостратиграфически важны находки представителей псаммостеид Psammolepis undulata Ag., Psammosteus maeandrinus Ag. и пластинокожих Plourdosteus sp., Asterolepis radiata Rohon, Bothriolepis obrutschewi Gross. Данный комплекс характерен для аматского горизонта Латвии, Эстонии, а также Псковской и Ленинградской областей России. Иванов А.О., Лукшевич Э.В., Стинкулис Г.В. и др. Стратиграфия девонских отложений Андомской горы // Проблемы геологии и минералогии. Сыктывкар, 2006. – С. 385–396. Esin D., Ginter M., Ivanov A. et al. Vertebrate correlation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous on the East European Platform // Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg. 2000. N 223. Р. 341–359. Lukevis E., Stinkulis ., Tovmasjana K., Zupi I. Andomas kalna (Krievija, Oegas ezera DA krasts) eoloisk uzbve // Latvijas Universittes 63 zintnisk konference. eogrfija. eoloija. Vides zintne. Refertu tzes. 2005. Rga: LU Akad. apgds. – Р. 130–132. Mark-Kurik E. The Middle Devonian fishes of the Baltic States (Estonia, Latvia) and Belarus // Cour. Forsch.Inst. Senckenberg. 2000. N 223. – Р. 309–324. Mikul R., Meis S., Ivanov A. et al. A rich ichnofossil assemblage from the Frasnian (Upper Devonian) deposits at Andoma Hill, Onega Lake, Russia // Bull. of Geosci., Czech Academy of Sci. 2012 (in press). Материалы III Всероссийского совещания В средней и верхней части андомской свиты комплекс позвоночных менее разнообразный, по составу он отличается от распространенного в нижней части свиты. Стратиграфически наиболее важны виды рода Bothriolepis (B. panderi Lahusen в средней части и B. cf. cellulosa (Pander) в самой кровле свиты). B. cellulosa характерен для нижней и средней частей плявиньского горизонта (нижнефранский подъярус позднего девона) Латвии, Эстонии и Псковской области, а B. panderi до сих пор был известен только из снетогорских слоев Ленинградской области. Судя по составу комплекса позвоночных, андомская свита соответствует двум зонам по ихтиофауне: Bothriolepis prima – B. obrutschewi и Bothriolepis cellulosa и сопоставляется с аматско-снетогорским интервалом ГДП. Климовская свита венчает разрез девонских отложений Андомской горы. Ее составляют в основном мелко- (преобладают) и среднезернистые слабоцементированные песчаники с прослоями грубозернистых песчаников и конгломератов, содержащих остатки позвоночных и катыши глин, переслаивающихся с более тонким песчаным материалом. Верхняя часть свиты более глинистая. Породы климовской свиты биотурбированы в меньшей степени, чем андомская свита. Для песчаных пород климовской свиты характерно чередование мульдообразной и продольно-косой слоистости, а также флазерная и линзовидная слоистость; имеются многочисленные знаки приливно-отливных течений. Окраска пород в основном розоватая, желтоватая и красно-серая. Комплекс остатков позвоночных в нижней части климовской свиты наиболее разнообразен (рис. 2); в его состав входит зональный вид Bothriolepis cellulosa, что позволяет сопоставить эту часть разреза с отложениями плявиньского горизонта западной части ГДП. Помимо позвоночных, в нижней части свиты встречены остатки древесины археоптерисовых, а также ядра и раковины двустворчатых и брюхоногих моллюсков. Средняя и верхняя части климовской свиты палеонтологически пока слабо охарактеризованы, свита содержит комплекс немногочисленных остатков позвоночных обычно плохой сохранности. Особый интерес для стратиграфии представляют данные о присутствии в верхней части разреза Psammosteus falcatus Obruchev. Верхняя часть свиты, возможно, отвечает дубниковскодаугавскому интервалу западной части ГДП, однако не исключено, что самая верхняя часть сопоставима со снежским-памушским интервалом. Работа выполнялась при поддержке темплана фундаментальных НИР СПбГУ 3.0.93.2010. Т.М. Мавринская, Р.Р. Якупов БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАБИУЛЛИНСКОЙ СВИТЫ (ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА) На западном склоне Южного Урала представительные разрезы ордовика расположены в Западно-Зилаирской структурно-фациальной зоне и принадлежат к шельфовым фациям пассивной окраины Восточно-Европейской платформы. Ордовикские отложения выделены в тирляно-кагинскую толщу в составе нижнего подразделения набиуллинской свиты. Ее стратиграфический объем определен как карадокский – ашгиллский ярусы верхнего ордовика. Верхняя толща набиуллинской свиты южнобайназаровская, соответствует нижнему-среднему лландовери нижнего силура (Якупов и др., 2002). Набиуллинская свита залегает с угловым несогласием на разных горизонтах рифейских осадочных образований. Наиболее полно набиуллинская свита представлена в стратотипическом разрезе на правом скальном берегу р. Белая напротив д. Набиуллино. Мощность свиты 35–40 м. Разрез послойно 131 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео132 изучен с отбором конодонтов в 1989 и 1997 гг. в связи с задачами крупно- и среднемасштабного геологического доизучения. С принятием в России в качестве Общей стратиграфической шкалы (ОСШ) ордовикской системы Международной стратиграфической шкалы (МСШ) в 2011 г. мы начали ревизионные работы с дополнительным изучением стратотипа набиуллинской свиты. Cогласно принятой ОСШ, в верхнем ордовике выделяются следующие ярусы: сандбийский (карадокский – нижняя часть ашгиллского ярусов ОСШ, 2005), катийский (средний ашгиллий) и хирнантский (верхний ашгиллий). Стратотипический разрез набиуллинской свиты у д. Набиуллино обнажен в антиклинальной складке и представлен разрозненными выходами песчанистых доломитов, образующих последовательность вверх по склону. Непосредственный контакт с подстилающими сланцами байназаровской свиты рифея повсеместно задернован. Проведено опробование ряда обнажений. Вес образцов 0,3–0,5 кг. Самый ближний выход низов тирляно-кагинской толщи вскрыт в нижней части склона в 1 м от кровли рифейских сланцев. Мощность выхода 5 м. Наиболее представительные комплексы конодонтов встречены на нескольких стратиграфических уровнях. Из доломитов в видимом основании обнажения выделено 60 экземпляров конодонтов удовлетворительной сохранности, представленных Eoplacognathus sp. (~20 %), Panderodus gracilis (Branson and Mehl) (~25 %), Periodon aff. grandis Ethington (переходные формы от P. aculeatus Hadding к P. grandis Ethington) (~21%), Protopanderodus insculptus (Branson et Mehl) (~20 %), и мелкие единичные обломки элементов Amorphognathus sp. и Prioniodus sp. Возраст комплекса по присутствию в нем многочисленных элементов Eoplacognathus sp. и переходных форм Periodon aff. grandis можно определить как сандбийский век позднего ордовика. В 0,3 м от основания найдено 30 экземпляров плохой и удовлетворительной сохранности, среди которых определены Amorphognathus sp. (~25 %), Dapsilodus sp. (~10 %), Drepanoistodus sp., Icriodella superba Rhodes (~2 %), Panderodus gracilis (Branson and Mehl) (~30 %), Protopanderodus insculptus (Branson et Mehl) (~20 %), Spinodus cf. spinatus Hadding (~3 %), Walliserodus sp. (~10 %). На основании наличия в комплексе видов Icriodella superba и Spinodus cf. spinatus возраст комплекса, вероятно, соответствует сандбийскому веку – началу катийского. В инт. 2,5–4 м выше основания в нескольких пробах обнаружены обильные конодонты до 120 экземпляров в каждой пробе, представленные Amorphognathus cf. ordovicicus (Branson et Mehl) (~50 %), Protopanderodus insculptus (Branson et Mehl) (25 %), Panderodus gracilis (Branson et Mehl) (~15 %), редкими Walliserodus sp. (~5 %) и Scabardella cf. altipes (Hennings) (~5 %). Присутствие зонального вида одноименной зоны A. ordovicicus свидетельствует о катийском возрасте комплекса. Аналогичный комплекс встречен еще в двух выходах, вскрытых выше по склону. В верхней части склона выходят среднеплитчатые темно-серые алевритистые доломиты, которые сменяются желтовато-серыми песчанистыми доломитами с прослоями, содержащими фауну кораллов и линзы оолитовых доломитизированных известняков. В темно-серых алевритистых доломитах обнаружены немногочисленные элементы (20 экземпляров) видов Amorphognathus cf. ordovicicus (Branson et Mehl), Hamarodus sp., Panderodus gracilis (Branson et Mehl), Protopanderodus insculptus (Branson et Mehl) (20 %), Scabardella cf. altipes (Hennings), Walliserodus cf. amplisimus (Serpagli) (25 %), характерные для верхней части катийского яруса. В 1,3 м выше в желтовато-серых песчанистых доломитах выявлены конодонты (60 экземпляров) Aphelognathus sp. (~25 %), Ozarkodina cf. sesquipedalis Nowlan et McCracken (~12 %), Ozarkodina sp. (~8 %), Gamachignathus sp. (~5 %), Panderodus gracilis (Branson et Mehl) (~15 %), Drepanoistodus cf. suberectus (Branson et Mehl) (~15 %), Protopanderodus insculptus (Branson et Mehl) (~16 %), Walliserodus sp. (~4 %). Обнаружение в комплексе нескольких элементов рода Gamachignathus, преимущественное распространение которого отмечается в хирнантском ярусе, а также мелководный характер выявленной ассоциации, позволяют предположить хирнантский возраст вмещающих отложений. Эти отложения перекрыты темно-серыми тонкоплитчатыми доломитами с прослоями углисто-глинистых сланцев, содержащих граптолитовую фауну рудданского-аэронского ярусов лландоверийской серии нижнего силура. Они принадлежат к верхней (южнобайназаровской) толще набиуллинской свиты. Граница ордовика/силура в стратотипическом разрезе у д. Набиуллино находится в литологически однородной карбонатно-терригенной толще и определяется по первому появлению тонких углистых прослоев с граптолитами лландовери (Якупов и др., 2002). Другой разрез набиуллинской свиты в стратотипической местности расположен выше по р. Белая у д. Кургашлы. Слагающие ее отложения вскрыты в антиклинальной складке. Разрез Материалы III Всероссийского совещания восточного крыла изучен ранее (Якупов и др., 2002). Первые сведения о конодонтах из разреза западного крыла складки, собранные на двух уровнях в средней части обнажения, опубликованы Т.Ю. Толмачевой (2011). В 2011 г. нами изучен этот разрез с детальным отбором проб на конодонты. Разрез находится у западной окраины д. Кургашлы. Он осложнен пликативными и разрывными нарушениями. Общая мощность слагающих его отложений составляет 24 м. По всей видимости, здесь обнажена только нижняя тирляно-кагинская толща, верхняя южнобайназаровская толща нижнего силура «срезана» тектоникой. Непосредственный контакт тирляно-кагинской толщи с докембрийскими сланцами задернован. В инт. 2 м наблюдаются крупные глыбы и высыпки массивных кварцевых песчаников. Выше по разрезу коренной выход кварцевых песчаников мощностью 0,2 м. Песчаники фаунистически не охарактеризованы. Выше после 6 м задернованного интервала хорошо вскрыта непрерывная последовательность, представленная чередованием доломитистых песчаников и песчанистых доломитов. В ней наблюдаются прослои (0,05–0,4 м) с колониями гидроидной фауны. Комплексы конодонтов, встреченные во всех доломитовых слоях, аналогичны комплексам, выделенным из отложений, соответствующих интервалу катийского яруса в разрезе у д. Набиуллино. В целом конодонтовые ассоциации, выявленные в тирляно-кагинской толще набиуллинской свиты стратотипической местности, характерны преимущественно для глубоководной шельфовой биофации «Северо-Атлантической провинции». Доминируют виды Amorphognathus ordovicicus и Protopanderodus insculptus. И только в низах и в верхней части тирляно-кагинской толщи набиуллинской свиты обнаруженные комплексы конодонтов имеют иные систематические составы. Нижний комплекс представлен смешанной фауной. В нем, наряду с таксонами «Северо-Атлантической провинции», присутствует вид Periodon aff. grandis, характерный для более глубоководной биофации «области открытого моря» (Zhen Yong-Yi, Percival I.G., 2003). Комплекс, встреченный в верхах тирляно-кагинской толщи, представлен видами родов Aphelognathus, Gamachignathus, Ozarkodina – типичными представителями мелководной шельфовой биофации «Мидконтинентальной провинции». Отмеченные изменения таксономического состава конодонтов по разрезу могут быть следствием трансгрессивно-регрессивных режимов в шельфовой зоне Южно-Уральского палеобассейна в позднеордовикское время. Одной из вероятных причин появления биофации открытого моря с Periodon aff. grandis на рубеже катийского и сандбийского веков мог быть очень узкий шельф, что облегчало проникновение их во время трансгрессии из батиальной зоны. В конодонтовой ассоциации, обнаруженной в верхних слоях тирляно-кагинской толщи, отмечается количественное уменьшение большинства видов, характерных для «Северо-Атлантической провинции», вплоть до исчезновения. Начинают преобладать таксоны мелководной «Мидконтинентальной провинции». Биофациальные изменения происходят параллельно с изменениями обстановок осадконакопления: появление органогенных микропостроек и линз оолитовых известняков свидетельствует о сильном обмелении бассейна в конце ордовикского периода. Максимальное падение уровня моря в хирнантское время и фаунистические изменения, заключающиеся в вымирании большинства характерных верхнеордовикских таксонов, отмечаются в разных регионах мира (Kaljo еt al., 2008; Zhang, Barnes, 2002). Разрез у д. Набиуллино имеет хорошие перспективы для детального расчленения верхнеордовикских отложений западного склона Южного Урала и увязки установленных биостратиграфических подразделений и их границ с МСШ. Толмачева Т.Ю., Рязанцев А.В., Белова А.А. Конодонты позднего ордовика Южного Урала и их значение для палеогеографии // Палеострат-2011. Годичное собрание секции палеонтологии МОИП и Московского отделения палеонтологического общества: Программа и тезисы докладов (Москва, 24–26 января 2011 г.). – М.: Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, 2011. – C. 67–69. Якупов Р.Р., Мавринская Т.М., Абрамова А.Н. Палеонтологическое обоснование схемы стратиграфии северной части Зилаирского синклинория. – Екатеринбург: ИГиГ УрО РАН, 2002. – 160 с. Kaljo D., Hints L., M nnik P., N lvak J. The succession of Hirnantian events based on data from Baltica: brachiopods, сhitinozoans, conodonts and carbon isotopes // Estonian J. of Earth Sci. 2008. 57. 4. – P. 197–218. Zhang S., Barnes C.R. Late Ordovician-Early Silurian (Ashgillian-Llandovery) sea level curve derived from conodont community analysis, Anticosti Island, Quebec // PРР. 2002. 180. – P. 5–32. Zhen Yong-Yi, Percival I.G. Ordovician conodont biogeography – reconsidered // Lethaia. 2003. Vol. 36. – P. 357–370. 133 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия А.А. Мадисон 134 ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И МИКРОСТРУКТУРЫ ПЕРВЫХ СТРОФОМЕНИД ИЗ ОРДОВИКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ордовикские отложения Ленинградской области содержат первые достоверно известные представители отряда Strophomenida (Plectella Lamansky из флоского яруса, биллингенского горизонта), а также более поздние строфомениды хорошей сохранности, что позволяет изучить ранние стадии развития, микроструктуру и морфологические особенности первых представителей группы, а также попытаться установить основные эволюционные тренды в истории развития отряда. В некоторых случаях оказываются возможными попытки реконструкции мягкого тела животного, что достаточно важно, так как строфомениды являются представителями полностью вымершего класса брахиопод Strophomenata и не имеют аналогов в современной фауне. Первым представителем класса Strophomenata является отряд Billingsellida, появившийся в среднем кембрии и состоящий из двух подотрядов: малочисленного подотряда Billingsellidina, существовавшего до аренига с ламинарным вторичным слоем раковины, и более многочисленного ордовикского подотряда Clitambonitidina с фиброзным вторичным слоем. Предполагается, что строфомениды произошли от биллингселидин, так как имеют сходную микроструктуру и апикальный форамен. Из всех биллингселидин микроструктура исследована только для Billingsella lindstr mi (Linnarsson), у которой первичный слой толщиной 10 мкм образован мелкими призмами шириной около 1 мкм. Вторичный слой ламинарный, пластины которого сложены из параллельных пластинок (Williams, 1970). У всех представителей отряда Billingsellida в задней части раковины имеется только одно отверстие – апикальный форамен, служивший для выхода ножки. Способ его образования известен только для клитамбонитидин (у биллингселид не изучен). Первичносформированная раковина форамена не имеет; ее ширина на брюшной и спинной створках одинакова: 200–300 мкм, сложена она микрогранулярным слоем. Следовательно, у личинки имелись хорошо развитые дорсальная и вентральная лопасти мантии. В процессе роста у ювенильной раковины от краев дельтирия начинают расти навстречу друг другу дельтидиальные пластинки. Они срастаются, дельтирий оказывается закрытым за исключением его верхней части, в которой или остается простое округлое отверстие, или же сросшиеся пластинки образуют трубочку, которая могла полностью запечатывать ножку (Мадисон, 2004). Изучение ранних стадий развития строфоменид позволило установить, что образование их апикального форамена происходит иным способом и связано с личиночными стадиями развития. Первичносформированная раковина хорошо выражена в рельефе только на брюшной створке и имеет размеры около 250 мкм (рисунок, фиг. 1–3), тогда как на спинной створке первичносформированная раковина практически не выражена. Следовательно, личинка строфоменид имела только хорошо развитую вентральную лопасть мантии, дорсальная же лопасть формировалась, по-видимому, уже после осаждения личинки на субстрат. Более того, апикальный форамен строфоменид не является производным дельтидиальных структур, как у клитамбонитид, так как он расположен в средней части вентральной створки первичносформированной раковины и, следовательно, отражает особенности строения личинки. Таким образом, ювенильные строфомениды имели два отверстия в задней части раковины: небольшой дельтирий с нототирием, еще не прикрытыми полностью замочным отростком (хилидиальные пластинки обычно слабо развиты), и апикальный форамен. Считается, что ножка выходила именно через апикальный форамен, а затем атрофировалась, и происходило замыкание форамена (например, Williams, 2007). Однако при такой интерпретации остается неясной функция дельтирия и нотитирия. Представляется сомнительным, что именно форамен служил для прохода ножки. Обычно диаметр форамена составляет около 15–25 мкм (фиг. 1в), тогда как ножка у современных брахиопод состоит из кутикулы, эпителия и соединительной ткани, что суммарно превосходит объем апикального форамена строфоменид. Кроме того, в онтогенезе современных брахиопод ножка не привязана к вентральному лепестку мантии, а закладывается между створками посередине спинной стороны. Более вероятно предположение, что ножка у строфоменид выходила сзади между створками, как это известно для ринхонеллят, а апикальный форамен служил для Материалы III Всероссийского совещания Фиг. 1. Strophomenida gen. et sp. indet., № 4921/397: 1а – общий вид; 1б – первичносформированная раковина; 1в – апикальный форамен; Ленинградская обл., Путилово, Геккеров горб, нижняя линза; волховский горизонт. Фиг. 2. Strophomenida gen. et sp. indet., № 4921/369, макушка брюшной створки, вид сзади; Псковская обл., Мишина Гора; ухакуский горизонт. Фиг. 3. Lynnica fragilis Madison, № 4921/530, макушка брюшной створки, вид сзади; Ленинградская обл., р. Лынна; кундаский горизонт. Фиг. 4. Biseptata briani ���������������������������������������������������������������������������������� Madison��������������������������������������������������������������������������� , № 4921/557, первичный микрогранулярный и вторичный фиброзный слои; Ленинградская обл., р. Лынна; кундаский горизонт. Фиг. 5. Plectella uncinata (Pander), № 4921/634: 5а – пластины ламинарного слоя; 5б – псевдопора; Ленинградская обл., Бабино; отвалы латорпского горизонта. Фиг. 6. Bilobia musca (Opik), № 4921/635, первичный микропризматический слой; Ленинградская обл., Клясино; идавереский горизонт выхода анальной папиллы. Тогда традиционное название этой структуры «ножная трубочка» оказывается неверным. Таким образом, пищеварительная система строфоменид была незамкнутой и имела анальное отверстие, которое часто было окружено трубочкой. Подобные структуры известны для некоторых кембрийских гастропод. У современных брахиопод диаметр пеллет 5–10 мкм, что вполне соответствует диаметру трубочки. У некоторых более поздних строфоменид апикальный форамен отсутствует, у них, по-видимому, пищеварительная система становилась замкнутой. Тем не менее, наличие анального отверстия служит коренным морфологическим отли- 135 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео136 чием строфоменид от биллингселид и ставит под вопрос возможность происхождения отряда Strophomenida от Billingsellidina. Также установлено, что ранне- и среднеордовикиские строфомениды имели вторичный слой раковины двух типов: ламеллярный (установлено для Plectella uncinata (Pander), латорпский горизонт, семейство Plectambonitidae; фиг. 5) и фиброзный (Biseptata briani Madison, волховский горизонт, семейство Sowerbyellidae; фиг. 4). Оба типа скорее всего изначально характеризовали отряд Strophomenida, без вторичного образования фиброзного слоя в процессе эволюции группы, как это предполагалось ранее. Можно предполагать, что семейства произошли практически одновременно и сильно отличались внутренним строением спинной створки и типом микроструктуры. Первичный слой обнаружен у B. briani, у которой он микрогранулярный, кроме того, у Bilobia musca (pik) удалось обнаружить микропризматический первичный слой (фиг. 6), напоминающий таковой у B. lindstrmi. Различия в морфологии и микроструктуре первых строфоменид, вероятно, отражают архаическое многообразие в развитии группы, а не являются признаком полифилетического происхождения. В свете новых данных о строении мягкого тела и микроструктуре раковины вопрос о происхождении отряда Strophomenida нуждается в дальнейших детальных исследованиях и не может считаться решенным. Мадисон А.А. Дельтидиальные образования у среднеордовикских клитамбонитид (Clitambonitidina, Brachiopoda) и их роль в прикреплении брахиопод к субстрату // Палеонтологический журнал. 2004. № 6. – С. 59–65. Williams A. Origin of the laminar-shell articulate brachiopods // Lethaia. 1970. Vol. 3. – P. 329–342. Williams A. Evolution of the pedicle // Treatise on Invertebrate Paleontology. Vol. 6. Pt. H. Lawrence: Univ. Kansas Press, 2007. – P. 2842–2850. С.Н. Макаренко, С.А. Родыгин, Н.И. Савина ПРОБЛЕМЫ СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ ПЛИТЫ На территории центральной части Западной Сибири отложения верхнего девона объединены в лугинецкий горизонт, объединяющий по латерали отложения лугинецкой и чагинской свит. Стратотип лугинецкой свиты установлен по разрезу скв. Лугинецкая 170, в инт. 3134,0– 2487,0 м и представлен «сливными» известняками кремовыми, серыми, тёмно-серыми (в нижней части), массивными, глобоидными, водорослево-фораминиферовыми, иногда с прослоями аргиллитов и туфолав базальтового состава (Решения..., 1999). Согласно перекрывает герасимовскую свиту. Кровля свиты в стратотипе не прослежена, мощность около 650 м, по разрезам может достигать 1500 м. Подразделяется на две подсвиты. Лугинецкая свита широко распространена в Нюрольской впадине, разные части её разреза пройдены при бурении скважин по всей Западно-Сибирской плите. Отложения свиты привлекают внимание как нефтепоисковый объект. В пределах Арчинско-Урманского участка нефтегазопроявления породы свиты являются хорошими, но крайне неоднородными коллекторами. Связь коллекторских свойств с литологическим составом пород давно установлена. Крайне важно выяснить особенности условий осадконакопления во время формирования лугинецкой свиты, но для их реконструкции необходимо детальное стратиграфическое расчленение карбонатной толщи. При макро- и даже микроизучении пород лугинецкой свиты сложно идентифицировать, какая часть разреза свиты пройдена конкретной скважиной, настолько бывает невыразителен литологический состав и бедна фаунистическая характеристика свиты. Нижняя подсвита представлена в нижней части тёмно-серыми известковистыми, иногда битуминозными аргиллитами и мергелями, а в верхней части известняками серыми, тёмно-серыми, глобоидными. В основании подсвиты залегает «тентакулитовая» пачка, отражая событие раннефранской трансгрессии, выраженной отложениями доманикоидного типа. Палеонтологически охарактеризованные отложения нижней подсвиты пройдены скважинами Арчинская 41, 43; Калиновая 13, 15, 20; Нижне-Табаганская 6, 18; Урманская 11. По литологическим особенностям и времени образования данный стратиграфический уровень (верхняя falsiovalis – jamieae) можно сопоставить с уровнем тиманской, усть-ярегской и доманиковой свит Восточно-Европейской платформы и Западного Урала. Материалы III Всероссийского совещания Верхняя подсвита сложена достаточно однообразными «сливными» известняками кремовосерыми, илисто-зернистыми, оолитово-сгустковыми с прослоями туфолав базальтового состава. Литологически она подразделяется на две части. Нижняя (франская) часть верхней подсвиты характеризуется присутствием в породах остатков ископаемой макрофауны – субцилиндрических строматопороидей – «амфипор» и прослежена в разрезах скважин Южно-Тамбаевская 77; Нижне-Табаганская 6, 14, 17; Калиновая 13 (верхняя часть), Северо-Калиновая 21 (призабойная часть). Верхняя (фаменская) часть подсвиты фациально более однородная, и фрагменты разреза этой подсвиты диагностируются с трудом. Отчётливых реперов нет, расчленение и корреляция проводятся только на основе биостратиграфии по микрофауне. Отложения подсвиты были выведены на доюрскую поверхность и частично эродированы. Поэтому взаимоотношения девонских и каменноугольных отложений не до конца выяснены. Отложения верхней подсвиты прослежены в разрезах многих скважин: Квартовая 5; Северо-Сильгинская 25; Малоичская 8; Новоникольская 1; Нижне-Табаганская 1, 4, 17, 20; Северо-Тамбаевская 1, 2; Западно-Ключевская 66; Черталинская 3; Южно-Колтогорская 1; Речная 281 и особенно Урманских 1–7, 9, 10, 22, 761, 763 и Арчинских 45, 51, 1191, 1193. Ещё сложнее провести корреляцию разрезов чагинской свиты, биостратиграфия в данном случае – единственная возможность установить время формирования специфических карбонатно-кремнистых отложений и проследить стратиграфические уровни. Стратотип чагинской свиты установлен в разрезе скв. Калиновая 13 (3480–2875 м, фран – фамен) (Решения..., 1999). Распространена свита не широко. Изучение стратотипа показало неоднозначность в понимании объемов чагинской и подстилающей её чузикской свит. В стратотипе чагинскую свиту в инт. 3480–3200 м (нижняя подсвита) слагают черные, чёрно-коричневые, тёмно-серые кремнистые тентакулитовые известняки и аргиллиты. Отмечено увеличение вверх по разрезу кремнистости, появление радиолярий. Тентакулиты франа определены из инт. 3417–3340 м. Кремни, радиоляриты, чередующиеся с кремнеаргиллитами, кремнеизвестняками, окремненными аргиллитами объединены в верхнюю подсвиту (инт. 3200– 2875 м). Отмечены редкие прослойки органогенно-детритовых известняков с фораминиферами верхнего девона (гл. 3179,1 м). В остальной части разреза свиты определимые органические остатки не обнаружены. В верхней части разреза присутствует слой с крупными радиоляриями, прослеженный в отложениях фаменского яруса на Северо-Калиновой площади (скв. 21). Граница свиты с каменноугольными отложениями отсутствует, отложения эродированы. Чагинская свита охарактеризована конодонтами только в скв. Сельвейкинская 1. Граница чагинской свиты с подстилающей её чузикской свитой в стратотипе требует пересмотра (Макаренко и др., 2011). В Решениях… (1999) граница между свитами проведена на гл. 3480 м, о чём свидетельствует состав комплексов тентакулитов и конодонтов, но объём свит был изменен: чузикская – эйфель – живет, чагинская – фран – фамен. Комплексы тентакулитов и конодонтов из верхней подсвиты чузикской свиты помещены в нижнюю подсвиту чагинской свиты. Анализ комплексов организмов указывает на то, что граница между чузикской и чагинской свитами проведена внутри тентакулитовой пачки. В скв. Калиновая 15 комплекс конодонтов, по систематическому составу близкий к комплексу скв. Калиновая 13, определяет живетско-франский возраст чузикской свиты. В скв. 14 возраст чузикской свиты по конодонтам соответствует эйфелю – живету. В скв. 16 палеонтологически охарактеризована только чузикская свита, возраст которой по фораминиферам, тентакулитам и конодонтам живет – фран. Исходя из имеющихся данных, возраст чагинской свиты может быть только фаменским. Необходимо пересмотреть взаимоотношения чузикской и чагинской свит по другим скважинам, уточнить их палеонтологическую характеристику и внести соответствующие изменения в региональную стратиграфическую схему. Для уточнения стратиграфии лугинецкой свиты и усовершенствования региональной стратиграфической схемы палеозойских образований Западно-Сибирской равнины проводились работы по некоторым скважинам Арчинской и Урманской площадей. Верхняя часть разреза Арчинской скв. 41 в инт. 3100,0–3036,0 м и отложения в разрезе скв. 43. инт. 3053–3073 м отнесены к местной зоне Tikhinella multiformis – Tikhinella fringa и охарактеризованы комплексом фораминифер, несущим черты франского облика. Зона могла быть прослежена и в разрезе скв. Урманская 11, но на данном участке палеоморя в девоне шельфовые мелководные фации замещались тентакулитовыми бассейновыми, поэтому фораминиферы в отложениях не встречены. Комплекс местной зоны Eonodosaria evlanensis – Multiseptida corralina изучен в разрезах скважин Арчинская 45, 1191 и 1193. Отложения зоны Septaglomospiranella nana прослежены только в скв. Урманская 6, где определен следующий комплекс фораминифер: Archaesphaera 137 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- crassa Lip., Parathurammina dagmarae Sul., Cribrosphaeroides simplex Reitl., Septaglomospiranella nana Reitl. Верхняя часть фаменского яруса, сопоставляемая со слоями Этрен Бельгии, ранее входила в состав каменноугольной системы и являлась её базальными слоями, по фораминиферам это зона Quasiendothyra kobeitusana. По находкам видов фораминифер Endothyra ex gr. latispiralis, E. cf. prisca, Glomospira sp. можно предположить наличие в скв. Урманская 6 в самых верхах разреза зоны Quasiendothyra kobeitusana, венчающей разрез девонских отложений Международной стратиграфической шкалы. Слои с Famenella kairovaensis в скв. Нижне-Табаганской 14 установлены в светло-серых глобоидных известняках (инт. 3129,5–3139,0 м, лугинецкая свита), где выявлен комплекс остракод Rozhdestvenskajites sp., Healdianella punctata Posner, Orthocypris aff. exemplaris Rozhd., Microcheilinella sp., Bairdia usatschovae Egorov, Famenella kairovaensis Rozhd., F. aff. angulata Rozhd., Parabairdiacypris? sp., Acratia sp., A.? sp., Bairdiacypris sp., Baschkirina sp. Комплекс характеризует среднюю часть лугинецкой свиты (верхняя часть франского яруса). В скв. Арчинская 1193 в обр. 5 (№ 27649), инт. 3131,86–3133,56 м (к.к.) определены Parabolbinella aff. vomis Beсker et Bless, Parabolbinella sp., Clavofabellina sp., Pibylites (Parapibylites)? sp., Coeloenellina aff. parva Pol., Evlanella sp., Knoxiella beiskiensis Pol., Cavellina aff. lovatica Zasp., Healdianella sp., Bairdiohealdites sp., Orthocypris parilis Rozhd., Microcheilinella sp., Miraculum (?) sp., Bairdia sp., Bairdia aff. actuaria Rozhd., Bairdiocypris aff. accuratus Pol., Famenella kairovaensis Rozhd. Сохранность остракод плохая не только в отложениях скв. Арчинская 1193. Как показал опыт многолетних исследований, отложения среднего и верхнего девона, сложенные «чистыми» и перекристаллизованными известняками, часто охарактеризованы остракодами. Это видно при просмотре шлифов. Но выделить их из породы, что необходимо для определения систематической принадлежности остракод, очень трудно. И все-таки характер комплекса остракод с некоторой долей условности позволяет отнести вмещающие отложения к слоям с Famenella kairovaensis. Слои со строматопороидеями Novitella tchussovensis (франская часть верхнелугинецкой подсвиты) в пределах Арчинской площади прослежены в скважинах 45, 1191, 1193, а также предположительно в скв. Урманская 7. В отложениях разрезов скважин встречены Novitella tchussovensis (Yav.), Stellopora laxeperforata Lec., S. rudis Lec. Строматопороидеи являются породообразующими. Фаменская часть лугинецкой свиты не содержит строматопороидей. В пределах Арчинско-Урманской площади в скв. Арчинская 51 (инт. 3129,5–3137,5 м) определён следующий комплекс конодонтов: Ancyrodella cf. curvata (Branson et Mehl), Euprioniodina sp., Nothognathella sp., Ligonodina sp. (фран – низы фамена, зоны falsiovalis – Lower triangularis). В скважинах Арчинская 1193, обр. 5 (27649), инт. 3131,86–3133,56 м (к.к.) и Урманская 5, обр. 6 (7494), инт. 3195,4–3209,6 м (0,8 н.к.) обнаружены конодонты вида Mehlina gradata Youngquist, известного из франских и фаменских отложений верхнего девона. Макаренко С.Н., Савина Н.И., Родыгин С.А. Корреляция разрезов среднего и верхнего девона центральной части Западной Сибири // Биостратиграфия, палеогеография и события в девоне и нижнем карбоне (Международная подкомиссия по стратиграфии девона / Проект 596 МПГК). – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2011. – С. 93–95. Решения Межведомственного совещания по рассмотрению и принятию региональной стратиграфической схемы палеозойских образований Западно-Сибирской равнины / Под ред. В.И. Краснова. – Новосибирск, 1999. – 80 с. Е.Н. Малышева СФИНКТОЗОА ВЕРХНЕЙ ПЕРМИ ЮЖНОГО ПРИМОРЬЯ 138 В Южном Приморье широко распространены карбонатные отложения, которые датируются позднепермским возрастом в основном по аммоноидеям, мшанкам, фораминиферам, кораллам и брахиоподам. Также в органогенных постройках (горы Сестра, Брат, Находкинский риф, Екатериновский массив и т. д.) встречается обилие сфинктозоа, которые местами образуют отчетливо видимые колонии. Они изучались в свое время Г.В. Беляевой (Беляева, 1987). В связи с тем, что сфинктозоа имеют большое значение для статиграфии, палеоэкологии и палеогеографии, автор продолжает изучение этой интересной группы организмов из местонахождений Южного Приморья по собственным сборам и коллекциям Г.В. Беляевой. Сфинктозоа – прикрепленные бентосные организмы, чутко реагирующие на изменения условий окружающей среды, индикаторы палеогеoграфических, палеоэкологических и палеотектонических условий. В настоящее время нет единого мнения об общем положении сфинктозоа в царстве животных. Первоначально они рассматривались как мшанки, кишечнополостные, наутилоидеи. Большинство ученых их относили к классу известковых губок, другие рассматривали их родство с археоциатами (Defrance, 1828). По мнению Г.В. Беляевой, сфинктозоа – это группа вымерших организмов, относимых к низшим многоклеточным, занимающих среднее звено между губками и археоциатами и имеющих общие с ними признаки (Бойко и др., 1991). Автор склоняется к мнению Г.В. Беляевой о выделении сфинктозоа как самостоятельной группы организмов. Первые находки данных организмов обнаружены в начале XIX в. на территории Франции (Defrance, 1828), а в 1882 г. Г. Штейнманн впервые предложил название «Sphinctozoa» для этой группы организмов (Steinmann, 1882). Затем с конца ХIХ и на протяжении всего ХХ в. последовали многочисленные открытия местонахождений сфинктозоа из отложений от кембрия до неогена на всех континентах, исключая Антарктиду. Их изучением занимались многие зарубежные исследователи. Среди них были А. Зейлахер (Seilacher, 1962) и Э. Отт (Ott, 1967), разработавшие достаточно полную систематику сфинктозоа, которая легла в основу и совершенствовалась последующими исследователями. Большой вклад в изучение этой группы организмов во второй половине ХХ в. внесли работы Ригби (Rigby, 1971), Сеновбари-Дарьяна (Senowbari-Daryan, 1978), китайских (Fan Jiasong и Zhang Wei, 1985) и японских ученых (Hayasaka, 1918). C 1984 по 2000 г. Г.В. Беляева изучала сфинктозоа Юго-Восточного Китая (Беляева, 2000). Материалы III Всероссийского совещания Рис. 1. Схема местонахождений в Южном Приморье 1 – гора Сенькина Шапка, 2 – Екатериновский массив, 3 – гора Брат, 4 – гора Сестра, 5 – Находкинский карьер, 6 – мыс Средний, 7 – гора Безымянная 139 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео140 Рис. 2 Фиг. 1 – Intrasporeocoelia orientalis Belyaeva, 1991 (увеличение 4.2); фиг. 2 – Amblysiphonella yuni Zhang, 1985 (увеличение 3.5); фиг. 3 – Amblysiphonella vesiculosa (Konink) Waagen, Wentzel, 1887 (увеличение 0.6) На территории СССР первые сведения о сфинктозоа появились только в 1939 г. (Моисеев, 1939). На Дальнем Востоке сфинктозоа были найдены в Дальнегорском и Партизанском районах (Беляева, 1987). C 1984 по 2000 г. Г.В. Беляева изучала сфинктозоа в окрестностях г. Находка (Беляева, 1987). В Южном Приморье сфинктозоа встречаются в биогермно-биостромовых постройках совместно с криноидеями, кораллами, водорослями, где отмечается преобладание последних, а роль сфинктозоа была подчиненной (Бойко и др., 1991). В фациях рифа, установленных в небольшом количестве на горах Брат, Сестра, Находкинский массив и горе Безымянная, сфинктозоа встречаются совместно с криноидеями, водорослями, кораллами и играют роль каркасостроителей. Среди них преобладают виды рода Amblysiphonella Steinmann, 1882; Lichuanospongia Zhang, 1983; Cystothalamia Girty, 1908; Colospongia Laube, 1864; Intrasporeocoelia Fan et Zhang, 1985. Также присутствуют асифонатные формы Follicatena callosa Belyaeva, 1991; Apocoelia orientalis Belyaeva, 1991; Colospongia nachodkiensis Belyaeva, 1987 (Бойко и др., 1991). Особый интерес представляет местонахождение позднепермских сфинктозоа вблизи г. Находка с уникальными по своей сохранности видами и многочисленному систематическому составу (рис. 1). Сфинктозоа этого местонахождения изучались Г.В. Беляевой (результаты ее исследований вошли в монографию «Сфинктозоа фанерозоя территории СССР»), но желательно их дальнейшее дополнительное изучение в свете новых данных. Рифогенные массивы разрабатываются карьерами, и интересное явление природы исчезает. В связи с этим геологи обязаны зафиксировать геологическое строение массивов, собрать и изучить палеонтологические и литологические коллекции. Срезание массивов серией карьеров позволяет собрать новый материал и дополнить палеонтологическое, структурное и литологическое описание рифогенных построек. Автором была собрана коллекция сфинктозоа из новых местонахождений (гора Верблюд, карьер горы Безымянная, Екатериновский массив). Изучение сфинктозоа позволяет внести определенные коррективы для восстановления физико-географических условий. Учитывая избирательность сфинктозоа к условиям окружающей среды и значительное морфологическое разнообразие, открываются новые возможности использования этой группы организмов для расчленения и корреляции рифогенных образований. В приложении приведены некоторые виды сфинктозоа, найденные автором в свежевскрытом карьере горы Безымянная в окрестностях г. Находка (рис. 2). Автор выражает благодарность Г.В. Беляевой за любезно предоставленные коллекции сфинктозоа. Беляева Г.В. Некоторые позднепермские сфинктозоа юга Приморья // Проблемы биостратиграфии перми и триаса востока СССР. – Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1987. – С. 49–53. Беляева Г.В. Новые таксоны сфинктозоа из пермских рифов Юго-Восточного Китая // Палеонтологический журнал. 2000. № 2. – С. 41–46. В.Н. Манцурова К ВОПРОСУ О НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ ФРАНСКОГО ЯРУСА НА РУССКОЙ ПЛИТЕ ПО ПАЛИНОЛОГИЧЕСКИМ ДАННЫМ В Международной стратиграфической шкале (МСШ) нижняя граница франского яруса проходит внутри нижней подзоны зоны Mesotaxis falsiovalis, что соответствует положению внутри подзоны Lowermost asymmetricus и фактически совпадает с первым появлением конодонтов рода Ancyrodella. На Русской плите данная граница традиционно проводилась значительно ниже, в основании пашийского горизонта, т. е. в начале нового трансгрессивно-регрессивного цикла, фиксируемого поверхностью крупного несогласия. В соответствии с МСШ, этот уровень соответствует нижней границе верхнего подъяруса живетского яруса, принятого SDS (2007). В связи с фациальными особенностями пород конодонты редко встречаются в пограничных отложениях живетского и франского ярусов, тем не менее на Русской плите выявлена конодонтовая последовательность (Архангельская, Овнатанова, 1986; Кузьмин, 1995; Овнатанова, Кононова, 1999; Пазухин и др., 2006 и др.), хотя не все уровни границ имеют точную привязку. В Волгоградском Поволжье конодонты из пограничных отложений не изучались, поэтому возможны только косвенные корреляции с конодонтовой шкалой. Особую роль для корреляций приобретают споры и пыльца растений, позволяющие сопоставлять одновозрастные разнофациальные отложения. Первая попытка сопоставления конодонтовых и споровых зон франского яруса предпринята ранее (Архангельская, Овнатанова, 1986). На изучаемой территории традиционная граница живетского и франского ярусов соответствует границе муллинского и пашийского горизонтов, состав их палинокомплексов свидетельствует о том, что изменения, фиксируемые на этом рубеже, незначительны (рисунок). Появление новых элементов отмечается преимущественно на видовом уровне. Появившиеся еще в живетский век представители археоптерисовой флоры (отдел Archaeopteridophyta), продуцировавшие споры рода Geminospora (зона G. extensa), продолжают свое развитие и во франском веке. Ранее этот факт отмечался многими палинологами (Филимонова, 1958; Архангельская, 1962 и др.). На этом основании А.Е. Филимонова и А.Д. Архангельская предлагали отнести верхнюю пачку муллинского горизонта (выше т.н. «черного известняка» в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции) к франскому ярусу. Зона Geminospora extensa. Подзона Cristatisporites triangulatus-Coristisporites serratus, в соответствии с региональной палиностратиграфической схемой (Avkhimovich et al., 1993) характеризует муллинский горизонт (0–108 м), сложенный аргиллитами с редкими прослоями алевролитов, песчаников, мергелей и известняков. Встречены брахиоподы Eoreticularia pseudopachyrincha, E. aviceps, Lingula cf. miciformis и остракоды Healdianella distincta, Orthocypris subparallelus. (Здесь и ниже определения брахиопод В.И. Шевченко, остракод – М.А. Нечае­ вой). В полных разрезах горизонта удается выделить три комплекса спор. Обобщенный палинокомплекс выделяется в составе видов Cymbosporites magnificus, Cingulatisporites cassiformis, Материалы III Всероссийского совещания Бойко Э.В., Беляева Г.В., Журавлева И.Т. Сфинктозоа фанерозоя территории СССР. – М., 1991. Моисеев А.С. Новые данные о верхнем триасе Северного Кавказа и Крымской АССР // ДАН СССР. Новая серия. 1939. Т. 23. № 8. – С. 816–818. Defrance J.L.M. Art Verticillite // Dictionaire des sciences naturelles. 1828. Vol. 58. – P. 5. Fan Jiasong, Zhang Wei. Sphinctozoans from Late Permian Reefs of Lichuan, China // Facies. 1985. Bd. 13. – Р. 1–44. Hayasaka I. Amblysiphonella from Japan and China // Sci. rep. Univ. Sendai. 1918. Vol. 5. – Р. 1–10. Ott E. Segmentierte kalkschwmme (Sphinctozoa) aus der Alpinen Mitteltrias und ihre Bedeutung als Riffbilder im Wettersteinkalk // Abh. Bayer. Akad. Wiss., math. – naturwiss. Kl., N. F., Mnchen. 1967. Vol. 131. – Р. 96. Rigby J.K. Sponges and reef and related facies through time // Symp. North Amer. Pal. Conv, Lawrence, 1971. Pt. J. – P. 1374–1388. Seilacher A. Die Sphinctozoa, eine Gruppe fossiler kalkschwmme // Abh. Akad. Wiss. Lit., math.-naturwiss. Mainz, 1962. Kl., 1961/10. – Р. 720–790. Senowbari-Daryan B. Neue Sphinctozoen (seqmentierte Kalkschwmme aus den «oberrhaetischen» Riffkalken der nordlichen Kalkalpen (Hintersee-Salzburg) // Senckenberg lethaea. 1978. Bd. 59. N 4/6. – Р. 205–227. Steinmann G. Pharetronen-Studien // N. Jb. Miner. Geol. Paleont. Stuttgart, 1882. Vol. 2. – Р. 139–191. 141 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео142 Распространение основных таксонов спор в пограничных отложениях живетского и франского ярусов Geminospora tuberculata, G. micromanifesta, G. rugosa, Azonomonoletes costatus, Cingulatisporites cassiformis var. clarus, Cristatisporites triangulatus, Coristisporites serratus и др. (рисунок). Виды C. cassiformis и C. cassiformis var. clarus встречены только в муллинском горизонте (рисунок). Аналогичный комплекс миоспор прослежен в муллинском горизонте центральных и восточных районов Русской плиты (Раскатова, 1969; Раскатова М.Г., 1990; Умнова, 1995; Чибрикова, 1977 и др.), а также в морочских слоях полоцкого горизонта Беларуси (Obukhovskaya, 2000). Зона Contagisporites optivus – Calyptosporites krestovnikovii. Подзона Ancyrospora incisa – Geminospora micromanifesta, в соответствии с региональной палиностратиграфической схемой (Avkhimovich et al., 1993), характеризует пашийский горизонт и нижнюю часть тиманского горизонта (арчединские слои). В полных разрезах удается выделить с учетом количественного подсчета два или три палинокомплекса, сопоставляемые со слоями (подгоризонтами). Пашийский горизонт (0–280 м) залегает трансгрессивно на аргиллитах муллинского горизонта. Горизонт сложен двумя алевролитово-песчаными пачками и разделяющей их алевритовоглинистой пачкой (электрорепер Rp–D3p). Встречены редкие фаунистические остатки Lingula cf. kinelensis, L. cf. samarica, Cavellina aff. devoniana Eg. В пашийском горизонте выделяются Материалы III Всероссийского совещания нижне- и верхнепашийские слои (подгоризонты). Из аргиллитов установлен палинокомплекс в составе видов Geminospora micromanifesta, Ancyrospora incisa, Cristatisporites triangulatus, Geminospora notata, G. rugosa, Contagisporites optivus, Calyptosporites krestovnikovii, Archaeozonotriletes variabilis, Aneurospora greggsii, A. heterodonta, Archaeozonotriletes timanicus, Perotrilites spinosus (рисунок). Как в нижнепашийских, так и в верхнепашийских слоях доминирует G. micromanifesta, а все представители рода Geminospora в сумме составляют в палиноспектрах до 50–55 %, что свидетельствует о господстве археоптеридофитов в составе палеофлоры. В нижнепашийских слоях Волгоградской области А.Л. Юрина (1984) определила отпечатки папоротников Archaeopteris tatarica Tschirk. и Sphaenopteridium aff. keilhani Nath. Тиманский горизонт (0–256 м) представлен аргиллитами с прослоями алевролитов и известняков (в нижней части разреза). В составе тиманского горизонта выделяются (снизу вверх) арчединские и кикинские слои. Арчединские слои сложены известняками (электрорепер Rp–D3arch) и мергелями с прослоями аргиллитов. Определены брахиоподы Uchtospirifer nalivkini, Schizophoria kremsi, Atrypa cf. groscheimi, остракоды Cavellina devoniana и пашийско-тиманский комплекс миоспор подзоны incisa – micromanifesta. Споры Cymbosporites magnificus и Perotrilites spinosus заканчивают свое существование в этой подзоне (рисунок). Доминирует, как правило, Calyptosporites krestovnikovii, что свидетельствует о возрастании роли плауновидных растений (отдел Lycopodiophyta) на фоне господства представителей археоптеридофитов в палеофлоре. Принадлежность дисперсных спор krestovnikovii к плауновидным растениям по строению ультраструктуры спородермы установлена (Тельнова, 2007). Комплекс миоспор подзоны incisa – micromanifesta прослежен в отложениях ястребовского и нижней (большей) части щигровского горизонтов центральных районов Русской плиты (Раскатова, 1969; Раскатова М.Г., 1990; Умнова, 1995 и др.), пашийского и нижней части кыновского горизонтов восточных районов Русской плиты (Чибрикова, 1977; Раскатова М.Г., 1990, и др.), а также в нижней части ланского горизонта Беларуси (Obukhovskaya, 2000). Кикинские слои (0–163 м) сложены аргиллитами с подчиненными прослоями алевролитов, песчаников и известняков с брахиоподами Uchtospirifer timanicus, U. glincanus, Schizophoria uchtensis и спорами подзоны Acanthotriletes bucerus – Archaeozonotriletes variabilis insignis (Avkhimovich et al., 1993). Палинокомплекс представлен видами Archaeozonotriletes variabilis, Calyptosporites krestovnikovii, Geminospora micromanifesta, G. rugosa, G. compacta, G. basilara, G. notata, Acanthotriletes bucerus, Archaeozonotriletes variabilis var. insignis, Calyptosporites bellus, Auroraspora macromanifesta (рисунок). В палиноспектрах, как правило, абсолютно доминирует Archaeozonotriletes variabilis. Отмечается первое появление вида Calyptosporites bellus. Аналогичный комплекс миоспор прослежен в отложениях верхнещигровского горизонта центральных районов Русской плиты (Раскатова, 1969; Раскатова М.Г., 1990; Умнова, 1995, и др.), верхней части кыновского и саргаевском горизонтах восточных районов Русской плиты (Чибрикова, 1977; Раскатова М.Г., 1990 и др.), в тиманском и саргаевском горизонтах ТиманоПечорской провинции (Медяник, 1981; Раскатова М.Г., 1990; Тельнова, 2007), в верхней части ланского и саргаевском горизонтах Беларуси (Obukhovskaya, 2000). Как указывалось выше, в связи с редкостью находок конодонтов родов Mesotaxis и Ancyrodella в пограничных отложениях живетского и франского ярусов, точный уровень нижней границы франского яруса в разрезах Русской плиты пока не установлен, поэтому разными исследователями граница проводится на разных уровнях. В настоящее время в новых публикациях существуют четыре уровня проведения границы между живетским и франским ярусами (по разным группам органических остатков). Большинство исследователей полагает, что наиболее близким к международной границе является ее положение внутри тиманского горизонта (Кузьмин, 1995; Овнатанова, Кононова, 1999; Пазухин и др., 2006; Тельнова, 2007; Манцурова, 2008 и др.). Ряд специалистов проводит границу в подошве тиманского горизонта (Мельникова и др., 2004). Некоторые исследователи (Цыганко, 2009 и др.) считают, что граница должна проходить в основании саргаевского горизонта. По палинологическим данным, наиболее близким по положению к международной границе живетского и франского ярусов, вероятно, является уровень в основании региональной споровой подзоны Acanthotriletes bucerus – Archaezonotriletes variabilis insignis (Раскатова, 1990; Манцурова, 2008 и др.), что соответствует основанию кикинских слоев тиманского горизонта. В Тимано-Печорской провинции граница проводится тоже внутри тиманского горизонта, но выше по разрезу, в подошве зоны Densosporites sorokini (Тельнова, 2007). По-прежнему в основании пашийского горизонта проводит нижнюю границу франского яруса по миоспорам Е.В. Чибрикова (2008). 143 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Уточнение положения нижней границы франского ярусов на Русской плите возможно только на основе сопоставления региональных стратонов с ярусами МСШ, поэтому возрастает значение комплексных работ по увязке зон и слоев, выделенных по разным группам органических остатков с конодонтовой шкалой. 144 Архангельская А.Д. Новый комплекс спор и вопрос о границе среднего и верхнего девона ВолгоУральского региона // ДАН СССР. 1962. Т. 142. № 4. – С. 891–892. Архангельская А.Д., Овнатанова Н.С. Сопоставление зональных подразделений по конодонтам и спорам в отложениях франского яруса Волго-Уральской нефтегазоносной провинции // Изв. АН СССР. Серия геол. 1986. № 8. – С. 61–67. Кузьмин А.В. Нижняя граница франского яруса на Русской платформе / Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1995. Т. 3. – С. 111–120. Манцурова В.Н. Биостратиграфия живетских отложений Волгоградского Поволжья по миоспорам // Палинология: стратиграфия и геоэкология: Материалы XII Всерос. палинолог. конф. Т. III. – СПб.: ВНИГРИ, 2008. – С. 52–59. Медяник С.И. Палинологическая характеристика франских отложений Тимано-Печорской провинции / Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. – М.: МГУ, 1981. – 26 с. Мельникова Л.И., Юдина Ю.А., Москаленко М.Н., Попова Е.В. Новые данные по тиманскому горизонту (D3f1) Тимано-Печорского субрегиона // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XIV геол. съезда Республики Коми. – Сыктывкар: Геопринт, 2004. Т. IV. – С. 265–268. Овнатанова Н.С., Кононова Л.И. Мелководные франские комплексы конодонтов центральных районов Русской платформы // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1999. Т. 74. Вып. 1. – С. 56–67. Пазухин В.Н., Масагутов Р.Х., Федорченко В.А., Крылова Е.А. Тиманский горизонт верхнего девона Башкирского Приуралья // Литологические аспекты геологии слоистых сред: Материалы VII Уральского регионального литолог. совещания. – Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2006. – С. 201–203. Раскатова Л.Г. Спорово-пыльцевые комплексы среднего и верхнего девона юго-восточной части Центрального Девонского Поля. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1969. – 168 с. Раскатова М.Г. Палинокомплексы пограничных живетских и франских отложений Центрального Девонского Поля и Тимана // Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. – М.: МГУ, 1990. – 19 с. Тельнова О.П. Миоспоры из средне-верхнедевонских отложений Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. – Екатеринбург: УрО РАН, 2007. – 135 с. Умнова В.Т. Миоспоры // Девон Воронежской антеклизы и Московской синеклизы. – М., 1995. – С. 158–180. Филимонова А.Б. Комплексы спор пограничных слоев среднего и верхнего девона Волго-Уральской области // ДАН СССР. 1958. Т. 119. № 5. – С. 1006–1008. Цыганко В.С. Цикл событийных явлений на рубеже среднего и верхнего отделов девона // Докл. РАН. 2009. Т. 428. 4. – С. 505–507. Чибрикова Е.В. Стратиграфия девонских и более древних палеозойских отложений Южного Урала и Приуралья. – М.: Наука, 1977. – 192 с. Чибрикова Е.В. Палиностратиграфические рубежи в девоне // Био- и литостратиграфические рубежи в истории Земли: Труды Междунар. науч. конф. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – С. 195–201. Avkhimovich V.I., Tchibrikova E.V., Obukhovskaya T.G. et al. Middle and Upper Devonian miospore zonation of Eastern Europe / Bul. Centres Rech. Explor. Prod. Elf Aquitaine. Vol. 17. N 1. Boussens, June, 24. 1993. – P. 79–147. Obukhovskaya T.G. Miospores of the Givetian-Frasnian boundary deposits in Belarus // Acta Palaeobot., 2000. 40 (1). – P. 17–23. В.А Матвеев СТРОМАТОЛИТОВЫЕ ПОСТРОЙКИ ПОДНЯТИЯ ЧЕРНОВА И ЗАПАДНОГО СКЛОНА ПРИПОЛЯРНОГО УРАЛА Во время полевых работ летом 2010 и 2011 гг. на поднятии Чернова и западном склоне Приполярного Урала были отобраны образцы силурийских строматолитов из отложений лландовери, венлока и лудлова. Более разнообразны и многочисленны строматолитовые колонии в разрезах р. Падимейтывис, руч. Безымянный и р. Кожим. При установленном большом разнообразии силурийских строматолитов до настоящего времени мало известно об их строении и образовании, характере изменения построек во времени. Известно, что наибольшее развитие строматолиты получили в Тимано-Североуральском морском бассейне в филиппъельское время (средний лландовери), венлоке и в позднем лудлове. Биопродуктивность строматолитовых Ярус Фации Местонахождение Лудлов Форма колоний Падимейтывиский Верхнеприливная зона Колонковидныс Куполовидные Среднеприливная зона Венлок Горизонт Сферические Шаровидно-столбчатые Лепешковидные Войвывский Пластовые Караваевидные Шельфовая лагуна с ограниченным воодобменом Бассейн р. Падимейтывис руч. Безымянный, обн. 2 (поднятие Чернова) Лоданюрский Не изучены Филиппъельский Лепешковидные Куполовидные Мелководный шельф (тиховодные условия) Бассейн р. Кожим, обн. 109 (зап. склон Приполярного Урала) Куполовидные (нарушенной сохранности) Мелководный шельф (интенсивная гидродинамика) Лландовери Силур Система Сравнительная характеристика основных форм строматолитовых колоний Материалы III Всероссийского совещания с­ ообществ оказывала отрицательное влияние на развитие и существование всего силурийского бентоса (Безносова, 2008). Цель данного исследования – изучение силурийских строматолитовых построек их морфологии, стратиграфической и фациальной приуроченности. Строматолитовые постройки на поднятии Чернова изучались Г.А. Черновым, который отмечал их еще при первых геологических работах в 1941 г. на левых притоках р. Коратаиха: Падимейтывис и Таръю. Своеобразная поверхность пластов тогда была принята за рябь, описанную У.Х. Твенховелом в 1936 г. При вторичном исследовании силурийских отложений в 1961 г. Г.А. Черновым было обращено особое внимание на характерную поверхность пластов известняков, которые оказались строматолитами (Чернов, 1966). Изученный интервал разреза войвывского горизонта венлока по руч. Безымянному (обн. 2) мощностью 22,4 м заключает разнообразные по форме и размерам колонии строматолитов. Этот интервал сложен чередованием известняков тонкослойчатых, плитчатых, мергелей со строматолитами, с прослоями известняков с трещинами усыхания осадка, прослоев с остатками раковин остракод, гастропод, а также мелкими гальками, что свидетельствует о том, что отложения этого интервала формировались в крайне мелководных условиях седиментации (шельфовой лагуны, с периодическим поступлением терригенного материала) (таблица). В известняках и мергелях, подстилающих и перекрывающих слои с колониями строматолитов, заключено обилие разнообразных раковин мелких остракод, а также гастропод, брахиопод и их фрагментов. Венлокский возраст интервала определен по находкам брахиопод Spirinella nordensis, которые содержатся в его подстилающих и перекрывающих отложениях (Безносова, 2008). Разнообразные по форме колонии строматолитов в прослоях известняков и мергелей прослеживаются в разрезе Безымянный-2 на четырех уровнях. Установлены следующие основные морфотипы строматолитовых построек: караваевидные, куполовидные и пластовые. В прослоях известняков заключены более крупные строматолитовые постройки с хорошо выраженным куполом. В прослоях мергелей строматолиты представлены преимущественно небольшими по мощности пластовыми формами (Матвеев, 2011б). Лудловские строматолитовые сообщества в бассейне р. Падимейтывис распространяются почти по всему разрезу. Интервал разреза падимейтывиского горизонта лудлова по р. Падимейтывис (обн. 1) мощностью 180 м представлен чередующимися известняками глинистыми и доломитами, которые заключают остракоды, детрит трилобитов и брахиопод с известняками со строматолитами. Лудловский возраст этого интервала определен по находкам брахиопод Greenfieldia uberis (Безносова, 2008). Это интервал разреза, заключающий строматолиты, пропитан битумом, что Бассейн р. Падимейтывис, обн. 1 (поднятие Чернова) 145 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео146 затрудняет изучение микроструктуры (Чернов, 1966). Строматолиты представлены крупными колонковидными формами с сильнобугристой «мозговидной» поверхностью, которая, вероятно, образовалась в результате кратковременных осушений. Поэтому можно предположить, что образование строматолитов происходило в фациях мелководного морского бассейна верхнеприливной зоны. Ниже по разрезу строматолиты имеют сферические, шаровидно-столбчатые постройки с волнистой поверхностью. Возможно, образование таких построек строматолитов происходило в фациях мелководного морского бассейна среднеприливной зоны (таблица). Проведенные исследования показали существенные различия условий среды обитания и формирования строматолитовых построек в венлоке и лудлове. Так, в разрезе руч. Безымянный колонии строматолитов приурочены к фациям шельфовой лагуны с ограниченным водообменом, а в разрезе р. Падимейтывис – к фациям верхнеприливной зоны и среднеприливной зоны. Лудловские строматолиты характеризуются более массивными и разнообразными по форме колониями, чем венлокские строматолиты. Разнообразие форм и размеров колоний в лудлове свидетельствуют о более благоприятных условиях для развития строматолитов в это время, чем в венлоке. Силурийские отложения, вскрывающиеся в бассейне р. Кожим, заключают разнообразные строматолитовые постройки, детальное изучение морфологии и микроструктуры которых на западном склоне Приполярного Урала проводятся впервые. Изученный разрез Кожим-109 заключает пять интервалов с 29 слоями со строматолитовыми постройками. Этот интервал относится к филиппъельской свите нижнего силура. Свита характеризуется широким распространением строматолитовых доломитов, которые чередуются с тонкослойчатыми доломитами и массивными прослоями детритовых доломитов. Филиппъельский возраст этого интервала определяется по конодонтам: Galerodus magalius Melnikov, Rexroadus cf. kentuckyensis (Branson and Branson), Ozarkodina waugoolaensis Bischoff (Мельников, 1999). Строматолитовые постройки имеют разнообразные по морфологии типы колоний. Так нижние интервалы разреза заключают слегка выпуклые, лепешковидные строматолитовые колонии. Диаметр некоторых колоний достигает 1 м и высоту 18 см. Выше по разрезу наблюдаются строматолитовые колонии с четкой слоистостью, которые имеют куполовидную форму диаметром до 68 см и высотой до 23 см. Внутри колоний межколонковое пространство заполнено темным доломитом. Также наблюдаются строматолитовые колонии куполовидной формы с чередованием светлых и более тонких темных прослоев доломита и волнистой поверхностью постройки. В верхней части разреза строматолитовые колонии соединяются между собой равномерными небольшими по размеру куполами. Строматолиты здесь заключены в темно-серых доломитах с диаметром колонии около 6 см и высотой 7–8 см. Купола их разделены равномерными межколонковыми пространствами шириной в 1 см. В этом интервале колонии строматолитов с четкой слоистостью. Пространства между колониями заполнены терригенным материалом, состоящим из мелких и крупных галек и фрагментов колоний строматолитов. Всё это свидетельствует о том, что слои, подстилающие и перекрывающие колонии строматолитов, формировались в условиях мелководного морского бассейна с интенсивной гидродинамикой (таблица) (Матвеев, 2011а). Таким образом, в бассейне р. Кожим выделены следующие основные морфотипы строматолитовых колоний: пластовые, лепешковидные и куполовидные колонии, которые в свою очередь делятся на два морфологических подтипа: первый с сильно выпуклым куполом, второй с низкой формой купола. В филиппъельском горизонте основным морфотипом является куполовидный. Хорошая сохранность и симметричная форма колоний без видимых механических нарушений служат свидетельством формирования строматолитов преимущественно в тиховодных условиях мелководного морского бассейна (таблица). Взаимосвязь условий обитания строматолитов в Тимано-Североуральском морском бассейне, их морфологическое разнообразие и таксономический состав является дальнейшей задачей исследований. Безносова Т.М. Сообщества брахиопод и биостратиграфия верхнего ордовика, силура и нижнего девона северо-восточной окраины палеоконтинента Балтия. – Екатеринбург: Уро РАН, 2008. – С. 168–174. Матвеев В. А. Стратиграфическая приуроченность строматолитов в верхнем ордовике – нижнем силуре и их основные морфотипы (Западный склон Приполярного Урала) // Структура, вещество, история литосферы Тимано-Североуральского сегмента: Материалы 20-й науч. конф. – Сыктывкар: Геопринт, 2011а. – С. 112–115. Матвеев В. А. Строматолитовые постройки венлока поднятия Чернова: основные морфотипы, микроструктура // Вестник ИГ Коми НЦ. 2011б. № 11. – С. 2–5. Мельников С.В. Конодонты ордовика и силура Тимано-Североуральского региона. – СПб.: Изд-во СПб КФ ВСЕГЕИ, 1999. – 136 с. Чернов Г.А. Силурийские строматолиты поднятия Чернова (Большеземельская тундра) // Стратиграфия и палеонтология северо-востока Европейской части СССР. – М.–Л., Наука, 1966. – С. 90–105. В.П. Матвеев История открытия и изучения каменноугольных отложений на Новой Земле заслуживает отдельного изложения. Первые данные об их присутствии на архипелаге появились около 150 лет назад, предположение о наличии осадков башкирского века было высказано только в середине XX в. (Романович, 1970), а подтверждение получено в результате работ по о. Южный (Соловьёва, 1969; Дедок, 1982, 1984) и о. Северный (Матвеев, 1998). Затруднения с выделением башкирского яруса – следствие комплекса причин, основными из которых являются структурно-фациальная зональность (СФЗ) в геологическом строении территории архипелага; изменение условий осадконакопления в бассейне, особенности его палеогеографии и недостаточная биостратиграфическая изученность. СФЗ каменноугольных отложений на архипелаге установлена во второй половине XX в. (Романович, 1970), она существенно уточнена по результатам геологосъёмочных работ (Матвеев, 1997; Соболев, Матвеев, 2002; Новая Земля, 2004). Была определена троговая форма глубоководного бассейна, окружённого (по Солонцу) блоками карбонатных платформ, отвечающим соответственно Южноновоземельской, Баренцевской и Североновоземельской СФЗ. Глубоководная часть бассейна относится к Карской СФЗ. «Восточный блок», ограничивающий впадину в карбоне, по-видимому, находился на месте современного Карского моря, что устанавливается по характеру сноса обломочного материала. Особенности осадконакопления и палеорельефа территории частично отражены в работах автора (Матвеев, 2000б, 2007, 2009). Сложное строение палеоландшафта предопределило разделение СФЗ на подзоны. Для о. Северный их выделяется по две на карбонатных платформах и три в глубоководной части бассейна (две склоновые и ось (?) трога). На сегодня биостратиграфическая изученность отложений отражена в региональной стратиграфической схеме Урала, но при этом здесь отсутствует характеристика некоторых местных подразделений из Северной СФЗ, относящихся к башкирскому ярусу. В рассматриваемом интервале наиболее интересным является уровень границы нижнего и среднего карбона. В местной стратиграфической схеме он совпадает с нижней границей капризнинского горизонта (Матвеев и др., 1994). Стратотипом горизонта является одноимённая свита, описанная автором на п-ове Литке в Северной СФЗ по р. Капризная, правому притоку р. Настоящая. Нижняя граница капризнинского горизонта резкая. Она прослеживается на всей площади распространения каменноугольных отложений и отразилась в перестройке состава основных фаунистических групп, а в Карской СФЗ – и в смене карбонатных отложений на кремнистоглинистые. Положение границы определяется как появлением новых родов и видов фауны среднего карбона, так и вымиранием форм, доминировавших в визейском и серпуховском веках. Среди альгофлоры вымерли Calcifolium, Fasciella, Frustulata, широко распространились Donezella. У фораминифер практически исчезли семейства Forschiidae, Loeblichiidae, Bradyinidae, значительно сократилось число родов и видов у семейств Endothyridae, Eostaffellidae, Archaediscidae, Lasiodiscidae, а ведующая роль переходит к фузулинидам. Отмечается быстрое развитие у эоштаффеллид плектоштаффелл. Наряду с ними появляются первые Semistaffella, разнообразнее становятся Asteroarchaediscus, Millerella, возрастает роль рода Neoarchaediscus. Среди кораллов происходит практически полная смена родов. Немного выше границы известны последние Dibunophyllum и, возможно, Palaeosmilia, а преобладают Heintzella, найдены и редкие Fomichevella. Среди брахиопод (комплекс V; Матвеев, 2000б) заметны изменения в отрядах Chonetida, Productida, Spiriferida – вымирают руководящие для визейского и серпуховского ярусов рода и виды. У гониатитов появляются виды, известные в генозоне Homoceras – Hudsonoceras. По конодонтам граница проводится по появлению рода Declinognathodus. Материалы III Всероссийского совещания СТРАТИГРАФИЯ БАШКИРСКОГО ЯРУСА острова СЕВЕРНЫЙ АРХИПЕЛАГА НОВАЯ ЗЕМЛЯ 147 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео148 В целом для горизонта характерны водоросли родов Donezella, Dvinella, Beresella, Epistachioides, Dasycladacea, Antracoporellopsis. Среди фораминифер в карбонатных фациях преобладают, кроме названных, Eostaffella и Pseudostaffella, а в его верхней части – Ozavainella и Profusulinella. В карбонатно-глинистых породах доминируют разнообразные нео- и архедискусы, палеотекстулярии и глобивальвулины. Среди кораллов чаще встречаются колониальные Fomichevella, Lytvophyllum, Petalaxis, Heintzella, Cystolonsdaleia, реже отмечаются одиночные Pseudokoninckophyllum, Pseudoamigdalaephyllum (Kossovaya, 1996, 1998). Значительно обедневшая ассоциация брахиопод с основания горизонта представлена типично среднекаменноугольными родами Reticulatia, Parachoristites, а выше – Choristites (?) и Purdonella. Однако присутствуют и серпуховские Productus, Eomarginifera, Antiquatonia и др. Среди гониатитов распространен род Glaphyrites, но известны и редкие Kardailites, Proshumardites, Quinites, Schartymites, Bisatoceras в нижней части горизонта и Pseudobisatoceras, Pseudopronorites, Diaboloceras – в верхней (Кузина, Яцков, 1999). Среди конодонтов доминирует род Declinognathodus, с редкими Gnathodus, Idiognathoides, Idiognathodus (Sobolev, Nakrem, 1996). Стратиграфический объем горизонта по комплексу органических остатков отвечает башкирскому ярусу. Его мощность – 30–700 м. Горизонт на большей части площади каменноугольных отложений в районе о. Северный разделяется на два подгоризонта. Лишь в Карской СФЗ редкая фауна и довольно однообразный литологический состав пород не позволяют разделить его, и верхняя граница его зафиксирована условно. Нижнекапризнинский подгоризонт прослеживается в разнофациальных отложениях на большей части площади о. Северный. Здесь он расчленён на слои с фауной: 1) Eostaffella postmosquensis – Plectostaffella bogdanovkensis, Declinognathodus noduliferus; 2) Pseudostaffella antiqua – Semistaffella variabilis; 3) Semistaffella primitiva – Staffellaeformis staffellaeformis. Слои с Eostaffella postmosquensis – Plectostaffella bogdanovkensis, Declinognathodus noduliferus. Нижняя граница проводится по появлению последнего из указанных вида-индекса и широкому распространению остальных. Слои выделяются в основании лавровской свиты и сосновской толщи в Баренцевской и прослеживаются в восточной части Карской СФЗ в основании кругловской толщи и степовской свиты. В Северной СФЗ он известен в низах ксенинской толщи, капризнинской и споронаволокской свит, но на крайнем северо-востоке площади выпадает из разреза. В западных районах острова слои можно расчленить на две части. Для нижней части характерны водоросли Koninckopora, Ungdarella, фораминиферы вознесенского времени Eostaffella postmosquensis, E. pseudostruvei, Plectostaffella bogdanovkensis (Т.И. Степанова, устн. сообщ.). В доломитизированных известняках на западе и калькаренитах на востоке Карской СФЗ известны Eostaffella paraprotvae, Seminovella keltmensis, Haplophragmina beschevensis, Endothyra bowmani maxima, Rugosoarchaediscus agapovensis, Asteroarchaediscus baschkiricus, Monotaxinoides subplana. Часть из них найдена совместно с конодонтами Declinognathdus aff. lateralis, Idiognathoides cf. sulcatus и D. lateralis, D. inaequalis. В осевой части Карской СФЗ в низах слоя также известны конодонты D. noduliferus, Gnathodus bilineatus bollandensis, G. bilineatus bilineatus, а на западе Северной СФЗ гониатиты Proshumardites sp., Pr. delepinei, Kardailites pulcher, кораллы Dibunophyllum bipartitum bipartitum, D. bolli, Fomichevella sotoi, Gshelia (?) hyperborea (Kossovаya, 1996). В верхней части появляются водоросли Dasycladacea, краснополянские фораминиферы Semistaffella variabilis magna, Pl. jakensis, встречающиеся чаще видов-индексов. В карбонатноглинистых фациях шире распространены Archaediscus и Asterodiscus, палеотекстулярии, климмакамины. Здесь известны многочисленные Heintzella karanelgense, H. singulare, Koninckophyllum kosvense среди кораллов, а среди гониатитов – Glaphyrites sp., Schartimites sp., Quinites sp. nov. Kus. et Yaz. Возраст слоев – вознесенско-краснополянское или сюранское время раннего башкира. Слои с Pseudostaffella antiqua – Semistaffella variabilis выделяются и прослеживаются в тех же свитах и толщах по видам-индексам, кроме осевой и восточной части Карской СФЗ. Обновление комплекса фоссилий происходит за счет появления водорослей Dvinella sp., Epistacheoides sp. в Северной зоне и Beresella sp. – в Баренцевской. У фораминифер отмечается незначительное увеличение видового разнообразия среди семиштаффелл, плектоштаффелл, миллерелл, появление шубуртелл. Становятся разнообразнее и кораллы, особенно в Северной зоне, где появляются Heintzella toulai, Pseudokoninckophyllum vesiculosum, «Lytvophyllum» antiquum, а в Баренцевской – Pseudoamigdalaephyllum dobrense (Коссовая, 2002). У конодонтов впервые отмечаются Idiognathodus sp. Возраст слоев – северокельтменское = акавасское время раннего башкира. Слои с Semistaffella primitiva – Staffellaeformis staffellaeformis прослеживаются в тех же подразделениях хуже, чем описанные выше. Здесь нет общих видов между Баренцевской и Северной зонами среди вновь или впервые появляющихся высоко организованных фораминифер, но со- Дедок Т.А. Раннебашкирские брахиоподы юга Новой Земли // Палеонтолог. журн. 1982. № 2. – С. 62–68 Дедок Т.А. Раннебашкирские брахиоподы юга Новой Земли (часть вторая) // Новая Земля на ранних этапах геологического развития. – Л.: Севморгеология, 1984. – С. 86–108. Корень Т.Н. Зональная стратиграфия фанерозоя России. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 256 с. Коссовая О.Л. Биостратиграфия башкирского и московского ярусов Русской платформы по кораллам Rugosa // Стратиграфия и палеогеография севера Евразии. – Екатеринбург, 2002. – С. 167–179. Кузина Л.Ф., Яцков С.В. Нижне- и среднекаменноугольные аммоноидеи Новой Земли. – М.: Наука, 1999. Т. 275. – 144 с. (Труды ПИН РАН). Лихарев Б.К., Эйнор О.Л. Материалы к познанию верхнепалеозойских фаун Новой Земли (Brachiopoda). – Л.: Изд-во Главсевморпуть, 1939. Т. 177, вып. 4. – 245 с. (Труды Аркт. ин-та). Матвеев В.П., Коссовая О. Л., Кропачева Г.С. и др. Каменноугольные отложения острова Северного архипелага Новая Земля // Биостратиграфия нефтегазоносных бассейнов. – СПб.: Изд-во ВНИГРИ, 1994. – С. 61–62. Матвеев В.П. Местные стратиграфические подразделения каменноугольных отложений Северного Острова Новой Земли // Стратиграфия и палеонтология Российской Арктики. – СПб.: ВНИИОкеан­ геология, 1997. – С. 25–34. Материалы III Всероссийского совещания поставим уровень эволюции ассоциаций. В Баренцевской зоне в слоях отмечаются последние семиштаффеллы, а у псевдоштаффелл уже встречаются Ps. proozawai, а также известны различные озаваинеллы Oz. plana, Oz. ex gr. umbonata. По появлению частых озаваинелл и многочисленных Endostaffella schamordini слои прослеживаются по западу Карской СФЗ. В Северной зоне в слоях отмечается первое появление типичных штаффелл, а псевдоштаффеллы представлены видами, характерными как для нижне-, так и для верхнебашкирских отложений Ps. composita, Ps. korobezkikh, Ps. irinovkensis. В обеих зонах отмечаются не встречавшиеся ниже водоросли – Antracoporella sp. и Anchicodium sp. и кораллы Koninckophyllum compositum на западе и Petalaxis primitivum Koss., Protodurhamina densa, Neokoninckophyllum sp. в Северной зоне (Kossovaya, 1998). В последней найдены и гониатиты Glaphyrites librovitchi Popov et Kus., Gl. consuentum Popov et Kus., Bisatoceras vidnaense Popov et Kus. Возраст слоев – прикамско-аскынбашское время раннего башкира. Общая мощность подгоризонта – 20–450 м. Верхнекапризнинский подгоризонт охарактеризован комплексом с фауной Pseudostaffella gorskyi – Ozawainella pararhomboidalis. Он распространен в тех же подразделениях, что и предыдущий. Как и в подстилающих слоях, здесь отсутствуют общие для Баренцевской и Северной зон виды среди вновь появившихся форм. Фораминиферы по-прежнему представлены примитивными эоштаффеллами. Наряду с ними в районе появляются ромбические озаваинеллы, веретенообразные и сферические профузулинеллы, псевдоштаффеллы. В Баренцевской СФЗ это Profusulinella primitiva, Pr. parva robusta, Pr. ex gr. rhomboides, Ozawainella rhomboides. На востоке Карской СФЗ в подгоризонте кроме них найдены Pseudostaffella gorskyi, Ps. proozawai, Ps. ex gr. pseudoquadrata, Ozawainella pogorevichi, Oz. ex gr. pararhomboidalis, Eolasiodiscus donbassicus. В карбонатно-глинистых фациях формы представлены разнообразными псевдоэндотирами, а в Северной СФЗ еще и палеонубекуляриями и миллереллами. Особенностью ассоциации фораминифер подгоризонта является почти полное отсутствие альютовелл и верелл, характерных для одновозрастных комплексов в смежных регионах. Среди кораллов отмечаются формы, появившиеся ранее – Heintzella toulai и виды, чаще встречающиеся выше по разрезу – Cystolonsdaleia portlocki, Caninia remotetabulata, Hentzella (?) stuckenbergi. Гониатиты известны только в верхней части подгоризонта и представлены Pseudobisaticeras aff. secundum, Diaboloceras sp., Glaphyrites sp., генозоны Diaboloceras – Axinolobus. Состав альгофлоры не изменился. Возраст подгоризонта – позднебашкирское время, а мощность 10–250 м. Наиболее чёткий биостратиграфический рубеж в развитии каменноугольной фауны фиксируется между ранним и средним карбоном. Полученные данные по комплексному обоснованию рассмотренных биостратиграфических подразделений позволяют коррелировать нижнекапризненский подгоризонт с сюранским, акавасским и аскынбашским подъярусами ОСШ, а верхнекапризнинский подгоризонт – с архангельским подъярусом (Корень Т.Н., 2006). От раннего к позднему башкиру фиксируется нарастание провинцианализма фаун. Кроме изменений в характере осадконакопления, связанных с эвстатическими колебаниями уровня мирового океана (Матвеев, 2000а), по-видимому, происходят климатические перемены (Матвеев, 2002, 2009), усложнение циркуляции вод между участками бассейна, что проявляется в доминировании эндемичных и местных форм. Кроме того, как и раньше, по определениям А.И. Никифоровой (Лихарев, Эйнор, 1939), так и позднее, по определениям И.П. Морозовой (устн. сообщ.), мшанки, отобранные из разрезов совместно с другими фоссилиями, указывают на существенно более молодой возраст вмещающих отложений по сравнению с брахиоподами и фораминиферами. 149 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео150 Матвеев В.П. Стратиграфия и брахиоподы каменноугольных отложений острова Северный архипелага Новая Земля: Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. – СПб.: СПб ГГИ (ТУ), 1998. – 19 с. Матвеев В.П. Практический опыт применения зональных подразделений карбона при среднемасштабном геологическом картировании на Новой Земле // Зональные подразделения карбона общей стратиграфической шкалы России. – Уфа: Гилем, 2000а. – С. 70–72. Матвеев В.П. Сравнительный анализ комплексов брахиопод карбона Новой Земли, Западного Урала и Русской платформы // Стратиграфия и фауна палеозоя и мезозоя Арктики. – СПб.: ВНИИОкеангеология, 2000б. – С. 35–46. Матвеев В.П. Палеоклиматическая зональность в карбоне и связи морских бассейнов Новой Земли и Восточного Казахстана // Состояние перспективы и задачи стратиграфии Казахстана: Материалы междунар. совещ. – Алматы, 2002. – С. 87–89. Матвеев В.П. Структурно-тектонический фактор в палеогеографии карбона на архипелаге Новая Земля // Верхний палеозой России: Стратиграфия и палеогеография. Материалы Всерос. конф., Казань, 25–27 сентября 2007 г. – Казань: КГУ, 2007. – С. 205–208. Матвеев В.П. Методика построения ретроспективных геологических систем и значение структурнотектонического фактора в палеогеографических реконструкциях // Зап. Горного ин-та. 2009. Т. 183. – С. 24–31. Новая Земля и остров Вайгач. Геологическое строение и металлогения. – СПб.: ВНИИОкеангеология, 2004. Т. 205. – 174 с. (Труды НИИГА–ВНИИОкеангеология). Романович Б.С. Новая Земля и Вайгач // Геология СССР. Т. XXVI. Острова Советской Арктики. – М.: Недра, 1970. – С. 111–195. Соболев Н.Н., Матвеев В.П. Биостратиграфическое обоснование ярусных границ каменноугольной системы на Новой Земле // Стратиграфия и палеогеография карбона Евразии. – Екатеринбург: Изд-во ИГГ УрО РАН, 2002. – С. 288–292. Соловьёва М.Ф. О границе нижнего и среднего карбона на Новой Земле. Учёные записки. Палеонтология и стратиграфия. – Л.: НИИГА, 1969. – С. 5–15. Kossovaya O.L. The mid-Carboniferous rugose coral recovery // Biotic recovery from mass extinction events. Geological society Special publication, 1996, 102. – Р. 187–199. Kossovaya O.L. Evolution trend in Middle Carboniferous Petalaxidae (Rugosa). Geodiversitas, 1998. N 20 (4). – Р. 663–685. Sobolev N.N., Nakrem H.A. Middle Carboniferous – Lower Permion conodonts of Novaya Zemlya. Skrifter nr. 199. Oslo 1996. – P. 128 О.Р. Минина СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ОСНОВА РЕГИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В корреляционной части межрегиональных стратиграфических схем девонских и каменноугольных отложений России схемы по Западному Забайкалью отсутствуют. В последние годы получены принципиально новые палеонтологические, литолого-фациальные, изотопные и палеомагнитные данные, позволяющие создать стратиграфическую основу для региональных стратиграфических и корреляционных схем отложений девона и карбона региона. В центральной части Западного Забайкалья выделяется обширная зона палеозоид – Байкало-Витимская складчатая система (БВСС), включающая Витимкан-Ципинскую, Удино-Витимскую, ТуркаКурбинскую структурно-формационные зоны. Все зоны БВСС объединяет присутствие в их разрезах различных в формационном отношении среднепалеозойских отложений, охарактеризованных комплексами разнообразных органических макро- и микроостатков (Руженцев и др., 2012; Минина и др., 2011). Витимкан-Ципинская зона. В ее пределах выделяются Багдаринская и Уакитская подзоны. Багдаринская подзона сложена карбонатной ороченской, карбонатно-терригенными якшинской и точерской и терригенными багдаринской и ауглейской свитами (Минина и др., 2011). Ороченская свита представлена известковистыми доломитами и известняками. Свита датирована нижним-средним девоном. Возраст ее определен по комплексу органических остатков, включающему строматопориды Stromatopora sp., Amphipora sp., Amphipora cf. angusta Lec., водоросли Rothpletzella sp., Rohtpletzella devonica Masl., Renalcis sp., Renalcis devonicus Antropov, Epiphyton buldyricum Antropov, Ortonella sp., Lancicula sp., Izhella sp., Chaetocladus sp., Quasiumbella sp., Parachaetetes sp. и Bevocastria sp., криноидеи, мшанки, конодонты Panderodus sp. и Latericriodus Материалы III Всероссийского совещания sp., комплекс миоспор живетского яруса среднего девона. Якшинская свита сложена терригенно-карбонатными породами. Возраст свиты определяется как верхнедевонский. В отложениях свиты обнаружены кораллы Graciolopora sp., Pachypora sp., Chaetetes sp., мшанки Geramopora sp., водоросли Rothpletzella sp., конодонты Spathognathodus sp., Palmatolepis cf. transitans Muеll., Panderodus sp., Mesotaxis asymmetricus Bisch. et Ziegl. и Palmatholepis cf. triangularis Sann., строматопороидеи Actinostroma cf. guasifenestratum Khromych, хитинозои Conochitina sp., Rhabdochitina sp., Desmochitina sp. и миоспоры франского яруса верхнего девона. Точерская свита сложена полимиктовыми конгломератами, гравелитами, песчаниками, туфопесчаниками, алевролитами и аргиллитами, углеродистыми известняками с прослоями кремнистых микросланцев, туффитов и туфов. Свита датирована фаменским ярусом верхнего девона – турнейским ярусом нижнего карбона и содержит конодонты Palmatolepis cf. triangularis Sann., Polygnathus sp., «Ozarkodina» sp., «Ligonodina» sp., Palmatolepis perlobata schindewolfi Muеll., P. cf. marginifera Helms., Polygnathus glaber Ulr. et Basl., Ancyrodella sp., Palmatolepis sp., Pseudopolygnathus triangulus Voges, Neopolygnathus communis Brans. et Mehl., фрагменты коры плауновидных. В средней части разреза свиты выделены миспоры фаменского яруса верхнего девона, в верхней – турнейского яруса нижнего карбона. Багдаринская свита отличается пестротой состава, имеет широкий возрастной диапазон. Возраст нижней подсвиты багдаринской свиты определен как верхнедевонский по остаткам проптеридофитов, водорослей Bijagodella sp., Renalcis devonicus Antropov, Konikopora sp., Ortonella sp. и Rothplezella sp., строматопороидей Amphipora cf. angusta Lec., тентакулит отряда Nowakiida и миоспорам (франский ярус). Верхняя часть разреза свиты датирована по остаткам мшанок родов Rhombotrypella, Rhabdomeson, Primorella, Fistulipora и Ascopora, дазикладациевым водорослям Antracoporella sp. и миоспорам нижним-средним (низы) карбоном. Ауглейская свита включает пачки конгломератов с прослоями песчаников, алевролитов, глинистых сланцев. В гальке конгломератов ауглейской свиты найдены мшанки Fistulipora sp., позволяющие определить возраст ауглейской свиты не моложе среднего карбона. Уакитская подзона сложена карбонатными нижне-среднедевонскими бамбуйской, гагарской и верхнедевонскими перевальной, левоуакитской и белогорской свитами, кадалинской толщей, карбонатно-терригенными верхнедевонскими санской, чулегминской свитами и уакитской толщей, верхнедевонско-среднекаменноугольными терригенными аматканской, огненской, мухтунной, сырыхской свитами (Минина, 2003). В составе левоуакитской и огненской свит установлены олистостромы гравитационного и тектоно-гравитационного генезиса (Клочко и др,. 2001). Среднепалеозойский возраст стратонов определен по комплексам органических остатков. Остатки высших растений Orestovia, Flabellofolium williamsonii (Nath) Iur. et Put. и Flabellofolium sp., спорангии растений Pectinophyton sp., побеги риниофитов установлены в уакитской толще, санской и мухтунной, аматканской свитах. В мухтунной, бамбуйской, огненской, гагарской, левоуакитской, перевальной и белогорской свитах, уакитской, кадалинской толщах определены комплексы ископаемых водорослей: цианей Ikella sp., Izhella, Rotpletzella sp., Renalcis sp. и Girvanella sp., зеленых Zidella sp., Tharama sp., Lancicula sp., Litanaia sp., Hedstroemia sp., Garwoodia sp. и харовых Umbella, тентакулиты отряда Tentaculitida. Миоспоры выделены во всех стратонах и позволяют установить их вертикальную возрастную последовательность (Минина, 2003). Удино-Витимская СФЗ. Еравнинская подзона. Среднепалеозойский разрез ее включает озернинскую, кыджимитскую, еравнинскую, ульзутуйскую толщи и исташинскую и сурхебтинскую свиты (Минина и др., 2011; Руженцев и др., 2012). Возраст озернинской толщи песчанистых известняков, кварцевых песчаников пока условно определен как силурийский по ее положению в разрезе между олдындинской свитой нижнего кембрия и кыджимитской толщей нижнего девона. Раннедевонская (до эмсская) кыджимитская толща вулканогенно-осадочных пород содержит конодонты Panderodus cf. unicostatus Br. et Mehl., кораллы Sociophylum sp., водоросли Rothpletzella sp., Sicidium sp., мшанки Ceramopora sp., цефалоподы Discosorida sp., тентакулиты. Возраст карбонатно-терригенной еравнинской толщи считается раннедевонским (эмс)-среднедевонским и определен по конодонтам Polygnathus sp., Panderodus sp., Ozarkodina sp. (S2–D1), Pandorinellina postexcelsa Wang et Ziegl., P. cf. exigua philippi Klapp., P. steinhornensis steinhornensis (Ziegl.), Pandorinellina ex gr. steinhornensis (Ziegl.), брахиоподам Cyrtospiriferidae gen. indet., Syringothyridae gen. indet., криноидеям, мшанкам, кораллам, тентакулитам. В пестроцветной терригенной исташинской свите (верхний девон, фран) установлены тентакулиты Tentaculites sp., конодонты Palmatolepis transitans Muеll. и миоспоры, характерные для нижне­ франского подъяруса. Позднедевонско (фамен)-раннекаменноугольный (турне) возраст микстит-олистостромовой ульзутуйской толщи определен по остаткам тентакулит, строматопороидей Kyklopora sp., мшанок Fistulipora sp., водорослей Rothpletzella sp., Ikella sp., Nuia devonica Sh. и комплексу миоспор верхнего девона (фамен) – нижнего карбона (турне). 151 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео152 Турка-Курбинская зона. Курбинская подзона. К среднему палеозою отнесены карбонатнотерригенная пановская и терригенные зумбурукская и ямбуйская свиты. В нижней подсвите ритмичной флишоидной пановской свиты определены тентакулиты отряда Tentaculitida, конодонты Ancyrodella binodosa Uyeno, Mesotaxis cf. falsiovalis Sand., Ziegl., Bult., Icriodus sp., Poly­ gnathus sp., Ancyrodella ex gr. nodosa Ulr. et Bassl., Polygnathus sp. Возраст ее определяется средним (живет) – верхним (фран) девоном. Возраст верхней подсвиты считается верхнедевонским (фамен) – нижнекаменноугольным (турне). Здесь отмечается смешанный комплекс органических остатков, собранных в линзах обломочных карбонатных пород, включающий трилобиты (Є2 и Є3), табуляты (O2–S1), гелиолитиды (O3–D2), криноидеи (не древнее O), ругозы (D1–2), тентакулиты (S–D), водоросли (O3, D, C), хитинозои (O–D), акритархи (Є, O–S). Смешанный характер органических остатков связывается с их переотложением в линзах обломочных карбонатных пород среди рассланцованных алевропелитов. Зумбурукская свита, сложенная ритмичным переслаиванием терригенных пород, содержит хитинозои, сколекодонты и комплекс миоспор нижнего – среднего карбона. Ямбуйская пестроцветная терригенная свита включает мшанки, брахиоподы семейств Orthidae и Stratiphomenidae и миоспоры, позволяющие относить ее к карбону (Минина и др., 2009). Таким образом, состояние стратиграфической изученности Западного Забайкалья позволяет начать разработку стратиграфических схем девонских и каменноугольных отложений. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-05-00324). Клочко А.А., Кирмасов А.Б., Минина О.Р. Элементы покровной структуры и олистостромы Уакитской зоны Прибайкалья // Современные вопросы геотектоники: Сб. науч. трудов конф. – М.: Научный мир, 2001. – С. 113. Минина О.Р. Стратиграфия и комплексы миоспор отложений верхнего девона Саяно-Байкальской горной области. Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2003. – 17 с. Минина О.Р., Катюха Ю.П., Ветлужских Л.И. Новые данные о возрасте отложений Ямбуйского ксенолита (Удино-Витимская зона, Западное Забайкалье) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского складчатого пояса: от океана к континенту: Материалы науч. совещ. по программе фунд. исслед. Т. 2. – Иркутск: Ин-т геогр. СО РАН, 2009. – С. 20–22. Минина О.Р., Руженцев С.В., Аристов В.А. Средний палеозой Еравнинской зоны Западного Забайкалья // Биостратиграфия, палеогеография, события в девоне и карбоне: Материалы междунар. конф., посвященной памяти Е.А. Елкина. – Новосибирск, Изд-во СО РАН, 2011. – С. 110–112. Руженцев С.В., Минина О.Р., Некрасов Г.Е. и др. Байкало-Витимская складчатая система: строение и геодинамическая эволюция // Геотектоника. 2012. № 2. – С. 3–28. Г.В. Миранцев, А.И. Кокорин, С.В. Рожнов ИГЛОКОЖИЕ В МОРСКИХ СООБЩЕСТВАХ ВЕРХНЕГО ПАЛЕОЗОЯ (МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ СТРАН) Роль трех подтипов иглокожих в верхнепалеозойских сообществах неодинакова. Carpozoa вымирают и представлены лишь одним родом в карбоне, Pelmatozoa достигают наивысшего расцвета, а мезозойский расцвет Eleutherozoa еще впереди. Из примерно 20 классов иглокожих в это время продолжали существовать лишь восемь, среди которых по видовому разнообразию доминировали Crinoidea. В отдельных районах они могли быть главными компонентами бентосных сообществ, играя породообразующую роль (слагая криноидные известняки). По биомассе им иногда могли составлять конкуренцию Echinoidea и Blastoidea. Наиболее богатыми каменноугольными местонахождениями иглокожих на территории б. СССР являются главным образом Подмосковный бассейн (Московская синеклиза и ОкскоЦнинский вал) и Донбасс (Trautschold, 1879; Яковлев, Иванов, 1956). Отдельные находки нижнекаменноугольных иглокожих известны на территории С. Казахстана и Кузбасса. Богатые фауны иглокожих (в основном криноидей) происходят из нижнепермских рифовых фаций Приуралья и шиханов Башкирии (Яковлев, 1926, 1927, 1930, 1936; Яковлев, Иванов, 1956; Арендт, 1970, 1981, 2005, 2007). По своему составу эти фауны очень близки к хорошо известной нижнепермской фауне с о. Тимор. Большой интерес представляют редкие для верхней перми находки криноидей с Закавказья (Яковлев, 1933). Стоит отметить, что большинство находок приурочено к платформенным отложениям, в то время как пермские иглокожие находятся, как правило, в рифовых фациях и биогермных постройках (таблица). Материалы III Всероссийского совещания Криноидеи. На протяжении всего верхнего палеозоя продолжали существовать все четыре палеозойских подкласса: Camerata, Cladida, Disparida и Flexibilia. В самом начале нижнего карбона преобладали камераты, а к концу нижнего карбона наиболее распространенными становятся разнообразные кладиды, давшие начало всем постпалеозойским криноидеям (подклассу Articulata). Подобная тенденция прослеживается на материале из Подмосковного бассейна и Среднего Урала, где большинство находок являются кладидными криноидеями. В последнее время ряд верхнепалеозойских кладид (ампелокринид) рассматривают в качестве примитивной стволовой группы мезо-кайнозойского подкласса артикулят. На территории России (особенно в карбоне Подмосковного бассейна) имеется большое количество неописанных представителей ампелокринид; их дальнейшее изучение помогло бы лучше понять раннее становление и диверсификацию артикулят. Находки диспарид, флексибилий и камерат относительно редки. Диспариды представлены главным образом надсемейством Allagecrinoidea (Арендт, 2005, 2007). Флексибилии играют второстепенную роль; их каменноугольные представители, как правило, крупного размера с длинным стеблем и массивной кроной (Synerocrinus), а для перми характерны небольшие формы часто с коротким стеблем и «руками» (Asuturaecrinus, Calycocrinus). Камераты относительно широко представлены только в нижнем карбоне, в среднем-верхнем карбоне и перми группа угасает и представлена всего несколькими формами. Бластоидеи. Пик разнообразия класса бластоидей приходится как раз на верхний палеозой. Однако на территории б. СССР находки бластоидей обычно единичны. Исключением являются нижнекаменноуагольная фауна Северного Казахстана, где они более многочисленны и распределены среди восьми видов (Arendt et al., 1968), и нижнепермские отложения Среднего Урала, где встречается только Timoroblastus wanneri (Yakovlev, 1937), но в больших количествах. Единственная бластоидея из Подмосковного бассейна представлена нижнекаменноугольным Orbitremites derbiensis mussatovi Arendt, 1967 (Арендт, 1967; Arendt, 2002). В верхнем карбоне разнообразие класса несколько понижается. Находки бластоидей в среднем и верхнем карбоне Подмосковного бассейна отсутствуют. Это означает резкое понижение численности бластоидей в это время. Морские ежи. Верхний палеозой стал временем массового распространения морских ежей семейства Archaeocidaridae, обладающих цидароидным планом строения. Они наряду с криноидеями могут доминировать в некоторых бентосных сообществах. В сообществах мезозоя цидароидный план строения также широко представлен, но уже другими семействами; кроме того, именно он стал основой для постпалеозойской эволюционной радиации класса. Другие верхнепалеозойские морские ежи, являющиеся, по-видимому, тупиковыми ветвями, представлены семействами Palaechinidae и Lepidesthidae. Они встречаются главным образом в каменноугольных отложениях Подмосковного бассейна. Голотурии. В силу особенностей своего строения голотурии практически никогда не сохраняются целиком, обычно это разрозненные известковые склериты. До сих пор палеозойские голотурии, найденные на территории б. СССР, не описывались. В коллекциях ПИН РАН имеются отдельные спикулы из верхнего карбона Подмосковного бассейна. Морские звезды. Все отряды современных морских звезд (от трех до семи, в зависимости от классификации) известны, начиная с триаса. Таким образом, верхнепалеозойская фауна астероидей сильно отличается от современной. В частности, палеозойские представители класса лишены таких характерных признаков, как выворачивающийся кишечник и присоски на амбулакральных ножках (Gale, 1987), что должно было отразиться на способах питания. На данный момент на территории б. СССР найдены и описаны две морские звезды: Urasterella montana Stschurowsky, 1867 и Calliasterella mira Trautschold, 1879 (первоначально отнесенный к классу Asteroidea Stenaster confluens Trautschold, 1879 проблематичен). Обе они происходят из каменноугольных отложений Подмосковного басcейна (Schndorf, 1909). Помимо этих представителей в коллекциях ПИН РАН из тех же отложений имеются находки, относящиеся, возможно, к новым видам. Офиуры. В верхнем палеозое существовало два отряда офиур. Представители одного из них, Oegophiurida, появившегося в ордовике, не описаны в отложениях моложе каменно­ угольных, а второй – Ophiurida – появился в карбоне. Офиуриды в мезозое дали вспышку разнообразия и в современных сообществах являются доминирующим как по биомассе, так и по числу видов. В литературе неоднократно отмечались находки офиур из карбона Московский синеклизы (Махлина и др., 2001; Иванова, 1958) и перми Среднего Урала (Арендт, 1970). В настоящее время в коллекции ПИН РАН имеется семь относительно полных скелетов ­офиур из верхнего карбона Подмосковного бассейна, относящихся, по-видимому, к двум разным отрядам; также есть большое количество разрозненных скелетных элементов. 153 Официально описанные таксоны верхнепалеозойских иглокожих (кроме паратаксонов и форм с сомнительным диагнозом) Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Таксоны 154 Класс CRINOIDEA Подкласс Camerata Amphipsalidocrinus astrus Arendt, 2002 Amphipsalidocrinus posterior Arendt, 1970 Dichocrinus schmidtii (Stuckenberg, 1875) Dichoracrinus rotaii Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Dichoracrinus tomiensis Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Epiacrocrinus crassus Arendt, 1995 Epiacrocrinus (?) hexagonus Arendt, 1995 Epiacrocrinus pirogovae Arendt, 1995 Erlangeracrocrinus elongatus Arendt, 1995 Hexaacrocrinus drozdovae Arendt, 1995 Ivanovaecrinus carboniferus (Yakovlev et Ivanov, 1956) Mooreacrocrinus gjelicus Stupachenko and Arendt, 1976 Moskoviacrocrinus grishini Arendt, 1995 Paracrocrinus mjatschkowensis (Yakovlev, 1926) Paracrocrinus yakovlevi Arendt et Stupachenko, 1983 Paramegaliocrinus erlangeri Arendt, 1983 Platycrinites tenuiplatensis Arendt, 2002 Rhodocrinites osipovae Arendt, 2002 Rhodocrinites platyacron (Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956) Rhodocrinites rubiformis (Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956) Stomiocrinus permiensis (Yakovlev, 1927) Teleiocrinus ? sibiricus Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Подкласс Disparida Allocatillocrinus rarus Arendt, 2007 Belskayacrinus turaevoensis Arendt, 1997 Epihalysiocinus tuberculatus (Yakovlev, 1927) Litocrinus scoticus (Wright, 1932) Kallimorphocrinus donetzensis (Yakovlev, 1930) Kallimorphocrinus multibrachiatus (Yakovlev, 1927) Kallimorphocrinus uralensis (Yakovlev, 1927) Kolvacrinus verae Arendt, 2005 Paracatillocrinus shakhtauensis Arendt, 2007 Paracatillocrinus shamovi Arendt, 2007 Taidocrinus poljenowi Tolmachev, 1924 Ufacrinus minutus Arendt, 2005 Подкласс Cladida Aesiocrinus patens (Trautschold, 1879) Acariaiocrinus caryophylloides (Yakovlev, 1927) Allosocrinus ivanovi (Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956) Basleocrinus krasnooufimskensis Yakovlev, 1937 Belashovicrinus elenae (Yakovlev 1930) Belashovicrinus gjelensis Arendt et Zubarev, 1993 Belashovicrinus medvedkaensis Arendt et Zubarev, 1993 Blothrocrinus litvinovitschae Yakovlev, 1954 Bolbocrinus eudoxiae Yakovlev, 1927 Cadocrinus saltanajewi Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Cadocrinus timanicus Yakovlev, 1948 Ceriocrinus serratomarginatus Yakovlev, 1930 Clithrocrinus concinnus Arendt, 1970 Cranocrinus praestans Arendt, 1970 Cromyocrinus simplex Trautschold, 1867 Cydonocrinus insuetus Arendt, 1970 Dicromyocrinus kumpani Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Dicromyocrinus ornatus (Trautschold, 1879) Dicromyocrinus subornatus Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Embryocrinus bashkiricus Arendt, 1970 Embryocrinus variabilis Arendt, 1970 Eoindocrinus praecontignatus Arendt, 1981 Месторождение, возраст Подмосковный бассейн, C1 Средний Урал, P1 Тиман, P1 Кузбасс, C1 Кузбасс, C1 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C3 Подмосковный бассейн, C3 Подмосковный бассейн, C2�C3 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C1 Подмосковный бассейн, C1 Прииртышье, C1 Прииртышье, C1 Средний Урал, P1 Кузбасс, C1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C1 Донбасс, ?C2 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Кузбасс, C1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C3 Подмосковный бассейн, C3 Сев. Казахстан, C1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Тиман, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Средний Урал, P1 Донбасс, C2 Подмосковный бассейн, C2�C3 Донбасс, Подмосковный бассейн, C2 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Продолжение Eoindocrinus praerimosus Arendt, 1981 Eopilidiocrinus heckeri (Arendt, 1970) Epipetschoracrinus borealis Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Erisocrinus ? araxensis Yakovlev, 1933 Erisocrinus cernuus (Trautschold, 1867) Graphiocrinus cristatus Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Graphiocrinus timanicus Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Graphiocrinus treuteri Yakovlev, 1927 Harellicrinus tuberculatus (Arendt, 1981) Hemiindocrinus fredericksi Yakovlev, 1926 Hemimollocrinus uralensis Yakovlev, 1930 Hemistreptacron abrachiatum Yakovlev, 1926 Hemistreptacron tchatlykense Arendt, 1970 Hydriocrinus ? mjassoedowae Yakovlev, 1937 Hydriocrinus pusillus (Trautschold, 1867) Hydroporocrinus obliquus Arendt, 1970 Hypermorphocrinus magnospinosus Arendt, 1968 Hypocrinus minimus Arendt, 1970 Hypocrinus tschuvashovi Arendt et Vanin in Arendt, 1981 Hypocrinus yakovlevi Arendt, 1970 Koivocrinus elegans Arendt, 1996 Lageniocrinus maximus Arendt, 1970 Miatshkovocrinus trautscholdi (Yakovlev et Ivanov, 1956) Microcaracrinus pachypinnularis (Yakovlev et Ivanov, 1956) Monobrachiocrinus kolvensis Arendt 1970 Monobrachiocrinus oviformis Yakovlev, 1926 Mooreocrinus geminatus (Trautschold, 1867) Moscovicrinus multiplex (Trautschold, 1867) Moscovicrinus (?) quenstedti (Golowkinsky, 1868) Neolageniocrinus shichanensis Arendt, 1970 Nereocrinus jemeljantzewi Yakovlev, 1937 Okaicrinus nodosus Arendt, 2002 Oligobrachiocrinus bifidus Arendt, 1981 “Pachylocrinus” baschmakowae Yakovlev et Ivanov, 1956 “Pachylocrinus” tenuiramosus Yakovlev, 1939 Paracydonocrinus diviensis Arendt, 1970 Parathetidicrinus wanneri Arendt, 1996 Paratimorocidaris problematicus Arendt, 1981 Parisocrinus asiaticus Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Passalocrinus (?) uralicus Arendt, 1981 Pegocrinus bijugus (Trautschold, 1867) Petschoracrinus variabilis Yakovlev, 1928 Probletocrinus (?) nikitini (Stuckenberg,1908) Proindocrinus mirabilis Arendt, 1981 Proindocrinus parvus Arendt, 1981 Proindocrinus piszowi (Yakovlev, 1926) Protencrinus lobatus Yakovlev, 1948 Protencrinus moscoviensis Jaekel, 1918 Rhabdocrinus vatagini Arendt, 1962 Scytalocrinus kalmiusi Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Spaniocrinus transcaucasicus Yakovlev, 1933 Stachyocrinus timanicus Yakovlev, 1941 Streptostomocrinus heckerae Arendt, 2002 Streptostomocrinus tsherepanovae Arendt, 1981 Strongylocrinus uralicus Yakovlev, 1937 Sundacrinus minutus Arendt, 1981 Sundacrinus septentrionalis Yakovlev, 1937 Synyphocrinus cornutus Trautschold, 1881 Synyphocrinus magnus Yakovlev et Ivanov, 1956 Trautscholdicrinus miloradowitschi Yakovlev, 1939 Trimerocrinus platypleura Yakovlev, 1930 Месторождение, возраст Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Печорский бассейн, P1 Закавказье, P2 Донбасс, Подмосковный бассейн, C2 Юный Урал, C1 Тиман, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Самарская лука, C3 Подмосковный бассейн, C2�C3, Жигули, C3 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Подмосковный бассейн, C2�C3 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Подмосковный бассейн, C2�C3 Камско�Волжский бассейн, P2 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Подмосковный бассейн, C2�C3 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Кузбасс, C1 Южный Урал, C1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Печорский бассейн, P1 Самарская Лука, C3 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Тиман, P1 Подмосковный бассейн, ?C2�?C3 Подмосковный бассейн, C1 Донбасс, C1 Закавказье, P2 Тиман, P1 Подмосковный бассейн, C1 Ю. Урал, C1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2�C3 Средний Урал, P1 Материалы III Всероссийского совещания Таксоны 155 Окончание Таксоны Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Tundracrinus polaris Yakovlev, 1928 156 Ulocrinus grishini Mirantsev et Rozhnov, 2011 Ulocrinus karchevskyi Mirantsev et Rozhnov, 2011 Ulocrinus neverovoensis Mirantsev et Rozhnov, 2011 “Ulocrinus” uralensis Yakovlev, 1930 Ureocrinus rozhnovi Arendt, 1981 Yakovlevicrinus subglobosus Arendt, 1981 Zeacrinites heckeri Arendt, 2002 “Zeacrinites” schmitowi (Yakovlev et Ivanov, 1956) Подкласс Flexibilia Asuturaecrinus dorofeievi Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Calycocrinus rossicus Yakovlev, 1927 Neotaxocrinus arendti Mirantsev, 2012 Synerocrinus incurvus (Trautschold, 1867) Класс BLASTOIDEA Artuschisma rossica (Arendt, Breimer et Macurda, 1968) Codaster barkhatovae Yakovlev, 1941 Cryptoblastus submelo Yakovlev in Yakovlev et Ivanov, 1956 Dolichoblastus shimanskii (Arendt, Breimer et Macurda, 1968) Kazachstanoblastus carinatus Arendt, Breimer et Macurda, 1968 Nymphaeoblastus anossofi Yakovlev 1926 Nymphaeoblastus kasakhstanensis Yakovlev, 1941 Nymphaeoblastus miljukovi Peetz, 1907 Orbitremites derbiensis mussatovi Arendt, 1967 Paracodaster miloradowitchi Yakovlev, 1940 Schizoblastus librovitchi Yakovlev, 1941 Timoroblastus wanneri (Yakovlev, 1937) Tympanoblastus pousirewskii (Stuckenberg, 1875) Класс ECHINOIDEA Archaeocidaris clavata (Eichwald, 1860) Archaeocidaris mosquensis Ivanov, 1926 Archaeocidaris rossica (Buch 1840) Archaeocidaris subwortheni Faas 1939 Donbassechinus kumpani Faas, 1941 Lepidesthes laevis Trautschold, 1879 Melonechinus dispar (Fischer, 1848) Класс ASTEROIDEA Calliasterella mira (Trautschold, 1879) Urasterella montana (Stschurowsky, 1867) Класс EDRIOASTEROIDEA Neoisorophusella maslennikovi Sumrall, 2009 Месторождение, возраст Большеземельская тундра, западный склон Полярного Урала, P1 Подмосковный бассейн, C3 Подмосковный бассейн, C3 Подмосковный бассейн, C3 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C1 Подмосковный бассейн, ?C2�C3 Средний Урал, P1 Средний Урал, P1 Подмосковный бассейн, C2�C3 Подмосковный бассейн, ?C1, C2�C3 Сев. Казахстан, C1 Тиман, P1 Сев. Казахстан, C1 Сев. Казахстан, C1 Сев. Казахстан, C1 Сев. Казахстан, C1 Сев. Казахстан, C1 Cев. Казахстан, C1 Подмосковный бассейн, C1 Печорский край, P1 Cев. Казахстан, C1 Средний Урал, P1 Тиман, P1 Подмосковный бассейн, C2 Подмосковный бассейн, C2�C3 Подмосковный бассейн, C2�C3 Подмосковный бассейн, C2�C3 Донбасс, C1 Подмосковный бассейн, ?C2�?C3 Подмосковный бассейн, ?C2�?C3 Подмосковный бассейн, ?C2�C3 Подмосковный бассейн, C2�C3 Верхоянский р�н, Респ. Якутия, P1 Эдриоастероидеи. Появились в кембрии, и к верхнему палеозою группа угасает. Разнообразие класса представлено всего несколькими (главным образом, каменноугольными) родами. Из перми (Верхоянский район Якутии, кунгурский ярус) известен лишь один представитель класса – Neoisorophusella maslennikovi (Арендт, 1983; Sumrall, 2009). Это одновременно и единственная верхнепалеозойская эдриоастероидея на территории б. СССР. Таким образом, уже в верхнем палеозое среди криноидей, морских ежей и офиур выделяются эволюционные линии, сформировавшие в дальнейшем основную часть мезозойского разнообразия классов. В то же время фауна исследуемого периода отличалась от мезозойской, например, наличием таких характерных для палеозоя групп, как эдриоастероидеи, бластоидеи, камераты, флексибилии. Помимо уже изученного материала, в коллекциях ПИН РАН имеется большое количество неописанных новых видов иглокожих из верхнего палеозоя России и сопредельных территорий. Их дальнейшее изучение, равно как и поиск новых материалов, позволит лучше понять раннее становление мезокайнозойского разнообразия типа. С.В. Молошников Материалы III Всероссийского совещания Арендт Ю.А. Морские лилии гипокриниды. – М.: Наука, 1970. Т. 128. – 212 c. (Труды ПИН АН СССР). Арендт Ю.А. Трехрукие морские лилии. – М.: Наука, 1981. Т. 189. – 196 с. (Труды ПИН АН СССР). Арендт Ю.А. О некоторых иглокожих // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 1983. Т. 58, вып. 4. – С. 135–136. Арендт Ю.А. Новые многорукие морские лилии из нижней перми Урала // Палеонтол. журн. 2005. № 6. – С. 60–64. Арендт Ю.А. Новые многорукие морские лилии катиллокриниды из нижней перми Приуралья // Палеонтол. журн. 2007. №1. – С. 56–63. Иванова Е.А. Развитие фауны средне- и верхнекаменноугольного моря западной части Московской синеклизы в связи с его историей. Книга 3. Развитие фауны в связи с условиями существования. – М.: Изд-во АН СССР, 1958. Т. 69. – 303 с. (Труды ПИН АН СССР). Махлина М.Х., Алексеев А.С., Горева Н.В. и др. Средний карбон Московской синеклизы / Под ред. А.С. Алексеева и С.М. Шика. – М.: Научный мир, 2001. – Т. 2. 328 с. Яковлев Н.Н. Фауна иглокожих пермокарбона из Красноуфимска на Урале. Т. I // Изв. Геолома. 1926. Т. 45. № 2. – С. 51–57. Яковлев Н.Н. Фауна иглокожих пермокарбона из Красноуфимска на Урале. Т. II // Изв. Геолкома. 1927. Т. 46. № 3. – С. 181–192. Яковлев Н.Н. Фауна иглокожих пермокарбона из Красноуфимска на Урале. Т. III // Изв. ГГРУ. 1930. Т. 49. № 8. – С. 95–104. Яковлев Н.Н. Две верхнепермские морские лилии из Закавказья // Изв. АН СССР. Отд. матем. и естеств. наук. 1933. №7. – С. 975–978 Яковлев Н.Н. Фауна иглокожих пермокарбона из Красноуфимска на Урале. Т. IV // Ежегодник Всерос. Палеонтол. общества. 1937. Т. 11 (1934–1935). – С. 7–11. Яковлев Н.Н., Иванов А.П. Морские лилии и бластоидеи каменноугольных и пермских отложений СССР. – Л.: ВСЕГЕИ, 1956. Т. 11. – С. 5–142 (Труды ВСЕГЕИ. Нов. серия). Arendt Y.A. Early Carboniferous Echinoderms of the Moscow Region // Paleontol. J. 2002. Vol. 36. Suppl. 2. – Р. S115–S184. Arendt Y.A., Breimer A., Macurda D.B. A new blastoid fauna from the lower Namurian of North Kazachstan (U.S.S.R.) // Proceed. Konink. Nederl. Akad. Wettenschappen. Ser. B: Palaeontol., Geol., Phys., Chem., Anthropol., 1968. Vol. 71. N 3. – P. 159–174. Gale A.S. Phylogeny and classification of the Asteroidea (Echinodermata) // Zool. Journ. Linn. Soc. Vol. 89. – P. 107–132. Schndorf F. Die Asteriden des Russischen Karbon // Palaeontogr. 1909. Vol. 56. – P. 323–338. Sumrall C.D. First Definite Record of Permian Edrioasteroids: Neoisorophusella maslennikovi n. sp. from the Kungurian of Northeast Russia // J. Paleontol. 2009. Vol. 83. N 6. – P. 990–993. Trautschold H. Die Kalkbruche von Mjatschkowa, Part 3. Nouv. Mm. Soc. Imp. Natur. Moscou, 1879. Vol. 14, 1. – P. 1–82. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АНТИАРХ (PLACODERMI) В СРЕДНЕМ – ПОЗДНЕМ ДЕВОНЕ ЮЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ РОССИИ Антиархи (Placodermi: Antiarchi) – своеобразная группа пластинокожих рыб, у которых голова, передняя часть туловища и грудные плавники покрывались массивным наружным панцирем, состоящим из отдельных костных пластинок. Благодаря такому панцирю их остатки хорошо сохраняются в ископаемом состоянии и часто используются в стратиграфических работах при изучении девонских прибрежно-морских отложений. Несмотря на хорошую изученность девонских антиарх северо-западных и северных областей России, среди ихтиофауны южных областей они оставались мало изученной группой. C 1999 г. автором проводится целенаправленное изучение остатков антиарх с территорий центральных и южных частей Восточно-Европейской платформы (ВЕП), юга Урала и Южной Сибири. В результате этой работы был уточнен и дополнен систематический состав, выявлены особенности распространения антиарх на указанных территориях (рисунок). В южной части России первые антиархи, представленные астеролепиформами, появляются в эйфельское время на территории центральных и южных областей ВЕП. Из скважины 16 в Калужской области известны единичные остатки Asterolepis estonica Gross (Каратаюте-Талимаа, 1963). Э.В. Лукшевич и др. (Lukevis et al., 2010) также указывают на присутствие Asterolepis и Byssacanthus в ряжском горизонте (нижний эйфель) Центрального девонского поля (ЦДП). 157 158 и биособытия Стратиграфическое распространение антиарх в живетско-фаменских отложениях южных областей России. Сопоставление региональных подразделений со стандартной конодонтовой шкалой с небольшими изменениями по Жамойде, Петрову, 2008; Краснову и др., 2009 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Антонова В.А. Флора сергиевской свиты (поздний девон) Кузбасса // Вестник Томского ГУ. 2007. № 304. – С. 195–197. Иванов А.О. Уникальное местонахождение живетских позвоночных Центрального девонского поля: Материалы II Всерос. конф., посвященной 175-летию со дня рождения Н.А. Головкинского «Верхний палеозой России: стратиграфия и фациальный анализ». – Казань: КГУ, 2009. – С. 92. Иванушкин А.Г., Богоявленская О.В., Зенкова Г.Г. и др. Девонские отложения западного склона Южного Урала // Литосфера. 2009. № 1. – С. 3–22. Каратаюте-Талимаа В.Н. Род Asterolepis из девонских отложений Русской платформы // Вопросы геологии Литвы. – Вильнюс: Ин-т геол. и геогр., 1963. – С. 65–224. Краснов В.И., Перегоедов Л.Г., Ратанов Л.С. и др. Стратиграфия девонской системы Сибири. Проблемы корреляции: Материалы II Всерос. конф., посвященной 175-летию со дня рождения Н.А. Головкинского «Верхний палеозой России: стратиграфия и фациальный анализ». – Казань: КГУ, 2009. – С. 29–31. Родионова Г.Д., Умнова В.Т., Кононова Л.И. и др. Девон Воронежской антеклизы и Московской синеклизы. – М., 1995. – 265 с. Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований. Постановления МСК. Вып. 38 / Ред. А.И. Жамойда, О.В. Петров. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. – 131 с. Толоконникова З.А. Фаменские мшанки западной части Алтае-Саянской складчатой области. – Новокузнецк: КузГПА, 2008. – 125 с. Esin D., Ginter M., Ivanov A. et al. Vertebrate correlation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous on the East European Platform // Cour. Forsch.-Inst. Senckenb. 2000. N 223. – P. 341–359. Lukevis E. Bothriolepid antiarchs (Vertebrata, Placodermi) from the Devonian of the north-western part of the East European platform // Geodiversitas. 2001. Vol. 23. N 4. – P. 489–609. Lukevis E., Lebedev O.A., Zakharenko G.V. Paleozoogeographical connections of the Devonian vertebrate communities of the Baltic Province. Part I. Eifelian-Givetian // Palaeoworld. 2010. Vol. 19. N 1–2. – P. 94–107. Moloshnikov S.V. Devonian antiarchs (Pisces, Antiarchi) from Central and Southern European Russia // Paleontol. J. 2008. Vol. 42. Suppl. N 7. – P. 691–773. Материалы III Всероссийского совещания В живетское время антиархи распространяются шире, они представлены как астеролепиформами, так и ботриолепиформами. На ЦДП известны птерихтиодиды Byssacanthus sp. из ардатовского горизонта (Иванов, 2009) и предположительно ботриолепидиды Bothriolepididae (?) gen. et sp. indet. из старооскольских отложений (Moloshnikov, 2008). В Тывинской впадине были обнаружены единичные остатки дианолепидид Tenizolepidinae gen. et sp. indet., сходных с живетскими тенизолеписами из Центрального Казахстана, что подтверждает связь между Алтае-Саянской и Джунгаро-Балхашской палеобиогеографическими провинциями в это время. Раннефранские антиархи на ЦДП представлены комплексом астеролепидид: Asterolepis ra­ diata Rohon, Asterolepis cf. A. syasiensis Lyarskaya, Asterolepis sp. indet. (Moloshnikov, 2008). Это самый поздний комплекс на исследуемой территории, в котором присутствуют астеролепидиды, датируемый предположительно позднетиманским временем. В саргаевско-ливенских отложениях ЦДП известны только единичные находки ботриолепидид (Родионова и др., 1995; Esin et al., 2000; Moloshnikov, 2008; и др.). Редкие ботриолепидиды известны и в позднем фране Южного Урала (низы аскынского горизонта): Bothriolepis markovskii Moloshnikov и Bothriolepis sp. (Иванушкин и др., 2009); а также в позднем фране Оренбургского Предуралья (Bothriolepididae gen. et sp. indet.). На территории Южной Сибири во фране ботриолепидиды были более многочисленными (рисунок). Среди южносибирской франской ихтиофауны преобладает Bothriolepis sibirica Obruchev, остатки которого часто встречаются в ойдановском и кохайском горизонтах Минусинской и Тувинской впадин, а также в соломинском горизонте Кузнецкого прогиба (Антонова, 2007). В фамене ЦДП ботриолепидиды разнообразны и многочисленны, в это же время появляются и ремиголепидиды. Из задонского ихтиокомплекса известны (Moloshnikov, 2008): Bothriolepis sosnensis Moloshnikov, Bothriolepis cf. B. leptocheira Traquair, Bothriolepis sp. indet., Livnolepis zadonica (Е. Obrucheva), Rossolepis brodensis Moloshnikov, Remigolepis (?) sp. В плавском ихтиокомплексе присутствует Bothriolepis ciecere Lyarskaya, характерный для кетлерского горизонта Прибалтики (Lukevis, 2001); в хованском – ремиголепидид Remigolepis armata Lukevis. В Минусинской впадине в фамене представлен один вид ботриолепиформных антиарх – тубалепидид Tubalepis extensa (Sergienko). На территории Кузнецкого прогиба из подонинского горизонта известны микроостатки Bothriolepis sp. и Antiarchi indet. (Толоконникова, 2008). Таким образом, в южных областях России антиархи представлены двумя отрядами: Astero­ lepiformes и Bothriolepiformes. Астеролепиформы были развиты только в эйфеле – раннем фране на территории Центрального девонского поля (Урало-Европейская палеобиогеографическая провинция). Ботриолепиформы же были распространены значительно шире. Они присутствуют в Урало-Европейской и Алтае-Саянской провинциях. Для последней характерно развитие только представителей этого отряда и отсутствие в ихтиофауне астеролепиформых антиарх. 159 Ю.И. Морокова, А.Н. Шадрин Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ТУЛЬСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ реки ШАРЪЮ: ЛИТОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 160 Отражением одного из ключевых этапов развития северо-восточной части Европейской платформы являются отложения тульского горизонта визейского яруса нижнего карбона. Время их образования соответствует началу крупной трансгрессии, в результате которой терригенное осадконакопление, характерное для большей части данной территории, сменяется карбонатным (Елисеев, 1987). В бассейне р. Шаръю выход отложений тульского возраста имеется только на левом притоке – руч. Сортамаель в обн. 7 (Елисеев, 1963). Нижняя граница приходится на необнаженный участок мощностью 10 м, перед которым выступают фаменские известняки. Верхняя граница представляет собой непосредственный контакт с алексинскими породами. Видимая мощность горизонта составляет 22,6 м. Весь разрез можно разделить на три крупные пачки (снизу вверх). Пачка 1 (0—12,8 м). Чередование слоев и в редких случаях линз биокластовых известняков (мощность 5–15 см) и тонкослоистых, часто рассланцованных глинистых биокластовых известняков (мощность 0,5–8 см). Снизу вверх по разрезу количество и мощности глинистых прослоев несколько снижаются. Соотношение по всему объему пачки малоглинистых и глинистых составляет примерно 3/2. В основании пачки (3 м) наблюдается переслаивание светло-серых массивных фораминиферово-биокластовых и глинистых известняков. Поверхность напластования неровная, часто бугристая. В составе пород отмечается большое количество члеников мелких криноидей (от 1 до 5 мм), а также единичные створки и скопления фрагментов мелких брахиопод (до 2 см). Кроме того, встречаются брахиоподы из рода Gigantoproductus размерностью до 10 см, единичные фрагменты мшанок и гастропод, обломки кораллов как одиночных, так и колониальных (Lithostrotion, Syringopora) (до 20–25 см в поперечнике). На крупных брахиоподах наблюдаются фрагменты игл. Не обнажено 2 м. Далее на протяжении 2,5 м по мощности – известняки фораминиферово-биокластовые и биокластово-фораминиферовые, светло-серые и темно-серые. Характер переслаивания аналогичен тому, что описано выше. Отличительная особенность данной пачки заключается в том, что в глинистых известняках встречаются следы ползания илоедов, достаточно крупных размеров (ширина одного хода до 1,5 см). В кровле пачки (5,3 м) выступают светло-серые массивные полибиокластовые и биокластово-фораминиферовые известняки, переслаивающиеся с прослоями глинистых известняков. Граница между массивными и глинистыми разностями здесь имеет волнисто-бугристый характер. В составе пород визуально наблюдаются членики криноидей, мелкие створки брахиопод, брахиоподы из рода Gigantoproductus, единичные мелкие веточки ругоз и раковины гастропод. Кроме того, в глинистых прослоях отмечаются ходы илоедов и единичные фрагменты мшанок. Пачка 2 (12,8—17,5 м). Тонкослоистые глинистые известняки с линзами (от 0,5 × 5 см до 7 × 20 см) и прослоями известняков малоглинистых. Снизу вверх по разрезу количество последних растет от единичных линз до прослоев, занимающих половину объема пачки. В нижней части пачки в глинистых известняках в единичных случаях наблюдаются известняковые гальки более темного цвета, чем вмещающая порода. Соотношение по всему объему пачки малоглинистых и глинистых известняков составляет 1/3. В составе пород визуально наблюдаются редкие створки брахиопод (от 0,05 до 1 см), мелкие членики криноидей (1–4 мм) и единичные мелкие ругозы. В прослоях глинистых известняков по подошве слоев в большом количестве наблюдаются следы жизнедеятельности илоедов и редкие отпечатки ползания. Микроскопически это известняки полибиокластовые перекристаллизованные и биокластово-фораминиферовые, светло-серые и темно-серые, переслаивающиеся с прослоями глинистых известняков. Пачка 3 (17,5–22,6 м). Литологический состав характера пород аналогичен пачке 1. Цвет пород – серый, темно-серый. Местами наблюдается слабоволнистая слоистость. Обычно она приурочена к глинистым известнякам, где обусловлена взаиморасположением биокластового материала. Также отмечается волнистая поверхность напластования. Глинистые известняки сильнее подвержены выветриванию и имеют худшую сохранность на дневной поверхности. Материалы III Всероссийского совещания На протяжении 3,9 м по мощности идут известняки сильно доломитизированные (1,3 м) и биокластово-фораминиферовые. Они сменяются известняками с мелкими брахиоподами и члениками криноидей. Кроме того, встречаются брахиоподы из рода Gigantoproductus размерностью до 10 см. По плоскости напластования присутствуют одиночные ругозы, колонии Syringopora. В кровле пачки (1,2 м) выступают трещиноватые, более глинистые биокластовые известняки. По всему объему данного интервала наблюдается большое количество остатков брахиопод, кораллов, криноидей и гастропод. В глинистых прослоях во всех случаях колонии кораллов находятся в опрокинутом состоянии. В малоглинистых – в редких случаях присутствуют и в прижизненном положении. Одиночных кораллов в прижизненном положении не отмечается. Иногда встречаются фрагменты мшанок. В глинистых прослоях обычно имеются следы деятельности илоедов. По результатам проведенных исследований следует, что тульские отложения изученного разреза представлены чистыми и сильноглинистыми известняками, в редких случаях доломитизированными. Среди них можно выделить следующие основные литологические типы: ЛТ1 – фораминиферово-биокластовый известняк; ЛТ2 – биокластово-фораминиферовый известняк; ЛТ3 – полибиокластовый перекристаллизованный известняк; ЛТ4 – сильно доломитизированный известняк. По всему исследуемому разрезу преобладают биокластовые известняки. Однако в нижней части разрез (пачка 1) сложен преимущественно фораминиферово-биокластовыми разностями. Их доля составляет более 50 %, а в верхней части разреза (пачка 2, 3) растет количество фораминифер, и здесь преобладают биокластово-фораминиферовые известняки. В то же время измененные породы, в частности перекристаллизованные и сильно доломитизированные биокластовые известняки, в большом количестве наблюдаются в пачке 3. Глинистость изученных пород различна. Можно заметить, что в разрезе есть два интервала, на которых глинистые породы играют более существенную роль. Это нижняя часть пачки 1 и пачка 2. Кроме того, сильно глинистые известняки встречаются в виде линз за необнаженным участком, в середине пачки 1. Преобладающими органогенными остатками в породах являются брахиоподы, фораминиферы, криноидеи, мшанки и остракоды. Причем, если фораминиферы, брахиоподы и криноидеи практически в равных количествах встречаются по всему разрезу, то все остальные – дискретно. Так, максимальное количество кораллов наблюдается в основании пачки 1 перед необнаженным участком и в кровле этой пачки, а также в середине пачки 3, после доломитизированных известняков. Остракоды отмечены преимущественно только в середине первой пачки, а остатки мшанок время от времени встречаются только в объеме пачки 1. На основе данных химических анализов пород отмечается, что максимальное значение Ti приурочено к глинистым участкам в разрезе или к линзам глинистых известняков. Максимальное содержание Sr в породах соответствует интервалам, на которых преобладают чистые известняки. Содержание Mn снизу вверх по разрезу постепенно увеличивается с единичными минимумами в кровле пачки 1 и в основании пачки 2, что может быть связано с переходом от чистых известняков к глинистым. Согласно результатам проведенных работ, изученные отложения были сформированы в пределах средней части сублиторали, о чем говорит большое количество макрофауны и планктонных организмов. Весь разрез можно разделить на две части, в которых сначала наблюдается преобладание глинистых пород и постепенное уменьшение их количества в объеме отложений. Причем нужно заметить, что во второй части разреза среди биокластового материала преобладают планктонные организмы (фораминиферы), что может указывать на относительно небольшое углубление бассейна седиментации. Вариации в составе карбонатных пород глинистого материала могли происходить по двум вероятным причинам: из-за периодичного изменения интенсивности гидродинамических процессов или вследствие колебаний уровня моря, приближавшие и удалявшие источник терригенного материала. Работа выполнена при поддержке программы УрО РАН, 12-У-5-1017. Елисеев А. И. Стратиграфия и литология каменноугольных отложений гряды Чернышева. – М.–Л.: Наука, 1963. – 172 с. Елисеев А. И. Формации зон ограничения северо-востока европейской платформы (поздний девон и карбон). – Л.: Наука, 1978. – 203 с. 161 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Ф.А. Муравьев, Ю.П. Балабанов, М.П. Арефьев 162 МАГНЕТИЗМ И ПАЛЕОПОЧВЫ ПРИГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПЕРМИ И ТРИАСА РАЗРЕЗА ЖУКОВ ОВРАГ В БАССЕЙНЕ реки КЛЯЗЬМА Разрез Жукова оврага во Владимирской области, на правобережье р. Клязьмы, вскрывающий приграничные отложения перми и триаса, давно привлекает внимание геологов. В последнее десятилетие интерес к этому разрезу вновь возрос в связи с появлением новых палеонтологических, палеомагнитных и литолого-минералогических данных в результате детальных исследований (Сенников, Голубев, 2010; Newell et al., 2010; Молостовская, 2010; Муравьев, Балабанов, 2011 и др.). В ходе этих работ был собран богатый палеонтологический материал (тетраподы, рыбы, остракоды и др.) и выявлена постепенная и мозаичная смена фауны на рубеже перми и триаса. Верхнюю песчано-алевритовую часть разреза Жукова оврага с характерным переходным типом фауны В.К. Голубев с соавторами (Сенников, Голубев, 2010) предложил выделить в виде жуковского горизонта вятского яруса верхней перми. Такой же постепенный характер носит изменение намагниченности пород в пределах этого горизонта, а граница палеомагнитных зон R3P и N1T лежит внутри алевролитовой пачки (Муравьев, Балабанов, 2011). Резкое (на порядок) возрастание значений магнитных свойств при переходе от пермских пород к триасовым, обаруженное в разрезах Китая и Восточно-Европейской платформы (Буров Б.В., 2004), связывается многими исследователями с привносом магнитных минералов воздушным путем вместе с пепловым материалом. Однако наши исследования разреза Жукова оврага (Муравьев, Балабанов, 2011) показали, что резкое увеличение значений магнитных свойств происходит не на границе перми и триаса, а существенно ниже по разрезу, в пределах глинисто-алевритовой пачки пород (низы гороховецкой пачки). Данное изменение, скорее всего, связано с биокосной активностью, сопровождающей формирование палеопочв. И наоборот, отложения с примесью камуфлированного пеплового материала не несут следов биогенного преобразования и отличаются пониженными значениями намагниченности. Так, в разрезе замошниковских слоев вятского горизонта верхней перми у д. Сухоборка на р. Ветлуга нами был обнаружен измененный пепловый горизонт, представляющий собой прослой красной монтмориллонитовой глины с низкими магнитными свойствами без следов педогенеза. Основными методами исследования пермо-триасовых отложений Жукова оврага служили: палеомагнитный анализ, ДТМА, петрографическое описание, рентгено-структурный анализ (дифрактометр Shimadzu XRD-7000), электронная микроскопия с микрозондом (СЭМ EVO GM Carl Zeiss). В литологическом плане все терригенные породы изучаемого разреза имеют сходный минеральный состав и различаются долями обломочной, глинистой и карбонатной составляющих. Обломки представлены кварцем, полевыми шпатами, глинистая компонента – смектитом, мусковитом и хлоритом, карбонатная – доломитом в нижней части, кальцитом и доломитом в верхней части разреза. Отличительной особенностью красноцветных Рис. 1. Микрофотография прикорневой глеевой трубки. Справа – распределение Fe и Mn по профилю 1–8. Палеопочвенный горизонт, P3v, Жуков овраг Иноземцев С.А., Таргульян В.О. Верхнепермские палеопочвы Восточно-Европейской платформы: диагностика педогенеза и палеогеографическая реконструкция // Почвоведение. 2010. № 2. – С. 143–156. Молостовская И.И. О границе перми и триаса в разрезе Жукова оврага // Известия вузов. Геология и разведка. 2010. № 3. – С. 10–14. Муравьев Ф.А., Балабанов Ю.П. Литология и магнетизм пограничных пермо-триасовых отложений разреза Жуков овраг: Материалы 6-го Всерос. литологич. сов. – Казань: Казанский федеральный университет, 2011. – С. 64–66. Материалы III Всероссийского совещания отложений разреза Жукова оврага являются палеопочвы, формирующие на разных уровнях несколько горизонтов как в пермских, так и в триасовых отложениях. Морфологическими признаками палеопочв являются: ветвящиеся субвертикальные глеевые прикорневые трубки, ортогональная структурная отдельность, отсутствие слоистости, пятна и зоны оглеения, карбонатные и железистые стяжения, поверхности скольжения на стенках трещин (Иноземцев, Таргульян, 2010). Детальные исследования глеевых прикорневых трубок в палеопочвенных горизонтах показали, что в продольном разрезе трубок отчетливо выделяются три Рис. 2. Электронно-микроскопический снимок биогенных зоны: центральная, темная, сложелезо-марганцевых образований на стенке прикорневой женная новообразованиями желеглеевой трубки. Палеопочвенный горизонт, T1i, Жуков овраг зо-марганцевых минералов и кальцита, окаймленная с двух сторон узкими глеевыми зонами (рис. 1). Стенки центральной зоны прикорневых трубок покрыты сферическими образованиями типа «мятой бумаги» явно микробиальной природы, подложкой для них служит покров спутанно-волокнистых, нитчатых и яйцевидных агрегатов (рис. 2). Сферические образования представлены окислами и гидроокислами марганца, а подложка – окислами железа, близкими по составу к магнетиту. Спектры микрозондового анализа, снятые по профилю поперек прикорневой трубки, показали, что в ее центральной зоне происходит концентрация Fe и Mn (рис. 1). Таким образом, можно констатировать, что в палеопочвенных профилях после отмирания корневой системы растений в прикорневых зонах возникали локальные восстановительные условия, приводящие к перераспределению железа и формированию биогенного магнетита. Крупные, хорошо окристаллизованные кристаллы кальцита, часто встречающиеся на поверхности биогенных образований в прикорневых глеевых трубках, согласно работе С.А. Иноземцева, В.О. Таргульяна (2010), являются показателями постпедогенной, диагенетической стадии развития палеопочв. Кроме биогенных минералов железа, в исследуемых породах среди магнитных минералов встречается кристаллический (обломочный) маггемит, магнетит, титаномагнетит и хромит. Два последних минерала формируют как отдельные кристаллы размером 1–5 мкм, так и агрегаты кристаллов размером 10–20 мкм с элементами распада твердого раствора. Эти признаки могут свидетельствовать о привносе минералов с пепловым материалом. Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие выводы: 1. В разрезе Жукова оврага в пермских и триасовых отложениях выделяется несколько горизонтов палеопочв, с которыми связано биогенное перераспределение железа. 2. Минералы магнитной фракции пермо-триасовых отложений Жукова оврага относятся к трем генетическим типам: биогенному, обломочному и вулканогенному. 3. Палеомагнитные (Муравьев, Балабанов, 2011), литолого-минералогические и палеонтологические (Сенников, Голубев, 2010) данные свидетельствуют об устойчивости палеогеографических и палеоклиматических условий на рубеже перми и триаса в центральной части Московской синеклизы и постепенной, не катастрофической, смене фаун. 163 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Сенников А.Г., Голубев В.К. Пограничные отложения перми и триаса гг. Вязники и Гороховец (Владимирская область) // Палеонтология и стратиграфия перми и триаса Северной Евразии: Материалы V Междунар. конф. – М.: ПИН РАН, 2010 – С. 102–107. Newell A.J., Sennikov A.G., Benton M.G. et al. Disruption of playa-lacustrine depositional systems at the Permo-Triassic boundary: evidence from Vyazniki and Gorokhovets on the Russian Platform // J. of Geological Society. London. 2010. Vol. 167. – P. 695–716. 164 Л.Н. Неберикутина, О.Р. Минина, В.А. Аристов ПАЛИНОМОРФЫ И КОНОДОНТЫ В СРЕДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ В последние годы в пределах Западного Забайкалья выделяется обширная зона палеозоид – Байкало-Витимская складчатая система (БВСС), в состав которой входят каледонские и герцинские структуры (Руженцев и др., 2012). При решении вопросов стратиграфии, в частности при определении возраста стратифицированных образований, использовались определения разнообразных органических макро- и микроостатков. Особое внимание уделялось палинологическим исследованиям. Использование палинологического метода позволило выработать детальную биостратиграфическую (фитостратиграфическую) основу для выделения и расчленения верхнедевонских отложений Уакитского и Бамбуйско-Олингдинского районов (Минина, 2003). В настоящее время представительные комплексы миоспор девона и карбона установлены в стратонах Багдаринской, Еравнинской и Курбинской подзон. Все стратоны охарактеризованы комплексами органических остатков. Багдаринская подзона. К среднему палеозою здесь отнесены ороченская, якшинская, точерская и багдаринская свиты (Минина и др., 2011; Руженцев и др., 2012). Представительные комплексы миоспор выделены во всех стратонах. В составе комплекса миоспор карбонатной ороченской свиты преобладают виды Geminospora parvibasilaris (Naum.) Byv., Lophozonotriletes scurrus Naum., Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens и др., распространенные в девоне, и Acanthotriletes serratus Naum., Archaeozonotriletes nanus Naum., Lophozonotriletes grumosus Naum. var. minor Naum. и др., характерные для отложений живетского яруса среднего девона. Миоспоры позволяют ограничить время образования отложений живетским веком среднего девона. В составе комплекса микрофоссилий нижней подсвиты якшинской свиты преобладают виды Brochotriletes faveolatus Naum. var. minor Naum., Knoxisporites polymorphus (Naum.) Bar. et Hil., Geminospora subcompacta (Naum.) Obukh. и др., характерные для франского яруса (вероятнее всего, нижнефранского подъяруса) верхнего девона. В верхней подсвите выделены виды Hymenozonotriletes denticulatus Naum., H. velatus Naum., Brochotriletes faveolatus Naum. var. minor Naum., Lophozonotriletes crassatus Naum., L. excisus Naum., L. kuschkulicus Tschibr., Verrucosisporites grumosus (Naum.) Sull., характерные для верхней части франского яруса верхнего девона. Следует отметить, что комплексы миоспор содержат около 25 % живетских видов, которые мы считаем переотложенными из нижележащих отложений ороченской свиты. Возраст точерской свиты охватывает стратиграфический интервал от фаменского яруса верхнего девона до визейского яруса нижнего карбона. Миоспорами охарактеризованы средняя и верхняя подсвиты. В средней подсвите в составе комплекса миоспор преобладают виды Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk., Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., Auroraspora varia (Naum.) Ahmet, Anreticulispora retiformis (Naum.) Zbuk., Kedoesporites imperfectus (Naum.) Obukh. и др., распространенные в верхнем девоне – нижнем карбоне, и Tumulispora rarituberculata (Luber) Pot., Grandispora famenensis (Naum.) Streel, распространенные в фаменском ярусе верхнего девона – нижнем карбоне. В верхней подсвите установлены Dictyotriletes rotundatus Naum., Verrucosisporites mesogrumosus (Kedo) Byv., Auroraspora rugosiuscula (Jusch.) Byv., Leiotriletes ornatus Isch., Dictyotriletes similis Kedo, Cyclogranisporites punctulatus (Waltz) Luber, Cymbosporites acutus (Kedo) Byv., Spelaeotriletes microgranulatus Byv. var. minor Byv., Anulatisporites tersus (Waltz) Pot. et Kr., Hymenozonotriletes ugulatus Jusch., характерные для отложений нижнего карбона, а Lycospora pusilla (Ibr.) S., W. et B. преобладает в визейском ярусе нижнего карбона. Возраст нижней и средней частей разреза багдаринской свиты определяется как верхнедевонский (возможно до нижнего карбона), а верхней части – нижне-среднекаменноугольный. Миоспоры установлены Материалы III Всероссийского совещания в нижней и средней подсвитах и представлены Hymenozonotriletes denticulatus Naum., H. velatus Naum., Lophozonotriletes crassatus Naum., L. excisus Naum., L. kuschkulicus Tschibr., Verrucosisporites grumosus (Naum.) Sall., Archaeozonotriletes tschernovii Naum., A. nalivkinii Naum., A. timanicus Naum., Hymenozonotriletes dentatus Naum., H. mancus Naum. и др., типичными для отложений франского яруса верхнего девона. Комплекс миоспор из верхней подсвиты характеризуется присутствием видов Leiotriletes ornatus Isch., Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., Gravisporites basilaris (Naum.) Pashk., Auroraspora varia (Naum.) Ahm., Diaphanospora rugosa (Naum.) Bal. et Hass., распространенных в среднем девоне – среднем карбоне, Lophotriletes normalis Naum., Punctatisporites atavus (Naum.) Andr., Lophozonotrletes grandis Naum., L.curvatus Naum., Laevigatisporites ovalis Kos. – в среднем девоне – нижнем карбоне. Вид Tuberculispora turbinata (Naum.) Oshurk. распространен в верхнем девоне – карбоне, Lophotriletes pennatus (Isch.) Kedo – в карбоне – мелу, а роды Tuberculatosporites Imgr., Gleichenia Smith., впервые появляясь в карбоне, проходят до триаса и кайнозоя соответственно. Этот палинокомплекс только условно может быть отнесен к карбону (? нижний–средний карбон). Кроме миоспор, во всех палинологических препаратах встречены многочисленные обрывки тканей высших растений, которые появляются в силуре. Еравнинская подзона. Среднепалеозойский разрез подзоны включает озернинскую, кыджимитскую, еравнинскую, ульзутуйскую толщи, исташинскую и сурхебтинскую свиты (Минина и др., 2008, 2011; Руженцев и др., 2012). Миоспорами охарактеризованы ульзутуйская толща и исташинская свита. В составе палинокомплекса нижней части разреза исташинской свиты преобладают виды Geminospora micromanifesta (Naum.) Owens, G. micromanifesta (Naum.) Owens var. crispus Tschibr., G. micromanifesta (Naum.) Owens var. limbatus Tschibr., G. micromanifesta (Naum.) Owens var. colatatus Tschibr., G. compta (Naum.) Owens var. densispinosus Tschibr., Archaeozonotriletes variabilis Naum., Hymenozonotriletes monoloris Pych., H. efremovae Pych., H. kaljudschae Pych., H. tichchomirovii Naum., H. duplex Pych., H. trisulcus Pych., Grandispora longa (Arch.) Tschibr, характерные для нижнефранского подъяруса верхнего девона. В верхней части разреза свиты комплекс миоспор характеризуется видами Cyclogranispora rugosus (Naum.) Oschurk., Archaeozonotriletes variabilis Naum., Acanthotriletes unicus Kedo, Geminospora parvibasilaris (Naum.) Byv., распространенными в верхнем девоне, Brochotriletes faveolatus Naum. var. minor Naum., Punctatisporites medius (Naum.) Oschurk. и др., характерными для франского яруса верхнего девона. Палинокомплекс ульзутуйской толщи в нижней части разреза содержит виды Tuberculispora perspicuus (Naum.) Oshurk., Brochotriletes faveolatus Naum. var. minor Naum., Iudisporis denticulatus (Naum.) Oshurk., Hymenozonotriletes mancus Naum., типичные для отложений верхнего девона, и Kedoesporis angulosus (Naum.) Obukh., Hymenozonotriletes multigulatus Kedo, характерные для фаменских отложений верхнего девона. В верхней части разреза установлены миоспоры Tetraporina contragosa Tet., Cyclogranisporites punctulatus (Waltz) Luber var. giganteus Waltz., Euryzonotriletes planus Naum., Verrucosisporites microthelis (Lub.) Oschurk., Leiotriletes subintortus (Waltz) Isch. var. rotundatus Isch. и др., распро­страненные в нижнем–среднем карбоне, а виды Simozonotriletes intortus (Waltz) Isch. var. trigonus Kedo, Punctatisporites platyrugosus (Waltz) Sulliv. var. giganteus Waltz, Chomotriletes concentricus (Byv.) Oshur., Vallatisporites genuinus (Jusch.) Byv., Hymenozonotriletes minimus Kedo, Verrucosisporites mesogrumosus (Kedo) Byv., Diaphanospora submirabilis (Kedo.) Byv. характерны для отложений нижнего карбона. Курбинская подзона. Среднепалеозойские отложения включают фаунистически охарактеризованные бадотинскую, пановскую, ямбуйскую и зумбурукскую свиты (Минина и др., 2010; Руженцев и др., 2012). В бадотинской, пановской и зумбурукской свитах установлены комплексы миоспор. В бадотинской свите верхнего девона выделен комплекс миоспор, в составе которого встречены виды Brochotriletes faveolatus Naum., Archaeozonotriletes formosus Naum., Kedomonoletes glaber (Kedo) Oshurk. и др., характерные для фаменского яруса верхнего девона. Возраст пановской свиты мы считаем позднедевонско (фамен)-раннекаменноугольным (турне). Комплекс миоспор нижней подсвиты пановской свиты содержит виды Gravisporites basilaris (Naum.) Byv., Geminospora rugosa (Naum.) Obukh., Auroraspora varia (Naum.) Ahmet, Reticulatisporites retiformis (Naum.) Obukh., Kedoesporis imperfectus (Naum.) Obukh. и др., распространенные в верхнем девоне – нижнем карбоне. В верхней подсвите установлены Anulatisporites tersus (Waltz) Pot. et Kr., Dictyotriletes similis Kedo, Cymbosporites acutus (Kedo) Byvsch., Hymenozonotriletes ugulatus Jusch., Leiozonotriletes turbinatus (Waltz) Oshurk., Spelaeotriletes microgranulatus Byvsch. var. minor Byvsch., характерные для отложений нижнего карбона (турнейский ярус). Зумбурукская свита, возраст которой считается каменноугольным, содержит комплекс миоспор, в составе которого преобладают виды Laevigatisporites vulgaris (Ibr.) Alp. et Doub., Marsupipollenites geminus (Jsch.) Oshurk., распространенные в карбоне, и Lycospora pusilla (Ibr.) S.,W. et B., Tetraporina prima Naum. и др., характерные для нижнего (визе) – среднего карбона. 165 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео166 Временные интервалы, полученные по миоспорам для стратиграфических подразделений Багдаринской, Еравнинской и Курбинской подзон, хорошо коррелируются с данными по другим группам органических остатков (Аристов и др., 2010; Минина и др., 2007). Миоспоры в большинстве случаев позволяют нам уточнить возраст отложений и датировать их до яруса или подъяруса. Временные интервалы корреляции, установленные по миоспорам, позволяют сопоставлять местные стратиграфические подразделения и проводить межрегиональные корреляции. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 12-05-00324). Аристов В.А., Катюха Ю.П., Минина О.Р., Руженцев С.В. Стратиграфия и конодонты палеозоя Удино-Витимской складчатой системы (Забайкалье) // Геодинамическая эволюция литосферы Центрально-Азиатского подвижного пояса (от океана к континенту). – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2010. Вып. 8. Т. 1. – С. 24–26. Минина О.Р., Филимонов А.В., Савченко А.А., Катюха Ю.П. Средний-верхний палеозой Западного Забайкалья: проблемы выделения и биостратиграфии // Проблемы геологической и минерагенической корреляции в сопредельных территориях России, Китая и Монголии: Труды VII Междунар. сим. – Чита, Изд-во ЗабГГПУ, 2007. – С. 45–48. Минина О.Р. Стратиграфия и комплексы миоспор отложений верхнего девона Саяно-Байкальской горной области. Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук. – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2003. – 17 с. Минина О.Р., Руженцев С.В., Аристов В.А. и др. Новые данные по стратиграфии палеозоя ИкатБаг­даринской и Еравнинской зон Забайкалья // Геодинамическая эволюция литосферы ЦентральноАзиатского подвижного пояса (от океана к континенту). – Иркутск: ИЗК СО РАН, 2008. Вып. 6. Т. 2. – С. 38–41. Руженцев С.В., Минина О.Р., Некрасов Г.Е. и др. Байкало-Витимская складчатая система: строение и геодинамическая эволюция // Геотектоника. 2012. № 2. – С. 3–28. В.Ю. Обуховская МИОСПОРЫ РОДА RHABDOSPORITES, ИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В КОРРЕЛЯЦИИ СРЕДНЕДЕВОНСКИХ (ЭМС-ЖИВЕТСКИХ) ОТЛОЖЕНИЙ БЕЛАРУСИ, РУССКОЙ ПЛАТФОРМЫ И БОЛЕЕ УДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ К роду Rhabdosporites Richardson emend. Marshall et Allen, 1982 относятся каватные радиальные трехлучевые миоспоры преимущественно округлого, реже треугольно-округлого очертания, слои экзины которых расслаиваются в районе экватора и дистальной стороны, оставаясь слитными в районе щели прорастания. Интэкзина у этих миоспор гладкая, экзоэкзина скульптурирована мелкими столбиками, шипиками либо гранулами. Толщина экзоэкзины изменчива, щель прорастания прямая, лучи равны от 1/3 до полного радиуса интэкзины, сопровождаются валиками, иногда образующими на концах своеобразную «петельку». В появлении видов, выделяемых в составе рода Rhabdosporites в девонских отложениях Беларуси, наблюдается определенная закономерность. Наиболее древним его представителем является вид Rhabdosporites mirus Archangelskaya (Ар­­хангельская, 1985), появляющийся с основания витебского горизонта. R. mirus отличается от других видов рода небольшими (до 100 мкм) размерами; наличием курватурных дуг и мелкостолбчатой, с заостренными вершинками орнаментацией. В миоспоровых ассоциациях с R. mirus преобладают Dibolisporites и Apiculiretusispora, присутствуют Calyptosporites tener (Tschibrikova) Obukhovskaya var. concinnus Tschibrikova, Lanatisporites hispidus Archangelskaya, единичные Diaphanospora inassueta (Tschibrikova) Archangelskaya, что позволяет коррелировать витебский горизонт с ряжским горизонтом Центральных районов Русской плиты (зона Diaphanospora inassueta). R. mirus изредка встречается в залегающих выше адровско-освейских отложениях эйфельского яруса. Архангельская А.Д. Зональное расчленение по спорам и межрегиональная корреляция нижней части среднего девона центральных и восточных областей Европейской части СССР // Палинология протерофита и палеофита. – М.: Наука, 1974. – С. 56–59. Архангельская А.Д. Споры из отложений нижнего и среднего девона Русской плиты // Атлас спор и пыльцы нефтегазоносных толщ фанерозоя Русской и Туранской плит. – М.: ВНИГНИ, 1985. – С. 32–79. Allen K.C. Lower and Middle Devonian spores of North and Central Westspitsbergen // Palaeontology. 1965. N 4. – P. 687–747. Owens B. Miospores from the Middle and Early Devonian rocks of the Western Queen Elizabetz Islands, Arctus Archipelago // Geol. Surv. Canada. 1971. – 157 p. Richardson J.B. Spores from the Middle Old Red Sandstone of Cromarty, Scotland // Palaeontol. 1960. Vol. 3. Pt. 1. – P. 45–63. Richardson J. Middle Old Red Sandstone spore assemblage from the Orcadian Basin, North-East Scotland // Palaeontol. 1965. Vol. 7. Pt. 4. – P. 559–605. О.А. Орлова, Д.А. Мамонтов, С.М. Снигиревский ПОЗДНЕВИЗЕЙСКИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ МОСКОВСКОЙ СИНЕКЛИЗЫ Ископаемые растения довольно часто встречаются в верхневизейских отложениях северо-западного крыла Московской синеклизы. Ранее нами были монографически изучены лигиноптеридофиты из двух местонахождений на р. Мста (Орлова, Снигиревский, 2003, 2004; Orlova et al., 2009), выделены и детально рассмотрены комплексы микро- и мегафитофоссилий из местонахождения под дер. Путлино (Орлова, Рассказова, 2005), установлено новое древовидное плауновидное (Горденко и др., 2006) в местонахождении на р. Каменка (все – Новгородская обл.). Кроме того, начато изучение петрификаций лигнофитов (Orlova, 2010). В настоящей работе рассматриваются возможные поздневизейские растительные сообщества, восстановленные в результате палеоэкологической интерпретации палинологических данных в сочетании с данными об ископаемых растениях. Произведен палеоэкологический анализ десяти миоспоровых комплексов из трех место­ нахождений Новгородской области: 1) «Порог Витца № 2»; 2) разрез на р. Мста (между деревнями Путлино и Шиботово); 3) разрез на р. Крупа. Для исследования применялась модель палео­ экологической реконструкции, основанной на принадлежности многих родов дисперсных миоспор к естественным таксонам высших растений (Ошуркова, 2003; Balme, 1995; Bek, 2008 и др.) Споры с предполагаемой естественной принадлежностью сгруппированы в пять категорий, соответствующих группам материнских растений: 1) древовидные плауновидные (Lycospora); 2) кустарниковые/травянистые плауновидные (Densosporites, Cingulizonates и Vallatisporites); 3) растения с папоротниковидной листвой (Leiotriletes, Punctatisporites, Cyclogranisporites, Материалы III Всероссийского совещания Rhabdosporites langii (Eisenack) Richardson var. antiquus V. Obukhovskaya var. nov. появляется в адровском горизонте наряду с Periplecotriletes tortus Egorova, Calyptosporites velatus (Eisenack) Richardson. Он отличается от R. mirus овальным очертанием и отсутствием курватурных дуг; более крупными скульптурными элементами. В отложениях нижней части городокского горизонта появляются Rhabdosporites facetus Archangelskaya (Архангельская, 1974) и R. langii (Eisenack) Richardosоn (Richardson, 1960) в комплексе с Grandispora naumovae (Kedo) McGregor и Ancyrospora. R. facetus отличается сравнительно тонкой экзоэкзиной и наличием многочисленных складок смятия. R. langii имеет более толстую экзоэкзину и скульптуру в виде столбиков с закругленными вершинами типа гранул. В отложениях костюковичского горизонта наблюдается расцвет Rhabdosporites langii, появляются виды R. parvulus Richardson, R. scamnus Allen, R. micropaxillus Owens (Richardson, 1965; Allen, 1965; Owens, 1971). R. langii в небольшом количестве присутствует в миоспоровых ассоциациях полоцкого горизонта живетского яруса и исчезает на его верхней границе. Морфон R. langii, имея космополитный ареал распространения, может использоваться для корреляции одновозрастных отложений сопредельных и более удаленных территорий. 167 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео168 Apiculatisporis, Convolutispora, Knoxisporites, Raistrickia, Tripartites, Triquitrites и Schulzospora); 4) хвощевидные (Calamospora); 5) категория спор неясного систематического положения (Gorgonispora, Cincturasporites, Simozonotriletes, Tumulispora, Monilospora, Anulatisporites и др.). В свою очередь эти категории объединены в три палеоэкологических группы: 1) сообщества лесных болот (все плауновидные); 2) безлесные болотные сообщества (растения с папоротниковидной листвой; хвощевидные); 3) проблематичная группа (Jager, McLean, 2008). В результате палеоэкологической интерпретации палинокомплексов из верхневизейских отложений на р. Крупа и на р. Мста было установлено доминирование в течение мстинского и путлинского времени болотно-лесных растительных сообществ. Почти во всех изученных миоспоровых комплексах преобладают споры древовидных плауновидных – 45–91, при небольшом содержании спор травянистых плауновидных – 2–29, птеридоспермов и папоротниковидных – 14–8, и хвощевидных – 1–6 %. Проведенный нами анализ встреченных здесь растительных остатков подтвердил полученные палинологические выводы – в обоих местонахождениях доминируют растения из палеосообщества лесных болот, т. е. плауновидные (Lepidodendron sp., Stigmaria ficoides (Sternb.) Brongn., Knorria sp. и др.), при минимальном содержании в комплексе птеридоспермов. Отметим, что при анализе более древнего палинокомплекса из тихвинских отложений на р. Крупа установлено доминирование безлесного болотного сообщества с преобладанием растений с папоротниковидной листвой (48%), где содержание плауновидных не более 12, а хвощевидных – 1 %. Кроме того, в данном палинокомплексе установлено много миоспор неизвестной естественной принадлежности. Возможно, это указывает на то, что в течение позднетихвинского времени произраставшая болотная растительность просто не образовывала лесного массива. Этот факт косвенно подтверждается и тем, что здесь не были обнаружены растительные остатки. Анализ палинокомплекса из верхневизейских отложений местонахождения «Порог Витца № 2» позволил установить преобладание болотного типа растительности (рисунок), в котором главную роль играли растения с папоротниковидной листвой (55 %). Сравнительно небольшой процент в сообществе занимали древовидные и травянистые плауновидные (16 %), а также хвощевидные (5 %). В то же время в палинокомплексе содержится относительно много миоспор (24 %) неясной естественной принадлежности. Палинологические результаты по местонахождению «Порог Витца № 2» полностью соответствуют данным, полученным нами при анализе растительных остатков. Здесь в комплексе мегафитофоссилий встречено большое количество птеридоспермов (более 60%), представленных стерильными и фертильными структурами каламопитиевых (Adiantites antiquus (Ett.) Stur, A. machanekii Stur, Sphenopteridium bifidum (L. et H.) Benson, S. pachyrrhachis (Goepp.) Pot., S. jurinae O. Orl. et S. Snig., S. gaebleri Gothan, Sphenopteridium sp. 1); лигиноптеридиевых (Rhodeopteridium goeppertii (Ett.) O. Orl. et S. Snig., R. hochstetteri (Stur) Purk., R. tenue (Gothan) Purk., Sphenopteris distans Sternb., Sphenopteris sp. 1, S. foliolata Stur, Telangiopsis nonnae O. Orl. et Zav.) и медуллозовых (Rhynchogonium sulcatum (L. et H.) Zal., Boroviczia karpinskii Zal.). Плауновидные (Lepidodendron culmianum Fischer, L. veltheimii Sternb., Lepidostrobus ornatus Brongn., Lepidostrobus sp. 1, Flemingites sp. 1., Stigmaria ficoides (Sternb.) Brongn., Knorria imbricata Sternb., K. princeps Goepp., K. verrucosa Eichw., Knorria sp., Aspidiopsis sp., Syringodendron sp., Archaeosigillaria sp. 1, Archaeosigillaria vanuxemii (Goepp.) Kid.) встречаются реже (27 %), а хвощевидные (4 %) единично (Archaeocalamites radiatus (Brongn.) Stur). Следует отметить, что подобное увеличение роли «птеридоспермов-папоротниковидных» Соотношение палеоботанических групп и типов растительных сообществ на основе анализа естественной принадлежности изученных миоспор I – палеоботанические группы: 1 – древесные формы плауновидных, 2 – травянистые формы плауновидных, 3 – папоротниковидные и лигиноптеридофиты, 4 – хвощевидные, 5 – группа неизвестной естественной принадлежности; II – типы растительных сообществ: 6 – болотно-лесное сообщество, 7 – болотное сообщество Горденко Н.В., Орлова О.А., Снигиреский С.М. Novgorodendron conophorum gen. et sp. nov. – новое плауновидное из нижнекаменноугольных отложений Московской синеклизы // Палеонтол. журн. 2006. № 2. – С. 96–103. Залесский М.Д. Растительные остатки из нижнекаменноугольных отложений бассейна р. Мсты // Зап. Императорского Минерал. Общества. 1905. Ч. 42, вып. 2. – С. 313–342. Орлова О.А., Рассказова Н.Б. Возраст местонахождения поздневизейских растений «Порог Витца № 2» (д. Путлино, Новгородская область) по палинологическим данным // Палеобиология и детальная стратиграфия фанерозоя. К 100-летию со дня рождения академика В.В. Меннера. – М.: Изд-во МГУ, 2005. – С. 64–79. Орлова О.А., Снигиревский С.М. Поздневизейские лигиноптеридофиты (Lyginopteridophyta) из окрестностей г. Боровичи (Новгородская область). Часть 1. Каламопитиевые // Палеонтол. журн. 2003. № 6. – С. 105–111. Орлова О.А., Снигиревский С.М. Поздневизейские лигиноптеридофиты (Lyginopteridophyta) из окрестностей г. Боровичи (Новгородская область). Часть 2. Лигиноптеридиевые и медуллозовые // Палеонтол. журн. 2004. № 4. – С. 104–109. Ошуркова М.В. Морфология, классификация и описания форм-родов миоспор позднего палеозоя. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2003. – 377 с. Balme B.E. Fossil in situ spores and pollen grains: an annotated catalogue // Rev. Palaeobot. Palynol. 1995. Vol. 87. – P. 81–323. Bek J. Late Mississippian – early Pennysylvanian (Serpukhovian – Bashkirian) miospore assemblages of the Bohemian part of the Upper Silesian Basin, Czech Republic // Rev. Palaeobot. Palynol. 2008. Vol. 152. – P. 40–57. Jager H., McLean D. Palynofacies and spore assemblage variations of upper Visean (Mississippian) strata across the southern North Sea // Rev. Palaeobot. Palynol. 2008. Vol. 148. – P. 136–153. Orlova O.A. New findings of fossil woods from the Lower Carboniferous of Moscow Syneclise (Central Russia) // Program and Abstracts of 8th European Palaeobotany-Palynology Conference. Budapest. Hungary. 6–10 July. 2010. – P. 180–181. Orlova O.A., Zavialova N.E., Meyer-Melikyan N.R. A new microsporangiate organ of the Lower Carboniferous deposits of the Novgorod Region, Russia // Paleont. Journ. 2009. Vol. 43. N 10. – P. 1316–1329. Материалы III Всероссийского совещания может носить локальный характер и указывать на своеобразие растительного палеосообщества в данном местонахождении. В результате проведенного палеоэкологического анализа миоспоровых комплексов совместно с палеоботаническими данными прослежена тенденция к усилению роли древовидных плауновидных в составе поздневизейских растительных сообществ северо-западного крыла Московской синеклизы, а также установлено преобладание к середине позднего визе болотнолесного ландшафта. Такая ситуация резко отличается от картины на южном крыле Московской синеклизы, где начиная с тульского времени увеличилось содержание растений с папоротниковидной листвой, а роль древовидных плауновидных постепенно снижалась. Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 11–04–01604. В.Н. Пазухин, С.В. Николаева, Е.И. Кулагина СРЕДИННАЯ ГРАНИЦА КАРБОНА НА ЮЖНОМ УРАЛЕ И В ПРИУРАЛЬЕ Граница между нижним и средним карбоном стратиграфической шкалы России, или нижняя граница пенсильвания МСШ, установлена по первому появлению конодонтов Declinognathodus noduliferus (Ellison et Graves) в эволюционной последовательности Gnathodus girty simplex – D. noduliferus. Стратотип границы ратифицирован в 1996 г. (Lane et al., 1999) в разрезе Эрроу Каньон, штат Невада, США. На Южном Урале и Башкирском Приуралье пограничные отложения нижнего–среднего карбона изучены в пяти структурно-фациальных зонах. В восточной части Русской платформы (Башкирское Приуралье) граница нижнего–среднего карбона совпадает с перерывом в осадконакоплении. На западе Башкирии перерыв охва­ тывает сюранский (вознесенский и краснополянский горизонты) и на отдельных участках акавасский (северокельтменский горизонт) подъярусы (Юнусов, Архипова, 1998). Серпуховские отложения представлены сахаровидными доломитами лагунных фаций, на которых с перерывом залегают оолитовые известняки башкирского яруса фаций мелководных отмелей. 169 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео170 В Предуральском краевом прогибе в скв. 1 Леузинская фаунистически обоснованы верхи вознесенского (инт. 2665–2660 м) и краснополянский (инт. 2640,5–2637 м) горизонты (Юнусов и др., 2000). Западно-Уральская зона характеризуется развитием стриатиферовых ракушечников в верхах серпуховского яруса (староуткинский горизонт) и прибрежно-мелководных, часто ­оолитовых известняков с многочисленными фораминиферами, в том числе Pl. bogdanovkensis, и единичными конодонтами Rhachistognathus minutus и Declinognathodus inaequalis – в низах башкирского яруса (богдановский горизонт сюранского подъяруса). Во всех изученных разрезах (Лаклы, Яхино, Сим, Аскын, по р. Белая, напротив бывшего хутора Кузнецовский) башкирские известняки залегают на стриатиферовых ракушечняках со стратиграфическим несогласием. О размыве осадков свидетельствуют срезанные раковины брахиопод и выпадение из разреза низов сюранского подъяруса – фораминиферовой зоне Pl. varvariensis и конодонтовой подзоны Early D. noduliferus. В Центрально-Уральской зоне, Призилаирской подзоне (Сакмаро-Икский район) пограничные отложения относятся к бухарчинской свите и представлены в фациях глубоко погруженного шельфа (Мурадымово, Кугарчи, Богдановка, Большая Карсакла). Наиболее полная палеонтологическая характеристика получена по разрезу Мурадымово (Кулагина и др., 2001), где выявлена зональная последовательность конодонтов, фораминифер, остракод и аммоноидей. В Киинско-Шандинском районе той же подзоны развиты депрессионные маломощные известняки (Шолак-Сай), где сюранские отложения залегают со стратиграфическим несогласием на серпуховских, из разреза выпадает зона D. noduliferus. В Магнитогорской зоне, Восточно-Магнитогорской подзоне развиты шельфовые карбонатные отложения. Преобладают мелководные водорослевые и фораминиферо-брахиоподовые фации (Большой Кизил, Худолаз), ограниченное распространение имеют относительно глубоководные цефалоподовые известняки (Верхняя Кардаиловка). В Восточно-Уральской зоне (Увелька) также распространены карбонатные отложения мелководного шельфа, однако более измененные (перекристаллизованные). В целом Восточно-Уральский субрегион (Магнитогорская и Восточно-Уральская зоны) характеризуется полнотой разреза на границе подсистем. Тектонические нарушения имеются лишь в склоновых флишоидных фациях башкирского яруса разреза Верхняя Кардаиловка, где обнаружены известняковые глыбы серпуховского возраста, слагающие олистростромы (Кочеткова и др., 1977). Во всех рассмотренных фациальных типах граница нижнего–среднего карбона фиксируется по фораминиферам, конодонтам, а в наиболее глубоководных разрезах и по аммоноидеям (рисунок). Фораминиферы. В ОСШ России нижняя граница среднего карбона (башкирского яруса) соответствует границе фораминиферовых зон Monotaxinoides transitorius и Plectostaffella bogdanovkensis. На Южном Урале и в Приуралье фораминиферы встречены в разрезах всех вышеперечисленных типов. Однако в наиболее полных и непрерывных разрезах Южного Урала ниже зоны Pl. bogdanovkensis выделена зона Pl. varvariensis, которая соответствует конодонтовой подзоне Early D. noduliferus (Мурадымово, Большой Кизил). Зона Monotaxinoides transitorius характеризуется уменьшением видового разнообразия визейских видов фораминифер, развитием хаучиниид и эолазиодисцид. Впервые появляются Eostaffella amabilis, Globivalvulina bulloides и первые мелкие плектоштаффеллы (Худолаз). Граница зоны Plectostaffella varvariensis проводится по появлению редких представителей вида-индекса. Для зоны характерны: Bradyina ex gr. minima, Br. cribrostomata, Eostaffella mirifica, E. amabilis, Parastaffella utkaensa. В этой зоне отмечаются лишь единичные представители специализированных визейских видов фораминифер. Зона Plectostaffella bogdanovkensis определяется по появлению зонального вида, а также Eostaffella pseudostruvei, Semiendothyra surenica, возрастанию видового разнообразия плектоштаффелл. Характерны Endothyra bowmani, E. phrissa, Bradyina cribrostomata, Br. concinna, Milerella paraumbilicata, M. umbilicata. Аммоноидеи. Аммоноидеи из верхнесерпуховских и сюранских отложений встречены в Центрально-Уральской и Магнитогорской зонах и включают комплексы генозон Fayettevillea – Delepinoceras и Homoceras-Hudsonoceras, коррелируемые с таковыми Западной Европы, Средней Азии, Ирана и Невады. Граница нижнего и среднего карбона здесь легко узнаваема по обедненному таксономическому составу сообществ и появлению нового морфотипа аммоноидей – ребристых гомоцератид. Практически граница проводится по первому появлению видов рода Isohomoceras и вида Ramosites corpulentus. Сюранский подъярус (богдановский горизонт) начинается с генозоны Homoceras – Hudsonoceras, в которой выделяются две видовые зоны: Homoceras coronatum и Hudsonoceras proteum. Зона Homoceras coronatum разделяется на слои с Ramosites corpulentus и слои с Homoceras coronatum. Комплекс из слоев с Ramosites corpulentus включает Stenopronorites, Isohomoceras, Fayettevillea и Ramosites. Характерным для этого комплекса являются присутствие доживающего рода Fayettevillea и отсутствие представителей рода Homoceras. Вышележащие слои с H. coronatum содержат Epicanites sp., Stenoglaphyrites sp., Physematites charis, Isohomoceras bogdanovkense, Homoceras bellum, H. coronatum, Proshumardites delepinei, Fayettevillea sp. и др. Характерным для этого комплекса является присутствие на одном уровне родов Isohomoceras и Homoceras, не наблюдаемое в большинстве других разрезов мира. Вышележащая зона Hudsonoceras proteum распознается по присутствию вида-индекса, по появлению широкоумбонального груборебристого вида Homoceras haugi astrictum и гомоцератид с тонкой волнистой скульптурой. На этом уровне исчезают не только Fayettevillea, но и представители Isohomoceras и Physematites. Конодонты. В пограничных отложениях серпуховского и башкирского ярусов наиболее представительные комплексы конодонтов обнаружены в разрезах Центрально-Уральской (Мурадымово, Кугарчи, Шолак-Сай), Магнитогорской (Большой Кизил, Чернышевка) и Восточно-Уральской (Увелька) зон. В верхней части серпуховского яруса – в зоне Gnathodus bilineatus bollandensis доминируют представители родов Gnathodus и Lochriea. Нижняя граница среднего карбона фиксируется в основании зоны Declinognathodus noduliferus. Зона D. noduliferus делится на две подзоны Early и Late. Для подзоны Early D. noduliferus характерны многочисленные серпуховские виды родов Gnathodus, Lochriea, реже Cavusgnathus, на фоне которых появляются редкие представители рода Declinognathodus – D. noduliferus, D. inaequalis, D. praenoduliferus. В подзоне Late D. noduliferus полностью исчезают представители визе-серпуховских родов Gnathodus и Lochriea. В зоне Idiognathoides sinuatus помимо зонального вида появляются Id. asiaticus, Id. corrugatus. В зоне появляются редкие Neolochriea glaber. Материалы III Всероссийского совещания Соотношение аммоноидных, фораминиферовых и конодонтовых зон в пограничных отложениях нижнего и среднего карбона (миссиссипия и пенсильвания) Южного Урала 171 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Таким образом, на Южном Урале в зонах Восточно-Уральского субрегиона наблюдается непрерывная конодонтовая и фораминиферовая последовательности в пограничном интервале. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 10-05-01076. 172 Кочеткова Н.М., Лутфуллин Я.Л., Архипова В.В. Башкирские отложения Магнитогорского мегасинклинория // Стратиграфия палеозоя Южного Урала. – Уфа: БФАН СССР, 1977. – С. 78–100. Кулагина Е.И., Пазухин В.Н., Кочеткова Н.М. и др. Стратотипические и опорные разрезы башкирского яруса карбона Южного Урала. – Уфа: Гилем, 2001. – 139 с. Юнусов М.А., Масагутов Р.Х., Архипова В.В., Пазухин В.Н. и др. Башкирский ярус юго-востока Юрюзано-Айской впадины // Зональные подразделения карбона Общей стратиграфической шкалы России: Материалы Всерос. совещания, 29–31 мая 2000 г. – Уфа: Гилем, 2000. – С. 112–113. Юнусов М.А., Архипова В.В. Сводный литолого-стратиграфический разрез палеозойских отложений платформенного Башкортостана. – Уфа, 1998. Вып. 95. – С. 88–105. (Труды Башнипинефть). Lane H.R., Brenckle P.L., Baesemann J.F., Richards B. The IUGS boundary in the middle of the Carboniferous: Arrow Canyon, Nevada, USA // Episodes, 1999. Vol. 22. N 4. – P. 273–282. Ю.С. Папин, О.Ю. Устьянцева РАНГ И СТРУКТУРА ПАЛЕОЗОЯ В ОБЩЕЙ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ ШКАЛЕ Результаты современных исследований по определению соответствия крупных этапов в эволюции Земли галактическим годам неоднозначны, что довольно странно (таблица). Ведь именно рубежи галактических лет, когда Солнце оказывается в наибольшей близости от центра Галактики, должны резче всего фиксироваться в истории развития Земли, ее биоты. В такие периоды изменяются все физические поля Земли, ее форма, размеры, угловая скорость вращения, скорость движения по орбите. Увеличение гравитационного поля приводит к сжатию Земли, развиваются мощные трансгрессии моря, активизируются тектонические движения. Наиболее крупными этапами развития Земли в фанерозое, как известно, являются эры. Согласно геохронологической шкале их длительность резко различна и составляет для палеозоя 330, мезозоя – 165 и кайнозоя 67 млн лет. В связи с этим даже сложилось мнение об ускорении эволюции Земли, поскольку всякий раз длительность этапов уменьшается вдвое. С другой стороны сама длительность галактического года трактуется в весьма широких пределах от 250 до 176 млн лет. Но если принять во внимание доказательное предложение Ч. Лэпворта, В.В. Друшиц, В.Н. Шиманского, Н.С. Шатского, Ю.С. Папина и др. о делении палеозоя на две самостоятельные эратемы, то длительность палеозойских и мезозойской эратем окажется одинаковой. Причём эта длительность (165 млн лет) хорошо корреспондируется с длительностью одного аномалистического галактического года, равного по расчётам П.П. Паренаго 176 млн лет (Паренаго, 1952). Что касается кайнозоя, то данная эратема ещё не закончена, потому её длительность намного меньше завершенных этапов этого уровня. А.Е. Кулинкович (1982) отмечает, что особенно четко в галактическом году проявляется главная эпоха тектогенеза, которая отражена в геологической истории Земли границами KZ/MZ, MZ/PZ1, PZ1/PZ2, PZ/PR. Другими словами, А.Е. Кулинкович признает в фанерозойском эоне раннепалеозойский, позднепалеозойский, мезозойский и кайнозойский галактические года (таблица). В то же время, как видно из таблицы, другие авторы доказывают другую корреляцию галактических лет с геологическими эрами. Самое слабое место в этих корреляциях не то, что авторами принимается другая длительность галактических лет, а то, что их границы не совпадают с самыми выразительными рубежами в истории Земли. Так, если принять длительность галактического года в 215, 217 или 250 млн лет, как это в первом случае обосновывает Н.А. Ясаманов (1993), во втором – Ю.А. Заколдаев (1992), в третьем – А.А. Баренбаум (1999), то уровни коренной перестройки биоты и структуры земной коры лишь в редких случаях будут совпадать с границами галактических лет. Таким образом, из анализа напрашиваются такие выводы: во-первых, разделить палеозой на две самостоятельные эры и, во-вторых, соотнести эры с аномалистическими галактически- C D S O C V R3 T-K P - N1 T - N1 S-P Период (система) P K T P C D C - C1 V-O Q N J D-T S - T2 C - D2 Синий C J-N T3 - N 1 O-C C-S QP- C2 - K D3 - T D-P Балуховский Н.Ф. (1963), Бубнов С.Н. (1960) N2 - Баренбаум А.А., Ясаманов Н.А. (1999) N2 - V-O R3 - V C-S S O C V R3 ми годами длительностью в 176 млн лет. Момент нахождения Земли в наибольшей близости от центра галактики следует рассматривать как окончание предыдущего и одновременно как начало нового галактического года, нового геотектонического цикла в развитии Земли, нового этапа эволюции биоты, новой геологической эры. В этот момент Земля расположена в плоскости эклиптики на большой оси эллипсоидальной галактической орбиты и на ней происходят наиболее значимые перестройки литосферы и биоты. Что касается названий палеозойских эратем, то к настоящему времени имеются два предложения. Еще в 1899 г. Ч. Лэпворт (Ch. Lapworth) делил палеозой на протозой (кембрий, ордовик, силур) и дейтозой (девон, карбон, пермь), а в 1962 г. В.В. Друшиц и В.Н. Шиманский – на талассозой и метазой. Для нижнего палеозоя (кембрий, ордовик, силур) более удачным следует признать предложение В.В. Друшица и В.Н. Шиманского, поскольку протозой и протерозой очень созвучны и стратиграфически следуют друг за другом. Само название талассозой обосновывается авторами тем, что в нижнем палеозое развита почти исключительно морская биота и практически отсутствует наземная. Продолжая принцип именования палеозойских эратем по среде обитания, для верхней палеозойской эратемы, включающей девон, карбон и пермь, предлагается новое название – терразой, как первой эратемы с широким развитием наземной биоты. Предложение именовать верхний палеозой метазоем по тем же причинам, что и протозой следует признать неудачным. С другой стороны, талассозой и терразой естественным образом группируются в одно подразделение, палеозой, по известной общности биоты. Гидроидные полипы, табуляты, ругозы, трилобиты и другие группы позволяют объединить талассозойскую и терразойскую эры в одну геохронологическую (стратиграфическую) единицу, которую предлагается назвать мегахроном (мегатемой). Также по палеонтологическим данным есть определенная общность между мезозоем и кайнозоем. Это двустворки, гастроподы, высшие голосеменные и покрытосеменные растения, млекопитающие, которые еще появились в триасе, и другие группы. Мезо-кайнозойский мегахрон предлагается именовать евзоем (euzoic), т. е. этапом настоящей жизни. Материалы III Всероссийского совещания J-N K J T Тамразян Г.П. (1967) Тамразян Г.П. (1959) P Q- Ясаманов Н.А. (1993) P- N2 - Заколдаев Ю.А. (1992) P N Папин Ю.С. (2007, 2008) Идырышев Р.Б. (1991) Кулинкович А.Е. (1982) Период (система) Эра (эратема) Мезозой Кайнозой Q Талассозой Терразой Мегахрон (мегатема) Палеозой Фанерозой Эвзой Эон (эонотема) Соответствие геохронологической шкалы фанерозоя галактическим годам 173 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео174 Обе мегатемы гомологичны друг другу: каждая из них начинается трансгрессивной (талассократической) и заканчивается регрессивной (геократической) фазой; в каждой из них, примерно в середине верхней эратемы (С2 и Q), отвечающей середине каждого второго галактического года, происходило мощное материковое оледенение. Длительность одного мегахрона соответствует двум аномалистическим галактическим годам и равна 352 млн лет. В фанерозое завершенным является палеозойский мегахрон, тогда как евзойский продолжается. Длительность выше следующей геохронологической единицы, эона, будет составлять 704 млн лет, так как эон образован двумя мегахронами или четырьмя аномалистическими галактическими годами. Во всяком случае, об этом свидетельствует фанерозойская история Земли. В заключение следует остановиться на обосновании принятия в работе именно аномалистического галактического года, как основы событийной геохронологии и стратиграфии. Кроме того, что его длительность в 176 млн лет лучше всего соответствует длительности геотектонических циклов и этапов развития биоты, о чем было сказано выше, он, согласно своему определению, означает промежуток времени между двумя последовательными прохождениями небесного тела (Солнца) одной и той же точки (перигалактия) его орбиты. Сидерический же галактический год соответствует одному обороту Солнца вокруг центра Галактики относительно неподвижных звезд, и, разумеется, его длительность будет больше. Она, по расчетам П.П. Паренаго (1952), составляет 212 млн лет. Тем не менее некоторые авторы доказывают, что именно с длительностью сидерического галактического года наиболее хорошо увязываются перестройки в истории Земли. Балуховский Н.Ф. Геологические циклы / Природа. 1963. № 2. – С. 54–59. Баренбаум А.А., Ясаманов Н.А. Геохронологичечкая шкала как объект приложения астрономической модели // Вестик Моск. ун-та. 1999. Сер. 4. Геология. № 1. – С. 12–18. Бубнов С.Н. Основные проблемы геологии. – М.: МГУ, 1960. – 233 с. Друшиц В.В., Шиманский В.Н. Об объеме палеозойской эры // Докл. АН СССР. 1962. Т. 144. № 5. – С. 1115–1118. Заколдаев Ю.А. Галактический год и глобальные геологические циклы // Концептуальные основы геологии. – СПб: ГИ, 1992. – С. 70–76. Идырышев Р.Б. Цикл, цикличность и структуры развития материи и геологических процессов // Изв. АН КазССР. – 1991. Серия геол. № 5. – С. 82–86. Кулинкович А.Е. О теоретическом каноне эпох тектогенеза фанерозоя и позднего докембрия // Геофизич. журнал. Т. 4. – Киев: Наукова Думка, 1982. Папин Ю.С. Феномен парности в природе. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2007. – 246 с. Папин Ю.С. Изменение структуры общей стратиграфической шкалы в связи с изменением ранга границы между силуром и девоном // Био- и литостратиграфические рубежи в истории Земли: Труды междунар. науч. конф. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2008. – С. 17–25. Паренаго П.П. О гравитационном потенциале Галактики // Астрономический журнал. 1952. Т. XXIX. Вып. 6. – С. 245–287. Тамразян Г.П. О периодических изменениях климата и некоторых вопросах палеогеографии // Сов. геология. 1959. № 7. – С. 143–149. Тамразян Г.П. Некоторые главнейшие планетарные тектонические закономерности и их причинные связи // Геология и разведка. 1967. № 11. – С. 3–17. Ясаманов Н.А. Галактический год и периодичность геологических событий // Докл. РАН. Геология. 1993. Т. 328. № 3. – С. 373–375. Т.В. Пегель, С.С. Сухов, Ю.Я. Шабанов Результатом многолетних исследований большого числа геологов и палеонтологов стало признание факта, что на Сибирской платформе в кембрии существовали обширные зоны, различающиеся по составу отложений и сообществ ископаемых организмов. С одной стороны, это юго-западная часть платформы, с другой, восточная и северо-западная её части, которые разделялись узкой так называемой переходной зоной. Первые итоги такого рода исследований были подведены в 1979 г., когда в разработанных схемах отложения каждого отдела кембрийской системы Сибирской платформы были сгруппированы в три фациальных региона, для каждого из которых была создана своя шкала биостратиграфических зональных подразделений (Решения..., 1983). Ещё ранее В.Е. Савицкий (1972) указывал, что эти три основных фациальных региона являются и палеогеографическими. Со временем их палеогеографическая позиция уточнилась: отложения Турухано-Иркутско-Олёкминского (юго-западного) фациального региона формировались во внутреннем (закрытом) шельфе, или внутри карбонатной платформы; Юдомо-Оленекского региона – в открытом шельфе и бассейне; Анабаро-Синского региона – в разделяющей их переходной зоне, или на окраине карбонатной платформы (на внешнем шельфе). В кембрии наиболее широко представленной группой организмов были трилобиты. Они использованы в качестве основного инструмента биостратиграфического расчленения и корреляции большей верхней части кембрийских отложений. Сообщества внутреннего шельфа отличались резко выраженным эндемизмом и однообразием состава при большом количестве особей. Внешний шельф, преимущественно его окраина, был особенно благоприятен для обитания разнообразных по систематическому составу и многочисленных по количеству особей организмов, но они тоже были в значительной степени обособлены от окружающего мира, хотя и не в такой мере, как обитатели внутренней лагуны. Сообщества склонов открытого бассейна были разнообразны по составу и достаточно многочисленны, к тому же имели широкие биогеографические связи, что особенно важно при корреляции отложений удаленных территорий. Однако в целом состав ископаемых организмов этих крупных палеогеографических регионов существенно отличен друг от друга, что до сих пор вызывает сложности при корреляции разнофациальных отложений. На Сибирской платформе палеогеографические подразделения высокого ранга (внутренний и внешний шельфы, склон бассейна) характеризовались в течение значительных отрезков времени специфическими трилобитовыми комплексами (или биофациями), в которых один или несколько таксонов выделяются в качестве фациального индекса в зависимости от их качественного разнообразия, частоты встречаемости и широты распространения. Развитие биофаций проявляется в смене родовых таксонов в пределах длительно сохраняющегося таксона ранга семейства и выше. Названия этих таксонов используются для обозначения биофаций, а сами они могут служить индикаторами условий обитания и осадконакопления. Как отмечал В.Е. Савицкий (Егорова, Савицкий, 1969, с. 63), «по существу, выделенные биостратиграфические зоны являются биофациями того или иного возраста». Особенно ярко это проявляется в биостратиграфической и биофациальной зональности кембрийских трилобитов на Сибирской платформе (рисунок). Во внутреннем шельфе, с однообразным составом сообществ организмов, в качестве характерных, как правило, служат единичные таксоны родового ранга. Биофациальными индексами внешнего шельфа и склонов открытого бассейна, населенных сообществами разнообразного состава, выбраны таксоны ранга семейства и выше, редко родового ранга, как показателя более узкой зоны обитания (рисунок). Еще 40 лет назад В.Е. Савицкий (1972) отметил существование прямой связи между категориями стратиграфической, палеогеографической и биогеографической классификаций. Ныне, при разработке региональных стратиграфических схем нового поколения, наличие этой связи не может не учитываться. При отображении в схемах естественных разрезов, которые, как правило, охватывают сравнительно небольшие стратиграфические интервалы, а отложения в одном сечении не имеют ярко выраженной фациальной пестроты, для хроностратиграфической характеристики и корреляции обычно используется одна биостратиграфическая шкала. Материалы III Всероссийского совещания БИОСТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ШКАЛЫ КЕМБРИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ БИОФАЦИАЛЬНОЙ И БИОГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ ИСКОПАЕМЫХ ОРГАНИЗМОВ 175 176 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, геои биособытия Однако в зонах фациальных переходов возникают сложности и с отображением разрезов (особенно глубоких скважин), и с выбором шкалы. На протяжении кембрия шло одновременное формирование карбонатных платформ и смежных с ними открытых бассейнов. Их развитие сопровождалось смещением краёв карбонатных платформ, оттеснением бассейнов и миграцией переходной зоны. Суммарное смещение, преимущественно в восточном направлении, за кембрийский период достигало 400 км. Это не даёт права относить все разрезы, расположенные восточнее западной границы переходной зоны, к какому-либо одному фациальному типу (региону). Для адекватного отображения стратиграфических последовательностей представляется оптимальным дать в левой части каждого листа корреляционной части региональной схемы в совмещенном виде все три биостратиграфических шкалы, разработанные для трех фациальных регионов (Сухов и др., 2007). Каждая шкала имеет условную цветовую окраску, которая дает информацию об определенной палеогеографической и седиментологической обстановке. Этим же цветом окрашены и сами части разрезов скважин, показывая, какую шкалу следует применять при их расчленении. Очень важными для корреляции разнофациальных отложений являются разрезы, расположенные на стыках палеогеографических обстановок, поскольку в ассоциациях организмов в совместном нахождении встречаются элементы разных биофаций. Эти части разрезов окрашиваются сочетанием соответствующих основных цветов. Егорова Л.И., Савицкий В.Е. Стратиграфия и биофации кембрия Сибирской платформы. Западное Прианабарье. – Новосибирск, 1969. Вып. 43. – 408 с. (Труды СНИИГГиМС). Решения Всесоюзного стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири. Ч. 1 (верхний протерозой и нижний палеозой). – Новосибирск: СНИИГГиМС, 1983. – 215 с. Савицкий В.Е. Палеогеографический и палеобиогеографический аспекты ярусного деления кембрия Сибири // Палеонтология: Докл. сов. геологов. Проблема 7. МГК, XXIV сессия. – М.: Наука, 1972. – С. 80–85. Сухов С.С., Пегель Т.В., Шабанов Ю.Я. Региональная стратиграфическая схема кембрия Сибирской платформы нового поколения: какой ей быть? // Стратиграфия и ее роль в развитии нефтегазового комплекса России. – СПб.: ВНИГРИ, 2007. – С. 266–282. Pegel T.V. Evolution of trilobite biofacies in Cambrian Basins of the Siberian Platform // J. Paleont. 2000. Vol. 74. N 6. – P. 1000–1019. Pegel T.V., Sukhov S.S. Towards integrated biotic and abiotic Cambrian stratigraphy of the Siberian Platform: recent data and perspectives. Abstracts of the 30-th International Geological Congress. Vol. 2. – China, 1996. Bejing. – P. 15. Материалы III Всероссийского совещания Кембрийские трилобитовые биофации Сибирской платформы (Pegel & Sukhov, 1996; Pegel, 2000 с измен. и дополн.) Г.Ю. Пономарева BRADYINA (ФОРАМИНИФЕРЫ) КАК ЗОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ-ИНДЕКСЫ ВИЗЕЙСКОГО И СЕРПУХОВСКОГО ЯРУСОВ НИЖНЕГО КАРБОНА Фораминиферовая зона Eostaffellina paraprotvae занимает центральное положение в серпуховском ярусе нижнего карбона (Кулагина, Гибшман, 2004). Она обосновывается филогенетической линией Eostaffellina decurta – Eostaffellina «protvae». Нижняя граница определяется по появлению Eostaffellina paraprotvae. Зоне соответствует «протвинский» горизонт Русской платформы и Западного Урала. В последнее время много говорится о необходимости замены вида-индекса этой зоны, так как отдельные «протвинские» эоштаффеллины в разрезах Урала, Тимано-Печорской провинции, Казахстана разными исследователями фиксируются еще в верхней части визейкого яруса или с основания серпуховского яруса. В разрезе Малая Инья в средней части местного илимского «горизонта» (веневский региональный горизонт) обнаружен Р.А. Лядовой и описан мной весьма разнообразный комплекс эоштаффеллин. Веневский возраст доказывается фораминиферами подзоны Eostaffella tenebrosa. Изученные эоштаффеллины имеют однослойную стенку в отличие от голотипов видов E. protvae Raus. и E. paraprotvae Raus. 177 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Но этот признак, строение стенки, неустойчив также и у серпуховских представителей этих видов. Таким образом, эоштаффеллины группы E. protvae Raus. не могут использоваться как глобальные маркеры зон серпуховского яруса по двум причинам. Во-первых, это утверждение становится очевидным, если описанные в литературе комплексы визейских эоштаффеллин будут признаны большинством специалистов. В этом случае придется признать факт более раннего появления представителей группы Eostaffellina ex gr. paraprotvae. Во-вторых, если предположить, что субсферические фузулиноиды разреза Малая Инья не являются Eostaffellina ex gr. paraprotvae, то это означает, что руководящие формы серпуховского яруса не обладают четкими морфологическими признаками. Во многих случаях отличить визейских и серпуховских эоштаффеллин будет невозможно, поэтому возникнут сложности с обоснованием возраста выделяемых в разрезах стратонов. В качестве нового вида-индекса предлагается Bradyina cribrostomata Raus. et Reitl., имеющая наибольший корреляционный потенциал. Эволюционной основой новой зоне служит линия Bradyina rotula – B. cribrostomata. Это крупные брадиины с толстостенной и грубопористой раковиной и сравнительно большим числом камер. Филогенетическая линия может быть продолжена башкирскими брадиинами B. magna Roth et Skin., B. concinna Reitl. и др. Вид B. cribrostomata, по мнению Е.А. Рейтлингер, отличается большой индивидуальной изменчивостью в отношении размеров и толщины стенки, поэтому явился исходной формой для ряда групп среднего карбона. Зональный комплекс составляют появляющиеся формы Globivalvulina bulloides (Brady) и другие глобивальвулины с дифференцированной стенкой, Brenckleinа rugosa (Brazhn.), короткоживущий вид Parastaffella kremenskensis (Ros.). Вымирающие визейские рода: Forshia sp., Forschiella sp. Чтобы сделать последний шаг в переименовании зоны, нужно еще раз проверить морфологические особенности визейских и серпуховских представителей этого рода. Брадиины – это достаточно крупные фораминиферы, и в петрографических шлифах в органогенно-детритовых известняках они присутствуют в обломках, которые идентифицируются по характеру стенки раковины. Таким образом, данная работа призвана решить следующие задачи. Во-первых, изучить разнообразие визейско-серпуховских брадиин. Во-вторых, проверить валидность определений брадиин в разрезах Вишерско-Чусовской подзоны Западно-Уральской структурно-фациальной зоны. В-третьих, доказать возможность определения раковин по особенностям строения стенки. Все разнообразие брадиин, встречаемых в верхневизейском подъярусе и серпуховском ярусе, представлено несколькими видами (таблица). Виды B. rotula (Eichw.), B. modica Gan., Визейско�серпуховские брадиины Виды Брадиин Параметры B. rotula (Eichw.) B. modica Gan. B. flosuculus Gan. B. cribrostomata Raus. et Reitl. B. subita Mal. B. nana Pot. D, мм 1,7–2,6 (3,3) 0,61–0,97 1,28–1,54 1,5–2,3 (3,24) 1,5–2,00 0,75–1,20 L, мм 1,5–2,0 0,65–0,73 0,92 1,2–1,66 1,2–1,4 0,50–0,60 L/D 0,60 0,73–0,78 0,73 0,70–0,90 Обороты 2–3 2–2,5 (3) 1,5–2 2–3 2–3 2–2,5 15–20 10 9–11 6–8 6 4–5 (6) 5–7 5 3–4 165–190 80 60–70 57–120 70–90 60–90 d пор, μ 35–75 25 25 15–20 18–20 Интерсептальные пространства Узкие Узкие Очень узкие Очень широкие Широкие Алексинский – протвинский горизонты Михайловский горизонт – серпуховский ярус Алексинский, михайловский горизонты Камеры: Об. пос. оборот Толщина стенки, μ Возраст 178 6–8 Узкие «Протвинский» горизонт – башкирский ярус Кулагина Е.И., Гибшман Н.Б. Общая зональная шкала нижнего карбона России по фораминиферам // Бюлл. МОИП. Отд. геол. 2005. Т. 80. Вып. 2. – С. 33–59. Е.С. Пономаренко, Н.А. Канева ВЕРХНЕФРАНСКИЕ КАРБОНАТНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА реке СЕДЪЮ (ЮЖНЫЙ ТИМАН, ЮГ УХТИНСКОЙ АНТИКЛИНАЛИ) Верхнедевонские органогенные сооружения Тимано-Печорской провинции являются одними из наиболее перспективных поисковых объектов на нефть и газ. Они в основном изучаются по керновому материалу, в то время как вскрытые органогенные постройки в пределах Ухтинской антиклинали в литологическом плане изучены еще недостаточно. Во время полевых работ 2011 г. на р. Седъю авторами была исследована органогенная постройка позднефранского возраста и вмещающие отложения на участке реки (ок. 4 км) от пос. Седъю до пос. Изъюр (рис. А). Рифогенные образования были изучены в обн. 2–3, 12–16. Они сложены, как это уже неоднократно отмечалось (Беляева и др., 1998; Девон…, 2002; House et al., 2000), доломитами и сильнодоломитизированными известняками. Разными исследователями среди каркасостроителей отмечались цианобактерии, зеленые и красные водоросли, строматопоры. Нами в пришлифовках доломитов было выявлено широкое развитие теневых структур строматолитов и строматолитоподобных образований (рис. Б), реже отмечалась тонкослоистая текстура иловых уровней. В незначительных количествах в нижней части рифогенного разреза (обн. 2) встречаются сильно измененные раковины гастропод, обломки одиночных кораллов. Таким образом, верхнефранская органогенная постройка на р. Седъю преимущественно микробиального генезиса. Присутствие иловых уровней и отсутствие обломочного материала в близких бассейновых осадках (обн. 1, 25) свидетельствует о том, что эти органогенные постройки развивались ниже базиса действия волн, что позволяет определить их к типу холмов (James, Bourque, 1992). Севернее (отделены от рифогенных доломитов узким логом), в разрезе Малого Карьера (МК на карте-схеме) и в обн. 10–11 вскрываются известняки с онколитами (до 2–3 см). Ядрами для онколитов служат в основном фрагменты амфипор (рис. В), реже обломки рифогенных пород. Корки онколитов представлены цианобактериальными наростами. Форма онколитов изменяется от близких к сферичным (на начальных стадиях развития), к неправильным (на поздних стадиях), что свидетельствует об изменении среды от более активноводных к более спокойноводным. В основании разреза Малого Карьера раньше можно было наблюдать эрозионную поверхность (устное сообщение А. И. Антошкиной), которое кореллируется с аналогичной поверхностью в разрезе Большого Карьера (БК на карте-схеме) (Девон…, 2002). Материалы III Всероссийского совещания B. flosuculus Gan. характерны для верхневизейского подъяруса, исчезают в серпуховском ярусе. Виды B. cribrostomata Raus. et Reitl., B. subita Mal., B. nana Pot. появляются с «протвинского» горизонта серпуховского яруса, многочисленны в башкирском ярусе. Предварительные результаты исследования получились следующие. В большинстве разрезов Вишерско-Чусовского Урала брадиины многочисленны. Первые представители B. rotula (Eichw.) встречены в алексинском горизонте (местном губашкинском «горизонте») в разрезе Ладейный лог (слои 6, 7). Последние представители этого вида на изученной территории не поднимаются выше косогорского горизонта (Малая Инья, слой 12; Слобода, обр. 16–22). В визейской части разреза обнаружены единичные экземпляры B. aff. modica Gan. и B. flosuculus Gan. Нижняя граница худолазовского («протвинского») горизонта проведена по первому появлению B. cribrostomata Raus. et Reitl. в разрезах Язьва, Притон, Холодный, Ладейный лог, Верхняя Губаха, Мариинский лог, Слобода. Предлагаемый вид-индекс установлен в большинстве разрезов. Практически во всех случаях обнаруживаются субмедианные или косые сечения раковин. Вероятно по этой причине преобладают меньшие размеры диаметра, чем у типичных форм (1,3 против 1,5 мм), толщина стенки у таких экземпляров варьирует от 57 до 74 μ. И наконец, в верхней части серпуховского яруса в разрезах Притон и Нижняя Губаха встречаются мелкие раковины с диаметром 0,40–0,46 мм и тонкой стенкой (23–25 μ), напоминающие башкирских брадиин группы B. ex gr. samarica Reitl. 179 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео180 А – карта-схема расположения изученных разрезов; Б – строматолитоподобная теневая структура в рифогенных доломитах, обр. С14/19; В – онколиты в разрезе Малого Карьера, обр. МК7; Г – кониатоиды в супралиторальных отложениях, обр. С4/11 Окружающие одновозрастные отложения изучались в разрезах обн. 4–9. Основным типом карбонатных пород являются известняки фенестровые. Фенестровые известняки нами определяются как образования полуизолированных лагун. В разных обнажениях эти известняки могут чередоваться с многочисленными слоями известняков онколитовых и биокластовых. Интересен своеобразный горизонт мощностью 6–8 м, прослеживающийся в обн. 4, 6 и 9. Он сложен интракластовыми известняками с кониатоидами (coniatoids, вадозные пизолиты (Flgel, 2004)), которые являются образованиями супралиторали (рис. Г). По всей видимости, этот горизонт коррелируется с эрозионными поверхностями в разрезах Большого и Малого Карьеров. Эрозионная поверхность в разрезе Большого Карьера описывалась многими исследователями (Беляева и др., 1998; Девон…, 2002). Ее считают границей между сирачойской и ухтинской свитами. В слоях, залегающих ниже эрозионной поверхности в этом карьере, были обнаружены раковины гастропод Platyschisma cf. uchtensis Keys., двустворок Posidonia (?) ex gr. gibbosa Wen., брахиопод Gypidula globa Schnur., Atrypa sp. (определения В.С. Цыганко), свидетельствующие о позднесирачойском возрасте этих отложений. В обн. 6 фенестровые известняки покрывают темные серо-зеленоватые глины с желтыми и коричневато-желтыми алевролитистыми мергелями с конодонтами Polygnathus cf. politus Ovn., Po. aff. churkini Sav. et Fun. и костями позвоночных Phynchodus sp., Bothriolepsis sp., Palaeonichi gen. indet. и др. (Девон…, 2002), свидетельствующие об ухтинском возрасте. Таким образом, предварительно можно сделать предположение о присутствии в некоторых разрезах эрозионных поверхностей, которые могут служить прекрасным маркером для корреляции лагунных отложений. Необходимо искать фациальный эквивалент событию обмеления в строении органогенного сооружения для уточнения палеогеографической реконструкции. Новые литолого-палеоэкологические исследования позволили отнести органогенную постройку на р. Седъю к типу микробиальных холмов, развивавшихся ниже базиса действия волн (James, Bourque, 1992). Эти органогенные постройки с севера окружали полуизолированные лагуны (рис. А), а с юга и востока (Девон…, 2002) существовали бассейновые обстановки осадконакопления (лыаельская свита). Эрозионные поверхности и отложения супралиторали на границе сирачойской и ухтинской свит могут послужить хорошими маркерами при Беляева Н.В., Корзун А.Л., Петрова Л.В. Модель седиментации франско-турнейских отложений на северо-востоке Европейской платформы. – СПб.: Наука, 1998. – 154 с. Девон Ухтинской антиклинали // Путеводитель полевой экскурсии Междунар. симпозиума «Геология девонской системы» / Ред. В.С. Цыганко, В.И. Богацкий. – Сыктывкар–Ухта, 2002. – 69 с. Flgel E. Microfacies of carbonate rocks: analysis, interpretation and application. – Berlin–Heidelberg Springer-Verlag. 2004. – 976 p. House M.R., Menner V.V., Becker R.T. et al. Reef episodes, anoxia and sea-level changes in the Fransian of the Souther Tinam (NE Russian Platform) // Carbonate Platform Systems: components and interaction. 2000. – P. 147–176 (Geol. Soc., Spec. Publ., 178). James N.P., Bourque P.A. Reefs and Mounds. Facies Model-Response to Sea-Level Change / Ed. R.G. Walker, N.-P. James // Geol. Assoc. Can. 1992. – P. 323–347. Л.Г. Пороховниченко О ФИТОСТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТУНГУССКОГО БАССЕЙНА Верхнепалеозойские отложения, развитые в северо-западной части Тунгусского бассейна, давно являются объектом биостратиграфических и литолого-фациальных исследований и объектом продолжительных дискуссий относительно возраста и границ свит. Лучше всего на территории изучена стратиграфия угольных месторождений Норильского района (Гуревич, 1965, 1985, 1988; Харченко, 1978). Отсюда собраны многочисленные коллекции растительных остатков, положенных в основу первых стратиграфических схем (Хахлов, 1952–1956, 1960; Гор, 1966, 1969, 1975). Автором ревизованы коллекционные сборы В.А. Хахлова и некоторые монографические коллекции Ю.Г. Гора. Доминирующие в отложениях кордаитовые листья изучены с применением эпидермальных методов. В разрезе верхнего палеозоя выделено восемь последовательно сменяющихся комплексов и прослежено шесть фитостратиграфических уровней сменяемости флор разного ранга. По смене доминирующих групп и изменению облика флористических сообществ в развитии флоры Норильского района выявлено три крупных этапа I порядка: птеридоспермово-кордаитовый, кордаитовый и кордаитово-пельтаспермовый, отвечающих этапам развитии флор Ангариды (Пороховниченко, 2007). К настоящему времени сформирована палеоботаническая основа не только для решения ряда проблем местной стратиграфии, но и Тунгусского бассейна в целом. Угленосные отложения Норильского района (Решения, 1979) разделяются на адылканскую С2+3, быстринскую Р1 с нижней и верхней подсвитами, кайерканскую Р2 с нижней и верхней подсвитами, амбарнинскую Р2 и ивакинскую Р2 свиты. Выделенные в Норильском районе фитокомплексы в такой же последовательности прослеживаются в разнофациальных опорных разрезах северо-западной части Тунгусского бассейна (рисунок). Корреляция этих разрезов проведена с учетом ритмичности осадконакопления и угленосности. Сводный схематический разрез Кайерканского месторождения (стратотип ряда свит в Норильском районе) приведен по данным А.Б. Гуревича (Гуревич, 1992). Выделенные преимущественно на Кайеркане флористические комплексы прослежены на месторождениях горы Рудной (разрез по В.А. Хахлову, 1952), горы Надежды (разрез по А.Б. Гуревичу, 1992), по р. Фокиной (разрез по В.М. Сливко, 1964), в опорном разрезе верхнего палеозоя северо-западной части по р. Горбиячин (разрез по В.К. Баранову, В.И. Будникову, 1965). Сопоставление с разрезами по р. Курейка и со сводным разрезом профиля Тура – Тутончаны проведено по литературным данным (Баранов, Горелова, Сухов, 1974; Голубева, Вербицкая, 1974). Названия, границы и возраст свит для каждого разреза оставлены без изменений (в авторском варианте), что подчеркивает расхождения во взглядах на возраст и границы свит. Материалы III Всероссийского совещания корреляции изученных разрезов и последующего подробного анализа изменений условий осадконакопления. Работа написана при поддержке Программы Президиума РАН №28/2 «Происхождение биосферы и эволюция гео-биологических систем» и в рамках проекта «12-П-5-1006 «Трофические системы в биосферном круговороте палеозоя (на примере органогенных сооружений Тимано-Североуральского региона». 181 182 и биособытия 1 – Кайерканское месторождение, 2 – р. Фокина, 3 – месторождение, гора Рудная, 4 – месторождение, гора Надежда, 5 – р. Горбиячин, 6 – р. Курейка, 7 – р. Нижняя Тунгуска Корреляция верхнепалеозойских отложений северо-западной части Тунгусского бассейна по ископаемым растениям Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Баранов В.К., Будников В.И. Схема стратиграфии вернепалеозойских отложений северо-западной части Тунгусской синеклизы // Материалы по геологии, геофизике и полезных ископаемых Сибири. – Новосибирск, 1965. Вып. 34. – С. 137–143. (Труды СНИИГГИМС). Материалы III Всероссийского совещания Нижняя граница адылканской свиты достаточно неопределенная. В ее пределах выделены апсеканский и руднинский комплексы, сопоставляемые с мазуровским и алыкаевскими комплексами Кузбасса. По наличию отдельных плауновидных возможно локальное распространение более древних отложений. Быстринская свита, наиболее полно представленная на Кайеркане (углезоны X–IV пластов), сверху и снизу ограничена сменой типов флор. Верхняя ее граница резкая, соответствует смене переходного комплекса кайерканским (кордаитовая флора сменяется пельтаспермовокордаитовой), совпадает со сменой типа разреза, прослеживается по основанию мощной пачки песчаников или конгломератов, а по р. Горбиячин проходит, вероятно, в средине «ногинских» песчаников. Нижняя граница свиты может проводиться вблизи уровня смены птеридоспермово-кордаитовой флоры на кордаитовую (между руднинским и далдыканским комплексами). В пределах быстринской свиты выделено пять преимущественно кордаитовых комплексов, приуроченных к углезонам угольных пластов и в общих чертах отвечающих этапности развития кордаитантовых в Сибири (Глухова, 1989). Одним из наиболее запутанных вопросов является возраст и положение в разрезе талнахской и далдыканской свит (Гор, 1965, 1969; Харченко, 1978). По схеме 1979 г. эти отложения соответствуют нижней подсвите и нижней части верхней подсвиты быстринской свиты, соответственно сопоставляются с нижнебургуклинской подсвитой и нижней частью верхнебургуклинской. Флора талнахской и далдыканской свит (по Ю.Г. Гору) не различается. Далдыканский комплекс нами выделен на Кайеркане в углезонах мощных X–IX пластов. По составу он является смешанным, сочетает древние руфлории и появившиеся аляторуфлории, изредка присутствуют древние птеридоспермы. Ниже углезон X–IX пластов на Кайеркане встречается более древняя флора руднинского комплекса, выше IX пласта существенна иная флора раннешмидтинского комплекса. В районе горы Рудной далдыканский комплекс распространяется на песчаниковые толщи, выделяемые Ю.Г. Гором в талнахскую свиту (1969). Выше этой толщи также распространены растительные остатки раннешмидтинского комплекса, а ниже – типичная руднинская флора. Таким образом, далдыканская угленосная свита или выпадает в разрезе на горе Рудной, или она полностью или частично является синхронной талнахской свите. Ключевым моментом в корреляции разнофациальных отложений является вопрос о возрасте и положении шмидтинской свиты, в верхней части которой и в подстилаемых отложениях наблюдаются смешанные комплексы флоры. Как следствие, она сопоставлялась или с бургуклинской свитой (Горелова, 1989; Хахлов, 1956), или с ногинской свитой (Радченко, 1945; Гор, 1965, 1969). В стратиграфической схеме Норильского района (Решения, 1979) ей соответствует верхняя пачка верхнебыстринской подсвиты с уменьшенной мощностью. По нашим материалам шмидтинская свита на Кайерканском месторождении вскрывается полностью многими скважинами, и мощность ее достигает до 125 м. Нижняя и верхняя ее границы литологически резкие. В свите отчетливо прослеживается три мезоритма осадконакопления, для нее характерна невысокая угленосность и повышенная карбонатность. Слои с флорой приурочены в основном к пачкам алевролитов и аргиллитов, зажатых песчаниковыми пачками и угольными пластами. Смена флоры резкая, отмечаются перерывы в осадконакоплении. В углезонах VIII–IV пластов выделено четыре последовательно сменяющихся преимущественно кордаитовых комплекса (раннешмидтинский, среднешмидтинский, позднешмидтинский и переходный). Эти комплексы прослеживаются в той же последовательности, что и на Кайеркане по р. Фокиной, и Горбиячин, в «сжатом» или урезанном виде на месторождениях гор Рудной и Надежда. По флоре шмидтинская свита сопоставляется со средней частью бургуклинской – низами пеляткинской свит. Таким образом, шмидтинская свита с литологической и палеонтологической стороны является обособленным геологическим телом; по флоре она сопоставима с разрезами смежных районов, что дает основание для восстановления ее в стратиграфической схеме в полном объеме и с корректировкой возраста. Корреляция разрезов показывает, что нижняя граница бургуклинского горизонта достаточно обоснована литологически и палеонтологически и может соответствовать границе карбона и перми. Нижняя часть со смешанной флорой соответствует клинтайгинскому горизонту. Верхняя граница нижней перми может рассматриваться в двух равнозначных вариантах: в средней части пеляткинской свиты (кровля ногинских песчаников) или на прежнем уровне, по основанию ногинских песчаников, и проходить через самую верхнюю часть шмидтинской свиты. 183 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео184 Голубева И.И., Вербицкая Н.Г. Стратиграфия верхнепалеозойских угленосных отложений центральной части Тунгусского бассейна по данным колонкового бурения // Материалы по стратиграфии и палео­ географии Тунгусского угленосного бассейна. – Томск: ТГУ, 1974. – С. 90–96. Гуревич А.Б., Вербицкая Н.Г. и др. Стратиграфия верхнепалеозойских угленосных отложений северовосточной части Тунгусского бассейна // Сов. геология. 1984. № 5. – С. 61–72. Пороховниченко Л.Г. К стратиграфии верхнепалеозойских угленосных отложений Норильского промышленного района // Материалы Всерос. науч. конф. «Верхний палеозой России: стратиграфия и палеогеография». – Казань, 2007. – С. 260–263. С.К. Пухонто ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАЛЕОБОТАНИКИ В ПЕЧОРСКОМ КРАЕ Интерес к растениям из пермских отложений северо-востока европейской части России появился при первых геологических исследованиях на этой территории в конце XIX в. Первое упоминание в литературе о находках ископаемой флоры на территории Печорского края мы находим в монографии известного киевского палеоботаника И.Ф. Шмальгаузена (Schmalhausen, 1879). Им были изучены небольшие коллекции образцов, переданных ему геологами А.И. Антиповым в 1857 г. и А.А. Штукенбергом в 1874 г., которые в разные годы проводили изыскательские работы на р. Печора. Иван Фёдорович Шмальгаузен (1849–1894), специалист в области ботаники и палеоботаники, изучив полученные образцы, сделал сенсационные по тому времени выводы. Он подметил, что флора Печорского края сходна с изученными им ранее флорами Тунгусского и Кузнецкого бассейнов. Им было определено шесть форм ископаемых растений до вида и три до рода. Среди растений оказались хвощовые, папоротники, гинкговые и линейные листья типа кордаитовых (Schmalhausen, 1879). Однако возраст этих флор был им ошибочно определён как юрский. Исследуя эту же флору, французский палеоботаник Ш.-Р. Зейлер и австрийский геолог Э. Зюсс также отметили сходство ископаемых растений трёх бассейнов, но доказали её пермский возраст. Э. Зюсс рассматривал эту флору как древнейшую флору ангарской серии и выделил под названием «тунгусской флоры» (Suss, 1901). Российский палеоботаник, ученик Ш.-Р. Зейлера, М.Д. Залесский позднее подтвердил точку зрения этих учёных, считая флору Печорского Приуралья пермской, находя много общего с флорами Тунгусского и Кузнецкого бассейнов. В монографии «Палеозойская флора Ангарской серии» это было убедительно доказано (Залесский, 1918). Может быть, дальнейшее изучение печорской флоры развивалось бы столь же неспешно. Но открытие на этой территории угольных месторождений и необходимость определения их возрастной принадлежности заставило геологов активизировать свои усилия по сборам и изучению ископаемых растений. Основной каменный материал был собран экспедициями А.В. Журавского в 1905 г., Н.А. Кулика в 1909 г., А.А. Чернова и Г.А. Чернова в 1911–1933 гг. Значительный вклад в накопление палеонтологических остатков внесли также Т.Н. Пономарёв, М.Б. Едемский, В.М. Журкин, О.Л. Эйнор и др. Следующий этап изучения флоры Печорского края пришёлся на начало 20-х годов XX в. и связан с именем А.А. Чернова и его Геологической школой женщин-геологов: В.А. Варсанофьевой, Т.А. Добролюбовой, Е.Д. Сошкиной, Д.М. Раузер-Черноусовой, М.И. Шульгой-Нестеренко и др. Черновская геологическая школа прославила себя главным образом многолетней, плодотворной полевой деятельностью на Северном и Полярном Урале, Тимане, Пай-Хое, Большеземельской тундре и территории между Тиманом и Уралом. Был собран огромный фактический материал и проведены лабораторные палеонтологические исследования. Весь представительный палеоботанический материал был передан Михаилу Дмитриевичу Залесскому (1877–1946), крупнейшему российскому палеоботанику, члену-корреспонденту АН СССР. На протяжении 25 лет (1913–1938) М.Д. Залесский, начиная с 1914 г., систематически и планомерно изучал коллекции флоры из отложений Печорского Приуралья. Верный последователь Ш.-Р. Зейлера, он занимался не только описательной палеоботаникой, но и изучением анатомического строения ископаемых растений. М.Д. Залесский был первым отечественным геологом, кто, используя палеоботанические данные, разработал детальные фитостратиграфические схемы расчленения континентальных отложений различных регионов. Учёный дал первую Материалы III Всероссийского совещания корреляцию угленосных толщ Печорского Приуралья и хр. Пай-Хой с Кузнецким бассейном и Средним Уралом, где находятся стратотипы ярусов перми. Были установлены основные типы печорской флоры и дано монографическое описание более чем 100 основным видам растений, определён возраст вмещающих их отложений. В «Атласе пермской флоры Уральских пределов Ангариды» (Залесский, 1927) приведены фотографии наиболее характерных растений. Работами М.Д. Залесского был завершен большой этап в изучении пермской флоры северных территорий и установления её значения для стратиграфии и корреляции угленосных толщ. В исследованиях ему неоценимую помощь оказывала Е.Ф. Чиркова, надёжный друг и жена. Их совместная работа «Пермская флора Печорского Урала и хребта Пай-Хой» (Залесский, Чиркова, 1938) не утратила своего значения и в настоящее время. Активное накопление геологического материала в Печорском бассейне началось с момента открытия в 1930 г. Г.А. Черновым воркутинских коксующихся углей. Местная геологическая служба была организована в 1931 г. В 1936 г. в г. Воркута был переведён К.Г. Войновский-Кригер, назначенный руководителем геологоразведочных работ в Печорском бассейне и на Полярном Урале. Выдающийся геолог и палеонтолог оказался талантливым организатором. Созданные по его инициативе при ГРУ комбинат «Воркутауголь», специальные лаборатории и научно-исследовательские группы явились основной базой для развития геологической и палеоботанической науки Воркуты. Предварительную обработку ископаемых растительных остатков, найденных в угленосных отложениях региона, проводили палеонтологи В.В. Погоревич, Э.М. Загадская и Г.И. Дембская. С 1942 г. более 30 лет изучением флоры Печорского бассейна занималась Х.Р. Домбровская (1913–1984). Состав палеонтологической группы практически не менялся до 1953 г. Основное внимание Х.Р. Домбровская уделяла изучению группы семян голосеменных, выделив несколько родов и новых видов этих растений, а также установив их стратиграфическое и корреляционное значение. Ею была организована палеоботаническая группа, давшая геологии первоклассных специалистов – определителей флоры. Широкое развитие геологосъёмочных и поисковых работ на территории Печорского бассейна привело к открытию новых месторождений угля, тем самым расширив границы стратиграфических исследований. Предметом изучения стали не только продуктивные отложения нижней перми, но и верхнепермские отложения, угленосность которых также велика. Отсутствие в этих отложениях горизонтов с морской фауной затрудняло их стратификацию. Поэтому изучению ископаемых растений стало уделяться самое пристальное внимание. Стратификацией верхнепермских отложений этого обширного региона занимались специалисты более молодого поколения. В основу работ по стратиграфическому расчленению этих отложений была положена так называемая «печорская методика», основанная на изучении всех органических остатков, выделении зон их распространения, зон расцвета, маркирующих горизонтов, сформированных на экостратиграфической основе. В разные годы в палеоботаническую группу входили: Е.А. Драгунова, Л.А. Подмаркова, С.К. Пухонто, Г.Г. Манаева, В.Н. Яблоновская (первые три – ученицы Х.Р. Домбровской). В своих работах авторы давали монографическое описание ископаемых растений, подчёркивая их стратиграфическое и корреляционное значение. Полученные материалы использовались для составления стратиграфических схем, установления синонимики угольных пластов, сопоставления разрезов Печорского бассейна с другими регионами. Результаты работ нашли отражение в целом ряде публикаций (Геология месторождений угля…, 1965; Палеонтологический Атлас…, 1983; Пухонто, 1998; Угленосная формация…, 1990; Угольная база России, 2000). До 1977 г. Печорский бассейн во всех работах фигурировал как субрегион со своей местной стратиграфической схемой. Используя «печорскую методику», в Печорском бассейне выделено свыше 20 маркирующих горизонтов и слоев с флорой, благодаря которым установлен возраст местных стратиграфических подразделений, привязанных к Унифицированной стратиграфической схеме Урала. Это позволило пересмотреть прежние представления о Печорском бассейне как субрегионе. На III и IV Уральских стратиграфических совещаниях (1980 и 1994) были приняты Унифицированные и корреляционные схемы Урала, куда Печорский бассейн был включен на общих основаниях. В 1941 г. Н.А. Шведов (1907–1966), геолог, палеоботаник, изучив флору Северо-Восточного Пай-Хоя, дал описание целого ряда ископаемых растений из пермских отложений региона, в числе которых были новые роды и виды. Впервые изученную флору он сравнил с флорой печорской серии Печорского бассейна. С 1944 г. изучением пермской флоры Печорского бассейна занималась М.Ф. Нейбург (1894–1962), ведущий российский палеоботаник, сотрудник ГИН АН СССР (ныне ГИН РАН). 185 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео186 Ею были опубликованы работы, в которых приведено детальное описание практически всех видов растений, характеризующих пермские угленосные отложения. Установлено стратиграфическое положение ископаемых растений и их значение для стратиграфии. В дальнейшем сотрудники Института геологии КНЦ УрО РАН В.И. Чалышев, Л.А. Фефилова, Е. Полетаева в нескольких статьях и монографии дали систематизацию и детальное описание спороносных и семенных птеридоспермов. Кроме того, эти специалисты изучили флору из стратотипических разрезов ярусов перми Урала и Восточно-Европейской платформы и провели ее сопоставление с флорами Печорского Приуралья, Печорского бассейна и Новой Земли. Полученные результаты легли в основу множества опубликованных работ. Большое влияние на развитие палеоботаники в Печорском крае в восьмидесятые годы прошлого столетия оказал С.В. Мейен (1935–1987), выдающийся российский учёный, палеоботаник, доктор геолого-минералогических наук. С.В. Мейен был не только постоянным куратором воркутинских палеоботаников, но и создал школу отечественных палеоботаников, которая существовала много лет после его ухода из жизни. В своих работах С.В. Мейен сформулировал основополагающие принципы флористических исследований вообще и Печорского Приуралья в частности (Мейен, 1966; 1971). Проводимые Сергеем Викторовичем коллоквиумы во многом помогли воркутинским палеоботаникам и стратиграфам разобраться в стратиграфии пермских угленосных отложений Печорского бассейна В настоящее время в стратиграфии пермских отложений произошли большие перемены. На Международном геологическом конгрессе во Флоренции в 2004 г. была принята новая Международная хроностратиграфическая шкала пермской системы, основанная на зональных комплексах морских организмов – конодонтах, аммонитах, фузулинидах. Большая часть пермских отложений России представлена континентальными осадками и не содержит морских организмов. Российские учёные разработали и приняли в 2006 г. параллельную Общую Восточно-Европейскую шкалу для регионов с широким развитием континентальных отложений. Пришлось пересматривать Стратиграфическую шкалу перми Печорского Приуралья, в том числе и Печорского бассейна. Основная роль в решении многих вопросов, связанных с этой проблемой, принадлежит ископаемым растениям, которые требуют дальнейшего и всестороннего изучения, конечно, на современном уровне палеоботанических знаний. Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т. 3: Печорский угольный бассейн и другие месторождения угля Коми АССР и Ненецкого национального округа. – М.: Недра, 1965. – 491 с. Залесский М.Д. Палеозойская флора Ангарской серии (Атлас) // Труды Геолкома. Нов. сер. Вып. 174. – Петроград, 1918. – 179 с. Залесский М.Д. Пермская флора Уральских пределов Ангариды (Атлас) // Труды Геолкома. Нов. сер. Вып. 179. – Петроград, 1927. – 35 с. Залесский М.Д., Чиркова Е.Ф. Пермская флора Печорского Урала и хребта Пай-Хой. – М.–Л.: Издво АН СССР, 1938. – 52с. Мейен С.В. Кордаитовые верхнего палеозоя Северной Евразии. – М.: Наука, 1966. – 184 с. Мейен С.В. Пермские флоры // Палеозойские и мезозойские флоры Евразии и фитогеография этого времени. – М.: Наука, 1971. – С. 43–158. Палеонтологический атлас пермских отложений Печорского угольного бассейна / В.А. Молин, А.Б. Вирбицкас, Л.М. Варюхина и др. – Л.: Наука, 1983. – 318 с. Пухонто С.К. Стратиграфия и флористическая характеристика пермских отложений угольных месторождений Печорского бассейна. – М.: Научный мир, 1998. – 312 с. Угленосная формация Печорского бассейна. – Л.: Наука, 1990. – 176 с. Угольная база России. Т. 1: Угольные бассейны и месторождения европейской части России. – М.: ЗАО «Геоинформмарк», 2000. – С. 170–308. Suss Ed. Das Antlitz der Erde. Bd 3. H. 1. Prag–Wien–Berlin, 1901. Schmalhausen I. Beitrage zur Jura-Flora Russlands. – Mem. Acad. Sci. St. Petersbourg., 7 Ser., 1879. 27. N 4. C.К. Пухонто, С.В. Наугольных Приуральем мы называем территорию, охватывающую западный склон Урала и Предуральский краевой прогиб с отдельно выделяемой его северной частью – Печорским бассейном. Приуралье – стратотипическая местность пермской системы. Здесь находятся стратотипы ярусов нижнего Приуральского отдела. Стратотипы ярусов Биармийского (среднего) и Татарского (верхнего) отделов Общей обновленной Восточно-Европейской стратиграфической шкалы находятся на севере и востоке Русской платформы. Только казанский ярус имеет ярусный статус с момента его выделения. Уржумский, северодвинский и вятский ярусы до 2006 г. имели статус горизонтов татарского яруса. Однако по Решению МСК (Постановления МСК…, 2006) эти горизонты были преобразованы в ярусы. Пермские отложения Урала и Русской платформы представлены в нижней части разреза в основном морскими осадками, в средней – преимущественно лагунными, в верхней – континентальными осадками. Ассельский ярус. В верхней части холодноложского горизонта Урала встречены ископаемые растения, в составе которых в основном хвойные и редкие семена голосеменных: pp.Calamites sp., Walchia schneiderii Zeil., W. cf. parvifolia Flor., Tylodendron sp., Dadoxylon sp., Cordaicarpus sp., Cardiocarpus (?) sp., Samaropsis cf. naumichensis Zal. (Владимирович, 1986; Наугольных, 2003). Сакмарский ярус. Флора встречена в верхней части сакмарского яруса в отложениях стерлитамакского горизонта (разрез Актасты) – Walchia piniformis (Schloth.) Stern., Odontopteris (?) sp. [cf. Odontopteris lingulata (Goep.) Schm.]. Это еврамерийские таксоны, позволяющие сопоставить типовые разрезы сакмарского яруса с отложениями европейского отэна. Близкая по составу флора была найдена в разрезах Кондуровка и Сим на Южном Урале и на р. Кожым на севере Предуральского прогиба. Артинский ярус. Флора приурочена в основном к верхней половине артинского яруса – саргинскому горизонту. Она тесно связана с еврамерийскими флорами – до 60 % общих родов и до 30 % общих видов. С ангарской флорой связана слабо – только на родовом уровне, общие же виды отсутствуют. В стратотипической местности выделяются несколько типов разрезов. Найдено десять местонахождений артинской флоры и установлено два флористических комплекса (Наугольных, 2003). Флора представлена в основном членистостебельными, в меньшей степени хвойными и войновскиевыми, а также семенами голосеменных. Наиболее древние остатки растений на севере Предуральского прогиба встречены в отложениях, возраст которых по фауне датируется как иргинский. Этот комплекс представлен мелкими узкими листьями кордаитов, редкими отпечатками стволов членистостебельных и семян голосеменных: Sylvella alata Zal., Samaropsis frigida Neub., S. triquetra Zal., Bardocarpus ex gr. aliger Zal. и др. (Пухонто, 1998). В верхах разреза артинского яруса появляются представители членистостебельных, войновскиевых и других групп растений, характерные для отложений саргинского горизонта стратотипической местности, массовое распространение которых в Печорском бассейне происходит на границе артинского и кунгурского ярусов. Кунгурский ярус. Флористический комплекс отличается высоким таксономическим разнообразием. Он постепенно теряет связь с еврамерийской флорой (в основном, на видовом уровне) и все больше сближается с флорой Печорского Приуралья, на территории которого кунгурский век характеризовался ярко выраженной регрессией. В стратотипической местности бардинский флористический комплекс представлен хвойными, гинкговыми, птеридоспермами, пельтаспермовыми птеридоспермами, членистостебельными, семенами голосеменных и другими группами (Владимирович, 1986; Наугольных, 1998, 2003). На севере Предуральского прогиба в Печорском Приуралье кунгурские отложения характеризуются флористическим комплексом, в целом отвечающим типовой флоре кунгурского яруса стратотипической местности. Существенным отличием комплекса флоры Печорского Приуралья является почти полное отсутствие в нем гинкговых. Однако около 40% высших растений являются общими для этих регионов как на родовом, так и видовом уровне (Пухонто, 1998). В комплексе преобладают войновскиевые, членистостебельные, папоротники, единичные хвойные, птеридоспермы, многочисленные семена и другие растения. Материалы III Всероссийского совещания ФЛОРА ИЗ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ПРИУРАЛЬЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ВЫСШИХ РАСТЕНИЙ В ПЕРМСКОМ ПЕРИОДЕ 187 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео188 Уфимский ярус. Флора в стратотипических разрезах соликамского горизонта сосредоточена в средней и верхней частях разрезов и представлена в основном многочисленными отпечатками плауновых – корой и листьями Viatcheslavia и Viatscheslaviophyllum, мегаспорами – Laevigatisporites accinctum Esaul., немногочисленными мхами, единичными членистостебельными и семенами голосеменных (Корреляция разнофациальных..., 1981; Есаулова, 1998). К северу от стратотипической местности аналоги соликамских отложений прослеживаются в Верхнепечорской и Большесынинской впадинах, на всей территории Печорского бассейна и в Печорской синеклизе. Флористический комплекс достаточно представительный (Пухонто, 1998, 2005). Для него характерны многочисленные плауновидные Viatcheslavia vorcutensis, листостебельные мхи (Intia, Kosjunia, Syrjagia), членистостебельные, папоротники, кордаиты, семена голосеменных. В основании разреза появляются более 40 новых видов и 6 новых родов растений. Отложения шешминского горизонта в стратотипической местности характеризуются достаточно бедным флористическим комплексом и содержат немногочисленные членистостебельные, папоротники, птеридоспермы, семена голосеменных (Корреляция разнофациальных..., 1981; Есаулова, 1998). Комплекс ископаемых растений, встреченных в отложениях шешминского горизонта, распространенных к северу от стратотипической местности, более богатый, чем в стратотипических разрезах. Это птеридоспермы, новые виды войновскиевых, семян голосеменных, папоротников, псигмофиллумов и др. (Пухонто, 1998, 2005). Флористические комплексы соликамского и шешминского горизонтов отличаются друг от друга. При этом первый больше тяготеет к комплексам кунгурского яруса, а второй – казанского. Казанский ярус представлен морскими и континентальными отложениями и подразделяется на два подъяруса. Стратотип нижнеказанского подъяруса содержит богатый комплекс растительных остатков (Есаулова, 1998). В нижнеказанском подъярусе выделен немдинский горизонт, во флористическом составе которого доминируют филладодермы, птеридоспермы и папоротники. Стратотип верхнеказанского подъяруса характеризуется бедным и однообразным флористическим комплексом: Paracalamites frigidius Neub., Annulina neuburgiana (Radcz.) Neub. и др. Широко распространены филладодермы нескольких видов. Выделен поволжский флористический горизонт, в котором доминируют птеридоспермы и членистостебельные. К северу от стратотипической местности казанские отложения широко распространены в пределах Верхнепечорской и Большесынинской впадин и Печорском бассейне. В толще отложений встречаются разнообразные растительные остатки в основном того же таксономического состава, что и в разрезах стратотипической местности. Это плауновидные, пельтаспермовые птеридоспермы, членистостебельные, таксоны неопределенного систематического положения рр. Wattia и Zamiopteris (Пухонто, 1998, 2005). Растительные остатки в отложениях уржумского яруса в стратотипической местности довольно редки и представлены немногочисленными членистостебельными, обрывками перьев папоротников и птеридоспермов, мелкими семенами, харовыми водорослями. К северу от стратотипической местности отложения уржумского яруса содержат мелкие листья войновскиевых и пельтаспермовые птеридоспермы. Членистостебельные встречаются по всей толще яруса в небольшом количестве и очень однообразны. Папоротники, птеридоспермы, плауновые и семена голосеменных имеют подчиненное значение. Северодвинский ярус. В стратотипических разрезах флора представлена в основном родами Pursongia (Tatarina) и Peltaspermum, редкими Cladophlebes, Phylladoderma, Ullmannia, Quadrocladus, Nucicarpus, Carpolithes. Характерно уменьшение роли членистостебельных и папоротников, исчезают руфлории. В Печорском бассейне флора северодвинского яруса обильна и разнообразна. Типичными представителями ископаемых растений являются пельтаспермовые птеридоспермы, гинкгофиты, папоротники мезозойского облика. Вятский ярус. Растительные остатки яруса в целом сохраняют облик флоры северодвинского яруса. Доминируют птеридоспермы, исчезают последние представители войновскиевых. Флора известна по небольшому количеству остатков, принадлежащих к основным родам Pursongia (Tatarina), Peltaspermum, из папоротников встречаются Prynadaeopteris и Cladophlebis. Флора вятского яруса в разрезах Волго-Уральской области представлена Phylladoderma (Aequistomia) aequalis Esaul., P. (A.) tatarica Esaul., Pleuromeiopsis suchonensis Zal. Основные тенденции и события в эволюции высших растений Приуралья в пермском периоде выглядят следующим образом. Владимирович В.П. Высшие растения. Telomophyta // Атлас характерных комплексов пермской фауны и флоры Урала и Русской платформы. – Л.: Недра, 1986. Т. 331 – С. 32–38. (Труды ВСЕГЕИ. Новая серия). Есаулова Н.К. Флора и фитозональная шкала верхней Перми Волго-Уральской стратотипической области // Автореф. дис. ... докт. геол.-минер. наук. – Казань: КГУ, 1998. – 65 с. Корреляция разнофациальных разрезов верхней перми Европейской части СССР. Л.: Нау­ка, 1981. 160 с. Наугольных С.В. Флора кунгурского яруса Среднего Приуралья. – М: ГЕОС, 1998. Вып. 509. – 201 c. (Труды ГИН РАН). Наугольных С.В. Раннепермский этап в эволюции флоры и растительности Западной Ангариды // Автореф. дис. ... докт. геол.-минер. наук. – М.: ГЕОС, 2003. – 50 с. Пухонто С.К. Стратиграфия и флористическая характеристика пермских отложений угольных месторождений Печорского бассейна. – М.: Научный мир, 1998. – 312 с. Пухонто С.К. Граница нижнего и среднего отделов перми в континентальных фациях на севере европейской части России // Современные проблемы палеофлористики, палеофитогеографии и фитостратиграфии: Труды Междунар. палеоботан. конф. Москва, 17–18 мая 2005 г. – М.: ГЕОС, 2005. Вып. 1. – С. 262–270. Пухонто С.К., Наугольных С.В. Эволюция высших растений Приуралья в пермском периоде // Наука и просвещение: к 250-летию Геологического музея РАН. – М.: Наука, 2009. – С. 319–352. С. Радзевичюс, И. Пашкевичюс, А. Кояле ГЕЛУВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЯРУС В СИЛУРИЙСКОМ БАЛТИЙСКОМ БАССЕЙНЕ Типовой разрез гелувского регионального яруса (верхний гомер) находится в скважине Якшяй-104, на глубине 773,9–813 м (Pakeviius и др., 1994). Якшяйская-104 скважина находится в центральной Литве в карбонатной фациальной зоне, где граптолиты очень редкие, и это затрудняет корреляцию по граптолитам с одновозрастными разрезами в более глубоководных фациях, а также с Международной стратиграфической шкалой силура (рис. 1). Для более детальной корреляции гелувского регионального яруса было пересмотрено стратиграфическое расчленение скважины Видукле-61. Эта скважина была выбрана на основании ее хорошей геофизической изученности и наличия большого количества граптолитов, что облегчает корреляцию гелувского регионального яруса с Международной силурийской стратиграфической шкалой. Кроме того, для нее построена кривая по изотопам углерода (Martma и др., 2005) и она проходит через отложения глубоководных, глинистых фаций (рис. 2). В этой скважине находятся стратотипы анчаской пачки, сесартской и дубисской свит. В изучаемом интервале скважины Видукле-61 были выделены граптолитовые биозоны lundgreni (верхняя часть), parvus, nassa, praedeubeli, deubeli, ludensis и nilssoni (нижняя часть). Верхняя граница биозны lundgreni совпадает с одним из самых больших граптолитовых кризисов силурийского периода: его называют «кризисом lundgreni» (Koren 1987; Porbska et al. 2004), или «большим кризисом» (Groen Krise) (Jaeger, 1991). В верхней части биозоны lundgreni вымирают все виды родов Cyrtograptus и Monoclimacis и типичные для венлока монограптиды. Всего во время указанного кризиса исчезло около 95 % всех венлокских видов граптолитов (Lenz, Kozowska – Dawidziuk, 2001). Это событие пережили только пристиограптиды типа dubius и род Gothograptus. Биозона parvus выделена в интервале 1302,8–1309,9 м с появлением зонального вида Pristiograpus parvus Ulst. Граптолитовый комплекс биозоны parvus очень беден, кроме зонально- Материалы III Всероссийского совещания Развитие высших растений Приуралья в пермском периоде было обусловлено как макроэволюционными процессами, приведшими к широкой диверсификации некоторых групп (черновиевые, пельтаспермовые, примитивные гинкговые), так и миграционными процессами (миграцией в конце карбона – начале перми) в пределы Приуралья еврамерийских членистостебельных (семейства Calamostachyaceae, Bowmanitaceae), эуспорангиатных папоротников (семейство Marattiaceae) и хвойных (семейство Walchiaceae). Большая часть палеофитных групп как типично ангарских (порядок Vojnovskyales), так и связанных своим происхождением с низкоширотной растительностью, вымирает к концу пермского периода. Другие группы (осмундовые папоротники, пельтаспермовые птеридоспермы, вольциевые хвойные и гинкговые) продолжают свое развитие в мезозое (Пухонто, Наугольных, 2009). 189 Рис. 1. Фациальная схема верхнего венлока западной части Балтики (Теллер, 1997) Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия I – Балтийская синеклиза; II – Белорусско-Мозурская антиклиза; III – Подлясско-Брестская впадина; IV – Горст Славатиче; V – Впадина Буг; 1–5 – зоны: 1 – лагунная, 2 – барьерная, 3 – открытого шельфа, 4 – склона, 5 – глубоководная; 6 – суша 190 го вида встречается вид Gothograptus nassa (Holm). Нужно заметить, что размеры колоний, или рабдосом этих двух видов небольшие, но в образцах встречаются в большом количестве. Данный эффект, когда после кризисов колонии граптолитов, а также организмы из других групп животных уменьшаются в размерах, называется «эффектом лилипута» (Urbanek, 1993). Нижняя часть биозоны parvus совпадает с верхней частью анчаской пачки сесартской свиты, где уменьшается количество терригенного, глинистого материала и замечен первый положительный пик δ13C в изучаемом стратиграфическом интервале. Биозона nassa выделена в интервале 1298,5– 1302,8 м. Нижнюю границу биозоны nassa определяет вымирание P. parvus. Граптолитовый комплекс nassa также не многочислен. Без зонального вида появляется подвид Pristiograptus dubius ludlowensis (Bouek). В верхней части биозоны nassa уровень терригенного, глинистого материала достигает своего максимума и опять уменьшается. Значение δ13C тоже повышается в верхней части биозоны nassa. Биозона praedeubeli выделена в интервале 1289,9–1298,5 м. Нижнюю границу биозоны praedeubeli обозначает появление зонального вида P. praedeubeli (Jaeger). Граптолитовый комплекс биозоны praedaubili состоит из P. virbalensis Pakeviius, P. idoneus Koren‘, P. cf. praedeubeli, Papiliograptus papilio Lenz and Kozowska-Dawidziuk. В начале биозоны praedaubeli начинается диверсификация пристиограптидов. Можно сказать, что наибольшее число вариаций у пристиограптидов обнаруживается на этом уровне. В этой биозоне становится меньше терригенного материала, также уменьшаются значения δ13C. Биозона deubeli выделена в интервале 1282,6–1289,9 м с первым появлением зонального вида P. deubeli (Jaeger), который находится в одном филогенетическом ряду с P. praedlubeli. Граптолитовый комплекс состоит из P. praedeubeli, P. deubeli и P. d. ludlowensis. Терригенного материала становится всё больше в биозоне deubeli по сравнению с биозоной praedeubeli, и он остаётся таким же до конца изучаемого интервала. Значение δ13C достигают своего максимума в конце зоны deubeli. Биозона ludensis выделена в интервале 1275,1–1282,6 м. Нижняя граница совпадает с появлением зонального вида P. ludensis (Murchiso). Граптолитовый комплекс состоит из видов Colonograptus gerhard (Mnch), Neogothograpus reticulatusi Kozowska, Lenz et Melchin, Spinograptus munchi (Eisenack), P. praedeubeli, P. dubeli. В нижней части биозоны значение δ13C всё ещё максимально, но начинает падать и остаётся постоянно отрицательным до самого верха изучаемого интервала. Нижняя граница биозоны nilssoni и лудлова совпадает с появлением новых, типичных для лудлова граптолитов: Neodiversograptus nilssoni (Barrande), Bohemograptus bohemicus bohemicus (Barrande), Monograptus uncinatus (Tullberg), Colonograptus colonus colonus (Barrande), Saetograptus variants (Wood), Spinotograptus spineus (Wood). Обобщая данные, можно сказать, что нижнюю границу гелувского регионального яруса маркирует подошва биозоны parvus parvus, которая совпадает со средней частью анчаской пачки, которую можно проследить по всей центральной части Балтийского бассейна. Граница также синхронна с максимальным пиком на кривой гамма каротажа и первым позитивным пиком Материалы III Всероссийского совещания Рис. 2. Разрез скважины Видукле-61 и корреляция граптолитовых биозон с кривыми и δ13C по гамма-каротажу. Изотопы углерода по Martma et al., 2005 δ13C. Эти значения можно легко проследить по всей центральной части Балтийского бассейна. Верхняя граница гелувского регионального яруса совпадает с нижней границей лудлова и подошвой биозоны nilssoni. В гелувском региональном ярусе можно выделить три цикла увеличения и уменьшения терригенного, глинистого материала, что является одной из особенностей этого регионального подразделения. Выделяются три положительных тренда в кривой δ13C. Первый, незначителный, в биозоне parvus, второй в верхней части биозон nassa и нижней части praedaubеli и третий в верхней части биозон praedaubеli – нижней части ludensis. Koren' T.N. Graptolite dynamics in Silurian and Devonian time // Bulletin of the Geological Society of Denmark. 1987. Vol. 35. – P. 149–59. Lenz A.C., Kozyowska-Dawidziuk A. Upper Wenlock (Silurian) graptolites of Arctic Canada: pre-extinction, lundgreni Biozone fauna // Palaeontographica Canadiana. 2001. Vol. 20. – P. 1–61. Martma T., Brazauskas A., Kaljo D. et al. The Wenlock – Ludlow carbon isotope trend in the Vidukle core, Lithuania, and its relations with oceanic events // Geological Quarterly. 2005. Vol. 49(2). – P. 223–234. Pakeviius J., Lapinskas P., Brazauskas A. et al. Stratigraphic revision of the regional stages of the Upper Silurian part in the Baltic Basin // Geologija. 1994. Vol. 17. – P. 64–87. Porbska E., Kozlowska-Dawidziuk A., Masiak M. The lundgreni event in the Silurian of the East European Platform, Poland // PPP. 2004. Vol. 213. – P. 271–294. Teller L. The subsurface Silurian in the East European platform // Palaeontologica Polonica. 1997. Vol. 56. – P. 7–21. Urbanek A. Biotic crises in the history of Upper Silurian graptoloids: A Palaeobiological model // Historical Biology. 1993. Vol. 7. – P. 29–50. 191 С.Т. Ремизова Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ЭВОЛЮЦИЯ И ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ ФОРАМИНИФЕР 192 Фораминиферы представляют собой существенную составляющую экосистем как в современных, так и в древних морях. В их историческом развитии наблюдается смена доминирующих типов строения и экологической приуроченности организмов. Эволюционная пластичность фораминифер позволяет наметить разноранговые этапы в их развитии, что служит основой биостратиграфических подразделений осадочных толщ. С момента появления фораминифер в кембрии и до современного периода А.В. Фурсенко (1978) выделял семь таких этапов, три из которых приходятся на палеозойскую эру. Первый – раннепалеозойский этап (кембрий – силур) характеризуется примитивными однокамерными агглютинированными формами. На втором этапе (девон – ранний карбон) появляются многокамерные фораминиферы с известковой раковиной, первоначально – одноосные прямые, с позднего девона – спирально-свернутые. Третий – позднепалеозойский этап (средний карбон – пермь) характеризуется развитием высокоорганизованных фораминифер, относящихся к надотряду Fusulinoida. Фузулиноиды занимали господствующее место по разнообразию и широте распространения среди позднепалеозойской фауны фораминифер. Возникнув в раннем карбоне от эндотироид, они прошли длинный путь эволюционных преобразований. Обособленность надотряда Fusulinoida от предкового Endothyroida выразилась в смене структурной и пространственной организации раковины. В целом фузулиноиды характеризуются плоскоспиральным навиванием раковины, удлинением оси навивания, устойчивой септацией раковины на камеры и усложнением внутренней структуры раковины. В филогенезе фузулиноид наблюдается определенная этапность, подмеченная ранее многими исследователями (Раузер-Черноусова, Рейтлингер, 1962; Соловьева, 1966 и др.). Раннекаменноугольная эпоха представляет собой время становления надотряда Fusulinoida, характеризующееся развитием наиболее примитивных представителей отряда Ozawainellida (семейство Eostaffellidae) и отряда Staffellida (семейство Pseudoendothyridae) с неустойчивыми морфологическими признаками и многочисленными переходными таксонами от эндотироид к фузулиноидам. В среднекаменноугольное время основной фон в фораминиферовых сообществах составляют быстро эволюционирующие виды и роды отряда Fusulinida и семейства Pseudostaffellidae (отряд Ozawainellida). В начале позднего карбона появляется отряд Schwagerinida, в пределах которого происходила быстрая эволюция на видовом и родовом уровнях. Швагериниды занимали господствующее положение до конца ранней перми, хотя просуществовали несколько дольше. К началу средней перми, когда затухает эволюция в филогенетической линии Fusulinida – Schwagerinida, увеличиваются темпы видо- и родообразования в медленно эволюционирующих до этого отрядах Schubertellida и Staffellida. Штаффеллиды в конце ранней перми дали начало отряду Neoschwagerinida, достигшего расцвета и специализации в средней перми. В позднем палеозое фораминиферы, в том числе и фузулиноиды, были обитателями мелководных морских шельфов и эпиконтинентальных морей и представляли собой часть бентосного сообщества, наряду с другими группами беспозвоночных организмов, среди которых преобладали брахиоподы, криноидеи, кораллы, мшанки. Неотъемлемой составляющей этих сообществ являлись водоросли, обогащавшие воду кислородом, необходимым для жизнедеятельности организмов животного царства. Роль фораминифер в экосистеме заключалась в накоплении карбоната кальция на дне бассейна и насыщении воды органическим веществом после их гибели. Контролирующими абиотическими факторами географического распространения и эволюционных преобразований фораминифер являлись: глубина бассейна, характер грунта, гидродинамические условия, температура и гидрохимический состав воды. Частые колебания уровня моря, трансгрессии и регрессии создавали мозаичную картину биотопов фораминифер с многочисленными, имеющими свои особенности, экологическими нишами. Являясь достаточно пластичными организмами, они были способны давать широкий спектр модификационной изменчивости. По мере заполнения всех пригодных для оптимального существования экологических ниш, эволюция фораминифер становилась возможной только путем ароморфных преобразований и ценой вымирания таксонов, не выдержавших конкуренции с вновь воз- Материалы III Всероссийского совещания никающими, функционально более приспособленными к изменяющимся биоценотическим условиям. Динамику смены одних таксонов другими можно проследить на протяжении всей истории существования фузулиноид. Направленность эволюции фузулиноид выражалась в оптимизации коммуникативных функций структурных особенностей организмов, что прослеживается по их морфологии. За время существования фузулиноид вырабатывались все более сложные структуры, обеспечивающие улучшение связи организма со средой. На начальном этапе эта связь осуществлялась только посредством устья. В дальнейшем во всех филогенетических стволах фузулиноид появляются либо септальные поры, либо пористая стенка. В более консервативных отрядах (Ozawainellida, Schubertellida, Staffellida) этот признак отмечается в конце ранней и средней перми. В более быстро эволюционирующем отряде Fusulinida пористая стенка характерна для большинства семейств уже с московского века. Усовершенствование коммуникативной системы достигалось путем преобразования простой пористости стенки в кериотекальную (сложно разветвленную пористость) в начале позднего карбона (отряд Schwagerinida). Первоначально кериотекальная структура стенки представляла собой нестабильный признак, который может классифицироваться, как модификационная изменчивость (Ремизова, 2004). Становление его в качестве адаптивной нормы связано с изменениями абиотических факторов окружающей среды. На рубеже московского и касимовского веков произошло глобальное потепление климата, и температура в морских бассейнах повысилась на 4–8° (Kossovaya, 1998). Как следствие повышения температуры в воде уменьшилось содержание кислорода. Усилились процессы разложения органического вещества, при которых также поглощался кислород, и вода интенсивней насыщалась углекислым газом. Кроме того, при повышении температуры повышается интенсивность дыхания всех животных, в том числе и фораминифер. Установлено, что современные простейшие вида Colpidium colpoda при 17 °С дышат в 4 раза более интенсивно, чем при 7 °С (Догель, 1951). Процесс поглощения кислорода простейшими происходит путем диффузии через стенки тела. Кериотекальная пористость раковины фораминиферы, по сравнению с простой пористостью, увеличивает поверхность соприкосновения клетки с окружающей водной средой, интенсифицируя обменные процессы. Таким образом, появление кериотеки оказалось функционально оправданным и адаптивно ценным признаком в изменившихся биоценотических условиях на рубеже среднего и позднего карбона. Дальнейшая эволюция фузулиноид пошла в сторону закрепления возникшего структурного типа их организации. Этот же признак кериотекальности стенки позже, в конце ранней перми, возникает в отряде Neoschwagerinida. Однако кериотека неошвагеринид не достигала такой степени развития, как у швагеринид, а интенсификация коммуникативной функции происходила за счет приобретения множественных устьев. Наряду с утоньшением стенки раковины неошвагеринид и появлением многочисленных устьев, наблюдается дальнейшее усложнение их организации в виде возникновения дополнительных структурных образований, спиральных и аксиальных септул, гасивших возникшую механическую уязвимость раковины и обеспечивающих гравитационную функцию. На фоне общих закономерностей эволюционных преобразований, в зависимости от палеогеографической обстановки, в каждом конкретном регионе формировались специфичные по структуре и составу палеосообщества. В пределах одного бассейна распределение фораминифер обусловливалось особенностями гидрологического режима. Наиболее благоприятные условия для поселения фораминиферовых сообществ существовали в пределах мелководной зоны открытого моря, в результате чего формировались биоморфно-детритовые известняки в спокойных гидродинамических условиях. Большинство крупных фораминифер надотряда Fusulinoida приурочено именно к этим фациям. В приливно-отливных высокоэнергетических условиях сообщества фораминифер в основном представлено мелкими формами, такими как гломоспиры, толипаммины и др. Кроме локальных факторов, еще большее влияние на формирование морских сообществ оказывали общая конфигурация морских бассейнов и глобальные эвстатические колебания уровня моря. В позднем палеозое Тимано-Североуральский регион находился в Тропическом палеогеографическом поясе на стыке Арктической и Восточноевропейской провинций, представляя собой часть обширного эпиконтинентального бассейна, окаймлявшего суперконтинент Пангею. Анализ видового состава сообществ фораминифер показал, что они включают в себя эндемичную фауну; североамериканскую фауну, характерную для Арктической провинции; наиболее широко представлены уральские виды; в периоды максимальных трансгрессий отмечаются элементы тетической фауны, достигшей Тимано-Североуральского бассейна из акватории Палеотетиса вдоль Урала (Ремизова, 2004). 193 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео194 Исчезновение фузулиноид в северных акваториях произошло в конце артинского века, в связи с сокращением морских бассейнов и их трансформацией в мелководные лагуны. В позднеартинских и кунгурских морях существовали только «мелкофораминиферовые» сообщества, доминировали в которых нодозарииды. Именно эта группа «мелких» и примитивных, по сравнению с фузулиноидами, фораминифер смогла пережить экологический кризис в конце пермской эпохи, заняв затем господствующее положение в мезозойских фораминиферовых сообществах. Догель В.А. Общая протистология. – М: Советская наука. 1951. – 603 с. Раузер-Черноусова Д.М., Рейтлингер Е.А. О формообразовании фораминифер // Вопросы микропалеонтологии. 1962. Вып. 6. – С. 3–30. Ремизова С.Т. Фузулиноиды Тимана: эволюция, биостратиграфия и палеобиогеография. – Екатеринбург, 2004. – 217 c. Соловьева М.Н. Темпы и стадии эволюционного развития фораминифер и соотношение с развитием Земли // Вопросы микропалеонтологии. 1966. Вып. 10. – С. 68–79. Фурсенко А.В. Введение в изучение фораминифер. – Новосибирск: Наука, 1978. – 242 с. Kossovaya O.L. Temperature control of rugose diversification and extinction (Сarbonifere-Рermien interval) // Paleodiversifications. Land and sea compared. Abstracts of International symposium. – Lyon, 1998. – P. 35. В.А. Салдин НОВЫЕ МЕСТНЫЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОГО СКЛОНА УРАЛА Основы стратиграфии верхнекаменноугольно-нижнепермских отложений северной части Предуральского краевого прогиба и Западно-Уральской мегазоны заложены А.А. Черновым, В.А. Варсанофьевой, Т.Н. Добролюбовой, Е.Д. Сошкиной, А.П. Ротаем, В.П. Горским, И.С. Муравьевым, Н.Н. Кузькоковой, А. И. Елисеевым и др. За период 1990–2011 гг. были получены новые данные по стратиграфии и литологии (Путеводитель…, 1995; Чувашов и др., 1999; Салдин, 2002, 2007, 2009, 2010). В результате была предложена новая стратиграфическая схема верхнекаменноугольноартинских отложений для западного склона севера Урала и внутренней зоны северной части Предуральского краевого прогиба (Салдин, 2007). В данной работе рассматриваются новые стратиграфические подразделения: большеостровская свита, устьиспередъюская и устьоселокская толщи. В Большесынинской впадине назрела необходимость выделения новой вевдоркыртинской свиты артинского возраста вместо вочаельской и орловкинской свит, утвержденных в стратиграфической схеме Урала. Возраст верхнепалеозойских отложений определялся З.П. Михайловой и С.Т. Ремизовой (фораминиферы), В.В. Черных (конодонты), М.Ф. Богословской и К.В. Борисенковым (аммоноидеи), которым автор весьма признателен. Устьиспередъюская толща нами выделена среди нижнепермских отложений северной части Верхнепечорской впадины в разрезе р. Илыч. Она сложена тонко переслаивающимися пелитоморфными, биокластовыми и глинистыми известняками и известковыми аргиллитами мощностью от 15 до 60 м. По строению, вещественному составу, содержанию органических остатков и мощности она сопоставляется с шеркыртинской свитой касимовско-сакмарского возраста Большесынинской впадины. Толща вскрыта в двух пунктах, находящихся друг от друга на расстоянии около 12 км вкрест простирания слоев. На востоке, на левом берегу реки, в 0,5 км выше устья р. Ыджид Анью, она представлена темно-серыми, редко красно-коричневыми глинистыми и биокластовыми известняками. В подстилающих рифогенных известняках были найдены среднеассельские фузулиниды Pseudofusulina cf. romboides Sham. et Scherb. (Пономаренко, 2010). Находки среднеассельских конодонтов Streptognathodus сf. constrictus Reshetkova в кровле рифогенных известняков и Streptognathodus constrictus Reshetkova в подошве устьиспередъюской толщи свидетельствуют о смене условий осадконакопления в это время, а не в позднесакмарский век, как предполагалось ранее. Наиболее молодая форма Adetognathus paralautus Orchard, совместно со своебразной Streptognathodus aff. longissimus Chern., встреченная приблизительно в 5 м от кровли рифогенных известняков, характерна для сакмарского яруса. Однако не исключено ее Материалы III Всероссийского совещания распространение и в верхней части ассельского яруса. Выше по разрезу в нескольких слоях найдены единичные конодонты Streptognathodus cf. fusus Chern., S. simplex Gunnell, S. elongatus Gunnell, указывающие на ассельский возраст вмещающих отложений. Данные находки не позволяют однозначно датировать возраст устьиспередьюской толщи и говорить о мощности. Возможно, слои на этом участке деформированы в синклинальную складку, как считает Е.С. Пономаренко (2010), или ассельские конодонты, встреченные в средней и верхней части толщи, переотложены. В настоящее время можно предположить два разных стратиграфических объема толщи: средне-верхнеассельский и среднеассельско-тастубский. По нашему мнению, предпочтителен второй. Видимая мощность отложений, включая необнаженные участки и не учитывая возможные складки, около 60 м. На западе, в районе устья р. Испередъю, над чистыми светло-серыми известняками в разрезе наблюдаются глинистые и биокластовые известняки и аргиллиты красновато-коричневого цвета видимой мощностью около 15 м. В верхней части глинисто-известняковой толщи найдены конодонты Mesogondolella cf. bisselli (Clark et Behnken), датирующие позднесакмарский возраст отложений. Предположительно верхняя граница усть­ испередъюской толщи омолаживается с тастубского на востоке до стерлитамакского времени на западе. Устьиспредъюская толща залегает на рифогенных известняках ассельского возраста и перекрывается флишевыми терригенными отложениями кирпичкыртинской свиты артинского возраста. Граница с вышележащими отложениями не обнажена. В устьоселокскую толщу выделены массивные рифогенные известняки Большесынинской впадины мощностью около 100 м, вскрытые на левом берегу р. Подчерем, в 1 км ниже устья р. Оселок (обн. 49, по Кузькокова, 1976) Известняки содержат позднеассельские и сакмарские фузулиниды. Породы представлены массивными гидрактиноидными, фораминиферо-тубифитесовыми и криноидно-мшанковыми известняками. Часто встречаются крустификационные структуры. Строение и состав рифогенных известняков сходны с гжельско-сакмарской органогенной постройкой на р. Кожим в южной части Косью-Роговской впадины. В нижней части устьоселокской толщи находится пачка мощностью 8 м биокластовых известняков, включающих верхнеассельско-сакмарские (тастубские) конодонты Adetognathus paralautus Orchard, Streptognathodus aff. barskovi Kozur, Hindeodus minutes (Ellison). Однако мы не исключаем возможность и опрокинутого залегания пластов в обнажении, в этом случае биокластовые известняки слагают верхнюю часть разреза. Гжельская часть разреза в этом районе также сложена преимущественно рифогенными известняками в ассоциации с биокластовыми (Кузькокова, 1976; Елисеев, 1978). Выше по разрезу (непосредственная граница не обнажена) залегают кремнисто-глинистые спикуловые известняки и известковые аргиллиты оселокской свиты артинского возраста. Большеостровская свита артинского возраста выделена в южной части Косью-Роговской впадины. Она сложена преимущественно кремнисто-глинистыми спикуловыми известняками, известковыми аргиллитами и иногда алевролитами и тонкозернистыми граувакковыми песчаниками мощностью 250–300 м. Свита вскрыта на правому берегу р. Кожим в 9 км выше железодорожного моста. Характеристика свиты дана ранее (Салдин, 2002). В одном из слоев известняков найден смешанный комплекс конодонтов Neostreptognathodus (?) aff. ruzhencevi, N. (?) sp. Adetognathus paralautus Orchard, Mesogondolella simulata Chern. Учитывая залегание кремнисто-глинисто-известковых отложений на рифогенных известняках стерлитамского горизонта, можно довольно уверенно относить их к артинскому ярусу. Ранее эти отложения выделялись в нижнюю терригенно-известняковую подсвиту в составе терригенных отложений косьинской свиты артинского возраста (Ротай, 1947; Путеводитель…, 1995). Выходы косьинской свиты распространены в 9 км ниже по реке от большеостровской свиты. Она сложена исключительно граувакковыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами и в формационном отношении трактуется как флишевая формация (Путеводитель…, 1995; Салдин, 2002). По составу и условиям образования большеостровская свита сопоставляется с оселокской свитой Большесынинской впадины, стратиграфический диапазон которой соответствует также артинскому ярусу (Салдин, 2009). Вевдоркыртинская свита выделена в восточной части Большесынинской впадины (бассейны рек Щугор и Подчерем) и сложена граувакковыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами мощностью до 2500 м. Наиболее последовательный разрез наблюдается непосредственно выше Верхних ворот р. Щугор. В стратиграфических схемах данные отложения рассматриваются в составе орловкинской и вочаельской свит (Стратиграфические…, 1993). Артинские терригенные отложения в бассейне р. Щугор (полоса выходов от устья р. М. Паток до устья р. Б. Паток) представляют глубоководные отложения гравитационных потоков и коррелируются с косьинской и гусиной свитами Косью-Роговской впадины. Стратотипический район орловкинской 195 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео196 свиты в современном структурно-тектоническом плане находится в пределах Среднепечорского поднятия, разделяющего Верхнепечорскую и Большесынинскую впадины. В каменноугольно-пермское время это было синседементационное поднятие, и поэтому стратотипический разрез резко отличается от артинских отложений Большесынинской впадины условиями образованиями (это относительно мелководные отложения), мощностью до 200 м и, вероятно, более молодым возрастом. Границы вочаельской свиты в типовой местности не обозначены, а строение, состав и условия образования артинских пород не отличаются от этих же пород, распространенных выше и ниже по течению реки. В настоящее время строение разреза флишевых отложений вевдоркыртинской свиты не вполне ясно. Однако четко наблюдаются границы с подстилающими касимовско-сакмарскими отложениями шеркыртинской свиты и перекрывающими позднеартинско-кунгурскими (?) отложениями шеркыртаельской свиты. Выделенные стратоны в северной части Предуральского краевого прогиба должны способствовать правильной корреляции отложений и пониманию эволюции позднепалеозойского осадконакопления на данной территории. Исследования выполнены в рамках проекта № 12-У-5-1017, финансируемых из средств Уральского отделения РАН. Елисеев А.И. Формации зон ограничения северо-востока Европейской платформы. – Л.: Наука, 1978. – 204 с. Кузькокова Н.Н. Нижнепермские отложения Средней Печоры. – Л.: Наука, 1976. – С. 128. Пономаренко Е.С., Ремизова С.Т., Толоконникова З.А. Стратиграфия нижнепермских карбонатных отложений в разрезе Мича Ласта (р. Илыч, Северный Урал) // Вестник Института геологии Коми НЦ УрО РАН. № 4 (184). – Сыктывкар: Геопринт, 2010. – С. 2–5. Путеводитель экскурсии на пермские отложения р. Кожим / Под. ред. А.Ю. Розанова и др. – М.: ПИН РАН, 1995. – 49 с. Ротай А.П. Новые данные по угленосности южной части Печорского бассейна // Материалы геологического угольного совещания. – М., 1946. – С. 111–133. Cалдин В.А. Новые данные по геологии нижнепермских отложений р. Кожым (Приполярный Урал) // Литогенез и геохимия осадочных формаций Тимано-Уральского региона. – Сыктывкар, 2002. – № 4. С. 11–34. (Труды Ин-та геологии Коми НЦ УрО РАН; Вып. 111). Салдин В.А. Корреляция разнофациальных верхнекаменноугольно-артинских отложений севера Урала // Материалы Всерос. науч. конф. «Верхний палеозой России: стратиграфия и палеогеография» (Казань, Республика Татарстан 25–27 сентября 2007 г.). – Казань: Казанский ГУ, 2007. – С. 278–282. Салдин В.А. Оселокская свита нижней перми в стратотипической местности (река Подчерем, Северный Урал) // Геология и минеральные ресурсы европейского северо-востока России: Материалы XV Геолог. съезда Республики Коми, 13–16 апреля 2009 г. – Сыктывкар: Геопринт, 2009. – Т. II. С. 155–157. Салдин В.А. Пространственное распределение среднекаменноугольно-нижнепермских органогенных построек и депрессионных отложений на севере Урала // Материалы Всерос. литолог. совещания «Рифы и карбонатные псефитолиты». – Сыктывкар: Геопринт, 2010. – C. 155–157. Стратиграфические схемы Урала / Ред. Н. Я. Анцыгин, Б. А. Попов, Б. И. Чувашов. – Екатеринбург, 1993. Лист 151. Чувашов Б.А., Мизенс Г.А., Черных В.В. Верхний палеозой бассейна р. Щугор (правобережье Средней Печоры, западный склон Приполярного Урала) // Материалы по стратиграфии и палеонтологии Урала. – Екатеринбург: УрО РАН, 1999. Вып. 2. – С. 38–81. Э.Ю. Саммет АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ Исторически сложилось так, что в основу выделения геологических систем и их основных подразделений – отделов и ярусов был положен принцип истории развития той или иной группы органического мира в регионах, наиболее детально изученных палеонтологами. В гораздо меньшей степени учитывались тектонические, литологические и фациальные особенности ­изученных геологических разрезов. Такое положение сохранялось до второй половины прошлого века, когда стало ясно, что одних палеонтологических методов недостаточно при создании стратиграфических схем для всего фанерозоя. Материалы III Всероссийского совещания По указанной причине за последние 50 лет был разработан целый ряд новых стратиграфических схем – морфолитостратиграфических, сейсмостратиграфических, климатостратиграфических и др. для геологических карт разных масштабов, широко используемых в настоящее время. Несмотря на существование ряда других схем для стратиграфического расчленения разновозрастных отложений, неизменным до настоящего времени является принцип выделения биостратиграфических подразделений. Среди многих славных имен российских палеонтологов выделяется почти 70-летняя плодотворная деятельность М.А. Ржонсницкой по стратиграфическому расчленению и корреляции отложений девонской системы в пределах всей территории б. СССР. 2012 год является юбилейным – 100 лет со дня ее рождения. Несмотря на большие успехи в расчленении и корреляции фанерозойских образований на современной территории Российской Федерации, к настоящему времени накопился ряд стратиграфических проблем, требующих более детального изучения. Некоторые из них целесообразно рассмотреть на примере достаточно полно изученной площади Главного девонского поля (ГДП). Ввиду того, что образования ГДП представлены преимущественно терригенными и карбонатно-терригенными мелководными прибрежно-морскими фациями без достаточного количества биостратиграфического материала, существуют значительные трудности в надежной корреляции между разнофациальными породами Главного и Центрального девонских полей. Для этого практически не используются геохимические данные по выделению уровней максимальной трансгрессии одновозрастных морских бассейнов, в частности, по показателям смены трансгрессивной фазы регрессией, которые можно устанавливать на обширной площади по так называемым геохимическим коэффициентам. Особой проблемой является существование глубокого различия в проведении стратиграфических границ между средним и верхним отделами девона в пределах ГДП и окружающей территории Прибалтики и других зарубежных стран, достигающее до 50–60 м по вертикали в сводных разрезах. После 2004 г. гауйский и аматский горизонты, относимые ранее всеми исследователями к верхнему девону, рассматриваются зарубежными исследователями в составе среднего девона в качестве верхнего подъяруса живетского яруса, что не подтверждается имеющейся информацией по ГДП. Для синхронизации отложений практически не используется наличие признаков вулканической деятельности, в частности, по появлению в отложениях повышенного количества лития и др. Требуется более обоснованная корреляция отложений ряда подразделений Главного и Центрального девонских полей. Например, совершенно не ясно положение арукюлаского горизонта среднего девона мощностью более 100 м на территории Тверской и Московской областей, нижней границы воронежского горизонта верхнего девона на площади ГДП, не ясна корреляция ряда стратиграфических горизонтов ГДП с одноименными горизонтами на соседней юго-восточной части территории и др. Нет ясности также в проведении границ фаменского яруса в этих двух субрегионах и др. Наряду с нерешенными стратиграфическими вопросами необходимо отметить ряд проблем, связанных с существенным расширением минерально-сырьевой базы, приуроченной к девонским отложениям региона. Имеются хорошие перспективы создания новых сырьевых баз гипса и строительных известняков в Порховском районе Псковской области, палыгорскитовых и бентонитовых глин в юго-восточном Приильменье, тугоплавких глин, марганцевых и молибденовых руд в Старорусском районе Новгородской области, ряда редкоземельных элементов во всей девонской толще Главного девонского поля. Особого внимания заслуживает вопрос о перспективах поисков месторождений алмазов в отложениях девона на территории Псковской и Новгородской областей. Результатами исследований автора последних лет выявлено широкое распространение минералов-спутников алмаза (пироп, хромшпинелид, хромдиопсид и др.) в девонских и четвертичных отложениях, приуроченных к ореолам рассеяния вокруг тектонических образований – трубок взрыва на территории Бежаницкой и Судомской возвышенностей, а также на окружающей территории. Морфология и размеры образований типа трубок взрыва аналогичны известным в пределах алмазоносных полей Архангельской области. Кроме минералов – спутников алмаза, в отложениях девона и даже в глинистых четвертичных образованиях (включая почвенный покров) встречаются аномально повышенные концентрации лития, бериллия и бора – элементов с атомной массой меньше элементов, слагающих земную атмосферу. Представляется, что они связаны с тектоническими процессами образования алмазоносных трубок взрыва и могут являться 197 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео198 предвестниками современных землетрясений. Изложенные поисковые признаки заслуживают дальнейшего исследования. Более подробно перечисленные выше проблемы рассматриваются в одноименной статье автора в готовящемся сборнике, посвященном памяти М.А. Ржонсницкой, где они иллюстрируются четырьмя рисунками-схемами по перспективам поисков нетрадиционных для СевероЗападного региона России полезных ископаемых. А.Н. Сандула ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ В СРЕДНЕКАМЕННОУГОЛЬНУЮ ЭПОХУ В БАССЕЙНЕ ВЕРХНЕЙ ПЕЧОРЫ Среднекаменноугольные отложения на территории бассейна Верхней Печоры в зависимости от местоположения имеют различное развитие (рис. 1, 2). Так, в разрезе р. Илыч они представлены практически в полном объеме. Здесь выделяются два яруса, внутри которых семь горизонтов и две фузулинидовые зоны: башкирский ярус в составе краснополянского, северокельтменского, прикамского горизонтов и верхнебашкирских фузулинидовых зон Ozowainella pararhomboidales и Aljutovella tikhonovichi; московский ярус – верейского, каширского, подольского и мячковского горизонтов. На Малой Печоре отложения вскрыты только в двух местах (обн. 76 и 63). В первом из них можно наблюдать породы верхней части краснополянского горизонта и нижней части северокельтменского горизонта башкирского яруса, а во втором – часть подольского горизонта московского яруса, представленную водорослево-шламовыми и шламовыми известняками. В разрезе р. Унья отложения среднего карбона, как и на Илыче, с размывом залегают на нижнекаменноугольных отложениях. Обнаженность башкирских отложений крайне невысокая, их отдельные выходы отмечены в обн. 12 (Калашников, Михайлова, 1977), отложения краснополянского горизонта – в обн. 41 и верхнебашкирские в обн. 30 (Сандула, Пономаренко, 2007). Отложения московского яруса на р. Унье представлены более полно. Здесь выделяются верейский (обн. 60), каширский горизонты и нерасчлененный верхнемосковский интервал (обн. 24). Литолого-фациальный анализ изученных отложений показывает, что в пределах бассейна Верхней Печоры в среднекаменноугольное время, на фоне мелководных условий осадконакопления, имели место небольшие по амплитуде, но, по-видимому, довольно резкие колебательные движения, приводившие к образованию островного мелководья или отмельных зон (Антошкина, Салдин, Сандула и др., 2011). Возможно, именно по этой причине на территории Верхней Печоры наблюдается неравномерное развитие среднекаменноугольных отложений (особенно башкирских), обусловленное стратиграфическими перерывами и частичным или полным размывом отложений отдельных горизонтов. Вещественное выражение этих процессов заключается в чередовании пелагических отложений открытого моря карбонатной платформы с обломочными породами или отмельными образованиями. Наиболее ярким примером пелагических отложений на рассмотренной территории является толща башкирских отложений в разрезе р. Илыч. Они представлены в основном мощными (5–10 м толщиной) пачками очень плотных, толстоплитчатых, массивных известняков серого и темно-серого цвета Рис. 1. Местоположение выходов среднекас кремнями, чередующихся с сериями тонкослоистых менноугольных отложений в бассейне Верхней Печоры. Номера известняков. Среди первых преобладают шламовые, обнажений даны по В.А. Варсанофьевой мелкобиокластовые разности, но нередки толипам- Материалы III Всероссийского совещания Рис. 2. Корреляция разрезов среднекаменноугольных отложений Верхней Печоры 1 – известняк; 2 – доломит; 3 – доломитизированный известняк; 4 – аргиллит; 5–8 – известняки (5 – водорослевый, 6 – шламовый, 7 – оолитовый, 8 –криноидно-коралловый); 9 – ратовкиты; 10–12 – известняковые псефитолиты (10 – брекчия, 11 – гравелит, 12 – конгломерат); 13–15 – кремнистые образования (13 – линзовидные и пластовые, 14 – эллипсовидные, 15 – неправильной формы); 16 – микрокодии мино-гиперамминовые, гломоспировые, донецелловые и унгдарелловые известняки. Пачки тонкослоистых известняков по мощности не превышают 3–4 м и сложены пелитоморфными и микромернистыми породами. Отложения островного мелководья или отмельных зон отмечены в нижнебашкирском подъярусе, каширском и нижней части мячковского горизонтов московского яруса. Причем их развитие на территории Верхней Печоры отмечается локально. Так, например, в краснополянском горизонте разрезах рек Унья и Илыч после красно­ цветной пачки наблюдается несколько горизонтов с мелкообломочными известняками и гравелитом с фрагментами красных аргиллитов в своем составе, которые сочетаются в разрезе с грубо­биокластовыми (криноидными или брахиоподовыми) известняками иногда с плохо различимой крупной косой слоистостью. В то же время в центральной части верхнепечорского бассейна (р. М. Печора) с наступлением башкирского времени преобладали морские условия, способствовавшие отложению криноидно-фораминиферовых известняков. 199 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео200 Следующий четко различимый уровень обширного понижения уровня моря отмечается в каширских отложениях московского яруса. Отмельные участки формировались на юге Верхнепечорского бассейна, наличие их фиксируется в разрезе обн. 24 на р. Унья отложениями баровых зон. Здесь они слагаются ассоциацией оолитовых и мелкобиокластовых доломитизированных известняков. На широте р. М. Печора оолитовые и мелкобиокластовые известняки сменяются ассоциацией среднебиокластовых и биокластово-водорослевых известняков с редкими маломощными прослоями оолитов (обн. 57, район Собинской Заостровки на р. М. Печора). А на северной части исследованной области в каширский век устанавливаются спокойные условия и накапливаются водорослево-биокластовые известняки (р. Илыч). В начале мячковского времени в северной части Верхнепечорского бассейна (р. Илыч) проявились субаэральные условия осадконакопления. На их наличие указывает присутствие в разрезе нижней части горизонта пачки (~2,2 м) мелко-среднебиокластовых водорослевых и микрокодиевых известняков (обн. 70, р. Илыч). В то же время в центральной части бассейна Верхней Печоры сначала происходило накопление биокластовых известняков, и только к концу среднего карбона образуется отмель, на которой накапливались оолиты (Варсанофьева, 1962). На широте р. Уньи в позднемосковское время (подольский+мячковский века), по всей видимости, сформировалась область с устойчивым мелководным осадконакоплением. Здесь в тёплом, иногда слегка осолонённом море последовательно формировались следующие породные ассоциации: средне-крупнобиокластовых часто сильно доломитизированных известняков с кремнями; биокластово-коралловых, биокластовых и тонкослоистых водорослево-биокластовых известняков с прослоями темно-серых кремней; биокластово-криноидных известняков с желваками кремней различной морфологии; известняков шламовых, тонкослоистых, доломитизированных. Обобщая приведенные выше данные, можно заметить, что в районе Верхней Печоры в начале башкирского времени после обширной регрессии начинается постепенное погружение морского дна сначала в районе бассейна р. Б. Шайтановка, а затем и южнее на р. Унья и северней на р. Илыч. В результате во всем Верхнепечорском палеобассейне устанавливаются условия пелагиали открытого моря карбонатной платформы. Активизация инверсионных тектонических процессов на протяжении среднего карбона способствовала образованию в краснополянское, каширское и позднемосковское время островных мелководий и отмелей на открытом шельфе. Работа выполнена при поддержке программы УрО РАН, 12-У-5-1017. Антошкина А.И., Салдин В.А., Сандула А.Н. и др. Палеозойское осадконакопление на внешней зоне шельфа пассивной континентальной окраины северо-востока Европейской платформы. – Сыктывкар: Геопринт, 2011. – 200 с. Варсанофьева В.А. К стратиграфии среднекаменноугольных отложений бассейна Малой Печоры // Материалы по геологии Северного Урала и Тимана. – Сыктывкар, 1962. – Вып. 3. С. 38–51. (Труды Инта геол. Коми филиала АН СССР). Калашников Н.В., Михайлова З.П. Стратиграфия среднего карбона реки Уньи // Ежегодник-1976 Института геологии Коми филиала АН СССР. Вып. 11. – Сыктывкар, 1977. – С. 24–28. Сандула А.Н., Пономаренко Е.С. Новые данные по стратиграфии геологического памятника природы «Чамейное Плёсо» // Изучение, сохранение и использование объектов геологического наследия северных регионов (Республика Коми): Материалы науч.-практич. конф. – Сыктывкар: Геопринт, 2007. – С. 71–73. К.М. Седаева, Н.Н. Рябинкина ПОГРАНИЧНЫЙ ГЛИНИСТЫЙ ГОРИЗОНТ КАК ОТРАЖЕНИЕ АБИОТИЧЕСКОГО И БИОТИЧЕСКОГО СОБЫТИЙ НА РУБЕЖЕ ДЕВОНА – КАРБОНА Присутствие глинистого горизонта незначительной мощности на границе двух систем (девонской и каменноугольной) среди карбонатных пород во многих морских разрезах периферии Европейской, Северо-Американской и Китайской платформ отмечалось многими исследователями XIX–XX столетий. Было выявлено, что кратковременно на больших пло- Материалы III Всероссийского совещания щадях карбонатонакопление во многих морских бассейнах Северного полушария сменилось на глинистую седиментацию (Липина, Рейтлингер, 1976; Рейтлингер, 1977; Симаков, 1985 и др.). Впервые обратил внимание на глинистый горизонт О. Валлизер (Walliser, 1984) при детальных исследованиях разрезов пограничных отложений девона и карбона Рейнских Сланцевых гор (Германия) – Хассельбахталь, Оберредингхаузене, Априке, Штокум, Оэзе. Этот горизонт залегает в прикровельной части известняков Воклюм и в основании хангенбергских известняков. В нем отсутствовали некоторые зональные биостратиграфические подразделения по многим группам фауны и были выявлены: 1) резко обедненный смешанный состав фауны и миоспор и 2) синседиментационные (скрытые) перерывы в осадконакоплении на разных уровнях. В то же время для него было характерно: 1) повышенное содержание органического вещества (ОВ); 2) сульфидная минерализация и 3) геохимическая аномалия с повышенным содержанием (в 10–100 раз выше кларка) сидерофильных, халькофильных, редких, редкоземельных, благородных и других элементов. Позднее аналогичный глинистый горизонт был выявлен также и в карбонатных разрезах пограничных отложений девона – карбона Западной Европы (Франции, Бельгии, Австрии, Польши), США, Канады и Китая. Он был встречен во многих разрезах скважин Пермского Прикамья, Поволжья, Оренбуржья, Северного Прикаспия, а также по берегам рек М. Волноваха (Центральный Донбасс), Пож (Вишерский Урал), Кожим (Приполярный Урал), Сиказа, Зюган, Уйсули и Ряузяк (Южный Урал). Столь широкое распространение глинистого горизонта косвенно указывает на литологическое сходство и формационное единство верхней части верхнедевонских и нижней части нижнекаменноугольных их разрезов. Глинистый горизонт сложен аргиллитами или глинами темно-серого и черного цветов, часто алевритистыми, реже алеврито-песчанистыми, нередко в той или иной степени известковистыми. В них содержится в незначительном количестве слюдистая или (и) кремнистая примесь. В некоторых разрезах глинистого горизонта нередко наблюдаются тончайшие пропластки гидрокарбопелитов (темноцветных битуминозных известково-глинистых пород, обогащенных Сорг до 5–17 %) и (или) светлых бентонитов (образовавшихся по пепловому туфу), а также рассеянная сульфидная минерализация микробиальной природы с несколько повышенной концентрацией благородных (Au, Ag, Pt и др.) и редкоземельных элементов (Седаева и др., 2010). Формирование глинистого горизонта сопряжено во времени с проявлением события массового вымирания организмов на рубеже позднего девона – раннего карбона (D3–C1). На уровне его появления зафиксировано: 1) резкое снижение численного состава некоторых групп фауны и флоры и 2) существенная смена палеонтологических комплексов как в региональном, так и субглобальном масштабе. К этому рубежу приурочен один из глубочайших кризисов в истории развития аммоноидей, когда перестали существовать все клименииды и представители большинства других родов этих головоногих моллюсков. Существенные изменения произошли среди наутилоидей (вымирает отряд Discosorida), трилобитов (закончил развитие отряд Phacoрida), конодонтов (вымерли доминировавшие в девоне роды Palmatolepis и Icriodus) и рыб (исчезают плакодермы) (Липина, Рейтлингер, 1976; Рейтлингер, 1978; Барсков, Кононова, Алексеев, 1985 и др.). Биотический кризис и формирование глинистого горизонта на рубеже D3–C1 были вызваны проявлениями масштабных деструктивных геотектонических процессов, в основном, рифтогенного характера, которые происходили на раннем этапе герцинского цикла орогенеза. В ходе позднедевонско-раннекаменноугольной (а главным образом фаменской) фазы рифтогенеза образовалась разветвленная и протяженная система рифтов и грабенов: 1) по периферии Европейской (Южная Англия, Припятский, Днепрово-Донецкий, Кировско-Кажимский и др. проторифты), Сибирской (Васюганская депрессия, Кузнецкая котловина), Северо-Американской (Свердлупский и Аппалачский бассейны, бассейн Делавэр и др.) и Южно-Китайской платформ; 2) в пределах почти всей площади Западно-Арктической континентальной окраины (Норвежского шельфа, Северного моря, Шпицбергена, бассейнов Баренцевого и Печорского морей) и 3) Омолонского и Казахстано-Тяньшанского срединных массивов (Симаков, 1984; Формирование…, 1999; Шипилов, 2007; Чувашов, 2007 и др.). Геотектонические процессы были обусловлены периодическими флуктуациями внутренней температуры мантии и изменениями ее свойств, происходившими на фоне постепенного остывания планеты и изменения ее положения на гелиоцентрической орбите. Это вызвало: 1) активизацию разномасштабных эндогенных процессов с участием плюмово-мантийного магматизма; 2) излияние базальтоидов и их производных и 3) дестабилизацию геомагнитного поля Земли. На фоне общего растяжения и тектоно-магматической активизации происходило воздымание и опускание значительных блоков земной коры и, в частности, образование систем поднятий 201 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео202 и впадин по периферии древних платформ. В свою очередь это приводило к: 1) дальнейшему углублению или обмелению тех или иных участков в крупных морских бассейнах и 2) возникновению аноксидных условий в них (Седаева и др., 2010; Walliser, 1984, 1995). Это в свою очередь обусловило активное и концентрированное рудо-, нефте- и газообразование нередко с формированием субглобальных металлогенических, нефтегазоносных и сланцевогазоносных стратоуровней (Абдрахманов, 2010 и др.). В позднедевонско-раннекаменноугольное время отмечается крупнейший в истории планеты пик вулканогенного колчеданообразования (около 43 % суммарных запасов колчеданных руд в мире) (Дергачев, 2010). Тектоно-магматические процессы обусловили: 1) поступление значительного количества SiO2, серы, СО2, Н2 S и других газов и сопутствующих малых и редких элементов вместе с пеплом в атмосферу и гидросферу; 2) резкие эвстатические флуктуации уровня моря; 3) палеоклиматические изменения; 4) изменение режима седиментации; 5) появление аноксидных условий в морских бассейнах и 6) расцвет микробиальных сообществ – микробионтов, утилизирующих последствия абиотических и биотических событий, отражая тем самым особенности осадконакопления на рубеже двух эпох позднего палеозоя. Вследствие этого формирование глинистого горизонта происходило на фоне: 1) нестабильной геотектонической обстановки; 2) флуктуаций уровня моря и 3) неустойчивого (аномального) состояния геомагнитного поля Земли, в относительно глубоководных аноксидных условиях, реже в мелководно-морских полузамкнутых бассейнах, куда поступал с суши тонкообломочный материал, и в которых происходило захоронение ОВ микробиальной природы и тонкой вулканокластики с дальнейшим их преобразованием в процессе литогенеза (Седаева и др., 2010; Walliser, 1984, 1995). Взаимодействия различных процессов, протекавших в космо-, гео- и биосфере, и привели к: 1) глобальным геологическим событиям тектоно-магматического характера (Хангенбергское глобальное геологическое событие на рубеже D3–C1), 2) биотическим кризисам (Хангенбергское глобальное экологическое событие), которые и обусловили формирование глинистого горизонта на критическом рубеже позднего палеозоя. Глинистое вещество в этом случае являлось коллектором, в котором происходили: 1) захоронение исходного ОВ и 2) локализация и концентрация полезных компонентов при утилизации микробионтами продуктов вулканической и тектоно-магматической деятельности из гидросферы и атмосферы, и в целом из биосферы. Глинистый горизонт в этом случае является седиментологическим маркером как глобального геологического, так и глобального экологического события рубежа девона – карбона. Абдрахманов К.А. Глобальные металлогенические стратоуровни и их рудогенерирующие источники // Фундаментальные проблемы месторождений полезных ископаемых и металлогения: Материалы XXI Междунар. науч. конф. – М.: Изд-во МГУ. 2010. – С. 117–118. Барсков И.Б., Кононова Л.И., Алексеев А.С. О биостратиграфическом распределении и выборе разреза границы верхнего девона – нижнего карбона // Бюлл. МОИП. Серия геол. 1985. Т. 60. Вып. 5. – С. 45–57. Дергачев А.Л. Эволюция вулканогенного колчеданообразования в истории Земли // Автореф. дис. ... док. геол.-минер. наук. – М.: МГУ, 2010. – 60 с. Липина О.А., Ретлингер Е.А. Граница девона и карбона в морских отложениях // Границы геологических систем: Сб. к 70-летию акад. В.В. Меннера. – М.: Наука, 1976. – С. 94–110. Рейтлингер Е.А. Граница девона и карбона на современном этапе ее изученности // Вопросы микропалеонтологии. – М., 1977. Вып. 20. – С. 21–53. Седаева К.М., Рябинкина Н.Н., Кулешов В.Н., Валяева О.В. Отражение Хангенбергского глобального геологического события рубежа девона и карбона в разрезах западного склона Приполярного (р. Кожим) и Южного (р. Сиказа) Урала // Литосфера. 2010. № 6. – С. 25–37. Симаков К.В. Опорные разрезы и биостратиграфия пограничных отложений девона и карбона Западной Европы. – М.: Наука, 1985. – 247 с. Walliser O.H. Geologic processes and global events // Terra cognita. 1984. N 4. – P. 17–20. Walliser O.H. Clobal Events and Event Stratigraphy in Phanerozoik // Berlin, Heidelberg, New York: Springer. 1995. – 333 p. А.Г. Сенников, В.В. Буланов Вторая половина палеозоя – время выхода позвоночных на сушу и освоения ими основных типов существовавших континентальных биотопов. Этот процесс был в полной мере реализован при переходе к амниотному уровню организации, открывшему пути проникновения в ксерофильные области, удаленные от постоянных водных бассейнов. Отдельного рассмотрения заслуживает переход четвероногих к облигатно-древесному образу жизни и особенно появление видов, освоивших пассивный полет, который является более полным выражением данного направления специализации. В силу причин тафономического характера палеонтологическая летопись очень скудно отражает начальные этапы этих событий и вынужденно реконструируется по очень отрывочным, иногда косвенным данным. В этой связи любые находки соответствующим образом адаптированных позднепалеозойских и раннемезозойских форм вызывают повышенный интерес. Тенденции к изменению морфологии скелетных структур в направлении морфотипа, свойственного древесным позвоночным (грацильные конечности с подвижными суставами, острые изогнутые когтевые фаланги с мощными флексорными буграми и др.), начинают прослеживаться у тетрапод по меньшей мере в ранней перми, например, у Araeoscelis (Vaughn, 1955). В верхней перми известны находки представителей древнейшего семейства планирующих рептилий – вейгельтизаврид (Weigeltisauridae), судя по ареалу уже получившего глобальное распространение и, вероятно, генетически связанного именно с ареосцелидиями (Буланов, Сенников, 2010). ­Изучение материалов по вейгельтизавридам России, Центральной Европы и Африки (Мадагаскар) указывает на наличие в составе семейства четырех валидных родов (Буланов, Сенников, 2011), что свидетельствует о быстрой базальной радиации группы и увеличению морфологической дистанции между филумами внутри нее к концу пермского периода. По аналогии с другими ископаемыми и современными тетраподами сходной экологии, переход к планирующему полету в этой линии тетрапод был осуществлен за счет появления по бокам тела широких кожных складок. Конструкция каркасного скелета перепонки вейгельтизаврид уникальна и образована пучками длинных иглоподобных окостенений ламелярной микроструктуры, сериально расположенных вдоль осевого скелета и, вероятно, являющихся новообразованием (Schaumberg et all., 2007). Строение «крыла» позволяло, как предполагается, изменять ориентацию перепонки во время полета и складывать ее после приземления на субстрат (Evans, 1982). Массовый материал по вейгельтизавридам из российских местонахождений в Оренбургской области позволил существенно расширить характеристику весьма специфичного морфотипа древнейших планирующих рептилий и выявить ряд адаптаций, указывающих на их глубокую специализацию, обусловленную древесным образом жизни и освоением планирующего полета. В частности, у вейгельтизаврид отмечено наличие обширных полостей внутри большинства элементов скелета, в том числе черепных костей и каркасных окостенений перепонки. В строении посткраниума наблюдается консолидация крестца за счет расширения дистальных и проксимальных концов крестцовых ребер, опосредованно усиливающих крепление тазового пояса на осевом скелете, а также за счет вхождения в состав крестца последнего предкрестцового позвонка. Укорачивается тело животного: не считая шейных, в предкрестцовом отделе позвоночника содержится всего 13 позвонков (Schaumberg et al., 2007), что существенно меньше по сравнению с архаичными диапсидными рептилиями. Плечевая кость, как и у многих активно лазающих форм, резко удлиняется и приобретет не характерный для наземных диапсид сигмаидальный изгиб; суставные поверхности шаровидной формы, обеспечивающей высокую манипулятивность при древолазании, прыжках и приземлении. Кисть сильно преобразована: изменена фаланговая формула и увеличена длина предкогтевых фаланг. Острые плоские когтевые фаланги серповидно изогнуты и снабжены мощными флексорными буграми для крепления сгибательной мускулатуры; легкий изгиб имеют многие предкогтевые фаланги. В целом морфология передних конечностей свидетельствует о глубокой адаптации к обитанию в древесных кронах и лазанию даже по вертикальным стволам. Значительные отличия в строении кисти вейгельтизаврид от типичных примитивных наземных пресмыкающихся заставляют предположить, что эти рептилии фактически не спускались с деревьев (Буланов, Сенников, 2011). Материалы III Всероссийского совещания ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЛАНИРУЮЩЕГО ПОЛЕТА У ПОЗВОНОЧНЫХ – УСЛОВИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ 203 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео204 Появление адаптированных к полету рептилий в поздней перми свидетельствует, что начало освоения тетраподами древесного образа жизни начинается на значительно более ранних этапах их истории. Пик расцвета планирующих тетрапод тем не менее приходится на триас. Список известных триасовых планирующих форм к настоящему выглядит внушительным (Icarosaurus, Kuehneosaurus, Mecistotrachelos, Podopteryx, Longisquama), особенно принимая во внимание, что полет внутри различных филогенетических линий архозавроморф и лепидозавроморф, исходя из анализа конкретных морфо-функциональных адаптивных комплексов, достигался явно независимо. Реальное разнообразие перешедших к пассивному полету тетрапод, надо полагать, было существенно бльшим, учитывая в целом неблагоприятную тафономическую обстановку в пределах населяемых ими лесных массивов, где захоронение остатков сопряжено с большими трудностями (Ефремов, 1950). Столь массовый переход тетрапод к пассивному полету оправдан принципиальным снижением энергозатрат при перемещении в верхних этажах леса, а также отказом от пребывания в пределах населенной хищниками земной поверхности. Совокупные данные по современным и ископаемым формам указывают, что эволюция в данном направлении возможна на очень разнообразном морфологическом субстрате. Общей особенностью всех реализованных конструкций является формирование горизонтальной несущей поверхности, за редким исключением приуроченной к боковым сторонам тела. Функциональность подобных структур в своем окончательном воплощении не вызывает сомнения, однако переходные стадии процесса формирования перепонки также могут быть функционально объяснены, благодаря наличию среди современных рептилий парашютирующих форм, например таких, как лопастехвостый геккон Ptyсhozoon kuhli, имеющий латеральную складку в ее зачаточном состоянии по бокам всего тела (в том числе, вдоль шеи и хвоста), а также снабженные перепонкой пальцы, широко распахивающиеся при прыжке. Дальнейшее увеличение размеров перепонки является следствием необходимости усиления ее контроля со стороны мускулатуры, в том числе опосредованно через конечности или различного вида скелетные каркасные структуры, само наличие которых открывает возможность увеличения площади несущей поверхности, и, как следствие, длины прыжка и маневренности. Последнее представляется особенно актуальным, учитывая высокую вероятность травматизма при отклонении от оптимальной траектории. Калибровка всех известных морфотипов, характеризующих планирующих тетрапод, была неизбежно сопряжена с жестким отбором на маневренность и точность приземления и должна была проходить в эволюционном масштабе времени достаточно быстро. Таким образом, эволюционный сценарий формирования планирующих биоморф в генерализованном виде может быть разделен на три этапа: 1 – выработка адаптаций к облигатно-древесному образу жизни, 2 – освоение парашютирующего полета и формирование латеральной кожной складки (или ее аналога), 3 – увеличение длины траектории прыжка вследствие гипертрофированного разрастания латеральной несущей поверхности и усложнения ее конструкции. Из перечисленных положений первое является основной предпосылкой формирования адаптаций к пассивному полету у тетрапод, а второе – началом процесса специализации в данном направлении. В отличие от активного машущего полета, являющегося прерогативой гомойотермных позвоночных, полет планирующий не требовал от примитивных наземных позвоночных принципиального повышения уровня организации и был реализован значительно раньше и в несопоставимо большем количестве раз. С морфо-физиологической точки зрения, планирующие тетраподы могли появиться уже в начале карбона, однако этому должна была предшествовать интеграция тетрапод в древесные биотопы, в свою очередь обусловленная рядом причин ценотического характера. Среди этих причин следует отметить освоение их верхних этажей продуктивными по биомассе сообществами беспозвоночных (в первую очередь, членистоногих) и увеличение конкурентного давления внутри приуроченных к лесам сообществ позвоночных. Лесные массивы заселялись беспозвоночными уже в процессе своего становления и с этого же момента были потенциально пригодны для освоения их позвоночными. Вхождение тетрапод в эти сообщества долгое время ограничивалось во многом отсутствием локомоторных адаптаций, позволяющих активно лазить по деревьям и преследовать добычу в достаточно специфических условиях древесных крон. С трофической точки зрения вхождение тетрапод в состав древесных сообществ не вызвало принципиальных трудностей: как и во всех случаях освоения новых биоценозов, при переходе к облигатно-древесному существованию тетраподы в силу своих размеров легко надстраивали существующие пищевые пирамиды, выступая в качестве консументов высших порядков (Сенников, 2006). Морфология зубной системы древнейших планирующих Буланов В.В., Сенников А.Г. Новые данные по морфологии пермских планирующих диапсид (Weigeltisauridae) Восточной Европы // Палеонтол. журн. 2010. № 6. – С. 81–93. Буланов В.В., Сенников А.Г. Морфологическое разнообразие и позднепермская радиация древнейших планирующих рептилий семейства Weigeltisauridae // Пермская система: стратиграфия, палеонтология, палеогеография, геодинамика и минеральные ресурсы: Сб. материалов Междунар. науч. конф., посвящённой 170-летию со дня открытия пермской системы (5–9 сентября 2011 г., Пермь). – Пермь: Пермский ГУ, 2011. – С. 56–57. Ефремов И.А. Тафономия и геологическая летопись. – М.–Л.: 1950. Т. XXIV. – 176 с. (Труды ПИН АН СССР). Попов И.Ю. Загадка теории эволюции – происхождение рукокрылых // В тени дарвинизма. Альтернативные теории эволюции в XX в. – СПб.: Ясный день, 2003. – С. 158–175. Сенников А.Г. Некоторые проблемы типологии сообществ наземных тетрапод // Эволюция биосферы и биоразнообразия. К 70-летию А.Ю. Розанова. – М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2006. – С. 359–372. Bulanov V.V., Sennikov A.G. The first gliding reptiles from the Upper Permian of Russia // Paleontol. J. 2006. Vol. 40. Suppl. 5. – Р. 567–570. Evans S.E. The gliding reptiles of the Upper Permian // Zool. J. Linn. Soc. 1982. Vol. 76. – P. 97–123. Schaumberg G., Unwin D.M., Brandt S. New information on the anatomy of the Late Permian gliding reptile Coelurosauravus // Palontol. Z. Vol. 2007. 81. N 2. – P. 160–173. Vaughn P.P. The Permian reptile Araeoscelis restudied // Bull. of the Mus. of Comp. Zool. 1955. Vol. 113. N 5. – P. 305–467. Н.В. Сенников, Л. Айнсаар Материалы III Всероссийского совещания рептилий-вейгельтизаврид достаточно униморфна (сочетание в челюстях конических фиксирующих передних зубов с листовидно расширенными режущего типа буккальными) и свидетельствует о питании именно беспозвоночными, причем лишенными усиленного хитинового покрова (Bulanov, Sennikov, 2006). Находки вейгельтизаврид в поздней перми свидетельствуют о существовании высокоствольных лесных массивов с разреженным верхним этажом, оптимальных для формирования и обитания планирующих позвоночных (Попов, 2003). Значительно более весомой предпосылкой следует считать усложнение сообществ самих позвоночных нижнего (наземного) этажа леса. Первый пик таксономического разнообразия рептилий приходится на среднюю–позднюю пермь, в результате чего конкурентное давление в континентальных сообществах позвоночных резко возросло, что привело к вытеснению более архаичных групп, подобных ареосцелидиям, более продвинутыми диапсидами (эозухиями, пролацертилиями) из оптимальных наземных экотопов. Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 11-05-00252, 11-04-01055, программы фундаментальных исследований № 28 Президиума Российской академии наук «Проблемы происхождения жизни и становления биосферы». ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИЗОТОПАМ УГЛЕРОДА В ОТЛОЖЕНИЯХ ХИРНАНТСКОГО ЯРУСА ГОРНОГО АЛТАЯ По изотопам углерода в конце ордовика в хирнанском веке выделяется ярко выраженный положительный экскурс с максимумом на уровне средней части характерной пачки с так называемым хирнантиево-дальманитиновым комплексом бентосной фауны, отвечающей либо переходным слоям между граптолитовыми зонами Nor. extraordinarius и Nor. persculptus, либо нижней половине зоны Nor. persculptus. Этому экскурсу с резким повышением содержания изотопов углерода до пиковых значений, отвечающих максимальным на протяжении всего ордовика абсолютным величинам изотопов углерода, было дано наименование «Хирнантского углеродного изотопного сдвига» («Hirnantian isotopic carbon excursion» – HICE). Абиотическое событие HICE к настоящему времени зафиксировано практически во всех разрезах этого возраста в том числе: а) в стратотипе (Глобальный стратотипический разрез и Точка – ГСРТ (Global Stratotype Section and Point – GSSP) нижней границы хирнантского яруса ордовика (разрез Ванживан Нос в Китае) (Chen et al., 2006); б) в ГСРТ (GSSP) рудданского яруса силура (разрез Добс Линн в Шотландии) (Underwood et al., 1997); в) региональном российском эталоне хирнанта (разрез Мирный на Колыме, Северо-Восток России) (Kaljo, Martma, 2011), а также в опорных разрезах пограничного ордовико-силурийского стратиграфического интервала многочисленных геологических регионов на разных континентах (Bergstrom et al., 2006; Kaljo, Martma, 2011; Meidla et al., 2011; Mitchell et al., 2011; Schonlaub et al., 2011 и др.). 205 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео206 Рис. 1. Строение разреза и распространение фауны в алтайском разрезе Буровлянка в западной части региона На Горном Алтае были описаны непрерывные ордовикско-силурийские разрезы с находками в них как пелагических комплексов, включая граптолиты, конодонты и радиолярии, так и дальматинового бентосного комплекса (Сенников, 1998, 2012; Sennikov et al., 2008; Obut, 2011; Сенников и др., 2011). Эти комплексы позволяют четко выделять в алтайских разрезах хирнантский стратиграфический уровень, отвечающий граптолитовым зонам Nor. ojsuensis и Nor. persculptus. При изучении опорного алтайского разреза Буровлянка (рис. 1) удалось по изотопам углерода зафиксировать проявление седиментационного события HICE (рис. 2). Оно установлено в низах дальматиновой пачки, на уровне низов зоны Nor. persculptus. Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 11-05-00553) и Программы Президиума РАН «Происхождение биосферы и эволюция гео-биологических систем». Сенников Н.В. Проявления глобального ордовикско-силурийского биотического кризиса в граптолитовых сообществах Средней Сибири // Геология и геофизика. 1998. Т. 39. № 5. – С. 557–567. Сенников Н.В. Новые данные по зональному расчленению катийского и хирнантского ярусов (ордовик) Горного Алтая по граптолитам. Палеонтология и стратиграфические границы: Материалы LVIII сессии Палеонтолог. общества. – СПб., 2012. – С. 122–123. Сенников Н.В., Обут О.Т., Буколова Е.В., Толмачева Т.Ю. Литолого-фациальная и биоиндикаторная оценки глубины формирования раннепалеозойских осадочных бассейнов Палеоазиатского океана // Геология и геофизика. 2011. Т. 52. № 10. – С. 1488–1516. Bergstrom S.M., Salzman M.M., Schmitz B. Fist record of the Hirnantian (Upper Ordovician) δ13C excursion in the North American Midcontinent and its regional implications // Geol. Mag. 2006. Vol. 143. – P. 657–678. Chen Xu, Rong Jiayu, Fan Junxuan et al. The Global Boundary Stratotype Section and Point (GSSP) for the base of the Hirnantian Stage (the uppermost of the Ordovician System) // Episodes. 2006. Vol. 29. N 3. – P. 183–196. Kaljo D., Martma T. Carbon isotope trend in the Mirny creek area, NE Russia, its specific features and possible implications of the uppermost Ordovician stratigraphy. Ordovician of the World. Instituto Geologico y Minero de Espana. – Madrid. 2011. – P. 267–273. Meidla T., Ainsaar L., Truuver K. Ostracods in Baltoscandia through the Hirnantian crises. Ordovician of the World. Instituto Geologico y Minero de Espana. – Madrid. 2011. – P. 353–357. Mitchell C.E., Storch P., Holmden C. et al. New stable isotope data and fossils the Hirnantian Stage in Bohemia and Spain: implications for correlation and paleoclimate. Ordovician of the World. Instituto Geologico y Minero de Espana. – Madrid. 2011. – P. 371–378. Obut O.T., Semenova A.M. New data on Upper Оrdovician radiolarians from the Gorny Altai (SW Siberia, Russia). Ordovician of the World. Instituto Geologico y Minero de Espana. – Madrid. 2011. – P. 403–407. Schonlaub H.P., Ferretti A., Gag­ gero L. et al. The Late Ordovician glacial event in the Carnic Alps (Austria). Ordovician of the World. Instituto Geologico y Minero de Espana. – Madrid, 2011. – P. 515–526. Sennikov N.V., Yolkin E.A., Pet­ runina Z.E. et al. Ordovician-Silurian Biostratigraphy and Paleogeography of the Gorny Altai. – Novosibirsk: Publishing House of SB RAS. 2008. – 154 p. Underwood C.J., Crowley S.F., Marshall J.D., Brenchley P.J. High-resolution carbon isotope stratigraphy of the basal Stratotype (Dob’s Linn, Scotland) and its global correlation // Journ. Geol. Soc. 1997. Vol. 154. – P. 709–718. Материалы III Всероссийского совещания Рис. 2. Данные по изотопам углерода в алтайском разрезе Буровлянка В.В. Силантьев ПЕРМСКИЕ НЕМОРСКИЕ ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЛЮСКИ РОДА PALAEOMUTELA AMALITZKY, 1891: ЭВОЛЮЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАМОЧНОГО АППАРАТА РАКОВИН Род Palaeomutela Amalitzky, 1891 характеризуется униоподобной формой раковины и «…поперечно неправильно зазубренным…» псевдотаксодонтным замком (Амалицкий, 1891, с. 1). Автор рода неоднократно подчеркивал изменчивость замочного аппарата Palaeomutela, приводящую к редукции зубов вплоть до их полного исчезновения у некоторых видов (Амалицкий, 1892, 1895; Amalitzky, 1892, 1895). В то же время им не были четко обозначены критерии отделения раковин палеомутел с редуцированным замком от видов других родов с беззубым замочным аппаратом. В результате представители Palaeomutela 207 208 Изменение замочного аппарата видов рода Palaeomutela Amalitzky, 1891 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, геои биособытия Амалицкий В.П. К вопросу о древности Unionidae // Протоколы заседаний секции биологии Варшав. общества естествоиспытателей. 1891. Вып. 2. № 7. – С. 1–5. Амалицкий В.П. Материалы к познанию фауны пермской системы России. 1. Мергелистопесчанистые породы Окско-Волжского бассейна. Anthracosidae // Известия Варшавского ун-та. 1892. № 2–5, 7–8. – С. 1–150. Амалицкий В.П. Несколько замечаний о верхнепермских континентальных отложениях России и Южной Африки // Труды Варшавского общества естествоиспытателей. 1895. Вып. 6. – С. 1–10. Гусев А.К. Неморские двустворчатые моллюски верхней перми европейской части СССР. – Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1990. – 295 с. Amalitzky V.P. Uber die Anthracosien der Permformation Russlands // Palaeontographica. 1892. Bd. 39. N 4–6. – P. 125–214. Amalitzky V.P. A Comparison of the Permian freshwater Lamellibranchiata from Russia with those from the Karoo System of South Africa // Quarterly Journal of the Geological Society. 1895. Vol. 51. N 1–4. – P. 337–351. Материалы III Всероссийского совещания часто смешивались с такими родами, как Palaeanodonta Amalitzky, 1895 (= Naiadites Dawson, 1860 sensu Amalitzky, 1892) (верхняя пермь) и Anthraconaia Trueman et Weir, 1946 (карбон – нижняя пермь). В составе рода Palaeomutela выделено две группы видов, группа P. umbonata и группа P. castor, различающиеся морфологическими особенностями строения замочного аппарата раковин и тенденциями его развития. Группа P. umbonata включает в себя виды, обладающие толстостенной раковиной и развитым замочным аппаратом с большим количеством (20–50) изогнутых пластинчатых и бугорковидных зубов. По аналогии с современными моллюсками, это были, вероятно, обитатели подвижных вод, насыщенных алевритовой взвесью. Группу P. castor образуют виды с тонкостенной раковиной и редуцированным замком, предпочитавшие спокойные гидродинамические условия и чистую воду. Строение замка у разновозрастных видов этих двух групп показано на рисунке. В группе P. umbonata удалось выявить следующие общие закономерности. С начала уфимского века до первой половины северодвинского века включительно в замочных аппаратах увеличивается количество зубных пластин, упорядочивается их форма, происходит постепенная дифференциация замочной площадки на переднюю, заднюю (с проксимальной и дистальной частями) и субумбональную ветви (серии), каждая из которых отличается формой, размерами и расположением зубных пластин. Максимальная дифференциация замочной площадки, позволяющая четко выделять псевдокардинальные зубы в субумбональной серии и псевдолатеральные зубы в дистальной части задней ветви замочного аппарата, наблюдается у видов, существовавших в позднесеверодвинское время. Со второй половины северодвинского века до конца вятского века общая схема дифференциации замочной площадки сохраняется, вместе с тем уменьшается количество зубных пластин в замке, и возрастает толщина лигамента. В группе P. castor у стратиграфически более молодых видов количество и размеры зубов в замке уменьшается, дифференциация замочной площадки сглаживается. Начиная с казанского века, зубы дистальной части задней ветви замка стремятся принять горизонтальное положение, сходное с псевдолатеральными зубами видов первой группы. Между тем в замочных аппаратах раковин группы P. castor не удается уверенно выделить ни псевдолатеральных, ни псевдокардинальных зубных пластин. Выявленные закономерности изменения во времени замочного аппарата Palaeomutela позволяют уточнить схему филогенетического развития этого рода. В свою очередь эта схема может быть использована для разработки зональной шкалы пермской системы по неморским двустворчатым моллюскам. 209 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия В.В. Силантьев, Г.Ю. Пономарева 210 К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЮЖНОЙ ЧАСТИ УСТЬ-ЧЕРЕМШАНСКОГО ПРОГИБА Материал, положенный в основу исследования, взят из ряда скважин, пробуренных в 2011 г. на территории Степноозерской площади, располагающейся в южной части Усть-Черемшанского прогиба Камско-Кинельской системы. Наибольший интерес вызывает разрез скважины 2362, изученный по 36 пробам горных пород, отобранных по геофизическим данным из верейского горизонта московского яруса (инт. 1070,5–1075,0 м) и отложений башкирского яруса (интервалы 1075,0–1082,0, 1082,0– 1089,0, 1089,0–1096,0, 1096,0–1101,0, 1101,0–1106, 1106,0–1111,0 м), характеризующих 36 метров разреза среднего карбона. Комплексный биостратиграфический анализ позволил уточнить расчленение разреза и выделить интервал, относящийся к серпуховскому ярусу нижнего карбона. По палеонтологическим данным, расчленение изученного интервала имеет следующий вид: верейский горизонт московского яруса (1070,5–1075,0 м), черемшанский и прикамский горизонты верхнебашкирского подъяруса (1075,0–1102,7 м), башкирский-серпуховский ярусы нерасчлененные (1102,8– 1107,0 м), серпуховский ярус (1107,1–1111,0 м). Верейский горизонт московского яруса (инт. 1070,5–1075,0 м) обосновывается многочисленным комплексом фораминифер, включающим целый ряд руководящих видов: Schubertella gracilis Raus., Sch. znensis Raus., Neostaffella subquadrata (Grozd. et Leb.), N. ex gr. sphaeroidea (Ehren.), Tikhonovichiella pseudoaljutovica (Raus.), Aljutovella (Elongatella) ex gr. lepida (Leont.), Aljutovella fallax Raus., Al. dagmarae Saf., характерных для нижней части верейского горизонта Восточно-Европейской платформы, зоны Aljutovella aljutovica. Верейский возраст интервала подтверждается комплексом конодонтов, включающим виды Idiognathoides ouachitensis (Harlton), Id. tuberculatus Nemirovskaya, Neognathodus atokaensis Grayson, Declinognathodus marginodosus (Grayson), Idiognathodus volgensis Alekseev et al., характерные для зоны Declinognathodus donetzianus – Idiognathoides postsulcatus верейского горизонта Восточно-Европейской платформы. Этот же возраст подтвержден находками брахиопод Choristites inferus (Ivanov) и Choristites aff. teschevi A.Ivanov et E. Ivanova, которые доминируют в комплексе брахиоподовой биостратиграфической зоны Orthotetoides socialis, отвечающей верейскому горизонту стратотипической местности (Московской синеклизы). В прослоях темно-серых аргиллитов, распространенных в пределах рассматриваемого интервала и указывающих на кратковременную регрессию среднекаменноугольного морского бассейна, определен спорово-пыльцевой комплекс, доминантами которого являются Leiotriletes inermis Naum. (17 %), Leiotriletes subintortus Naum. (8 %), Lophotriletes rugosus Naum. (4 %), Lophotriletes minor Naum. (2 %), Trematozonotriletes intermedius Naum. (14 %), Trematozonotriletes gibberоsus Naum. (6 %), Hymenozonotriletes aff. pussilus (Jbr.) Jsсh. (12 %), Perissacus primigenius Naum. (2 %), Perissacus simplicissimus Naum. (2 %) – виды, также подтверждающие верейский возраст вмещающих пород. Черемшанский горизонт башкирского яруса (инт. 1075,0–1102,5 м) хорошо охарактеризован фаунистическими остатками, главным образом фораминиферами, известковыми водорослями и конодонтами. Черемшанский возраст установлен по представительному комплексу фораминифер, содержащим более 30 видов, семь из которых являются руководящими для черемшанского горизонта: Archaediscus permodiscoides Reitl., Eoschubertella mosquensis (Raus.), Eo. obscura (Lee et Chen), Eostaffella ex gr. kashirica Raus., Ozawainella pseudotingi Putrja, Oz. pararhomboidalis Man., Pseudostaffella gorskyi (Dutk.). Нижняя граница проведена по появлению вида-индекса Pseudostaffella gorskyi. Прикамский горизонт башкирского яруса (инт. 1102,5–1102,7 м) охарактеризован фораминиферами зоны Pseudostaffella praegorskyi – Staffelleformes staffellaeformis, наиболее важными из которых являются Eoschubertella mosquensis (Raus.), Eo. obscura (Lee et Chen), Ps. cf. varsanofievae (Raus.), Ps. irinovkensis Leon., Ps. paracompressa Saf., Ps. posterior Saf. Башкирский возраст данного интервала подтвержден находками конодонтов Idiognathodus sinuosis Ellison et Graves и Idiognathodus delicates Gunnell, характерных для башкирского яруса и основания московского яруса Донецкого бассейна и Восточно-Европейской платформы. Остальные встреченные фор- мы имеют широкий стратиграфический диапазон распространения и не противоречат башкирскому возрасту интервала. Башкирский – серпуховский ярусы нерасчлененные (инт. 1102,8–1107,0 м) – указанный интервал мощностью около 4 м слабо охарактеризован определимыми фаунистическими остатками; для более точного определения его возраста требуются дополнительные палеонтологические и литологические исследования. Серпуховский ярус нижнего карбона (инт. 1107,1–1111,0 м) обосновывается находками многочисленных раковин брахиопод Striatifera striata (Fischer) – руководящей формы визейского и серпуховского ярусов, доминирующей в отложениях самой верхней части протвинского горизонта серпуховского яруса Восточно-Европейской платформы. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ БИОСТРАТИГРАФИЯ ВЕНЛОКА (СИЛУР) ЛИТВЫ ПО КОНОДОНТАМ Конодонты – это одна из самых главных групп организмов, используемых в целях стратиграфической корреляции и расчленения осадочных пород палеозойского и раннетриасового возраста (Ogg et al., 2008). В Литве наиболее детально исследованы конодонты из разрезов силурийского возраста, в основном благодаря усилиям А. Бразаускаса (Бразаускас, 1993). В данной работе представлены предварительные результаты количественного анализа распространения позднеландоверских, венлокских и раннелудловских видов конодонтов в глубинных скважинах Литвы, опираясь на данные, собранные А. Бразаускасом. То есть, были исследованы те виды конодонтов, у которых хотя бы часть временного существования перекрывается с венлокским временем. Таким образом, гарантируется максимальная таксономическая полнота исследуемого венлокского интервала. Подошва яруса была принята по первому появлению граптолитов вида Cyrtograptus murchisoni bohemicus, кровля яруса – по первому появлению Neodiversograptus nilssoni. Всего было исследовано временное распространение 37 видов конодонтов в пяти глубинных скважинах (Буткунай 241, Гелува 99, Паровея 8, Сведасай 252 и Видукле 61). Количественные биостратиграфические методы позволяют компенсировать эффекты неполноты палеонтологической летописи, которые возникают из-за случайностей сохранения останков организмов, диахронности временного распространения видов, сопряжённой с локальной сменой фаций, а также более обширной трансформацией палеогеографии. В данной работе был использован алгоритм CONOP в составе программы PAST 2.15 (Hammer et al., 2001). Смысл метода состоит в том, что минимизируется несоответствие между композитной теоретической последовательностью появлений и вымираний видов и последовательностями появлений и исчезновений видов в конкретных разрезах (обнажениях и скважинах), в результате чего создаётся композитная шкала временного распространения таксонов (Hammer and Harper, 2005). Найденные реконструкции (композитные шкалы первых и последних появлений) использованы в интерпретации стратиграфии венлока Литвы, а также в исследовании возможных факторов, влияющих на точность биостратиграфических реконструкций. Анализируя композитную шкалу, спроектированную на один из самых полных силурийских разрезов Литвы, Видукле 61 (рисунок), обнаружена сильная временная кластеризация вымираний на границе ландоверского и венлокского ярусов (событие Иревикен), а также в верхах венлока (событие Мульде). Судя по результатам количественного стратиграфического анализа, главный импульс массового вымирания во время события Иревикен отмечается на глубине 1397 м (на 5 м выше границы ландовери и венлока, установленной по C. murchisoni bohemicus). Во время указанного коротковременного эпизода исчезло 15 из 22 анализированых ландоверско-венлокских видов конодонтов. Такая же синхронность исчезновения видов замечена и в случае события Мульде. От 7 до 11 видов (четыре вида представлены слишком малым количеством образцов для точного установления интервалов) из 19 существовавших до указанного интервала вымерли на уровне около 1302 м глубиной. Синхронное вымирание конодонтов во время события Мульде, судя по полученным результатам, произошло позже, чем у граптолитов. Материалы III Всероссийского совещания А. Спиридонов 211 212 и биособытия Ir – событие Иревикен, Mu – событие Мульде Реконструкция распространения 37 видов позднеландоверских, венлокских и раннелудловских конодонтов в скважине Видукле-61, основанная на оптимизации распределения видов в пяти буровых скважинах Литвы Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Бразаускас А.З. Конодонты и биостратиграфия силура Литвы. Автореф. дис. ... доктора геол.-минер. наук. – Вильнюс, 1993. – 336 с. Радзевичюс С., Пашкевичюс И., Кояле А. 2012. Гелувский региональный ярус в силурийском Балтийском бассейне (в этом сборнике). Foote M., Miller A. Principles of paleontology. Third edition. – W. H. Freeman and Company. 2007. – 354 p. Hammer ., Harper D.A.T. Paleontological Data Analysis. – Wiley-Blackwell, 2005. – 351 p. Hammer ., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis. Palaeontologia Electronica 4 (1): 9 pp. http://palaeo-electronica.org/2001_1/past/ issue1_01.htm Материалы III Всероссийского совещания На глубине 1309,9 м отмечается последнее появление родов Cyrtograptus, Monoclimacis и свойственных венлоку монограптидов (Радзявичюс и др., 2012). Как было упомянуто ранее, найденные композитные шкалы также были использованы в исследовании точности последовательностей. Было предположено, что такие показатели, как длительность существования таксона (в данном случае, вида) и средняя вероятность попадания останков данного вида в образцы породы внутри известного интервала существования в изучаемых разрезах (методика подсчёта описана в Foote, Miller 2007), могут повлиять на точность биостратиграфических реконструкций. В результате статистического анализа было обнаружено, что точность реконструкции рангов последних появлений видов в композитной шкале частично обусловлена длительностью существования видов. Найдена отрицательная корреляция между продолжительностью существования видов (расстояние между первым и последним появлением, исчисляемое в рангах) и среднеквадратичным отклонением рангов последних появлений: r = –0,37, p = 0,02, N = 37. Подобной корреляции не найдено между точностью реконструкции рангов первых появлений видов и их продолжительностью существования. Также не найдена корреляция между точностью реконструкции первых и последних появлений видов с вероятностью попадания конодонтов в образцы внутри наблюдаемого стратиграфического интервала данного вида. Полученные результаты представляют когерентную картину. Реконструированные последовательности видообразований и исчезновений показывают, что большинство короткоживущих видов конодонтов в исследованном интервале вымерло в течение относительно коротких интервалов времени (события Иревикен и Мульде). Благодаря этому обстоятельству точный порядок последних появлений вымерших во время биотических событий видов очень трудно установить. Если виды вымерли почти одновременно, порядок их исчезновений в скважинах сильно зависим от случайностей попадания конодонтов в образцы. По этой причине ранги последних появлений короткоживущих видов в созданных субоптимальных композитных шкалах более вариабельны (сложнее разрешимы). Возможный путь для разрешения обсуждаемой проблемы – это увеличение степеней свободы цифрового биостратиграфического анализа, то есть пополнение базы данных дополнительными достаточно полными разрезами из исследуемого интервала времени. Ogg J.G., Ogg G., Gradstein F. The Concise Geologic Time Scale. – Cambridge: Cambridge university press, 2008. – 177 p. Т.И. Степанова КОРРЕЛЯЦИЯ ОТЛОЖЕНИЙ ТУРНЕ – НИЖНЕГО ВИЗЕ ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И СМЕЖНЫХ РЕГИОНОВ Отложения турнейского и визейского ярусов нижнего карбона южной части Западной Сибири охарактеризованы по результатам изучения керна параметрической скважины Курган-Успенская-1 (КУ-1), вскрывающей также породы фаменского яруса верхнего девона (Степанова и др., 2011). В структурном отношении рассматриваемая территория располагается в пределах Вагай-Ишимской впадины и Тобол-Убаганского поднятия Боровской зоны ЗападноСибирской равнины, граничащей на западе с Валерьяновской зоной Урала. Согласно схеме структурно-фациального районирования девонских и каменноугольных образований Западной Сибири, Вагай-Ишимская и Тобол-Убаганская структуры находятся на площади Уватского района (Решения..., 1999). 213 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео214 Дополнительные сведения о строении площади получены в процессе доизучения керна ряда скважин, пробуренных Уральской геологосъемочной экспедицией в 80-е годы прошлого века при проведении в восточной части Курганской области мелкомасштабного глубинного геологического картирования – Восточно-Курганская-44, ВК-53 (Мизенс и др., 2011). Отложения верхней части фаменского яруса в объеме зоны Quasiendothyra kobeitusana распространены наиболее широко и подсечены большинством скважин. Граница между девонской и каменноугольной системами наблюдается в керне скважины ВК-53, приуроченной к Тобол-Убаганскому поднятию. Доломитизированные известняки с фораминиферами Septaglomospiranella kazakhstanica Reitl., Quasiendothyra (Eoendothyra) ex gr. communis (Raus.), Q. (Quasiendothyra) kobeitusana (Raus), Klubovella sp. верхов фамена вскрыты в инт. 791,6–800,0 м. Непосредственно стратиграфически выше в инт. 784,4–791,6 м в мелкозернистых глинистых известняках определяются Earlandia elegans (Raus. et Reitl.), Bisphaera malevkensis Bir., B. elegans Viss., B. irregularis Bir. Данный интервал разреза отвечает слоям с Bisphaera malevkensis – Earlandia minima нижней части турнейского яруса Западно-Сибирской равнины, сопоставляется с нижнережевским подгоризонтом восточного склона Урала и малевским горизонтом Восточно-Европейской платформы (Постановления..., 2008; Решения.., 1999; Стратиграфические..., 1993). Выше по разрезу скважины ВК-53 в инт. 694,3–728,0 м обнаружены единичные очень плохой сохранности Septabrunsiina cf. minuta (Lip.), Palaeospiroplectammina ex gr. tchernyshinensis (Lip.), Chernyshinella sp. indet., в целом отвечающие слоям с Palaeospiroplectammina tchernyshinensis – Spinoendothyra (Inflatoendothyra) inflata Западно-Сибирской равнины (Решения..., 1999). Присутствие же Palaeospiroplectammina tchernyshinensis позволяет сопоставить отложения этого интервала разреза с одноименными слоями Нюрольского района Западной Сибири (Богуш, 1985; Тимохина, 2008), першинским горизонтом восточного склона Среднего Урала, черепетским горизонтом западного склона Урала и Восточно-Европейской платформы (Решения..., 1988; Стратиграфические..., 1993). В Вагай-Ишимской впадине на рубеже фамена и турне имело место некоторое обмеление, которое зафиксировано по керну скважин КУ-1 (инт. 2116–2216 м), Воскресенская-1, и выражается в появлении в разрезе карбонатно-сульфатной пачки, не содержащей органических остатков. К нижнему турне данная пачка отнесена условно по положению в разрезе. Отложения верхнего турне в разрезе скв. КУ-1 встречены в интервалах 1794–2050 м и 1318– 1450 м, представлены чередованием глинистых мшанково-криноидных известняков и известковых аргиллитов c фораминиферами Earlandia moderata (Malakh.), E. minor (Raus.), Septabrunsiina cf. krainica (Lip.), S. cf. kingirica (Reitl.), Neoseptaglomospiranella cf. quadriloba (Dain), N. ex gr. karakubensis (Brazhn. et Vdov.), Chernyshinella (Chernyshinella) ex gr. glomiformis (Lip.), Endochernella cf. gelida (Durk.), Rectochernyshinella cf. distorta (Lip.), E. (Latiendothyra) latispiralis Lip., E. (L.) latispiralis grandis Lip., E. (Laxoendothyra) parakosvensis Lip., E. (L.) cf. antiqua Raus., Granuliferella cf crassitheca (Lip.). В данной ассоциации микрофауны на фоне Neoseptaglomospiranella, Septabrunsiina и разнообразных Chernyshinella преобладают представители подрода Latiendothyra при отсутствии Spinoendothyra. Рассмотренный комплекс фораминифер включает большинство видов характерного комплекса слоев с Palaeospiroplectammina tchernyshinensis – Spinoendothyra (Infaloendothyra) inflata турнейского яруса Западно-Сибирской равнины, но не содержит зональных видов (Решения..., 1999). Преобладание в данной ассоциации представителей подродов Laxoendothyra и Latiendothyra позволяет коррелировать включающие их отложения с кизеловским горизонтом восточного склона Среднего Урала (зона Laxoendothyra parakosvensis) и средней частью русаковского горизонта верхнего турне Центрального Казахстана – зона Latiendothyra turkestanica – L. latispiralis (Степанова, Кучева, 2007; Решение..., 1991). От комплексов, характерных для верхнего турне западного склона Урала и Восточно-Европейской платформы, отличается отсутствием представителей родов Tournayella и Spinoendothyra (Решение..., 1988; Стратиграфические..., 1993). В скв. ВК-44 в инт. 429,5–449,2 м наблюдается своеобразный комплекс мелкорослых форм, среди которых характерными являются Neoseptaglomospiranella, группа Pseudoplanoendothyra rotayi, подрод Mediendothyra, часто встречаются Latiendothyra, но невыразительны Spinoendothyra (Степанова и др., 2010). Данное сообщество микрофауны обнаруживает наибольшее сходство с комплексом фоминского горизонта верхнетурнейского подъяруса Кузбасса, так здесь встречена Plectogyrina ex gr. fomichaensis (Leb.), характерная только для этого региона (Бушмина и др., 1984). Близкая ассоциация, содержащая как европейские, так и типично сибирские виды, приводится О.А. Богуш для верхней части (слои c Pseudoplanoendothyra) ханельбиринского горизонта верхнего турне Норильского района северо-западной части Сибирской платформы (Нижний Богуш О.И. Фораминиферы и стратиграфия нижнего карбона Западно-Сибирской плиты // Биостратиграфия палеозоя Западной Сибири. – Новосибирск: Наука, СО, 1985. – С. 49–68. Бушмина Л.С., Богуш О.И., Кононова Л.И. Микрофауна и биостратиграфия нижнего карбона. – М.: Наука, 1984. – 128 с. Иванова Р.М. Нижний карбон Боровской подзоны Тюменско-Кустанайского прогиба // Литосфера. 2008. № 2. – С. 3–24. Мизенс Г.А., Кучева Н.А., Степанова Т.И. и др. Стратиграфия и условия образования девонских и каменноугольных отложений Тобол-Убаганского поднятия и Вагай-Ишимской впадины (юго-западная окраина Западной Сибири) // Литосфера. 2011. № 4. – С. 20–44. Нижний карбон Средней Сибири. – Новосибирск: Наука, СО, 1980. – 208 с. Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. Вып. 38. – С. 61–68. Решение Межведомственного регионального стратиграфического совещания по среднему и верхнему палеозою Русской платформы. Каменноугольная система. – Л.: ВСЕГЕИ, 1988. Решения Межведомственного совещания по рассмотрению и принятию региональной стратиграфической схемы палеозойских образований Западно-Сибирской равнины. – Новосибирск: СНИИГГиМС, 1999. – 80 с. Решение III Казахстанского стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою. Ч. 1. Докембрий и палеозой. – Алма-Ата, 1991. – С. 3–7, 110–135. Степанова Т.И., Кучева Н.А. Уточнение субрегиональной стратиграфической схемы нижнего карбона восточного склона Урала // Верхний палеозой России: Материалы Всерос. науч. конф. – Казань, 2007. – С. 325–330. Степанова Т.И., Кучева Н.А., Мизенс Г.А. О возрасте и условиях образования терригенно-карбонатных отложений, вскрытых скважиной ВК-44 в Вагай-Ишимской впадине (юг Западной Сибири) // Ежегодник-2009. – Екатеринбург, 2010. – Вып. 157. С. 83–87. (Труды ИГиГ УрО РАН). Степанова Т.И., Кучева Н.А., Мизенс Г.А. и др. Стратиграфия палеозойского разреза, вскрытого параметрической скважиной Курган-Успенская-1 (юго-западная окраина Западной Сибири). Статья 1: Стратиграфическое расчленение палеозойского разреза, вскрытого параметрической скважиной Курган-Успенская-1 // Литосфера. 2011. № 2. – С. 3–21. Материалы III Всероссийского совещания карбон..., 1980). Вероятно, данный комплекс отвечает верхней части турнейского яруса (аналогам кизеловского и косьвинского горизонтов Урала и Восточно-Европейской платформы), в скв. КУ-1 отложения с аналогичной фауной не вскрыты. Образования визейского яруса наблюдаются только в скв. КУ-1. Большая часть этого стратиграфического интервала сложена терригенными и карбонатно-терригенными породами и не содержит микрофауны. Фораминиферы визейского возраста встречены здесь в верхах палеозойского разреза в инт. 540,0–557,3 м в пачке органогенно-обломочных известняков и известняковых песчаников. Комплекс микрофауны достаточно разнообразен: характерны разнообразные архедисциды, в т.ч. Uralodiscus rotundus (N. Tchern.), многочисленны некрупные омфалотисы, эоглобоэндотиры и глобоэндотиры, представительна группа Eoendothyranopsis ermakiensis (Leb.). Типичный ранневизейский архедисцидовый комплекс, содержащий Uralodiscus rotundus, позволяет сопоставить данную ассоциацию со слоями Uralodiscus rotundus – Planodiscus primaevus Западно-Сибирской равнины, зонами Plectogyranopsis paraconvexus – Uralodiscus rotundus устьгреховского восточного и дружиниского горизонтов нижнего визе западного склона Урала, зоной Uralodiscus rotundus – Paraarchaediscus Донецкого бассейна (Постановление..., 2008; Решение..., 1988; Решения..., 1999; Стратиграфические..., 1993). Рассмотренная ассоциация наиболее близка комплексам, описанным из отложений устьгреховского горизонта нижнего визе Боровской зоны в районе г. Кустанай (Иванова, 2008). Присутствие многочисленных Eoendothyranopsis ermakiensis и близких форм позволяет сопоставить данную ассоциацию с верхней частью подъяковского горизонта нижней части визейского яруса Кузнецкого бассейна (Бушмина и др., 1984). Разнофациальные образования турнейского яруса южной части Западной Сибири содержат фораминиферовые сообщества, не всегда позволяющие проводить однозначную их корреляцию с другими регионами. Карбонатные породы турне, вскрытые скв. ВК-53 на Тобол-Убаганском поднятии, включают ряд зональных форм ОСШ и слоев с фауной Западно-Сибирской равнины. Ассоциации микрофауны из карбонатно-терригенных пород верхнего турне ВагайИшимской впадины (скв. КУ-1), не содержащие зональных форм, наиболее близки таковым из одновозрастных отложений восточного склона Среднего Урала и Центрального Казахстана. Своеобразное сообщество микрофауны, обнаруженное в скв. ВК-44, тяготеет к восточным регионам Сибири. Присутствие Uralodiscus rotundus в верхней части нижневизейского подъяруса позволяет уверенно коррелировать вмещающие их породные комплексы близких и удаленных регионов. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-05-00561). 215 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Стратиграфические схемы Урала (докембрий, палеозой). – Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, Урал­ геолком, 1993. Тимохина И.Г. Значение фораминифер для биостратиграфии карбона Западно-Сибирской геоантеклизы // Новости палеонтологии и стратиграфии. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал ГЕО, 2008. – Вып. 10–11. С. 170–172. 216 Г.М. Сунгатуллина КОНОДОНТЫ РОДА IDIOGNATHODUS НА РУБЕЖЕ МОСКОВСКОГО И КАСИМОВСКОГО ВЕКОВ Изучена коллекция конодонтов пограничного московско-касимовского интервала из обнажения, расположенного на реке Усолка у г. Красноусольский (Республика Башкортостан). Конодонты разнообразны, здесь обнаружены представители родов Gondolella, Hindeodus, Idiognathodus, Neognathodus, Streptognathodus и Swadelina. Наиболее многочисленными являются идиогнатодусы, среди которых выделено несколько групп, отличающихся морфологическими признаками. Группа 1. Основной характерной особенностью является наличие субтреугольной внутренней лопасти (рис. 1). Московские формы имеют параллельные тонкие, многочисленные ребра, которые в центральной части могут слабо изгибаться выпуклостью вперед. В начале касимовского века обособляются две подгруппы конодонтов: первая с изогнутыми и прерывающимися в середине платформы ребрами (преимущественно это правые формы) и вторая, у которой разрыв ребер наблюдается на заднем конце платформы (в основном к ним относятся левые элементы). Группа 2. Важной особенностью конодонтов, включенных в группу, является присутствие понижения в середине платформы, где ребра заметно изогнуты в переднем направлении. В начале касимовского века на месте понижения формируется срединный желоб (рис. 1). Группа 3. Характерно присутствие редких ребер с широкими промежутками и наличие лопастей с беспорядочно расположенными бугорками. По мере продвижения вверх по разрезу у идиогнатодусов увеличивается ширина платформы, удлиняется осевой гребень, внутренняя лопасть значительно выступает за край платформы, появляется смещенный к внутреннему краю желобок и приподнимаются в центральной части ребра (рис. 1). Группа 4. Конодонтов отличает наличие длинного осевого гребня и узких лопастей, вытянутых вдоль края платформы и несущих один-два ряда крупных бугорков. У московских экземпляров лопасти отделены от осевого гребня бороздой. В начале касимовского века формируется глубокий срединный желоб, расширяются и удлиняются лопасти, обособляются парапеты. Они несут короткие, редкие, высокие ребра и переходят в почти параллельные короткие бугорчатые ростральные гребни (рис. 2). Группа 5. Конодонты обладают длинной, узкой платформой с многочисленными тонкими, параллельными ребрами и небольшими, смещенными к переднему краю лопастями, орнаментированными редкими, крупными бугорками. У московских форм наблюдается неглубокое понижение в центральной части платформы, на месте которого в касимовском веке у конодонтов образуется срединный желоб. Коллекция предоставлена В.В. Черных и В.И. Давыдовым. Группа 6. Характеризуется присутствием многочисленных, извилистых, прерывистых ребер, наличием резко расходящихся от переднего конца карины ростральных гребней, развитием обеих лопастей, орнаментированных хаотично расположенными бугорками (внутренняя лопасть – широкая, выступающая за край платформы, внешняя – продолговатая). В начале касимовского века разрыв ребер трансформируется в эксцентрично расположенный срединный желоб. Группа 7. Главная особенность конодонтов заключается в наличии широкой в передней половине платформы, орнаментированной тонкими ребрами. Сплошные в передней части, они разрываются в задней половине платформы неглубоким желобом, который наиболее выражен у касимовских видов. Таким образом, характерной особенностью морфологической трансформации изученных представителей рода Idiognathodus на границе московского и касимовского веков является постепенное развитие у них срединного желоба. 217 Материалы III Всероссийского совещания Рис. 1. Конодонты рода Idiognathodus (группы 1–3) 218 Рис. 2. Конодонты рода Idiognathodus (группы 4–7) Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, геои биособытия С.С. Сухов ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И СЕДИМЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ КАК ОСНОВА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКОГО КАРКАСА (О НЕКОТОРЫХ ПАРАДОКСАХ И ЗАБЛУЖДЕНИЯХ Кембрийские отложения Сибирской платформы целенаправленно – с привлечением различных методов исследования (палеонтологического, литологического, промыслово-геофизичиского и многих других), с построением фациально-палеогеографических, тектонических и др. реконструкций – изучаются более семи десятилетий. За эти годы представителями научных учреждений и геологами-производственниками всесторонне обследованы практически все основные естественные разрезы кембрия региона, что вполне обоснованно поставило их в ряд наилучших для разработки и Общей (Национальной), и Международной стратиграфических шкал кембрийской системы. Создано несколько поколений стратиграфических схем, которые стали основой для проведения различных геологических работ и превращения кембрийских отложений в реальный объект поисков залежей УВ и др. полезных ископаемых. Доказано существование на протяжении всей кембрийской истории отчётливой фациальной зональности, с обособлением обширных закрыто-шельфовой и открыто-морской территорий и относительно узкой переходной между ними зоны, характеризующейся преобладанием органогенных и зернистых известняков. Анализ разрезов большого количества глубоких параметрических и колонковых скважин и сейсмических профилей в комплексе с данными по естественным разрезам не столько подтвердил и уточнил наличие такой зональности, сколько дал убедительный материал, свидетельствующий о наличии сложной, но вполне закономерной гигантской морфоструктуры кембрийских отложений (рис. 1), выявляемой в обнажениях лишь фрагментарно. Эта структура обусловлена длительным формированием карбонатных платформ и смежных с ними бассейнов, расширением первых и оттеснением к окраинам кратона вторых, их последовательным сначала углублением, а затем заполнением и обмелением. Все формационно-фациальные комплексы и морфоструктурные элементы – шельф, склон карбонатной платформы, её рифовый бордюр, открытый бассейн и др. – испытывали значительное (до 400–500 км) в целом однонаправленное проградационное смещение, что обусловливало возрастное скольжение большинства свит. Подтвердился доказываемый Д.В. Наливкиным ещё в начале 1930-х годов тезис, что для осадочных бассейнов, особенно с карбонатным накоплением, характерно заполнение от бортов к центру наклонно лежащими линзовидно-сигмоидными телами, первичные наклоны которых часто путают с тектоническими. Приводимая структура (рис. 1) с очевидностью объясняет причины возникновения и неразрешённости некоторых дискуссий, начатых в 1950-е годы. В частности, о наличии перерыва и несогласия между верхним и средним кембрием, устанавливаемых при геологическом картировании на южном склоне Анабарской антеклизы (на основании различных элементов залегания в отложениях мархинской – внутришельфовой и нижележащей силигирской открыто-морской свит). Такие соотношения свит не подтверждаются при детальном обследовании обнажений и анализе органических остатков в переходной средне-верхнекембрийской чукукской свите и в смежных с ней отложениях. Также становится понятным резкое различие состава и последовательностей литостратонов, устанавливаемых в скважинах (например, в Нижнеамгинской) в сравнении со смежными естественными сводными разрезами, которые составляются в направлении проградации палеосклонов последовательным ступенчатым наращиванием частных разрезов (рис. 2), исходя из представлений, что наклоны слоёв – результат наложенных тектонических деформаций отложений. Такая «классическая» процедура суммирования разрезов, именовавшаяся теоретиком стратиграфии Л.Л. Халфиным (1980) «второй аксиомой стратиграфии», и последующего их представления в стратиграфических схемах как опорных хроностратиграфических не только намного завышает мощности отложений (на порядок в рифогенных усть-мильской и танхайской свитах; близко к этому в верхнесклоновой силигирской свите по р. Тюнг), но порой закрепляет и обратный порядок соотношения генетически разнотипных толщ (например, залегание усть-майской свиты на усть-мильской в ср. течении Алдана или усть-ботомской над еланской свитой в среднем течении Лены). Последний пример формально Материалы III Всероссийского совещания В РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТИГРАФИИ КЕМБРИЯ СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ) 219 220 и биособытия Итоговые мощности в стратиграфической схеме, особенно в рифовых отложениях, будут завышены, а реальные соотношения литостратонов перевёрнуты. Регрессия моря на рубеже К-Л в стратиграфической схеме будет фиксироваться как трансгрессия (смена рифовых фаций открыто-морскими) Рис. 2. Схема, демонстрирующая реальное (в действительности, горизонтальное) расположение сводного стратиграфического разреза в случае составления его в платформенных условиях вдоль направления проградации окраины карбонатной платформы Отражены морфоструктура Иркутско-Олёкминской карбонатной платформы с окаймляющими её органогенными постройками и сопряжённого с ней Юдомо-Оленёкского палеобассейна; последовательное преобразование рампа в карбонатную платформу, а последней вновь в рамп; эволюция рифово-баровых отмельных образований в сложнопостроенную контрастную рифовую систему, которая затем латерально наращивается интенсивно проградирующим рифово-баровым комплексом; последовательное формирование глубоководного Куонамского бассейна с «голодным» режимом накопления, последующее заполнение его флишодными отложениями и оттеснение карбонатным шельфом, а также очевидное различие последовательностей литостратонов, устанавливаемых в скважинах (в вертикальных сечениях) и в естественных сводных разрезах (горизонтальных при отсутствии последующих тектонических деформаций) Рис. 1. Принципиальная модель (палеогеологический разрез) соотношения основных фациальных комплексов кембрия Сибирской платформы и составляющих их внутришельфовых (соленосных), окраинно-шельфовых (рифовых) и открыто-морских (бассейновых) литостратонов Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Сухов С.С., Пегель Т.В., Шабанов Ю.Я. Региональная стратиграфическая схема кембрия Сибирской платформы нового поколения: какой ей быть? // Стратиграфия и её роль в развитии нефтегазового комплекса России. – СПб.: ВНИГРИ, 2007. – С. 266–282. Халфин Л.Л. Теоретические основы стратиграфии. – Новосибирск: Наука, 1980. – 200 с. А.А. Суяркова НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО БИОСТРАТИГРАФИИ ПОГРАНИЧНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ЛЛАНДОВЕРИ – ВЕНЛОКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГРАПТОЛИТАМ Силурийские отложения с граптолитами распространены на всей территории Калининградской области, залегают на глубине более 1000 м и доступны для изучения только по материалам глубоких скважин. Впервые разрез палеозоя в регионе был вскрыт в результате масштабных буровых работ в 60-е годы прошлого века, во времена активного изучения глубинного строения Калининградского региона в связи с его нефтеносностью. Отложения силура с богатой фауной граптолитов долгое время оставались не охваченными систематическими исследованиями. С 2000 г. автором ведется детальное биостратиграфическое изучение силурийского разреза Калининградской области (Koren’, Suyarkova, Zagorodnykh, 2005; Koren’, Suyarkova, 2007; Суяркова, 2012). Граница теличского и шейнвудского ярусов (лландоверийской и венлокской серий) изучена по скважинам Гусевская-1 и Северо-Гусевская-1, которые являются стратотипическими для региональных стратиграфических подразделений силура (Загородных и др., 2001). Одна из основных задач – установление точного положения ярусных границ как наиболее важных корреляционных уровней. Опробование пограничных интервалов проводилось с максимально возможной детальностью, особое внимание было направлено на изучение границы лландовери – венлока (телича – шейнвуда) как наиболее проблематичной. В результате в скв. Северо-Гусевская-1 удалось установить ее точное положение на глубине 1569,6 м, а также детализировать зональную последовательность пограничного интервала, выделив стандартные зоны по циртограптидам. Последовательность стандартных граптолитовых зон пограничного интервала телича – шейнвуда Cyrtograptus lapworthi – Cyr. insectus – Cyr. centrifugus – Cyr. murchisoni, основанная на Материалы III Всероссийского совещания свидетельствует о трансгрессии на рубеже амгинского и майского веков, тогда как бурением на Сибирской платформе повсеместно на карбонатном шельфе (включая его край с еланской свитой) установлена регрессия и налегание на аналоги еланской свиты субаэральных красноцветных отложений низов верхоленской серии (рис. 1). Как отмечается в Стратиграфическом кодексе и других директивных документах, стратиграфические схемы – это итоговая форма графического выражения установленных временных и пространственных соотношений местных или региональных стратонов и особенностей разрезов региона. Однако составленные в рамках традиционных требований, недоучитывающих специ­ фику морфообразования и осадконакопления в карбонатных бассейнах (в частности, наличия батиметрической дифференцированности, первичных крутых наклонов слоёв, значительного проградационного смещения всех фациально-формационных и связанных с ними органических комплексов), эти схемы во многом неадекватно отображают сложные взаимоотношения тел. То же относится и к «снимаемой» с них информации без учёта специфики их построения, заключающейся, в частности, в замене мощностного параметра относительной хроностратиграфической шкалой. Для более точного отражения закономерностей вещественно-слоистой структуры кембрийских отложений при разработке легенд геолкарт и стратиграфической схемы нового поколения, опирающейся в первую очередь на материалы бурения, предлагается внести целый ряд нововведений и комплект обязательных приложений (Сухов и др., 2007). В том числе показать цветом генетическую, фациально-формационную, природу отложений и содержащихся в них органических комплексов, отказаться от «сквозного» фациального районирования и дополнить стратиграфические схемы седиментационными моделями и фациально-палеогеографическими схематическими картами по узким временным срезам. 221 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео222 Схема корреляции подразделений пограничного интервала лландовери – венлока Калининградской области с разрезами других регионов Балтии смене короткоживущих видов ранних циртограптид, не везде имеет высокий корреляционный потенциал. В Восточной Балтии виды-индексы зон lapworthi и insectus исключительно редки, в известных автору публикациях нет сведений об их находках. В Латвии, в детально изученных на современном уровне скважинах Айзпуте-41, Колка-54 и Вентспилс D-3 (Loydell et al., 2003, 2010; Loydell, Nestor, 2006) и скв. Охесааре в Эстонии (Loydell et al., 1998) интервал, коррелируемый с зоной lapworthi, выделен по присутствию вида Streptograptus wimani (Bouek). Зона insectus не выделяется ни в одном из Прибалтийских разрезов (рисунок). В Калининградской области после целенаправленных поисков циртограпиды в верхах телича найти удалось, в результате зональность пограничного интервала основана на появлении зональных видов. Граница теличского и шейнвудского ярусов в изученных скважинах литологически не выражена; пограничный интервал представлен темно-серыми доломитово-известковистыми аргиллитами брюсовской свиты, содержащими многочисленные граптолиты, а также редкие брахиоподы и цефалоподы. Опробования разреза на конодонты не проводилось, зафиксированы единичные находки недиагностичных элементов в породе (Ozarcodina sp., опр. Т.Ю. Толмачевой). В верхах телича выше интерзоны spiralis выделены стандартные зоны lapworthi и insectus, в основании шейнвуда – зоны centrifugus и murchisoni (рисунок). Лландоверийская серия, теличский ярус. Зона lapworthi (скв. Северо-Гусевская-1, гл. 1580,3– 1574,6 м, мощность 5,7 м; скв. Гусевская-1, гл. 1579,65–1574,5 м, мощность 5,15 м). Граница зоны проводится по появлению зонального вида Cyrtograptus lapworthi Tullberg. Появляются также Barrandeograptus pulchellus Tullberg и довольно многочисленные Mcl. linnarssoni (Tullberg). Из нижележащих слоев проходят Str. speciosus (Tullberg) и Oktavites sp. 1. Фоном идут Mcl. vomerina s.l., M. priodon s.l., Ret. angustidens Elles et Wood. Зона insectus (скв. Северо-Гусевская-1, гл. 1574,5–1569,6 м, мощность 4,9 м; скв. Гусевская-1, гл. 1574,5–1571,7 м, изученная мощность 2,8 м, верхняя часть зоны отсутствует изза пропуска керна). Граница проводится по появлению зонального вида Cyrtograptus insectus Bouek и Mediograptus flittoni Loydell et Cave. Для комплекса зоны характерны многочисленные М. pseudocultellus, Mcl. geinitzi Bouek, M. priodon subsp., Me kodymi (Bouek), Me. kolihai (Bouek), Bar. pulchellus, Ret. angustidens, на некоторых уровнях – Str. speciosus, Mcl. vomerina s.l., Mcl. linnarssoni, Ret. geinitcianus Barrande, Pristiograptinae. Венлокская серия, шейнвудский ярус. Зона centrifugus (скв. Северо-Гусевская-1, гл. 1569,3– 1568,9 м, изученная мощность зоны 0,4 м, полная мощность не известна из-за пропуска керна). Граница зоны и шейнвудского яруса проведена по появлению зонального вида Cyrtograptus centrifugus Bouek. Характерно также появление многочисленных Mediograptus cautleyensis Загородных В.А., Довбня А.В., Жамойда В.А. Стратиграфия Калининградского региона. – Калининград, 2001. – 226 с. Пашкевичюс И.Ю. Биостратиграфия и граптолиты силура Литвы. – Вильнюс, Мокслас, 1979. – 267 с. Суяркова А.А. Биостратиграфия лудловских отложений Калининградской области по граптолитам (новые данные из скважины Северо-Гусевская-1) // Палеонтология и стратиграфические границы: Материалы LVIII сессии Палеонтолог. общества при РАН (2–6 апреля 2012 г., Санкт-Петербург). – СПб., 2012. – С. 136–137. Bjerreskov M. Llandoverian and Wenlockian graptolites from Bornholm. Fossils and Strata. 1975. 8. – P. 1–94. Koren’ T.N., Suyarkova A.A. Silurian graptolite biostratigraphy of the Kaliningrad district, Northwest Russia. Acta Palaeontol. Sinica. 2007. 46 (Suppl.). – P. 232–236. Koren’ T.N., Suyarkova A.A., Zagorodnykh V.A. Silurian graptolite succession of the Kaliningrad district, northwest Russia: new information from drill-cores / T. Koren’, I. Evdokimova, T. Tolmacheva (Eds) // The Sixth Baltic Stratigraphical Conf., August 23–25, St. Petersburg: Abstracts. – St. Petersburg. 2005. – P. 53–56. Loydell D.K., Kaljo D., Mnnik P. Integrated biostratigraphy of the lower Silurian of the Ohesaare core, Saaremaa, Estonia // Geological Magazine. 1998. 135. – P. 769–783. Loydell D.K., Mnnik P., Nestor V. Integrated biostratigraphy of the lower Silurian of the Aizpute-41 core, Latvia // Geological Magazine. 2003. 140. – P. 205–229. Loydell D.K., Nestor V., Mnnik P. Integrated biostratigraphy of the lower Silurian of the Kolka-54 core Latvia // Geological Magazine. 2010. 147. – P. 253–280. Loydell D.K., Cave R. The Llandovery-Wenlock boundary and related stratigraphy in eastern mid-Wales with special reference to the Banwy River section // Newsletters on Stratigraphy. 1996. 34. – P. 39–64. Loydell D.K., Nestor V. Isolated graptolites from the Telychian (Upper Llandovery, Silurian) of Latvia and Estonia // Palaeontology. 2006. 49. – P. 585–619. Musteikis P., Cocks L.R.M. Strophomenide and orthotetide Silurian brachiopods from the Baltic region, with particular reference to Lithuanian boreholes // Acta Paleontologica Polonica. 2004. 49 (3). – P. 455–482. Материалы III Всероссийского совещания (Rickards). По сравнению с верхами телича основная ассоциация заметно обеднена и состоит только из проходящих таксонов, среди которых доминируют M. priodon subsp. и Ret. angustidens, а Bar. pulchellus, Mcl. geinitzi и Pristiograptus sp. единичны. В скв. Гусевская-1 в данной части разреза отсутствует керн. Зона murchisoni (скв. Гусевская-1, гл. 1562,35 м) представлена фрагментом верхней части зоны, полный объем не установлен из-за пропуска керна (рисунок). В Гусевской скважине в одном образце найден представитель циртограптид группы murchisoni – Cyrtograptus bohemicus Bouek. Фоновый состав комплекса, как и в нижележащих слоях, составляют транзитные таксоны – многочисленные Ret. geinitcianus, Mcl. vomerina s.l. и Mcl. geinitzi, монограптиды группы priodon и единичные Pristiograptus sp. indet. В следующем образце на фоне той же ассоциации появляется Monograptus riccartonensis Lapw. – зональный вид вышележащей зоны. В Северо-Гусевской скважине отложения зоны murchisoni попадают в интервал пропуска керна. В смежных регионах зона murchisoni наиболее полно представлена в скв. Айзпуте-41 в Латвии (Loydell et al., 2003) и в ряде скважин Литвы (Пашкевичюс, 1979). На рисунке показана схема корреляции подразделений пограничного интервала лландовери – венлока Калининградской области с разрезами других регионов Балтии. В западной части Балтии нижнесилурийские отложения выходят на поверхность и изучаются в обнажениях (Уэльс, о. Борнхольм), поэтому детальность расчленения здесь наиболее высокая. В Восточной Балтии (Калинингралская область, Литва, Латвия, Эстония), где материал для изучения силурийского разреза ограничен керном отдельных скважин, биостратиграфические построения не обходятся без проблем, а в пограничном интервале лландовери–венлока еще осложняются такими биотическими факторами, как редкая встречаемость зональных видов циртограптид на фоне преобладания недиагностичных таксонов с широким диапазоном распространения. Поэтому приведенные данные по детальному расчленению этого сложного интервала в Калининградской области актуальны и не только для данного региона, они могут быть использованы и для корреляций различного уровня. Исследования проведены при финансовой поддержке РФФИ, проект № 0510-05-00973а. 223 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Р.Ч. Тагариева КОНОДОНТОВАЯ ЗОНАЛЬНОСТЬ НИЖНЕФАМЕНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ РАЗРЕЗА БОЛЬШАЯ БАРМА (ЗАПАДНЫЙ СКЛОН ЮЖНОГО УРАЛА) Нижний подъярус фаменского яруса по конодонтам расчленен на зоны triangularis, crepida и rhomboidea (Gradstein et al., 2004). На западном склоне Южного Урала этому интервалу соответствуют барминский и макаровский (нижняя часть) горизонты (Abramova, 1992; Барышев, Абрамова, 1996; Абрамова, 1999; Состояние изученности..., 2008). В регионе очень мало разрезов, где нижнефаменские отложения представлены в полном объеме. Обычно в интервале барминского (разрезы Габдюково, Зиган, Мендым и др.) или макаровского (Аккыр, Ряузяк, КукКараук) горизонтов наблюдается стратиграфический перерыв (Веймарн и др., 1996; Абрамова, 1999; Artyushkova et al., 2011а). Только детальное изучение отложений с использованием фауны конодонтов дает возможность определить полноту разрезов и наличие перерывов. Разрез на р. Большая Барма (правый приток р. Аскын) является стратотипом барминского горизонта – маркера границы между франским и фаменским ярусами (Абрамова, 1999; Abramova, Artyushkova 2004; Artyushkova et al., 2011б). В последние годы автором проведено дополнительное исследование разреза Большая Барма по расчленению нижнефаменских отложений. Изучено 14 м разреза. Предварительно в нижнефаменском подъярусе мы можем выделить интервалы известных стандартных конодонтовых зон и подзон. Зона triangularis. Нижняя граница зоны в данном разрезе установлена в подошве барминского горизонта по появлению первых экземпляров вида-индекса Palmatolepis triangularis Sann. и руководящих брахиопод Parapugnax markovskii (Yud.) (Абрамова, 1999; Abramova, Artyushkova 2004; Мизенс, 2007, 2009; Тагариева, 2010; Artyushkova et al., 2011б). Ранее барминский горизонт рассматривался в объеме нерасчлененных подзон Lower – Middle triangularis (Абрамова, 1999). Собранная нами коллекция конодонтов позволяет выделить каждую из этих подзон. Комплекс конодонтов подзоны Lower triangularis в разрезе Большая Барма аналогичен приведенному W. Ziegler и C.A. Sandberg (1990) и характеризуется штучными экземплярами видов Icriodus alternatus alternatus Br., M., Ic. alternatus helmsi Sand., Ic. iowaensis iowaensis Young., Pet., Palmatolepis delicatula delicatula Br., M., Pa. praetriangularis Ziegl., Sand. и Polygnathus brevilaminus Br., M. (рисунок). Подзона соответствует нижней части (мощностью 0,48 м) брахиоподового ракушняка барминского горизонта (слой 1). Подошва подзоны Middle triangularis установлена по появлению единичных Palmatolepis clarki Ziegl. и Pa. quadratinodosalobata praeterita Schl. (рисунок), характерных для этой подзоны (Ziegler, Sandberg, 1990; Schlke, 1995). Комплекс дополняется видами Palmatolepis subperlobata Br., M. и Pa. protorhomboidea Sand., Ziegl. (рисунок). Верхняя граница подзоны Middle triangularis определена в кровле брахиоподового ракушняка барминского горизонта (слой 1). Мощность подзоны 1,3 м. Подзона Upper triangularis характеризует основание макаровского горизонта. Нижняя граница подзоны определена по появлению Palmatolepis minuta minuta Br., M. (рисунок). Вместе с этим видом в комплексе конодонтов, наряду с таксонами из нижележащих подзон зоны triangularis, появляются Palmatolepis perlobata perlobata Ul., Bas. и Pa. tenuipunctata Sann. Подзона Upper triangularis представлена светло-серыми, плотными известняками мощностью 1,3 м с редкими мелкими брахиоподами и криноидеями (слой 2). Зона crepida. Нижняя граница зоны совпадает с подошвой слоя 3 мощностью 0,95 м, представленного брахиоподовым ракушняком с Athyris globularis Phill., Cyrtospirifer tschernyschewi Khalf., C. verneuili verneuili (Murch.), Mesoplica forojulensis (Frech) и Schizophoria (S.) bistriata (Tschern.) (Мизенс, 2007, 2009). Она установлена по появлению характерных для зоны конодонтов Pa. quadratinodosalobata sandbergi Ji, Ziegl. и Pa. wolskajae Ovn. Зону crepida можно расчленить на Lower, Middle и Upper подзоны. Распространение конодонтов в нижнефаменских отложениях разреза Большая Барма 224 1 – среднеслоистые известняки; 2 – толстослоистые известняки; 3 – брахиоподовый ракушняк; 4 – брахиоподы (а), криноидеи (б). Ic. – Icriodus; Pa. – Palmatolepis; Pol. – Polygnathus; a – alternatus; d – delicatula; i – iowaensis; q – quadratinodosalobata; p – perlobata 225 Материалы III Всероссийского совещания и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео226 Мощность подзоны Lower crepida в разрезе 0,5 м. Комплекс конодонтов таксономически разнообразный и представлен тремя родами и 16 видами (рисунок). Часто встречаются таксоны Pa. quadratinodosalobata praeterita Schl., Pa. quadratinodosalobata sandbergi Ji, Ziegl., Pa. perlobata perlobata Ul., Bas., Pa. tenuipunctata Sann. и Polygnathus brevilaminus Br., M. Нижняя граница следующей подзоны Middle crepida определена по появлению в ассоциации конодонтов первых Pa. clarki gablei Schl. и Pa. quadrantinodosalobata Sann. (Schlke, 1995). Вместе с конодонтами, проходящими из подзоны Lower crepida, в комплексе встречены таксоны Palmatolepis arcuata Schl., Pa. aff. circularis Szulc. и Pa. minuta loba Helms (рисунок). Верхнюю границу подзоны Middle crepida условно можно наметить в основании светло-серых, плотных, слабодоломитизованных, толстослоистых известняков без остатков макрофауны (слой 5). На этом уровне наблюдается резкое сокращение таксономического разнообразия конодонтов (рисунок). Ассоциация конодонтов подзоны Upper crepida представлена только единичными экземплярами Palmatolepis arcuata Schl., Pa. quadratinodosalobata praeterita Schl., Pa. minuta minuta Br., M., Pa. perlobata perlobata Ul., Bas., Pa. protorhomboidea Sand., Ziegl., Palmatolepis subperlobata Br., M., Pa. tenuipunctata Sann., Pa. tenuipunctata Sann. Pa. glabra prima Ziegl., Hud. и Polygnathus brevilaminus Br., M. (рисунок). На данном этапе исследований нижнефаменских отложений в разрезе Большая Барма установлена непрерывная конодонтовая последовательность, включающая зону triangularis в объеме всех трех подзон и зону crepida с нижней, средней и верхней подзонами. Есть вероятность, что при дальнейшем изучении вышележащих отложений будет выявлена вся последующая зональность. Таким образом, в нижнефаменских отложениях разреза Большая Барма отсутствует стратиграфический перерыв, фиксируемый в других разрезах западного склона Южного Урала (Веймарн и др., 1996). Работа поддержана грантами РФФИ № 11-05-00737-а и № 11-05-01105-а. Абрамова А.Н. Франский ярус западного склона Южного Урала. – Уфа: ИГ УфНЦ РАН, 1999. – 55 с. Барышев В.Н., Абрамова А.Н. Зональное расчленение верхнедевонских отложений западного склона Южного Урала по конодонтам // Ежегодник-1995. Информационные материалы. – Уфа: УНЦ РАН, 1996. – С. 26–30. Веймарн А.Б., Кузмин А.В., Кононова Л.И. и др. Проявление глобальных геологических событий на границе франского и фаменского ярусов в Тимано-Печорской провинции, центральных районах Русской платформы, на Урале и в Казахстане // Московская школа геологов в Казахстане. К 45-летию Центрально-Казахстанской экспедиции МГУ: Сб. докл. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 110 с. Мизенс А.Г. Брахиоподовые комплексы из пограничных франско-фаменских отложений южноуральских разрезов «Большая Барма» и «Аккыр» (стратотипа и парастратотипа барминских слоев) // Литосфера. 2007. № 6. – С. 93–110. Мизенс А.Г. Брахиоподы и биостратиграфия верхнего девона Среднего и Южного Урала // Автореф. … канд. геол.-минер. наук. – Новосибирск, 2009. – 18 с. Состояние изученности стратиграфии докембрия и фанерозоя России. Задачи дальнейших исследований // Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий / Отв. ред. А.И. Жамойда, О.В. Петров. Вып. 38. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. – 131 с. Тагариева Р.Ч. Распространение таксонов рода Palmatolepis на границе франа и фамена в типовых разрезах западного склона Южного Урала // Пятая Сибирская междунар. конф. молодых ученых по ­наукам о Земле. – Новосибирск, 2010. – http://sibconf.igm.nsc.ru/sbornik_2010/06_paleontology/686.pdf Abramova A.N. The Frasnian/Famennian boundary in the South Urals // International Symposium on Devonian System and Its Economic Oil and Mineral Resources, Abstracts. – Guilin, China. 1992. – Р. 1–2. Abramova A.N., Artyushkova O.V. The Frasnian-Famennian boundary in the Southern Urals // Geol. Quart., 48 (3). – Warszawa, 2004. – Р. 137–154. Artyushkova O.V., Maslov V.A., Pazukhin V.N. et al. Devonian and Lower Carboniferous type sections of the western South Urals: Pre-Conference Field Excursion Guidebook // Intern. Conf. “Biostratigraphy, Paleogeography and Events in Devonian and Lower Carboniferous”, Ufa, Sterlitamak, Russia, July 20–25, 2011. – Ufa, 2011a. – 92 p. Artyushkova O.V., Tagarieva R.Ch., Mizens A.G. The Barma Beds as a Biostratigraphic Marker of the Famennian Base in the South Urals // Biostratigraphy, paleogeography and events in Devonian and Lower Carboniferous (SDS/ IGCP 596 joint field meeting): Contributions of Intern. Conf. in memory of Evgeny A. Yolkin. Ufa, Novosibirsk, Russia, July 20 – August 10, 2011. – Novosibirsk: Publish. House of SB RAS, 2011б. – P. 22–24. Gradstein F., Ogg J., Smith A. et al. A Geologic Time Scale 2004: Cambridge Univ. Press, 2004. – 589 p. Schlke I. Evolutive Prozesse bei Palmatolepis in der frhen Famenne-Stufe (Conodonta, Oder-Devon) // Gttinger Arbeiten zur Geologie und Palontologie 67. – Gttingen, 1995. – P. 1–108. Ziegler W., Sandberg C.F. The Late Devonian Standart Conodont Zonation // Cour. Forsch. Inst. Senckenberg. 1990. 121. – P. 1–115. Н.В. Танинская В течение силурийско-нижнедевонского этапа осадконакопления территория Тимано-Печорского осадочного бассейна представляла собой мелководно-морской шельф с карбонатной седиментацией, отделенный от океана краевым поднятием (Объяснительная.., 1996), на котором формировались барьерные рифы. К востоку от него в пределах Лемвинской структурноформационной зоны оформились континентальный склон и батильный бассейн (Пучков, 1979). По результатам детального послойного описания разрезов скважин, литолого-петрографического изучения пород, интерпретации каротажа и фациального анализа в пределах мелководно-морского шельфа реконструированы фации сублиторали, литорали, одиночных рифов и супралиторали (себхи). Выделенные фации в целом соответствуют типовому набору фаций карбонатных платформ (Уилсон, 1980; Патрунов, 1980; Sarg, 1988; Селли, 1989). Фации сублиторали обычно характеризуются нормальными морскими условиями, среди них выделяются субфации верхней и нижней сублиторали. Осадки верхней сублиторали представлены массивными илово-зернистыми, пеллетово-водорослевыми и пеллоидными (вторичными) доломитами, биомофными и детритовыми доломитизированными известняками с многочисленными водорослями, кораллами, строматопороидеями, криноидеями, брахиоподами и гастроподами. Особенностью этой зоны является интенсивная сплошная доломитизация осадков в раннем диагенезе. Для субфации нижней сублиторали типичны глинистые неравномерно доломитизированные иловые и зернисто-иловые известняки, мергели, реже вторичные доломиты. Породы слабодоломитизированы и содержат биокласты остракод, брахиопод, реже трилобитов, мшанок и известковых губок. Фация одиночных рифов чаще приурочена к зоне верхней сублиторали, широко развитой на склонах палеоподнятий. Они представлены преимущественно биостромами пластоволинзовидной формы, реже мелкими биогермами, мощностью от 1–2 до 20–30, реже до 100 м. Отложения представлены массивными кораллово-строматопоровыми известняками и вторичными доломитами со структурой баундстоуна, реже грейнстоуна. Биостромы хорошо диагностируются по керну, так как сложены организмами, способными создавать жесткий каркас (кораллы, строматопоры), а на диаграммах радиоактивного каротажа выделяются низкой естественной радиоактивностью и пониженными значениями нейтронного гамма-каротажа. Среди отложений литорали выделяются субфации литорали с высоким и низким гидродинамическим режимом. Для субфации литорали с активным гидродинамическим режимом характерны илово-зернистые и зернистые криноидно-водорослевые известняки, брекчии, пеллетовые и строматолитовые доломиты, иногда с терригенной примесью до 20–50 %. В литоральной зоне с низкой гидродинамикой преобладали тонкослоистые иловые доломиты, аргиллиты и мергели. Фации супралиторали (себхи) имели ограниченное развитие и были выявлены в лландовери, позднем лохкове, прагиене и эмсе. Они представлены ангидрито-доломитами, иловыми доломитами, ангидритами, аргиллитами, брекчиями с трещинами усыхания, строматолитами и тонкой слоистостью. Силурийский этап осадконакопления характеризуется широким развитием обстановок мелководно-морского шельфа почти на всей территории Тимано-Печорского палеобассейна. Для лландоверийского века типична эвапоритово-карбонатная седиментация. В краевых частях палеобассейна на севере Хорейверской впадины и на территории Колвинского мегавала формируются эвапоритовые фации супралиторали (себхи). На склонах Большеземельского палеоподнятия накапливаются субфации верхней сублиторали и кораллово-строматопоровых биостромов мощностью 10–60 м. Зона нижней сублиторали отмечается в крайней восточной части палеобассейна. Наибольшее развитие трансгрессии отмечается в начале венлокского века, субфация нижней сублиторали с доломитово-известняковым осадконакоплением распространяется практически на всю территорию провинции. В центральной чаcти палеобассейна в районе древнего Большеземельского свода продолжают развиваться кораллово-строматопоровые биостромы мощностью до 60–100 м. Материалы III Всероссийского совещания ФАЦИАЛЬНЫЕ РЕКОНСТРУКЦИИ СИЛУРИЙСКО-НИЖНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ТИМАНО-ПЕЧОРСКОГО ПАЛЕОБАССЕЙНА 227 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео228 В лудловский век в западной краевой части палеобассейна отмечается прибрежное море с терригенным осадконакоплением. В центральной части территории преобладают субфации верхней сублиторали и литорали с глинисто-карбонатной седиментацией. В северо-восточной бортовой зоне Хорейверской впадины наблюдается рост строматолитовых биостромов небольшой мощности. В результате наступления моря в пржидольский век на большей части Тимано-Печорской провинции развиваются субфации нижней сублиторали с преимущественно известняковой седиментацией. Рост кораллово-строматопоровых биостромов отмечается в северо-восточной части Хорейверской впадины. В раннедевонский этап развития Тимано-Печорского палеобассейна отмечается значительное осушение мелководно-морского шельфа и сокращение площади биогенно-карбонатной седиментации. В раннелохковское время преобладают субфации нижней сублиторали. Строматолитовые и кораллово-строматопоровые биостромы формируются на восточном склоне Большеземельского палеоподнятия. В позднелохковское преобладает эвапоритово-карбонатное осадконакопление с развитием фаций супралиторали (себхи) и литорали. В пражский и эмский века происходит значительное осушение мелководно-морского шельфа, большая часть территории превращается в область денудации. В прибрежной зоне накапливаются прибрежно-морские алеврито-глинисто-песчаные и карбонатно-сульфатнотерригенные образования. Богацкий В.И., Богданов Н.А., Костюченко С.Л. и др. Объяснительная записка к тектонической карте Баренцева моря и северной части Европейской России масштаба 1 : 2 500 000. – М.: Институт литосферы РАН, 1996. – 94 с. Патрунов Д.К. Седиментационные типы пород, обстановки осадконакопления и цикличность литорального комплекса карбонатных и карбонатно-глинистых отложений силура и нижнего девона // Силурийские и нижнедевонские отложения острова Долгого. – Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. – С. 27–67. Пучков В.Н. Батиальные комплексы пассивных окраин геосинклинальных областей. – М.: Наука, 1979. – 258 с. Уилсон Дж.Л. Карбонатные фации в геологической истории. – М.: Недра, 1980. – 463 с. Селли Р.Ч. Древние обстановки осадконакопления. – М.: Недра, 1989. – 294 с. Sarg J.F. Carbonate sequence stratigraphy // Sea level changes – An Integrated Approach / C.K. Wilgus et al. (еds.). Spec. Publ. Soc .Econ. Paleontol. Mineral. – Tulsa. 1988. Vol. 42. – Р. 155–181. В.П. Тарабукин РАННЕКАМЕННОУГОЛЬНЫЕ КОНОДОНТЫ ИЗ ОСАДОЧНЫХ КСЕНОЛИТОВ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТРУБОК СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В настоящее время распространение каменноугольных отложений на севере и северо-востоке Сибирской платформы (рис. 1) ограничивается бассейном р. Хатанга и левобережьем р. Оленек (Матухин, 1991). В процессе проведения геологосъемочных и тематических работ реликты раннекаменноугольных отложений находили на Анабарском щите (Матухин, 1991). Нами они установлены в результате специализированных исследований ксенолитов осадочных пород (КОП) из кимберлитовых трубок на территории севера и северо-востока Сибирской платформы. В КОП найдены конодонты различных возрастов, в том числе раннекаменноугольные. Эти находки позволяют определить и расширить границы распространения бывших раннекаменноугольных отложений, где они в настоящее время размыты последующими геологическими процессами. Раннекаменноугольные конодонты в КОП найдены на правобережье, в среднем течении р. Анабар и верховьях р. Укукит (рис. 1). В среднем течении р. Анабар в Эбеляхском кимберлитовом поле из трубки «Гренада» из двух проб ксенолитов осадочных пород найдены конодонты, позволяющие установить существование на данной территории верхнетурнейских отложений. В ксенолитах найден комплекс конодонтов, включающий Gnathodus cuneformis Mehl, Polygnathus communis communis Branson et Mehl. Рис. 2. Поле распространения нижнекаменноугольных отложений на северо-востоке Сибирской платформы 1 – поля: А – Далдыно-Алакитское, Б – Западно-Укукитское, В – Эбеляхское; 2 –кимберлитовые трубки: Б1 – «Лорик», В1 – «Гренада» 1 – кимберлитовые трубки: Б1 – «Лорик», В1 – «Гренада»; 2 – коренные выходы нижнекаменноугольных отложений; 3 – поле распространения нижнекаменноугольных отложений Наличие вида Gnathodus cuneformis Mehl в обр. 2606/1c-1 свидетельствует о позднетурнейском возрасте ксенолита. Он известен из зон crenulata – typicus стандартной шкалы в Западной Европе, Северной Америке и на Северо-Востоке Азии. В обр. 2606/1c-3 обнаружен космополитный вид Polygnathus communis communis Branson et Mehl с широким возрастным интервалом распространения от фамена (зона crepida) до позднего турне (зона anchoralis). Трубка «Лорик» Западно-Укукитского кимберлитового поля расположена в верхнем течении р. Укукит. В ксенолитах трубки найден комплекс конодонтов верхнего турне. В составе комплекса определены Bispathodus aculeatus anteposticornis, B. stabilis (Branson et Mehl), Polygnathus communis communis Branson et Mehl, P. mehli Thompson. Распространение вида P. mehli ограничено поздним турне (Барсков и др., 1991), остальные виды имеют более широкое стратиграфическое распространение от раннего до позднего турне. P. mehli известен из Северной Америки. Полученные данные позволяют расширить площадь распространения позднетурнейских отложений при палеогеографических построениях (рис. 2). Об этом свидетельствуют и находки на правобережье р. Анабар в валунах реликтовых (рис. 1) турнейских кварцевых конгломератов в средне-позднекаменноугольных и пермских отложениях. Материалы III Всероссийского совещания Рис. 1. Местоположение кимберлитовых полей и трубок на северо-востоке Сибирской платформы Барсков И.С., Воронцова Т.Н., Кононова Л.И. и др. Определитель конодонтов девона и нижнего карбона. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 194 с. Матухин Р.Г. Девон и нижний карбон Сибирской платформы (состав, условия осадконакопления, минерагения). – Новосибирск: Наука, 1991. – 164 с. 229 А.Б. Тарасенко Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия СТРАТИГРАФИЯ ФРАНСКОГО ЯРУСА ПРИИЛЬМЕНСКОЙ ЧАСТИ ГЛАВНОГО ДЕВОНСКОГО ПОЛЯ 230 На территории Приильменской части Главного девонского поля (ГДП) франский ярус общей мощностью около 300 м представлен пестроцветными и красноцветными терригенными и карбонатными породами. Проблемам стратиграфии, литологии и палеогеографии франского яруса посвящены работы Р.Ф. Геккера (1953), Л.С. Петрова (1956), В.С. Сорокина (1978), С.В. Тихомирова (1995), В.Р. Вербицкого (Вербицкий и др. 1999, 2000), А.В. Журавлева (Zhuravlev et al., 2006) и др. Корреляция разрезов осуществлялась в основном палеонтологическими методами. Использование детальных биостратиграфических схем осложняет то, что в разных фациальных зонах один и тот же интервал имеет разные литологические, а следовательно, и фаунистические характеристики. К тому же палеонтологические данные из скважин, пробуренных в рассматриваемом районе, как правило, недостаточны для надежных биостратиграфических построений. Для расчленения и корреляции разрезов, уточнения региональной стратиграфической схемы как основы для геологического картирования территории необходимы детальное исследование состава и строения разрезов, реконструкция обстановок и выявление цикличности осадконакопления в палеобассейне. На базе структурно-генетического анализа (Шишлов, 2010) автором описаны обнажения Южного Приильменья и керна 50 скважин из фондовых отчетов, что позволило получить унифицированную характеристику разнофациальных отложений, проследить их латеральные изменения и пространственные взаимоотношения. В разрезе франа Приильменья установлено восемь трансгрессивно-регрессивных последовательностей слоев – парагенераций. Каждая парагенерация накапливалась в течение одного цикла колебания уровня моря. Первый цикл по стратиграфическому объему соответствует гауйскому горизонту, второй аматскому, третий снетогорским слоям саргаевского горизонта. Четвертый включает псковские слои, пятый чудовские и дубниковские слои саргаевского горизонта. Шестой соответствует порховским слоям семилукского горизонта. Седьмой объединяет свинордские и ильменские слои, восьмой бурегские слои семилукского горизонта и снежскую свиту снежского горизонта. Каждая парагенерация мощностью 10–40 м и протяженностью более 100 км характеризуется закономерным латеральным рядом фаций, который отражает смену ландшафтов в палеобассейне; седиментационные системы в нем группировались вкрест простирания береговой линии двумя способами: изолируемое мелководье, начинающееся на трансгрессивной фазе пляжем, а на регрессивной – лагуной глубоководье; открытое мелководье глубоководье. К парагенерациям первого типа относятся слоевые последовательности гауйского, аматского, снетогорского, чудовско-дубниковского и порховского циклов, к парагенерациям второго типа – псковского, свинордско-ильменского и бурегско-снежского. В пределах Маловишерской (МВ) фациальной зоны проксимальная часть парагенераций первого типа представлена карбонатными, терригенными и терригенно-карбонатными слоевыми последовательностями изолируемого мелководья, дистальная часть в Псковско-Демянской (ПД) зоне – карбонатной последовательностью глубоководья (рисунок). Гауйская и аматская парагенерации, сформировавшиеся в течение первого и второго циклов, представлены в проксимальной части алевро-пелитами лагуны и песчаниками барового комплекса, дистальная часть располагается за пределами рассматриваемой территории. Чудовско-дубниковская парагенерация (пятый цикл) в проксимальной части сложена органогенно-обломочными, водорослевыми, известняками, доломитами, известняками с тонкими прослоями глин и мергелей, в дистальной – преимущественно микритовыми плитчатыми доломитизированными известняками. Снетогорская и порховская парагенерации, образовавшиеся в течение третьего и шестого циклов колебания уровня моря, представлены в нижней трансгрессивной части песчанистыми, интракластовыми и органогенно-обломочными известняками и доломитами, мергелями, в верхней регрессивной – глинами с прослоями известняков и песчаников. Парагенерации второго типа в пределах проксимальной МВ зоны представлены карбонатными и карбонатно-терригенными слоевыми последовательностями открытого мелководья, в дистальной ПД зоне – глубоководными карбонатно-терригенными (рисунок). Псковская парагенерация (четвертый цикл) представлена органогенно-обломочными, реже интракласто- выми известняками и микритовыми плитчатыми известняками. Свинордско-ильменская и бурегско-снежская парагенерации (седьмой и восьмой циклы) в МВ зоне сложены известняками водорослевыми или органогенно-обломочными с прослоями глин и песчаников в трансрессивной части, и песчаниками, алевролитами и чередованием тех и других с глинами – в регрессивной части. В ПД зоне трансгрессивные части парагенераций представлены микритовыми известняками с единичными органическими остатками, регрессивные – глинами с прослоями алевролитов или известняков. Франский ярус Приильменья образуют восемь парагенераций двух структурно-вещественных типов. К первому типу относятся геологические тела, проксимальная часть которых на трансгрессивной фазе сложена органогенно-обломочными известняками или песчаниками, на регрессивной – глинами, мергелями, доломитами, а дистальная часть микритовыми известняками или глинами. Состав и строение парагенераций второго типа характеризует латеральная последовательность песчаников и органогенно-обломочных известняков открытого мелководья, сменяющихся глинами и микритовыми известняками глубоководья. Поскольку образование парагенераций – результат региональных циклов осадконакопления, их можно использовать для прослеживания границ слоев с географическим названием, а установленные в их составе части отражают латеральную изменчивость ландшафтов палеобассейна и могут соответствовать местным стратиграфическим подразделениям (рисунок). Вербицкий В.Р., Журавлев А.В., Ненашев Ю.П. Диахронность границ местных стратиграфических подразделений на примере среднефранских отложений запада Российской части Главного девонского поля // Историческая и региональная геология в системе геологического образования. – СПб., 1999. – С. 125–131. Вербицкий В.Р., Кямяря В.В., Саванин В.В. и др. Государственная геологическая карта Российской федерации масштаба 1 : 200 000 (издание второе). Серия Ильменская. Лист O-36-XIV (Новгород). ­Объясн. зап. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2000. – 173 с. Геккер Р.Ф. Стратиграфия и фауна верхнего девона Главного девонского поля Русской платформы и его фациальные изменения // Девон Русской платформы: Сб. докл. – Л.–М., 1953. – С. 73–86. Петров Л.С. Девонские отложения севера и северо-запада Русской платформы. – Труды ВНИГРИ. – Л., 1956. – 174 с. Сорокин В.С. Этапы развития Северо-Запада Русской платформы во франском веке. – Рига: Зинатне, 1978. – 282 с. Тихомиров С.В. Этапы осадконакопления девона Русской платформы и общие вопросы развития и строения стратисферы. – М.: Недра, 1995. – 445 с. Шишлов С.Б. Структурно-генетический анализ осадочных формаций. – СПб.: СПб. горн. ин-т, 2010. – 276 с. Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O. et al. Faunal and facies changes at the Early–Middle Frasnian boundary in the north–western East European Platform // Acta Palaeontologica Polonica. 2006. 51 (4). – P. 747– 758. Материалы III Всероссийского совещания Субрегиональная стратиграфическая схема франского яруса северо-запада Восточно-Европейской платформы 231 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия О.П. Тельнова, О.С. Ветошкина 232 ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ И ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРАНИЧНЫХ СРЕДНЕ-ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ В СТРАТОТИПИЧЕСКОМ РАЗРЕЗЕ УСТЬЯРЕГСКОЙ СВИТЫ ЮЖНОГО ТИМАНА Продолжительность дискуссии об уровне границы среднего и верхнего девона в разрезах Тимано-Печорской провинции обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, отсутствием объективного репера этой границы. Поскольку по разным группам фауны и флоры предлагается несколько уровней обсуждаемой границы, в представляемой работе предпринята попытка использовать минералого-геохимические данные для решения этой проблемы. Нижняя граница верхнего девона по решению Международной подкомиссии по стратиграфии девона проводится в основании конодонтовой зоны Lower asymmetricus. В девонских разрезах Тимано-Печорской провинции основание зоны Lower asymmetricus соответствует саргаевскому горизонту и местной конодонтовой зоне Ancyrodella rotundiloba (Халымбаджа, 1981; Овнатанова, Кононова, 1984). В нижележащих отложениях тиманского горизонта выделяется местная зона Ancyrodella binodosa, которая коррелируется с зоной Lowermost asymmetricus зональной конодонтовой схемы Циглера (Овнатанова, Кононова, 1984). Однако, как отмечал А.В. Кузьмин (Кузьмин, 1995), вид Ancyrodella binodosa встречается в разрезах тиманского горизонта спорадически, а сопутствующие ему виды имеют очень широкий интервал стратиграфического распространения. Наиболее полные разрезы тиманского и саргаевского горизонтов (соответственно тиманская и устьярегская свиты) расположены на Южном Тимане. Тиманская свита подразделяется на нижнюю (вскрытая скважинами и нефтешахтами) и верхнюю (обнажения 18, 13, 13А, 14 на правом берегу р. Ухта, выше устья р. Ярега) подсвиты. Для решения поставленного вопроса наиболее важен разрез обн. 14, где представлены пограничные отложения тиманской и устьярегской свит. А.И. Ляшенко (1973) при описании этих свит не указал точное положение их границы, отметив только постепенный характер перехода между ними. Поэтому в обн. 14 граница тиманской и устьярегской свит разными исследователями проводится на различных уровнях (Иванов, 1990; Кузьмин, 1995; Опорные…, 1997). Так, А.О. Иванов (1990), определив комплекс ихтиофауны в базальной части обн. 14, характерный для низов саргаевского горизонта, границу свит предложил проводить в основании обнажения. Конодонты в этой части разреза не были найдены. Выше по разрезу обн. 14 описаны комплексы конодонтов, сходные с комплексом конодонтов верхнетиманской подсвиты в обн. 18, 13А, но c учетом преобладания в них вида Polygnatus lanei, они могут быть отнесены уже к зоне Lower asymmetricus. В кровле обн. 14 в составе конодонтового комплекса установлен Ancyrodella rotundiloba – вид-индекс зоны Lower asymmetricus. В комплексе также присутствуют виды Ancyrodella binodosa и A. soluta, появляющиеся в более древних отложениях, и виды A. rugosa, A. alata, указывающие на корреляцию этой части устьярегской свиты уже с верхней частью зоны Lower asymmetricus. А.В. Кузьмин (1995, с. 119) делает вывод о том, что «нижняя граница конодонтовой зоны Lower asymmetricus и соответственно нижняя граница верхнего девона… должны находиться внутри тиманской свиты (тиманского регионального горизонта)». В настоящее время стратиграфический интервал – верхняя часть тиманского и нижняя часть саргаевского горизонтов – коррелируется с конодонтовой зоной Polygnatus pennatus – P. lanei. Привязка конодонтового комплекса мелководной фации к стандартной шкале пока остается не ясной, а следовательно, не установлен и уровень стандартной нижней границы франского яруса (Ovnatanova, Kononova, Menner, 2005). Палиноспектры, изученные из обн. 14, имеют сходный таксономический состав. В них доминируют (40–50 %) споры археоптерисовых Geminospora micromanifesta (Naumova) Arkh. и др. и споры с тонким пленчатым периспорием (20–30 %), по-видимому, плауновидных растений Calyrtosporites krestovnikovii (Naumova) Oshurk., C. bellus (Naumova) Oshurk., S. domanicus (Naumova) Oshurk., Densosporites sorokinii Obukh., D. meyeriae Teln., Cristatisporites triangulatus (Allen) McGregor et Camfield, Hymenozonotriletes argutus Naumova. Остальные таксоны миоспор в палиноспектрах Иванов А.О. Снетогорский комплекс ихтиофауны Главного девонского поля и его биостратиграфическое значение // Вестник ЛГУ. 1990. Серия 7. Вып. 1. – С. 94–98. Изох О.П. Изотопный состав кислорода, неорганического и органического углерода верхнедевонских карбонатных отложений юга Западной Сибири. Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук. – Новосибирск, 2009. – 19 с. Кузьмин А.В. Нижняя граница франского яруса на Русской платформе // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1995. Т. 3. № 3. – С. 111–120. Материалы III Всероссийского совещания имеют небольшое (ед. 5 %) процентное содержание, среди них Acanthotriletes eximius Naumova, A. bucerus Tchib., Ancyrospora laciniosa (Naumova) Mantsurova, Archaeozonotriletes timanicus Naumova, A. variabilis Naumova, A. variabilis Naumova var. insignis Sennova, A. accretes Tchib. и др. Во всех палиноспектрах встречены (ед. 2 %) монолетные споры Archaeoperisaccus verrucosus Pashk. В известняках, залегающих в кровле обн. 14, палиноспектр имеет обедненные таксономический и количественный составы. Палиноспектр отличается от спектров из нижележащих отложений появлением новых видов миоспор Archaeoperisaccus menneri Naumova и Cristatisporites pseudodeliquescens, более характерных для позднефранских палинокомплексов. Сходный по таксономическому составу и процентному содержанию миоспор комплекс был выделен из образцов обн. 27 на правом берегу р. Ухта в 0,3 км выше устья р. Яреги. Установленный палинокомплекс можно уверенно сопоставить с комплексом миоспор из саргаевского горизонта. Этот палинокомплекс прослежен и в других районах Тимано-Печорского региона (Тельнова, 2007). Анализ распространения спор в палинокомплексах позднетиманского-саргаевского возраста свидетельствует об отсутствии скачкообразного характера изменения флоры на границах стратиграфических подразделений. Споры археоптерисовых в палиноспектрах живетско-франского времени постепенно становятся доминирующей группой. В отложениях верхней части тиманского горизонта появляются споры, по-видимому, плауновидных, которые позже, в позднефранское время, формируют вторую доминирующую группу. Появление этих спор можно рассматривать в качестве фитостратиграфического рубежа, соответствующего уровню границы живетского и франского ярусов. Параллельно с палинологическими исследованиями образцов из обн. 14 были проведены рентгенодифракционный анализ глинистой фракции (дифрактометр Shimadzu XRD-6000) и определение изотопного состава углерода и кислорода карбонатных глин и известняка. Фазовый состав глин достаточно однообразен. Среди слоистых силикатов преобладают каолинит и иллит (гидрослюда), сопровождающиеся слабоупорядоченными смешанослойными фазами (иллит-смектит и иллит-хлорит). По-видимому, хлорит образовался при хлоритизации иллита через смешанослойные фазы. Хлорит характеризуется уширенными малоинтенсивными рефлексами и присутствует в относительно небольшом количестве. Все образцы содержат кварц. Однообразная ассоциация глинистых фракций пород пограничных тиманско-устьярегских отложений Ухтинского района позволяет предположить относительную стабильность климатических условий в этом временном интервале. А преобладание каолинита в составе глин может свидетельствовать о теплом гумидном климате. Для измерения δ13Скарб и δ18Oкарб использовалось устройство пробоподготовки Gas BenchII, соединенное с масс-спектрометром ThermoFinnigan Delta V Advantage. Величины δ13С и δ18O представлены в ‰ относительно V-PDB. Точность значений δ13С и δ18O ±0,15 ‰. Исследованные образцы имеют хорошую сохранность, только три из них претерпели значительные постседиментационные изменения при воздействии обогащенных железом метеорных вод. Отложения верхней части разреза характеризуются относительно низким и однородным содержанием Cорг, варьирующим от 0,08 до 0,44 %. В нижней части присутствуют глины, богатые органическим веществом (Сорг), содержание которого достигает 0,92 %. Незначительное «облегчение» карбонатных пород из обн. 14 по углероду (δ13С 3–0 ‰) в сравнении со значениями δ13С 1–4,5 ‰ глубоководных морских отложений из пограничных живетско-франских отложений Центральной и Южной Европы (Buggisch, Joachimski, 2006), возможно, произошло при поступлении органического вещества во время диагенеза в относительно мелководных условиях (Kump, Arthur, 1999). На кривой изменения величин δ13С наблюдается положительный экскурс с амплитудой около 2 ‰, в котором δ13С изменяется от –2,9 до –0,6 ‰, постепенно приближаясь к 0 ‰. Подобные положительные экскурсы с амплитудами 2–3‰ отмечаются в этом стратиграфическом интервале на юге Западной Сибири (Изох, 2009), в Центральной, Южной Европе и Австралии (Buggisch, Joachimski, 2006), а значит, имеют глобальную природу. Работа поддержана Программой РАН (12-П-5-1015). 233 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео234 Ляшенко А.И. Брахиоподы и стратиграфия нижнефранских отложений Южного Тимана и ВолгоУральской нефтегазоносной провинции. – М.: Недра, 1973. – 280 с. (Труды ВНИГНИ. Вып. 134). Овнатанова Н.С., Кононова Л.И. Корреляция верхнедевонско-нижнетурнейских отложений европейской части СССР по конодонтам // Сов. геология. 1984. № 8. – С. 32–42. Опорные разрезы франского яруса Южного Тимана: Путеводитель полевой экскурсии / Под ред. Ю.А. Юдиной, М.Н. Москаленко. – СПб.: ВНИГРИ, ТПО, 1997. – 80 с. Тельнова О.П. Миоспоры из средне-верхнедевонских отложений Тимано-Печорской провинции. – Екатеринбург: УрО РАН, 2007. – 136 с. Халымбаджа В.Г. Конодонты верхнего девона востока Русской платформы, Южного Тимана, Полярного Урала и их стратиграфическое значение. – Казань: КГУ, 1981. – 212 с. Buggisch W., Joachimski M. Carbon isotope stratigraphy of the Devonian of Central and Southern Europe // PPP. 2006. Vol. 240. – P. 68–88. Kump L.R., Arthur M.A. Interpreting carbon-isotope excursions: carbonates and organic matter // Ghem. Geol. 1999. Vol. 161. – P. 181–198. Ovnatanova N.S., Kononova L.I., Menner V.V. The correlation of the Upper Devonian regional stages of the East European Platform with standart and local conodont zonal scales // The Sixth Baltic Stratigraph. Conf. – St. Petersburg, 2005. – P. 93–94. А.В. Тимохин СТРАТИГРАФИЯ ВЕРХНЕГО ОРДОВИКА СИБИРСКОЙ ПЛАТФОРМЫ Полевые работы 2008–2009 гг. в стратотипических районах баксанского и долборского горизонтов дали возможность кардинально пересмотреть диапазон распространения существующих зональных видов, по крайней мере, как они представлены в существующей региональной стратиграфической схеме (Решения…, 1983; Каныгин, Ядренкина, Тимохин и др., 2007). Изучены стратотипические выходы устьстолбовой и мангазейской свит и соответственно гипостратотип чертовского и стратотип баксанского горизонтов. Гипостратотип чертовского горизонта определен как нижняя часть мангазейского яруса на правом берегу П. Тунгуска в 1,5 км ниже р. Листвяжная в объеме слоев, содержащих брахиоподы Mimella panna (Никифорова, Андреева, 1961) (таблица). Разрез горизонта заканчивался линзой органогенного известняка, содержащего Mimella panna и Isalaux stricta. Характерные для вышележащего баксанского горизонта остракоды Parajonisites notabilis впервые появляются непосредственно ниже этого прослоя. Гипостратотип чертовского горизонта неоднократно изучался (Марков, 1970; Москаленко, 1973; Каныгин и др., 1977; Розман, 1979). Уточнена нижняя граница чертовского горизонта и мангазейского яруса (Каныгин и др., 1977) и рассмотрен вариант проведения нижней границы баксанского горизонта по первому появлению Parajonisites notabilis, но объем чертовского горизонта авторами принимался традиционно. К сожалению, в последующих работах и в региональной стратиграфической схеме ордовика Сибирской платформы объем чертовского горизонта в гипостратотипическом разрезе и его взаимоотношение с баксанским горизонтом не были уточнены. Баксанский горизонт был выделен О.Н. Андреевой (Андреева, 1959) как верхняя часть мангазейского яруса (в дальнейшем переведенного в региональной стратиграфической схеме в ранг надгоризонта) (Решения..., 1983). Фаунистическая охарактеризованность отложений, относимых к чертовскому, баксанскому и долборскому горизонтам, очень высока и включает такие ведущие группы, как брахиоподы, трилобиты, остракоды, конодонты и многие другие. Фактически ведущей группой при обосновании границ этих горизонтов при принятии региональной стратиграфической схемы в силу ряда объективных обстоятельств были брахиоподы. Зональные подразделения, выделенные по основным группам фауны (Розман, 1979; Ядренкина, Каныгин, Москаленко и др., 1978) при изучении стратотипических разрезов, в эту схему не вошли. Ниже приводится схема сопоставления зональных подразделений этих стратиграфических уровней. Применительно к трилобитам следует обратить внимание, что подошва зоны Bumastus sibiricus совпадает с нижней границей брахиоподовой зоны Boreadorthis asiatica и основанием долборского горизонта, а начало зоны Dolborella plana несколько ниже основания долборского горизонта в рисовке 1978 г. Повторные послойные сборы в стратотипических разрезах по рекам * Названия комплексных зон приведено условно, так как в работе они имеют только порядковые номера. В характеристику комплекса входят такие группы фауны, как брахиоподы, пелециподы, мшанки, ругозы, головоногие, криноидеи, остракоды. П. Тунгуска и Столбовая, с одной стороны, подтвердили, что первые находки зонального вида Dolborella plana фиксируется в верхней части баксанского горизонта, с другой, существенно опустили нижнюю границу зоны Bumastus sibiricus до уровня основания зоны Dolborella plana, при этом положение зоны Boreadorthis asiatica не изменилось. Данное взаимоотношение зональных видов по этим группам фауны четко прослеживается во всех стратотипических разрезах этого района. В стратотипическом разрезе мангазейского надгоризонта, гипостратотипе баксанского горизонта Bumastus sibiricus и Dolborella plana найдены в 10 м ниже кровли баксанского горизонта, т. е. границы между мангазейской и долборской свитами. В стратотипическом разрезе р. Столбовая в 4,5 км выше устья этот комплекс найден в 8 м ниже кровли обнажения и в 9 м ниже кровли баксанского горизонта во втором стратотипическом разрезе р. Столбовая (в 3 км ниже р. Кулинна). Из баксанской части разреза по р. Большая Нирунда (левый берег р. Б. Нирунда в 3 км ниже устья р. Дулькума), подробно описанных в работах Х.С. Розман и А.Г. Ядренкиной (Москаленко, Ядренкина, Семенова и др., 1978; Розман, 1979), определены Bumastus sibiricus, находки же вида Dolborella plana в этом разрезе приведены в работе Х.С. Розман. В скв. Гаиндская-3 (Ядренкина и др., 1991; Каныгин и др., 2007) в отложениях, относимых к баксанскому горизонту, найдены Bumastus sibiricus (275,4–286,2 м) и Dolborella plana (269,1– 275,4 м), что как минимум на 25 м ниже границы баксанского и долборского горизонтов, проводимой в этой скважине. Материалы III Всероссийского совещания Схема сопоставления зональных подразделений верхнего ордовика Сибирской платформы 235 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео236 Представляется необходимым: – изменить диапазон трилобитовой зоны Isalaux, проведя условно верхнюю границу этой зоны выше границы чертовского и баксанского горизонтов; – изменить диапазон трилобитовой зоны Bumastus sibiricus, проведя нижнюю границу этой зоны ниже границы баксанского и долборского горизонтов; – совместить нижние границы зон Dolborella plana и Bumastus sibiricus; – пересмотреть проведение границы между баксанским и долборским горизонтами в стратотипе загорнинской свиты на р. Кулюмб. Андреева О.Н. Стратиграфия ордовика Ангаро-Окинского района // Материалы по геологии и полезным ископаемым Сибирской платформы. – Л., 1959. – С. 79–108. Каныгин А.В., Москаленко Т.А., Ядренкина А.Г., Семенова В.С. О стратиграфическом расчленении и корреляции среднего ордовика Сибирской платформы // Проблемы стратиграфии ордовика и силура Сибири. – Новосибирск: Наука, 1977. – С. 3–43. Каныгин А.В., Ядренкина А.Г., Тимохин А.В. и др. Стратиграфия нефтегазоносных бассейнов Сибири. Ордовик Сибирской платформы. – Новосибирск: Изд-во «Гео», 2007. – 269 с. Москаленко Т.А. Конодонты среднего и верхнего ордовика Сибирской платформы. – Новосибирск: Наука, СО, 1973. – 114 с. Москаленко Т.А., Ядренкина А.Г., Семенова В.С., Ярошинская А.М. Ордовик Сибирской платформы. Опорные разрезы верхнего ордовика (биостратиграфия и фауна). – М.: Наука, 1978. – 164 с. Никифорова О.И., Андреева О.Н. Стратиграфия ордовика и силура Сибирской платформы и ее палеонтологическое обоснование. – Л.: Гостоптехиздат, 1961. – 412 с. Решения Всесоюзного стратиграфического совещания по докембрию, палеозою и четвертичной системе Средней Сибири. Ч. I. – Новосибирск: Изд-во СНИИГГИМС, 1983. – 216 с. Розман Х.С. Описание разрезов верхнего ордовика Средней Сибири // Фауна ордовика Средней Сибири. – М.: Наука, 1979. – С. 5–37. Тесаков Ю.И., Каныгин А.В., Ядренкина А.Г. и др. Ордовик севера-запада Сибирской платформы. – Новосибирск: Изд-во «Гео», 2003. – 364 с. Ядренкина А.Г., Каныгин А.В., Москаленко Т.А., Семенова В.С. Стратиграфическое расчленение ордовикских отложений Сибирской платформы // Новые материалы по стратиграфии и палеонтологии Сибири. – Новосибирск, 1978. – С. 42–54. Ядренкина А.Г., Абаимова Г.П., Сычев О.В. и др. Ордовик Гаиндинской площади (юго-запад Сибирской платформы) // Стратиграфия и главнейшие события в геологической истории Сибири. – Новосибирск, 1991. – С. 43–50. И.Г. Тимохина, О.А. Родина УТОЧНЕНИЕ ВОЗРАСТА ГЛУБОКИНСКИХ ИЗВЕСТНЯКОВ ВЕРХНЕГО ДЕВОНА В РАЗРЕЗЕ «РИФ» СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ КУЗБАССА На северо-западной окраине Кузнецкого бассейна верхнедевонские отложения широко развиты и представлены нормально морскими отложениями. Наиболее полный разрез расположен на северо-западе от г. Кемерово, по правому берегу р. Томь, между пос. Известковый Завод и с. Колмогорово. Составной его частью является разрез, известный в литературе как «Глубокинский риф», или «Риф», который представляет собой скальные выходы массивных и слоистых известняков франского возраста ниже устья руч. Нижняя Пещерка. Мощность разреза около 300 м. Этот разрез неоднократно описывался в литературе. А.В. Тыжнов (1931) разработал первую, наиболее дробную стратиграфическую схему верхнего девона северо-запада Кузбасса. Он относил весь разрез «Риф» к глубокинским известнякам франского яруса по наличию нескольких характерных видов брахиопод. При этом отмечал, что глубокинский известняк является единственным в этом районе Кузнецкого бассейна мощным известняком верхнего девона, для которого, однако, характерна изменчивость литологического состава по простиранию. Последующие работы многочисленных исследователей были посвящены изучению различных групп фауны, широко представленных в отложениях разреза «Риф», что позволило существенно детализировать положение разреза относительно региональной стратиграфической схемы и Международной стратиграфической шкалы. Все исследователи единодушно относили разрез к верхней половине франа. В настоящее время активно обсуж- Галушин Г.А., Кононова Л.И. Биостратиграфия верхнефранских и нижнефаменских отложений Волгоградского Поволжья по конодонтам // Бюлл. МОИП. Отд. геол. Т. 79. Вып. 1. 2004. – С. 33–47. Задорожный В.М. Фораминиферы и биостратиграфия девона Западно-Сибирской плиты и ее складчатого обрамления. – Новосибирск: Наука, 1987. – 117 с. Ключевые разрезы девона Рудного, Алтая, Салаира и Кузбасса / Н.К. Бахарев, Н.В. Сенников, Е.А. Елкин, Н.Г. Изох, А.А. Алексеенко, О.Т. Обут, О.А. Родина, С.В. Сараев, Т.П. Батурина, Т.П. Киприя­ нова, И.Г. Тимохина, А.Ю. Язиков Отв. ред. Е.А. Елкин. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 104 с. Тимохина И.Г. Первая находка фораминифер рода Juferevella в девонских отложениях на северо-западе Западно-Сибирской равнины // Новости палеонтологии и стратиграфии. Вып. 2–3. 2000. – С. 195–197. Типовые разрезы пограничных отложений среднего и верхнего, франского и фаменского ярусов окраин Кузнецкого бассейна: Материалы V выездной сессии комиссии МСК по девонской системе (Кузбасс, 16–29 июля 1991 г.) – Новосибирск, 1992. – 136 с. Тыжнов А.В. Материалы по стратиграфии и тектонике девонских отложений северо-западной окраины Кузнецкого каменноугольного бассейна // Известия Зап.-Сиб. геологоразведоч. упр. 1931 Вып. XI. № 1. – С. 1–32. Kalvoda J. Foraminiferal zonation of the Upper Devonian and Lower Carboniferous in Moravia (Czechoslovakia) // Acta Mus. Moraviae, Sci. nat. 1990. 75. – P. 71–93. Ginter M., Hampe O., Duffin C.J. Handbook of Paleoichthyology. Vol. 3D: Chondrichthyes Paleozoic Elasmobranchii: Teeth / H.P. Schultze (ed.). – Mnchen: Verlag. Dr. Friedrich Pfel, 2010. – 168 p. Middle-Upper Devonian and Lower Carboniferous biostratigraphy of Kuznetsk Basin. Field Excursion Guidebook. Intern. Conf. “Biostratigraphy, palaeogeography and events in Devonian and Lower Carboniferous” (SDS/IGCP 596 joint field meeting). Novosibirsk, July 20 – August 10, 2011. – Novosibirsk: Publish. House of SB RAS, 2011. – 98 p. Материалы III Всероссийского совещания дается вопрос более точного понимания стратиграфического объема этой толщи известняков при трехчленном делении франского яруса. Существуют две точки зрения. Согласно более ранней (Типовые разрезы…, 1992), отложения разреза «Риф» соответствуют объему конодонтовой зоны gigas прежней стандартной конодонтовой шкалы (зоны rhenana и linguiformis действующей), т. е. верхнему франу. Накопившиеся за последние годы новые палеонтологические данные опубликованы в виде сводок в ряде работ (Ключевые разрезы…, 2004; Middle-Upper Devonian…, 2011), в которых расчленение и корреляция отложений разреза «Риф» проводились главным образом по конодонтам. Установлен комплекс конодонтов, характерных для четырех стандартных конодонтовых зон МСШ: hassi, jamieae, rhenana и linguiformis, что соответствует большей части среднего и верхнему франу. Необходимо уточнить, что собственно виды-индексы этих конодонтовых зон здесь не встречены. В последнее время нами получены новые данные о распространении в разрезе «Риф» ихтиофауны и фораминифер. Комплекс ихтиофауны из отложений разреза «Риф» заключает остатки представителей различных групп хрящевых. Здесь найдены зубы фебодонтид Phoebodus bifurcates Ginter et Ivanov, Phoebodus fastigatus Ginter et Ivanov, зубы протакродонтида Protacrodus vetustus Jaekel. Phoebodus fastigatus, присутствующий в этом комплексе, широко распространен, начиная с позднего живета и до конца франа. Phoebodus bifurcatus широко распространен в отложениях позднефранского возраста (в интервале конодонтовых зон rhenana – linguiformis) и установлен в Польше (Свентокшиские горы), Чехии, России (Центральное девонское поле, Южный Тиман, Южный Урал, Горный Алтай, Кузнецкий бассейн), на территории США (Юта), Китая (Ginter et al., 2010). Protacrodus vetustus Jaekel известен из позднего франа Германии, а также позднего франа – раннего фамена Польши и Марокко (Ginter et al., 2010). Ассоциация фораминифер из разреза «Риф» впервые описана В.М. Задорожным (1987) и представлена следующими видами: Tikhinella multiformis (Lip.), Eonodosaria evlanensis Lip., Eogeinitzina devonica Lip., Eog. indigena (E. Byk.), Frondilina sororis E. Byk., Juferevella tomiensis Zador., Nanicella porrecta E. Byk. Отмечено сходство ее с комплексами фораминифер из отложений верхнего франа Русской платформы и Урала. Нами впервые установлено присутствие представителей рода Eonodosaria с самого основания разреза, в нижних 20 м, что очень важно для определения возраста всей толщи известняков данного разреза. Накопленные за последние годы материалы о распространении фораминифер в отложениях франа Моравии (Чехия) (Kalvoda, 1990), Русской платформы (Галушин, Кононова, 2004) и Западной Сибири (Тимохина, 2000) говорят о том, что совместное появление фораминифер родов Eonodosaria, Eogeinitzina, Frondilina и Juferevella характерно для верхнего франа и совпадает с основанием конодонтовой зоны rhenana. Новые данные позволяют с уверенностью утверждать мнение о позднефранском возрасте вмещающих отложений. 237 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Т.Ю. Толмачева, К.Е. Дегтярев, А.В. Рязанцев, О.И. Никитина 238 БИОГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНОДОНТОВ ИЗ РАННЕОРДОВИКСКИХ ИЗВЕСТНЯКОВ МАМАТСКОЙ СВИТЫ ЧИНГИЗ-ТАРБАГАТАЙСКОЙ ЗОНЫ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА Известняки, приуроченные к низам разреза маматской свиты, являются одним из немногих местонахождений в Чингиз-Тарбагатайской зоне, содержащих разнообразную и богатую фауну раннеордовикских трилобитов и брахиопод в карбонатных породах. В разные годы брахиоподы определяли И.Ф. Никитин (1972) и Л.Н. Кленина (1974), трилобиты – Н.К. Ившин и М.К. Апполонов, лингулиды – Л.Е. Попов (Назаров и Попов, 1980). Из всех фаунистических групп монографически описаны только лингулиды (Назаров и Попов, 1980). Возраст свиты по всем группам фауны считался тремадокским. Особенность этого местонахождения заключается в том, что, согласно опубликованным данным (Fortey, Cocks, 2003), комплексы макрофауны, в частности трилобитов, отличаются от одновозрастных фаун из других частей Казахстана своей биогеографической характеристикой. Среди трилобитов определены роды Nayaya и ? Lopeuloma, характерные для Сибирской платформы, и вид Bienvillia tetragonalis Brgger, встречающийся в Норвегии (Fortey, Cocks, 2003). Отмечено также присутствие верхнетремадокских видов Ceratopyge forficula, «Protopliomerops» speciosa и представителей Niobe species Скандинавского облика (Fortey, Cocks, 2003). В то же время отмечалось, что в других одновозрастных местонахождениях Казахстана трилобиты и брахиоподы в биогеографическом отношении близки к фауне Восточной Гондваны (Fortey, Cocks, 2003; Popov et al., 2009) и не имеют общих компонентов с балтоскандийскими фаунами. Нами детально изучен разрез свиты, а для подтверждения биогеографических отличий фауны маматской свиты от фауны других одновозрастных образований региона из известняков впервые выделены и описаны конодонты. Маматская свита входит в состав вулканогенно-осадочного комплекса, объединяющего верхнекембрийские и нижнеордовикские толщи в центральной части хребта Чингиз. Верхнекембрийские образования (карагутуйская свита) представлены эффузивами и туфами андезибазальтов, андезитов, андезидацитов, дацитов, риодациов и риолитов, содержащими линзы известняков с трилобитами сакского и аксайского ярусов верхнего кембрия. Мощность карагутуйской свиты до 2000 м (Геология…, 1962; Самыгин и др., 1969; Геология СССР, 1972; Решения…, 1991). Тремадокские толщи (собственно маматская свита) сложены преимущественно обломочными породами с горизонтам известняков в нижней части разреза. Флоский ярус (сарышокинская свита) представлен эффузивами и туфами среднего состава, которые вверх по разрезу сменяются туфогенными песчаниками с линзами известняков, содержащими трилобиты. Мощность сарышокинской свиты 500–600 м (Никитин, 1972). Изученный участок располагается на обоих берегах левого безымянного притока руч. Карлыбулак в 5 км к востоку-юго-востоку от горы Мамат. Здесь вулканогенно-осадочные толщи верхнего кембрия – нижнего ордовика слагают юго-восточное крыло антиклинальной складки, ядро которой прорвано гранодиоритами позднего силура. В основании видимого разреза обнажены лавы и туфы риолитового состава мощностью до нескольких сот метров, в 5 км к северосеверо-западу от рассматриваемого участка аналогичные породы содержат линзы известняков с трилобитами аксайского яруса верхнего кембрия (Лялин и др., 1964). Эффузивы и туфы кислого состава верхнего кембрия перекрывает туфогенно-осадочная маматская свита, низы разреза которой на разных берегах ручья имеют некоторые различия. На правом берегу туфы, туфоконгломераты и туфобрекчии кислого состава перекрываются ритмично слоистой пачкой, в основании ритмов залегают серые калькарениты и известковистые песчаники с обломками эффузивов среднего состава и очень редко гранитоидов. Мощность каждого из трех видимых ритмов 1,5–2 м. Для калькаренитов и песчаников характерна косая слоистость. Далее разрез наращивается серыми и розовыми, часто биокластическими известняками, чередующимися с известковистыми песчаниками. Общая мощность терригеннокарбонатной пачки не более 20–25 м. На левом берегу также обнажены туфы кислого состава, которые перекрываются туфогенными грубозернистыми песчаниками и брекчиями с обломками кислых эффузивов мощностью Геология СССР. T. XX: Центральный Казахстан. Кн. 1: Геологическое описание. – М.: Недра, 1972. – 532 с. Геология Чингизской геоантиклинорной зоны (Центральный Казахстан). – Алма-Ата: Наука, 1962. – 168 с. Дегтярев К.Е., Толмачева Т.Ю., Рязанцев А.В. и др. Строение, обоснование возраста и тектоническая позиция нижне-среднеордовикских вулканогенно-осадочных и плутонических комплексов западной части Киргизского хребта (Северный Тянь-Шань) // Стратиграфия. Геологическая корреляция. № 4 (в печати). Материалы III Всероссийского совещания 5 м. Выше залегают серые песчанистые (5 м) и водорослевые известняки (2 м). Разрез наращивается пачкой розовых и красных биокластических известняков с обломками криноидей, брахиопод и трилобитов, чередующихся с прослоями алевролитов. Мощность этой пачки около 10 м. Общая мощность карбонатных пород на левом берегу 25–30 м. Карбонатные породы в обоих разрезах перекрываются толщей лиловых и зеленых слоистых туфогенных песчаников и алевролитов мощностью более 500 м. Верхняя часть разреза маматской свиты образована литокластическими туфами и туфоконгломератами андезитов и дацитов мощностью до 300 м (Никитин, 1972). В 1,5 км юго-восточнее изученного участка маматская свита с несогласием перекрывается терригенно-карбонатными породами верхнего ордовика. Детальное опробование карбонатной части разреза показало, что конодонты в породе содержатся в очень небольших количествах, не превышающих 1–5 экземпляров на кг породы. Только на нескольких уровнях содержание конодонтов в породе оказалось достаточным для определения таксономического состава и возраста комплекса. Всего было извлечено 60 конодонтовых элементов. В образцах 222 и 223 обнаружен одинаковый набор конодонтовых видов, включающий Paltodus cf. pristinus (Viira, 1970), Lenaeodus cf. bifidus (Abaimova, 1971), «Scolopodus» aff. sexplicatus (Jones, 1971) и Tripodus sp. Выше по разрезу в обр. 45 (по схеме опробования И.Ф. Никитина) количественно преобладают элементы Tripodus sp. A (более 70 % от всех элементов), Cordylodus angulatus, Drepanodus arcuatus и Paroistodus cf. proteus. Все конодонты серо-коричневые, относительно слабо изменены, с индексом окраски (CAI), не превышающим 2,0. Таким образом, в разрезе известняков выделяются два стратиграфических уровня – серозеленые известняки содержат конодонты зоны Paltodus deltifer верхнего тремадока, а вышележащие красные известняки по конодонтам относятся к зоне Paroistodus proteus самых верхов тремадока – низов аренига. В целом в комплексе маматской свиты доминирует эндемичная форма Tripodus sp. A, в меньшем количестве присутствуют виды космополитного распространения, такие как Drepanodus arcuatus, Paroistodus cf. proteus, широко встречающиеся во всех отложениях относительно глубоководных фаций, в том числе и в Балтоскандии. Типично балтоскандийские виды в изученном местонахождении не обнаружены, в то время как были найдены элементы Lenaeodus cf. bifidus – вида, который встречается на территории Сибирской платформы, СевероВостоке России и на Аляске. Эта находка свидетельствует о биогеографической близости фауны маматской свиты к фауне Сибирской платформы. Некоторая обособленность фауны маматской свиты от одновозрастных фаун более южных частей Казахстана подчеркивается отсутствием вида Tripodus sp. A, который доминирует в маматской свите, в изученных местонахождениях этого возраста на территории Казахстана (Дубинина, 2000) и Северной Киргизии (Дегтярев и др., 2012). Необходимо отметить, что в целом для конодонтовой фауны Казахстана и Восточной Гондваны, в том числе и для глубоководных фаун, изученных в кремнистых породах (Tolmacheva et al., 2004), характерно очень раннее появление акодиформных конодонтов с приониодовым типом аппарата, представителем которых является и Tripodus sp. A, обнаруженный в маматской свите. В кремнистых фациях эта линия представлена другим набором видов с Acodus longibasis (Tolmacheva et al., 2004), а в относительно более мелководных отложениях Малого Каратау и Северной Киргизии другими не описанными еще представителями этого рода. В то же время в Балтоскандии первые формы линии Tripodus появляются позже, только в верхах зоны Paroistodus proteus, а заселение Сибири и Лаврентии, возможно, происходило еще позднее, в начале дапинского времени. По общей характеристике комплекса и наличию представителей рода Tripodus фауна из известняков маматской свиты принципиально не отличается от одновозрастных фаун Казахстана. Тем не менее, в ней присутствуют компоненты, в биогеографическом отношении приближающие Чингиз-Тарбагатайскую зону Казахстана к Сибирской палеобиогео­ графической провинции и отличающие ее от Балтоскандийской, что несколько противоречит опубликованным данным по трилобитам. Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-05-00973, 12-05-00844. 239 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео240 Дубинина С.В. Конодонты и зональная стратиграфия пограничных отложений кембрия и ордовика. – М.: Наука, 2000. – 239 с. Кленина Л.Н. Биостратиграфия ордовика Чингиза по брахиоподам и ее корреляция с общей стратиграфической шкалой Казахстана // Допалеозой и палеозой Казахстана. Т. 1. – Алма-Ата: Наука, 1974. – С. 178–182. Лялин Ю.И., Миллер Е.Е., Никитина Л.Г. Вулканогенные формации Чингизского геоантиклинория (Центральный Казахстан). – Алма-Ата: Наука, 1964. – 168 с. Назаров Б.Б., Попов Л.Е. Стратиграфия и фауна кремнисто-карбонатных толщ ордовика Казахстана (Радиолярии и беззамковые брахиоподы). – М.: Наука, 1980. – 190 с. Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана. Ч. I. Стратиграфия. – Алма-Ата: Наука КазССР, 1972. – 242 с. Решения III Казахстанского стратиграфического совещания по докембрию и фанерозою (Алма-Ата, 1986 г.). Ч. I. Докембрий и палеозой. – Алма-Ата, 1991. – 148 с. Самыгин С.Г., Титов В.И., Кленина Л.Н. и др. К вопросу о развитии Чингизского и Аркалыкского антиклинориев (Восточный Казахстан) в позднем кембрии – среднем ордовике // ДАН СССР. 1969. Т. 188. № 2. – С. 417–420. Fortey R.A., Cocks L.R.M. Palaeontological evidence bearing on global Ordovician-Silurian continental reconstructions // Earth-Sci. Rev. 2003. Vol. 61. – P. 245–307. Popov L.E., Bassett M.G., Zhemchuzhnikov V.G. et al. Gondwanan faunal signatures from Early Palaeozoic terranes of Kazakhstan and Central Asia: evidence and tectonic implications // Bassett M.G. (ed.) Early Palaeozoic Peri-Gondwana Terranes: New Insights from Tectonics and Biogeography. Geol. Soc., London, Spec. Publ. 2009. Vol. 325. – P. 23–64. Tolmacheva T., Popov L., Gogin I., Holmer L. Conodont biostratigraphy and faunal assemblages in radiolarian ribbon-banded cherts of the Burubaital Formation, West Balkhash Region, Kazakhstan // Geol. Mag. 2004. Vol. 141. N 6. – P. 699–715. З.А. Толоконникова ЗНАЧЕНИЕ МШАНОК В СТРАТИГРАФИИ ВЕРХНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ Мшанки – одна из часто встречаемых групп фоссилий в отложениях верхнего девона западной части Алтае-Саянской складчатой области (АССО). За вековую историю их изучения накоплены данные о систематическом составе, характерных комплексах и эволюционных трендах. Однако попыток построения региональных зональных мшанковых шкал не проводилось, несмотря на практическое использование мшанок в определении относительного возраста отложений. В настоящем сообщении предлагается биостратиграфическое расчленение верхнедевонских отложений западной части АССО по мшанкам. Верхнедевонские отложения западной части АССО соответствуют вассинскому, соломинскому (франский ярус), косоутесовскому, митихинскому, подонинскому и топкинскому горизонтам (фаменский ярус) (Gutak et al., 2011). Они представлены разнообразными осадками различного генезиса. Фрагменты колоний мшанок приурочены к шельфовым фациям, лагунным отложениям и отложениям открытых морских бассейнов незначительной глубины. В вассинское время на территории западной части АССО существовало 36 видов мшанок (Краснопеева, 1935; Нехорошев, 1948; Морозова, 1961; Волкова, 1974). Характерными являются Bigeyella hemiseptata (Moroz.), Rectifenestella pioneri (Krasn.), Anomalotoechus yayaensis Moroz., A. grandis Moroz., A. ramosus (Moroz.), A. insuetus (Moroz.), Leioclema vassinense Moroz., L. plicatile Volk., L. tschuyaense Volk., Cystiramus kondomensis Moroz., Paralioclema ninae Moroz., Eostenopora conspersa Volk., Atactotoechus belskayae Moroz. Во всех структурно-фациальных зонах региона отмечается обилие Leioclema vassinense (таблица). Нижняя граница биостратиграфического подразделения связана с первым появлением этого вида, что позволяет диагностировать границу среднего и верхнего девона в регионе еще по одной группе фауны. Мшанки соломинского комплекса насчитывают 16 видов (Краснопеева, 1935; Морозова, 1961; Волкова, 1974). Специфичными выступают Eridotrypella granulosa (Moroz.), E. justa Moroz., Petalotrypa bifoliata (Moroz.), Cystiramus multifarius Volk., Rhombopora magna Volk., Leptotrypella mira Volk. По первому появлению вида Petalotrypa bifoliata предлагаются одноименные слои (таблица). В нижнефаменских отложениях найдено 19 видов (Морозова, 1961; Волкова, 1974; Толоконникова, 2008, 2010). Характерный комплекс включает Minussina incrustata Tolok., Anomalotoechus Стандартные конодонтовые зоны Фаменский Верхний Региональные брахиоподовые зоны Слои с мшанками Топкинский Sphenospira julii Monotrypa carbonica – Pseudobatostomella longipora Не установлены Eridocampylus striatum – Atactotoechus cellatus Не установлены He установлены Lower praesulcata expansa postera trachytera Подонинский marginifera rhomboidea crepida Митихинский Не установлены Megacanthopora glubokaensis Косоутесовский Cyrtospirifer tschernyschevi Leioclema numerosum linguiformis rhenana Соломинский Anathyrella ussoffi Petalotrypa bifoliata jamieae hassi punctata transitans Late falsiovalis Вассинский Anathyris phalaena – Cyrtospirifer schelonicus Leioclema vassinense triangularis Франский ДЕВОНСКАЯ Late praesulcata Региональные горизонты laminarus Tolok., Crustopora devonica Tolok., C. aliena Tolok., Leioclema numerosum Moroz., L. ivanovae Moroz., Orthopora tomensis Tolok., Pseudobatostomella majusculа Volk., Cyphotrypa olgae Tolok. Вид Leioclema numerosum предлагается руководящей формой для одноименных слоев, соответствующих объему косоутесовского горизонта. По его первому появлению прослеживается граница франа – фамена в регионе. В отложениях митихинского горизонта встречены Leioclema kusmensis Tolok., L. numerosum Moroz., L. ramosum Nekh., Megacanthopora glubokaensis Tolok. и Nicklesopora graciosa Troiz. (Толоконникова, 2012). Мшанка Megacanthopora glubokaensis рассматривается в качестве руководящей формы для этого стратиграфического интервала (таблица). Из отложений подонинского горизонта известно 14 видов мшанок, преимущественно эндемиков (Нехорошев, 1956; Толоконникова, 2008; Tolokonnikova, 2010). Значимыми таксонами выступают Anomalotoechus proprius Tolok., Eridocampylus rotundatum Tolok., E. striatum Tolok., Atactotoechus cellatus Tolok., Nikiforopora jurgensis Tolok., Klaucena gracilis Tolok., Mediapora elegans Tolok. По обилию остатков двух видов предлагаются слои с Eridocampylus striatum–Atactotoechus cellatus (таблица). Топкинский комплекс мшанок западной части АССО содержит 32 вида, среди которых Neotrematopora podunskensis (Trizna), Spinofenestella abyschevoensis (Trizna), Monotrypa carbonica (Tschich. in Nekh.), Nikiforovella bytchokensis Trizna, Laxifenestella juxtaserratula (Trizna), Fistulipora foliacea Trizna, Cyclotrypa gigantea Nekh., Ipmorella irregularis (Nekh.), Pseudobatostomella longipora (Nekh.), Tabulipora membranacea Nekh. являются наиболее важными (Нехорошев, 1956; Тризна, 1958; Толоконникова, 2008, 2009). Виды Monotrypa carbonica и Pseudobatostomella longipora предлагаются в качестве руководящих форм для одноименных слоев (таблица). Таким образом, в разрезе верхнего девона западной части АССО выделено шесть биостратиграфических подразделений в ранге слоев с мшанками Leioclema vassinense (вассинский горизонт), Petalotrypa bifoliata (соломинский горизонт), Leioclema numerosum (косоутесовский горизонт), Megacanthopora glubokaensis (митихинский горизонт), Eridocampylus striatum–Atactotoechus cellatus (подонинский горизонт), Monotrypa carbonica–Pseudobatostomella longipora (топкинский горизонт). По первому появлению Leioclema vassinense можно проследить границу живета – франа в регионе, Leioclema numerosum – границу франа – фамена. Материалы III Всероссийского совещания Ярус Отдел Система Схема расчленения верхнедевонских отложений западной части АССО (Ржосницкая, 1968; Gutak et al., 2011) 241 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- В составе характерных комплексов изученного региона определены виды, полезные для межрегиональной корреляции: мшанки Anomalotoechus yayaensis, Atactotoechus belskayae, Cystiramus multifarius, Petalotrypa bifoliata и Rhombopora magna известны во франских отложениях Закавказья (Лаврентьева, 1985). Среди фаменских видов общими с Монголией являются Orthopora tomensis, Cyclotrypa gigantea, Восточным Забайкальем – Laxifenestella juxtaserratula, Nikiforovella bytchokensis, Ipmorella irregularis, Monotrypa carbonica, Neotrematopora podunskensis, Pseudobatostomella longipora, Казахстаном – Monotrypa carbonica, Lеioclema ivanovae, L. numerosum, Cyclotrypa gigantea, Китаем – Cyclotrypa gigantea, Южным Уралом – Spinofenestella cf. abyschevoensis (Троицкая, 1975; Пламенская, Исабаева, 1986; Нехорошев, 1977; Попеко, 2000; Ариунчимэг, 2000; Xia, 1997). Ариунчимэг Я. Первые находки фаменских мшанок в Монголии // Палеонтол. журн. 2000. № 1. – С. 45–48. Волкова К.Н. Девонские мшанки Юго-Восточного Алтая. – М.: Наука, 1974. – 181 с. Краснопеева П.С. Мшанки среднего и верхнего девона Алтая // Материалы по геологии ЗападноСибирского края. 1935. Вып. 20. – С. 43–84. Лаврентьева В.Д. Верхнедевонские мшанки Закавказья // Геология и разведка. 1985. № 8. – С. 12–18. Морозова И.П. Девонские мшанки Минусинских и Кузнецкой котловин. – М.: АН СССР, 1961. – 172 с. (Труды ПИН АН СССР. Т. 86). Нехорошев В.П. Палеонтология СССР. Девонские мшанки Алтая. – М.: АН СССР, 1948. Т. 3. Ч. 2. Вып. 1. – 172 с. Нехорошев В.П. Нижнекаменноугольные мшанки Алтая и Сибири. – Л., 1956. – 418 с. (Труды ­ВСЕГЕИ. Новая серия. Т. 13). Нехорошев В.П. Девонские мшанки Казахстана. – М., 1977. – 192 с. Пламенская А.Г., Исабаева Ф.А. Мшанки фаменского яруса Южного Казахстана // VII Всесоюзный колл. по ископ. и соврем. мшанкам. – М.: ПИН, 1986. – С. 39–41. Попеко Л.И. Карбон Монголо-Охотского орогенного пояса. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 124 с. Ржонсницкая М.А. Биостратиграфия девона окраин Кузнецкого бассейна. Т. 1. Стратиграфия. – Л.: Недра, 1968. – 285 с. Толоконникова З.А. Палеонтология Кузбасса. Фаменские мшанки западной части Алтае-Саянской складчатой области. – Новокузнецк: КузГПА, 2008. – 125 с. (Труды НИЛ «Палеонтологии и палеогеографии». Вып. 2). Толоконникова З.А. Позднефаменские мшанки из окраин Кузнецкого бассейна и их стратиграфическое значение // Регион. геология и металлогения. 2009. № 39. – С. 52–57. Толоконникова З.А. Новые мшанки из девона Горного Алтая (Россия) // Палеонтол. журн. 2010. № 2. – С. 149–152. Толоконникова З.А. Мшанки митихинской свиты (нижний фамен, верхний девон) Кузнецкого бассейна // Палеонтол. журн. 2012. № 4. – С. 27–31. Тризна В.Б. Раннекаменноугольные мшанки Кузнецкой котловины. – Л.: Гостоптехиздат, 1958. – 298 с. (Труды ВНИГРИ. Вып. 122). Троицкая Т.Д. Основные черты развития мшанок на границе девона и карбона в Центральном Казахстане // Палеонтол. журн. 1975. № 3. – С. 54–69. Gutak Ya., Antonova V., Tolokonnikova Z. The Famennian stage, Late Devonian of the Kuznetsk depression // Biostratigraphy, paleogeography and events in Devonian and Lower Carboniferous (SDS/IGCP 596 joint field meeting). – Novosibirsk, 2011. – P. 52–54. Tolokonnikova Z.A. Bryozoans from the Jurginskaya Formation (Famennian, Upper Devonian) of the TomKolyvansk area (Western Siberia, Russia) // Geologos. 2010. Vol. 16. N 3. – P. 139–152. Xia F.S. Marine microfaunas (bryozoans, conodonts and microvertebrate remains) from the FrasnianFamennian interval in northwestern Junggar Basin of Xinjiang in China // Beitrge zur Palontologie. 1997. Vol. 22. – P. 91–207. Т.Е. Улановская, В.В. Калинин, Г.В. Зеленщиков ПАЛЕОЗОЙ СКЛАДЧАТОГО ФУНДАМЕНТА СКИФСКОЙ ПЛИТЫ: РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ МИФ? 242 Южная окраина Восточной Европы, охватывающая юг Украины, юг европейской части России и запад Казахстана, принадлежит к трём крупным, вытянутым в субширотном направлении тектоническим структурам: южной периферии древней Восточно-Европейской платформы (на севере), молодой Скифской плите (посередине) и Альпийскому складчатому поясу (на юге). Материалы III Всероссийского совещания Структурные этажи южной периферии Восточно-Европейской платформы – кристаллический фундамент и платформенный чехол – разделены границей исключительной резкости. Кристаллический фундамент выходит на поверхность на Украинском щите и вскрыт скважинами под платформенным чехлом на его южном склоне и юго-восточном продолжении, а также юго-восточной оконечности Воронежского кристаллического массива. Магматические и метаморфические породы (всевозможные гнейсы и кристаллические сланцы, граниты, мигматиты, амфиболиты, джеспилиты и многие другие) преобладают в кристаллическом фундаменте. Менее распространённые в нём осадочные породы (включая песчаники, конгломераты, известняки и доломиты) несут на себе следы значительного метаморфизма. В разновидностях сланцев с пониженной степенью метаморфизма распознаются исходные осадочные и вулканогенные породы. Докембрийский возраст кристаллического фундамента не вызывает сомнений. Но используемые для расчленения докембрия местные стратиграфические схемы составлялись на ненадёжной основе – по результатам определений абсолютного возраста пород и содержащихся в них палинокомплексов. Поэтому ошибки в стратиграфии докембрия становились неизбежностью. Например, сильно дислоцированные и прорванные интрузиями кристаллические и метаморфические сланцы, подстилающие мезозойско-кайнозойский платформенный чехол на множестве площадей бурения Равнинного Крыма и севера Азовского моря, а также запада и севера Центрального Предкавказья, во многих публикациях и на некоторых геологических картах фигурируют как отложения ордовика, силура и девона. В действительности же они (принимая во внимание их достаточно глубокий метаморфизм) докембрийские. Назрела необходимость обновить и усовершенствовать местные стратиграфические схемы докембрия. Для этого необходимо взять на вооружение удачный опыт украинских палеонтологов, которые научились находить в породах докембрийские микрофоссилии и с их помощью выделять в разрезах достоверные протерозой, рифей и венд (К.В. ванченко, 2005; Т.П. Міхницька, 2005; В.В. Фуртес, 2006). До проведения такой работы дифференциация кристаллического фундамента по возрасту последней складчатости бессмысленна, как заведомо недостоверная. Например, на «Схеме тектонического районирования фундамента Черноморско-Каспийского региона» (гл. редакторы В.Е. Хаин и В.И. Попков) южная половина северо-западной части шельфа Чёрного моря закрашена цветом байкалид (В.И. Попков, 2011). Но такая точка зрения тектонистов является заблуждением. В разрезах трёх площадей бурения этого участка – Одесская, Голицына и Каркинитская – верхов рифея, венда и низов кембрия, которые свидетельствовали бы о состоявшейся здесь байкальской эпохе складчатости, однозначно нет. Докембрий вверху заканчивается кристаллическими сланцами с высоким содержанием граната, явно более древними, чем верхний протерозой; платформенный чехол начинается снизу мезозоем. Решение вопроса о границе Восточно-Европейской платформы и Скифской плиты пока остаётся неоднозначным: её протягивают по разным линиям (В.Б. Соллогуб и др., 1987). Каким стратиграфическим уровням соответствуют границы между тремя структурными этажами Скифской плиты – кристаллическим фундаментом, складчатым фундаментом и платформенным чехлом – также неясно. Не до конца понятно и глубинное строение зоны сочленения Скифской плиты с Альпийским складчатым поясом: поверхность складчатого фундамента оказалась здесь погружённой на многокилометровые, недоступные для изучения бурением глубины (А.И. Летавин и др. 1987). Первоначально Скифскую плиту большинство геологов считало эпигерцинской платформой с палеозойским складчатым фундаментом. Скрытый под платформенным чехлом палеозой складчатого фундамента ожидали увидеть похожим на давно и хорошо изученный палеозой Открытого Донбасса и распространённым повсеместно. Данные по первой скважине, которую добурили до складчатого фундамента – Песчанокопская опорная (западнопредкавказская часть Скифской плиты), были истолкованы как подтвердившие такое предположение. Эта скважина в интервале глубин от 2516,0 м и до забоя (2737,9 м) прошла пачку переслаивания разнообразных глинистых сланцев, песчаников, известняков и дацитов (с углами падения пород 70–80°). Пачку, перекрываемую горизонтально залегающим нижним мелом, отнесли (по фораминиферам) к нижнему карбону (Геология СССР. Т. 46. 1970). Дальнейшее глубокое бурение, развернувшееся в Западном Предкавказье, показало, что на обширных его пространствах складчатый фундамент слагается похожими породами. Они принадлежат к сероцветной толще, подстилающей юру или мел и вскрытой огромным количеством скважин в пределах Каневско-Березанского вала, Ейской впадины и северо-восточного края Тимашевской ступени. Доминирующие породы толщи – аргиллиты (глинистые и углисто-глинистые сланцы). В виде прослоев присутствуют алевролиты, песчаники, кварциты, редко известняки, мергели и доломиты (челбасская серия), в некоторых разрезах доля алевролитов и песчаников значительно 243 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео244 возрастает, появляются гравелиты и конгломераты (староминская свита). Важная составляющая толщи – вулканогенные породы (кварцевые и бескварцевые кератофиры, спилиты, порфириты, туфы и др.). Длительное время в толще не находили таких окаменелостей, которые давали бы представление о её возрасте. Лишь на основании литологического сходства толщи с подмеловой частью разреза скв. Песчанокопская опорная отнесли к карбону. С таким заключением согласились палинологи, которые нашли в толще споры карбона. Последние сомнения развеяли находки в прослоях известняков каменноугольных фораминифер (скважины Челбасская-25 и Староминская-50). Как каменноугольная толща попала во множество публикаций? Однако на каком-то этапе геологических работ в толще обнаружили настоящую фауну триаса, после чего взгляды на её стратиграфию претерпели ряд изменений. Авторы разделяют точку зрения, согласно которой вся толща приравнивается к интервалу средний триас–нижняя юра (В.Л. Егоян и др., 1985; Е.А. Гофман и др., 1988). Этому не противоречат каменноугольные фораминиферы разрезов скважин Челбасская-25 и Староминская-50, так как выяснилось, что вмещающие их известняки принадлежат к галькам, заключённым в триасовые породы, т. е. они переотложены. Из Западного Предкавказья сероцветная толща среднего триаса – нижней юры тянется полосой далеко на запад, в Азовское море (Азовский вал), Равнинный и Горный Крым (где её именуют таврической серией), северо-западную часть шельфа Чёрного моря (Одесско-Джанкойский прогиб и Каламитский вал, скважины Фланговая-2 и Десантная-1) и Северо-Западное Причерноморье (складчатая зона Добруджи и Преддобруджинский прогиб). Предполагают, что на севере толща сочленяется с Восточно-Европейской платформой по крупным разломам, в направлении на юг она уходит под подошву (увеличивающегося в мощности до многокилометровых величин) платформенного чехла. Везде толщу характеризуют серая до тёмно-серой и чёрная окраска, преобладание в разрезе аргиллитов, наличие следов проявлений вулканизма (сопутствовавшего осадконакоплению), интенсивнейшая дислоцированность (с углами падения слоистости, достигающими 90°, смятостью пород в складки, включая опрокинутые, множеством разломов, зон дробления, зеркал скольжения), колоссальные мощности (по сейсмическим данным, до 5 км; К.О. Ростовцев, И.А. Воскресенский, 1968; А.И. Летавин и др., 1987). Ни одна скважина не добурена до подошвы толщи. На максимальную мощность её вскрыла скв. Приморско-Ахтарская-1 в интервале глубин 2334–5005 м (восточное побережье Азовского моря). Староминская свита, отличающаяся от челбасской серии меньшей дислоцированностью и появлением на фоне сероцветности элементов пестроцветности пород, может быть, является наиболее молодой составной частью толщи (?). В целом изученность толщи остаётся слабой и многие вопросы её стратиграфии не решены. За пересмотром представлений о стратиграфии толщи последовало внесение исправлений в тектонику: геологи стали допускать присутствие в складчатом фундаменте Скифской плиты, наряду с герцинидами, также и киммерид (В.Б. Соллогуб и др., 1987). При составлении вышеупомянутой схемы В.И. Попкова существование толщи проигнорировано. На месте её распространения показаны байкалиды и герциниды. Главные тектонические структуры остальной части Скифской плиты – Ставропольский свод, Западно-Ставропольская, Восточно-Ставропольская и Восточно-Кубанская впадины (Центральное Предкавказье); Прикумское поднятие и Ногайская ступень (Восточное Предкавказье); Донецкое складчатое сооружение и система Манычских прогибов, включая уходящее под акваторию Каспийского моря их восточное продолжение (ограничивают Скифскую плиту с севера). Интенсивно дислоцированный палеозой, начиная с девона (такой, какой должен был бы слагать весь складчатый фундамент эпигерцинской платформы) развит только в пределах одного из элементов Донецкого складчатого сооружения – Донецкого кряжа. Каркас из пачек и тонких (маркирующих) пластов известняков и пластов угля разной мощности (они выполняют корреляционные функции), а также обилие в породах остатков фауны и флоры сделали возможным детальное расчленение всего разреза и особенно карбона (Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР. Т. 1. 1963). Принадлежащий к складчатому фундаменту карбон установлен (хотя и не так уверенно, с большими сомнениями) ещё на двух небольших структурах Скифской плиты – Сальском валу и Целинской седловине (северных ответвлениях Ставропольского свода и Западно-Ставропольской впадины). За пределами этих структур (по материалам огромного количества скважин, пробуренных на пространстве Скифской плиты от восточного края Западного Предкавказья и до Каспийского моря) под платформенным чехлом залегает толща, называемая флишоидной. Бурение скважины обычно останавливали в верхах флишоидной толщи, как только вскрывались первые десятки метров её разреза. Параметрические скважины Цимлянская-1, -2, -3 и Чилгирская-1 (восточная часть Донецкого складчатого сооружения, кряж Карпинского) – исключения. Они прошли по флишоидной толще километ­ры и не вышли Материалы III Всероссийского совещания из неё (Е.В. Мовшович, 1995; Е.В. Мовшович, М.Л. Хацкель, 2002). Разрез флишоидной толщи по скв. Цимлянская-3 (в которой её мощность максимальная, хотя и не полная, интервал глубин 710–4935 м) – стратотип семиченской серии. Мощность серии (установленная с учётом корреляции с разрезами соседних скважин) превышает 5600 м. Каменноугольный возраст флишоидной толщи (преимущественно немой) обоснован редкими находками спор карбона. Флишоидная толща повсюду одинакова и однообразна. Она отличается от карбона Донецкого кряжа полным исчезновением известняков и углей. Преобладающие в ней породы – глинистые и углисто-глинистые сланцы (аргиллиты), которые либо целиком слагают разрез, либо монотонно, но неравномерно переслаиваются с алевролитами и песчаниками. То чаще, то реже встречаются вулканогенные и осадочно-вулканогенные породы. Окраска пород серая, тёмно-серая и чёрная. Сильная дислоцированность флишоидной толщи выражена собранностью пород в крутые складки (с углами падения крыльев до 90°) и наличием плойчатости. В работах по тектонике флишоидная толща рассматривается как палеозойская, но во взглядах на тектоническое строение складчатого фундамента Скифской плиты в Центральном и Восточном Предкавказье (до северной границы кряжа Карпинского) наблюдается большой разброд (А.И. Летавин и др., 1987; Н.А. Крылов, А.И. Летавин, 1984; Ю.А. Волож и др., 1999; С.Л. Костюченко и др., 2001; В.Е. Хаин, 2007). Выше флишоидной толщи разрез наращивается слабее дислоцированной толщей красноцветных и пестроцветных терригенных пород (с разностями от глин и аргиллитов до конгломератов), известняков (иногда доломитизированных) и вулканогенных пород (эффузивных и туфогенных). Мощность толщи достигает нескольких километров. От флишоидной толщи она отделена угловым несогласием. Её зачастую выделяют в самостоятельный структурный этаж – переходный между складчатым фундаментом и платформенным чехлом. Первоначально толщу считали пермью, затем перенесли в пермо-триас, сейчас относят к триасу (что палеонтологически доказано) или к интервалу триас–нижняя юра (Е.В. Мовшович, 1977; В.Р. Лозовский и др., 1974; Б.П. Назаревич, И.А. Назаревич, 1984). Точный стратиграфический объём толщи и стратиграфическое положение её верхней границы остаются неизвестными. Площадное распространение толщи несплошное (т. е. прерывистое), она заполняет собой Манычские прогибы, различные впадины или залегает покровом на субстрате. Там, где толща выклинивается, под подошву горизонтально- или пологозалегающего платформенного чехла выходит флишоидная толща. В основании платформенного чехла залегают нижняя юра (начиная с середины?) или более молодые отложения. На кряже Карпинского и к западу от Восточного Предкавказья красноцветно-пестроцветная терригенно-карбонатная (с вулканогенным компонентом) толща распространена ограниченно – в основном в виде изолированных тел. В Западном Предкавказье и Азовском море толще предположительно соответствует староминская свита (в сумме с пачкой сахаровидных песчаников и эффузивов), в северо-западной части шельфа Чёрного моря – пестроцветно-красноцветная эффузивно-осадочная толща Одесской площади бурения. При стратиграфической корреляции нижележащей части разреза приходится сравнивать разновозрастные отложения – флишоидную толщу карбона (востока Скифской плиты) и сероцветную толщу среднего триаса – нижней юры (её запада). Невозможно не заметить поразительное сходство этих толщ по многим признакам: происхождению и набору разностей пород, их соотношению, окраске, минеральному составу, крепости и плотности, степени и формам дислоцированности, величине общей мощности. Обе толщи занимают одинаковое место в структуре разреза – они венчают складчатый фундамент (или составляют его полностью?). Основание обеих толщ и подстилающие их отложения бурением не вскрыты. Невольно возникает вопрос: не могут ли эти толщи быть возрастными аналогами? Идея попытаться провести параллель между этими толщами не покажется абсурдной, если принять во внимание слабую доказательность заключений по их стратиграфии. Приведем примеры. 1. Споры карбона, которыми была обоснована стратиграфическая принадлежность флишоидной толщи, находили также (и притом в большом количестве) и в сероцветной толще среднего триаса – нижней юры на первых этапах её изучения (М.С. Бурштар, 1960; А.Я. Дубинский, 1963; Г.М. Аладатов и др., 1961). Возможно, именно этот факт несовпадения стратиграфических выводов, делавшихся по разным палеонтологическим группам, стал одной из причин утраты доверия многими геологами к палинологическому методу. 2. Находки фауны в флишоидной толще были чрезвычайной редкостью. Приводимые в литературе списки её бедных комплексов невыразительны и трактовались специалистами неоднозначно (см. материалы по скважинам Джанайская опорная и Ики-Бурульская-12; Геология СССР, т. 9, 1968; Геология СССР, т. 46, 1970). Как в стратиграфии флишоидной толщи и 245 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео246 её возрастных аналогов, так и в их палеонтологической характеристике немало противоречий. Например, песчанокопская свита, выделенная по фораминиферам из разрезов скважин Песчанокопская опорная и площади бурения Красногвардейская, нижнекаменноугольная (А.В. Зай­ цев, 1999). Но из тех же самых отложений (скв. Красногвардейская-1) извлечены моллюски, определённые как нижнетриасовые (Е.А. Гофман и др., 1988). 3. Масштабы явления переотложения окаменелостей часто геологами недооценивались, из-за чего их находки не всегда интерпретировались правильно. Например, вмещаемые таврической серией Крыма глыбы, экзотические утёсы, валуны и гальки известняков с фауной карбона и перми могли переноситься льдами в процессе осадконакопления на громадные расстояния. Таким предположением удаётся объяснить отсутствие поблизости карбона и перми в коренном залегании. В свете этих данных по естественным обнажениям Крыма стоило бы поразмышлять и над материалами бурения по Предкавказью и Северо-Западному Прикаспию. Например, на Астраханском поднятии к карбону и перми относят толщу, в которой преобладают глинистые и углисто-глинистые сланцы и содержатся известняковые гальки с каменноугольной и пермской фауной (Геология СССР. Т. 46. 1970). Но обоснование стратиграфической принадлежности толщи по фауне, находящейся во вторичном залегании, не производит впечатления убедительного. Форма нахождения известняков с фораминиферами карбона в разрезе скв. Песчанокопская опорная не была определена. Действительно ли они образуют прослой или являются галькой? Подобная ситуация описана и по разрезам скважин Равнинного Крыма (Т.В. Астахова и др., 1984). 4. Вопросы стратиграфии немых интервалов разрезов решались по существу произвольно. 5. Кроме Донецкого кряжа, палеонтологически надёжно доказанный палеозой (от ордовика до перми) появляется на крайнем западе Скифской плиты – на о. Змеиный Чёрного моря и в Северо-Западном Причерноморье (к западу от меридиана г. Одесса). Но этот палеозой не имеет ничего общего с флишоидной толщей карбона. Из изложенного следует вывод: достоверного палеозоя в складчатом фундаменте большей части Скифской плиты нет. Стратиграфический объём двух мощных толщ, из которых сформирован этот структурный этаж (флишоидная толща карбона и сероцветная толща среднего триаса – нижней юры – их условные названия), на сегодняшний день точно не установлен. Важнейшая задача дальнейших исследований – разобраться в стратиграфии этих толщ: являются ли они обе каменноугольными или, возможно, обе отвечают интервалу средний триас – нижняя юра. Возможен и третий вариант: и то и другое стратиграфическое подразделение входит в состав обеих толщ, но отделено друг от друга несогласной (но пока замаскированной) границей с перерывом очень большой длительности. Без качественной стратиграфии вопрос о том, продуктом какой эпохи складчатости является складчатый фундамент Скифской плиты, нерешаем. М.Н. Уразаева, В.В. Силантьев АССОЦИАЦИИ НЕМОРСКИХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ ИЗ ПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ острова РУССКИЙ (ЮЖНОЕ ПРИМОРЬЕ) Сведения о пермских неморских двустворчатых моллюсках о. Русский в Южном Приморье немногочисленны. Первые находки этой фауны сделаны В.И. Бураго и определены В.И. Муромцевой, указавшей в составе комплекса представителей родов Anthraconauta Pruvost, 1930 (C3–P1), Prokopievskia Khalfin, 1950 (P1), Kinerkaella Khalfin, 1950 (C3), Mrassiella Ragozin, 1935 (C3) и Anthraconaia Trueman et Weir (C3–P1) (Бураго и др., 1971). Местонахождение этой коллекции не установлено. Новые коллекции, собранные Л.А. Изосовым и Е.П. Тереховым (Тихоокеанский океанологический институт Дальневосточного отделения РАН, г. Владивосток), переданы авторам в начале 2012 г. для уточнения систематической принадлежности фауны. На первом этапе работы перед авторами стояли следующие задачи: выявление разнообразия морфологических типов в ассоциациях неморских двустворчатых моллюсков, их сравнение с известными морфотипами из пермских отложений Ангариды и Восточно-Европейской платформы. Материалы III Всероссийского совещания Коллекция неморских двустворчатых моллюсков (всего около 30 экземпляров) из двух обнажений, расположенных на п-ове Саперный о. Русский. Коллекция хранится в Геологическом музее Казанского университета (колл. № 12Р). Находки двустворчатых моллюсков приурочены к темно-серым углистым алевритовым аргиллитам верхней подсвиты поспеловской свиты. На основе анализа комплексов флоры (Дуранте, Пухонто, 1999; Пухонто, 1999; Durante, Puchonto, 1999; Pukhonto, 1998) и аммонитов (Kotlyar et al., 2006) возраст этих отложений определяется как кунгурский (уфимский). Остатки моллюсков представлены ядрами и отпечатками раскрытых раковин и их отдельных створок. Часть раковин и ядер несет на себе следы деформации сжатия. Вещество раковин не сохранилось. Сохранность исследуемого материала ограничила набор методов его изучения: проведено механическое препарирование ядер, позволившее реконструировать морфологию раковин; все экземпляры сфотографированы, контур раковин и основные линии роста отрисованы при большом увеличении в графическом редакторе с целью уменьшения неточностей трассировки; стандартные биометрические параметры каждого экземпляра вносились в единый массив данных для изучения аллометрии роста раковины. Выявлены две ассоциации неморских двустворок. По косвенным данным ассоциации могут быть либо из одного слоя, либо из двух сближенных слоев. Обе ассоциации содержат два морфологических типа двустворчатых моллюсков: овальноудлиненный и округлый. Содержание морфотипов в разных ассоциациях различно. Раковины овально-удлиненной формы в первой ассоциации составляют 65, во второй 80 %. Раковины овально-удлиненной формы с расширенным и более или менее округлым задним краем имеют небольшой размер, средняя длина раковины 17 мм. Отношение высоты раковины к ее длине (H/L) около 0,5 и не меняется с ростом раковины. Линии роста сочленяются с верхним краем створки в трех-четырех точках, которые располагаются на некотором расстоянии друг от друга. Кроме того, на верхнем крае изучаемых раковин имеется узкая площадка, ориентированная под углом к створке раковины. На этой площадке происходит изменение угла, под которым линии роста подходят к краю раковины. Условно эти раковины могут быть отнесены к роду Anthraconaia Trueman et Weir. Раковины округло-треугольной формы имеют длину в пределах 11–18, в среднем 14 мм. Макушка располагается в центральной части верхнего края. Отношение высоты раковины к ее длине изменяется по мере роста раковины, составляя у молодых форм 0,50–0,55 и увеличиваясь с ростом раковины до 0,65–0,7 (средняя величина 0,6). Условно эти раковины могут быть отнесены к роду Abiella Ragozin, 1933. Наибольший интерес в данной коллекции представляет морфотип овально-удлиненных раковин, сходных по внешним очертаниям с раковинами наиболее древних представителей рода Palaeomutela, известных из уфимских отложений (соликамский горизонт) Соликамской впадины. Единственным доступным признаком, позволяющим установить различие между этими раковинами, является разный характер сочленения линий роста с замочным краем раковины. У раковин рода Palaeomutela сочленение линий роста с верхним краем раковины происходит в двух точках. Новые данные позволяют существенно сократить родовой состав комплекса неморских двустворчатых моллюсков и определить возраст вмещающих пород как нижнепермский (доуфимский). Подобные ассоциации неморских двустворчатых моллюсков известны из отложений нижней перми Китая и Мьянмара (Бирмы). Дуранте М.В., Пухонто С.К. Верхняя пермь Ангариды: границы отделов, ярусное расчленение // Докл. Междунар. симп. «Верхнепермские стратотипы Поволжья» (28 июня – 3 августа 1998 г.). – М.: ГЕОС, 1999. – С. 87–95. Пухонто С.К. Граница верхней и нижней перми в Печорском бассейне // Докл. Междунар. симп. «Верхнепермские стратотипы Поволжья (28 июня – 3 августа 1998 г.). – М.: ГЕОС, 1999. – С. 296–306. Durante M., Pukhonto S. Upper Permian of Angaraland (Series and Stades Boundaries). Permophiles. Newsletter N 34. June, 1999. – P. 26–31. Kotlyar G.V., Belyansky G.C., Burago V.I. et al. South Primorye, Far East Russia – A key region for global Permian correlation // J. of Asian Earth Sci. 2006. N 26. – Р. 280–293. 247 О.Ю. Устьянцева Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ВЫДЕЛЕНИЕ ТРАНСГРЕССИВНЫХ И РЕГРЕССИВНЫХ ФАЦИЙ – ОСНОВА РИТМОГЕНЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА РАЗРЕЗОВ 248 Важнейшей особенностью осадочных толщ и вообще всех геологических процессов следует назвать многопорядковую ритмичность, которая одинаково проявляется по литологическим, палеонтологическим и другим признакам. С другой стороны, естественные ритмы осадконакопления и развития биоты служат основой выделения стратиграфических подразделений, т. е. основой стратификации и последующей корреляции разрезов. В третьем издании стратиграфического кодекса, как и в предшествующих, о возможности использования ритмичности в стратиграфии говорится очень осторожно: «В ритмически построенных толщах в качестве свиты может быть выбран крупный седиментационный цикл» (2006, с. 31). Что касается остальных стратонов местной и общей стратиграфических шкал, то никоим образом не подчеркивается их ритмогенетическая природа. В то же время, на наш взгляд, нет в природе не ритмически построенных толщ осадочных пород как морского, так и континентального генезиса. Стратоны всех рангов должны соответствовать естественным ритмам (циклам) осадконакопления и развития биоты. На примере каменноугольно-пермских угленосных отложений Кузнецкого бассейна обобщается практическая работа по выявлению естественных ритмов и установлению их иерархического ранга. Палеозойская угленосная толща мощностью более 7 км хорошо обособляется в общей последовательности пород Кузнецкого бассейна. Она подстилается морским нижним карбоном и перекрывается вулканогенно-осадочными породами триаса, представляя собой единый ритм осадконакопления. Ритмогенетическое единство толщи подчеркивается ее общим трансгрессивно-регрессивным строением: вверх по разрезу увеличивается угленосность отложений и общее содержание растительных остатков, фауна меняется от морской и солоноватоводной до пресноводной. Данному ритму следует придать ранг комплекса местной стратиграфической шкалы. В действующей региональной унифицированной стратиграфической схеме Кузбасса эта единица для обозначения угленосной палеозойской толщи не используется, хотя определенная необходимость в этом, несомненно, имеется. Следует заметить, что М.Д. Залесский еще в 1933 г. рассматривал данную толщу как единое стратиграфическое подразделение, антраколитовую систему (Лежнин, Папин, 1996). Нами предлагается сохранить это название и относить в целом угленосные палеозойские отложения бассейна к антраколитовому комплексу. На нижеследующем уровне названный комплекс отчетливо делится на балахонскую и кольчугинскую серии. Впервые такую структуру антраколитового комплекса обосновали по угленосности В.Д. Фомичев (1929) и М.Д. Залесский (1933), выделившими соответственно балахонский и кольчугинский стратоны. Обе серии представляют собой завершенные ритмы осадко- и угленакопления: начинаясь безугольными лагунными отложениями с солоноватоводными двустворками, они заканчиваются континентальными породами с повышенной угленосностью (рисунок, а). Граница между сериями представлена резкой сменой регрессивных фаций верхов балахонской серии на трансгрессивные – низов кольчугинской. Это подчеркивается исчезновением угленосности (рисунок, б), наличием базальных кольчугинских конгломератов и мощной (100 м) базальной пачкой глинистых пород. Кроме того, в основании кольчугинской серии максимально проявляются окислительные процессы (кора выветривания). Рубежное значение границы подчеркивается размывом верхов балахонской серии глубиною до 140–550 м и ре­ гиональной разнонаправленностью изменения мощностей кольчугинской и балахонской серий. Трансгрессивное начало кольчугинской серии отражено в особенностях распространения двустворок: они практически отсутствуют в верхах балахонской серии, но широко распространены в базальной пачке глинистых пород, в основании кольчугинской серии. Здесь двустворки встречаются более или менее непрерывно, они максимально разнообразны, особенно на видовом уровне, и достигают максимальных размеров (до 90 мм). На нижеследующем иерархическом уровне, на уровне подсерий, также отчетливо проявляется ритмогенетическая природа подразделений местной стратиграфической шкалы. В кузнецкой подсерии максимально трансгрессивные фации приурочены к основанию этого стратона. Об этом свидетельствуют тонкая ритмичность, преобладание глинистых пород, обилие солоноватоводных двустворок крупных размеров (рисунок, б). Вверх по разрезу подсерии двуствор- Материалы III Всероссийского совещания Антраколитовый комплекс – стратон местной стратиграфической шкалы Кузнецкого бассейна (а) и ритмогенетическая природа подсерий Кузбасса (б) ки измельчаются, становятся более редкими, размеры ритмов увеличиваются, возрастает роль песчаных пород, т. е. по всем признакам усиливается регрессивный характер отложений. Верхнебалахонская подсерия по тем же литолого-палеонтологическим признакам представляет собой естественный ритм. Правда, самые крупные раковины, а с ними и наиболее трансгрессивные фации оказались расположенными несколько ниже официально принятой границы между нижне- и верхнебалахонскими стратонами. И по литологическим данным этот рубеж также должен быть опущен и проведен в интервале угольных пластов Кирпичный – Устьевой, где наблюдаются размыв амплитудой до 100 м и полимиктовые конгломераты. На рисунке (б) показано основание ильинской подсерии. Непосредственно над пачкой среднезернистых песчаников, т. е. в базальных глинистых породах наблюдается массовое рас- 249 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия пространение двустворок крупных размеров (до 60 мм) с сохранившимся раковинным веществом. Данные признаки позволяют отнести породы с такими раковинами к наиболее трансгрессивной фации ильинской подсерии. 250 Во-первых, более определенно фиксируется положение рубежей в разрезе по литологическим данным. В фациальном отношении они выражены максимумами континентальности осадков и регрессий. Ими могут быть поверхности размыва, коры выветривания, основания пачек наиболее грубообломочных пород. Во-вторых, максимумы континентальности всегда сопрягаются, т. е. располагаются в непосредственной стратиграфической близости к максимумам бассейновости (трансгрессий). Максимумы же трансгрессий представлены сменой пресноводной на морскую фауну, массовым развитием, таксономическим разнообразием и наиболее крупными размерами раковин. В литологическом отношении максимумы трансгрессий представлены базальными пачками глинистых пород, мелкой ритмичностью осадков. Данная особенность стратиграфической близости максимумов регрессий и трансгрессий названа принципом сопряжения двух противоположных максимумов (Папин, Лежнин, 1994) и позволяет с большей определенностью стратифицировать геологические разрезы. Залесский М.Д. О подразделении и возрасте антраколитовой системы Кузнецкого бассейна на основании ископаемой флоры // Изв. АН СССР. VII сер. 1933. № 4. – С. 607–630. Лежнин А.И., Папин Ю.С. Роль первой региональной стратиграфической схемы Кузбасса в установлении крупных этапов осадконакопления // Кузбасс – ключевой район в стратиграфии верхнего палеозоя Ангариды: Сб. науч. тр. Т. 1. – Новосибирск, 1996. – С. 12–19. Папин Ю.С., Лежнин А.И. Новые принципы стратиграфии // Современные геологические проблемы: Межвуз. сб. научн. тр. – Тюмень: ТюмГНГУ, 1994. – С. 3–14. Стратиграфический кодекс России. Издание третье. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 96 с. Фомичев В.Д. Новые данные по стратиграфии угленосных отложений Кемеровского района Кузнецкого бассейна // Изв. Геол. ком. – Л., 1929. Т. XLVIII. № 7. – С. 55–63. Т.В. Филимонова, Т.Н. Исакова, Е.Н. Горожанина ФОРАМИНИФЕРЫ АРТИНСКОГО И КУНГУРСКОГО ЯРУСОВ (НИЖНЯЯ ПЕРМЬ) ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СОЛЬ-ИЛЕЦКОГО СВОДА Детально изучены мелкие фораминиферы и фузулиниды артинско-кунгурских отложений юго-восточного края Соль-Илецкого свода в пределах бортовой зоны Предуральского прогиба. Определены разнообразные и богатые комплексы мелких фораминифер в отложениях саргинского, саранинского и филиповского горизонтов (рис. 1, 2), вскрытых скважинами 22, 25 и 2 Нагумановской площади. Фузулиниды редки и приурочены в основном к отложениям иргинского горизонта. Единичные представители родов Uralofusulinella и Schubertella на фоне мелких фораминифер отмечены в саргинском горизонте. Наиболее богатый комплекс фузулинид иргинского горизонта обнаружен в отложениях, вскрытых скв. 22 на глубине 4245 м, где преобладают иргинские Pseudofusulina abortiva, Triticites aff. saranaensis, T. aff. efferatus, но присутствуют и сходные с саргинскими Parafusulina ex gr. solidissima, Pseudofusulina ex gr. salva, Uralofusulinella sp. A. В скв. 25 комплекс фузулинид скудный, определены только Pseudofusulina ex gr. urasbajevi, Schubertella aff. ufimica. Мелкие фораминиферы этого интервала разреза относительно разно­образны. Комплекс включает раннепермских представителей семейств Bradyinidae, Hemigordiidae, Geinitzinidae, Bisseriamminidae, Palaeotextulariidae, Tetrataxidae. Саргинский горизонт вскрыт скважинами 25 и 2 Нагумановской площади. Из отложений обеих скважин определены характерные для этого горизонта Uralofusulinella arkaulensis, U. cf. ajensis, U. sp. nov. (Чувашов и др., 1980), а также Pseudofusulina sp., Parastaffelloides pseudosphaeroidea, Reitlingerina sp., Schubertella aff. ufimica, S. turaevkensisа и разнообразные мелкие фораминиферы. Среди последних присутствуют типично саргинские виды Pachyphloia densa, Nodosinelloides jazvae, N. ex gr. jaborovensis, Geinitzina chapmani sylvae (Раузер-Черноусова, 1949; Барышников и др., 1982), многочисленные артинско-кунгурские Hemigordius longus, H. ovatus, H. permicus, H. schlumbergeri (Гроздилова, 1956) и редкие 251 Материалы III Всероссийского совещания Рис. 1. Стратиграфическое распространение фузулинид и мелких фораминифер в артинско-кунгурском ярусах юго-восточного края Соль-Илецкого свода 252 и биособытия Рис. 2. Интервалы опробования в скважинах 22, 25 и 2 Нагумановские, расположенных на юго-восточном крае Соль-Илецкого свода, и присущие им комплексы фузулинид и мелких фораминифер Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- Материалы III Всероссийского совещания Cornuspira, также характерные для саргинского горизонта (Барышников и др., 1982). Массовое развитие Bradyinidae, Hemigordiidae и Geinitzinidae отличает комплекс мелких фораминифер саргинского горизонта от такового иргинского. Выше по разрезу (саранинский и филипповский горизонты) фузулиниды отсутствуют, расчленение отложений базируется на распространении мелких фораминифер и литологических данных. Граница саргинского и саранинского горизонтов наиболее обоснованно определяется по мелким фораминиферам в скв. 2. В этой скважине с глубины 4127 м исчезают фузулиниды, а несколько выше этого уровня появляются многочисленные Hemigordius saranensis, служащие индекс-видом саранинского горизонта (Чувашов и др., 1990), и первые Howchinella и Cornuspira. В целом состав комплекса мелких фораминифер саранинского горизонта схож с таковым, распространенным ниже по разрезу, и отличается в основном отсутствием типично саргинских видов, а также Palaeotextulariidae и Tetrataxidae. Аналогичный стратиграфический интервал в скважинах 22 и 25 охарактеризован менее разнообразным комплексом, в котором отсутствует вид-индекс саранинского горизонта. Так, нижнюю границу саранинского горизонта в скв. 25 определяет исчезновение представителей рода Parastaffelloides в инт. 4126–4128 м, а верхняя проводится по появлению ассоциации с филипповскими лагенидами в инт. 4083–4094 м. В скв. 22 выделяется транзитный саргинско-саранинский комплекс мелких фораминифер, в том числе с Hemigordiidae, приуроченный к зернистым известнякам переходной пачки. Собственно саранинский комплекс фораминифер выделяется выше по разрезу и характеризует пачку пелоидных известняков, возраст которой определяется саранинскими остракодами (Исакова и др., 2010) и положением ее в разрезе между саргинскосаранинскими и филипповскими отложениями. Таксономический состав комплекса значительно редуцирован, в нем обнаружены только отдельные Pseudoagathammina, Pseudoglomospira, Nodosinelloides и Globivalvulina. Филипповский горизонт характеризуют две ассоциации мелких фораминифер. В нижней части горизонта, вскрытой скважинами 22 и 25, определен комплекс с филипповскими лагенидами Howchinella aff. clava, H. shurekovi, Nodosinelloides pugioidea simulata, N. bogatirevi, N. matveevensis, N. uralica sensu Tchuvashov, Geinitzina ex gr. rara и глобивальвулинами Globivalvulina apiciformis (Золотова, Барышников, 1980). Интересно, что появление указанного комплекса фиксируется различно относительно корреляционного литологического маркера скважин 22, 25 и 2 – пачки оолитовых известняков, приуроченной к низам филипповского горизонта. Наиболее раннее появление наблюдается в скв. 25 в верхней части пачки пелоидных известняков, расположенной ниже литологического маркера. В скв. 22 этот комплекс содержится непосредственно в оолитовых известняках. В верхней части филипповского горизонта в остракодовых известняках, вскрытых скв. 2, обнаружен другой комплекс мелких фораминифер с многочисленными Syzrania samarensis и Dentalina? sp. sensu Zolotova, аналогичный комплексу верхней части филипповского горизонта Среднего Урала (Чувашов и др., 1990). В целом мелкофораминиферовое сообщество филипповского горизонта отличается от саранинского отсутствием хемигордиид и появлением других видов лагенид, указанных выше. Детальное изучение фораминифер и их стратиграфического распространения по трем близко расположенным скважинам позволило выявить характерные особенности и отличия установленных комплексов артинского и кунгурского ярусов юго-восточной части Соль-Илецкого свода и обосновать биостратиграфические границы горизонтов. Благодарим ООО «Газпром добыча Оренбург» за предоставленный каменный материал для исследований. Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 11-05-00950 и 11-05-01162-а. Барышников В.В., Золотова В.П., Кошелева В.Ф. Новые виды фораминифер артинского яруса Пермского Приуралья // Препринт. – Свердловск: УНЦ АН СССР, 1982. – 54 с. Гроздилова Л.П. Милиолиды верхнеартинских отложений нижней перми западного склона Урала // Микрофауна СССР. 1956. Сборник VIII. Вып. 98. – С. 531–531. Золотова В.П., Барышников В.В. Фораминиферы кунгурского яруса стратотипической местности // Биостратиграфия артинского и кунгурского ярусов Урала. – Свердловск: УНЦ АН СССР, 1980. – С. 72–109. Исакова Т.Н., Горожанина Е.Н., Филимонова Т.В. и др. Палеонтологическая и литофациальная характеристика пограничных артинско-кунгурских отложений юго-восточного края Соль-Илецкого свода по данным глубокого бурения // Палеонтология и стратиграфия перми и триаса Северной Евразии: Мате­ риалы V Междунар. конф., посвященной 150-летию со дня рождения В.П. Амалицкого (1860–1917). – М.: Палеонтологический институт им. А.А. Борисяка РАН, 2010. – С. 132–136. Раузер-Черноусова Д.М. Стратиграфия верхнекаменноугольных и артинских отложений Башкирского Приуралья // М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Вып. 105. – С. 3–21. (Труды Ин-та геол. наук АН СССР). Чувашов Б.И., Дюпина Г.В., Мизенс Г.А. и др. Опорные разрезы верхнего карбона и нижней перми западного склона Урала и Приуралья. – Свердловск: УрО АН СССР, 1990. – 369 с. 253 Р.Р. Хасанов, Ю.П. Балабанов Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ПАЛЕОГЕОГРАФИЯ ВОСТОКА ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ПЛАТФОРМЫ НА РУБЕЖЕ ПЕРМИ И ТРИАСА 254 Во второй половине пермского периода и в начале триаса на востоке Восточно-Европейской платформы произошли кардинальные палео- и зоогеографические перестройки. Эти изменения находят отражение в условиях и характере осадконакопления. Завершающие разрез палеозоя пермские отложения характеризуются пестротой литолого-фациального состава и проявлениями специфических осадочных образований, являющихся индикаторами различных типов литогенеза (сульфат-карбонатные породы, угли, медистые песчаники и сланцы и др.). Совокупность признаков позволяет считать, что основными факторами изменения палеогеографических условий являются климат и тектоника. В конце палеозоя на рассматриваемой территории происходили крупные климатические изменения и смена режимов осадконакопления. В течение пермского периода деградировали и полностью исчезли внутриматериковые моря, широко распространенные в каменноугольном периоде. Рассматриваемый отрезок геологического прошлого относится к холодному периоду. Карбон-пермское оледенение, охватившее преимущественно южное полушарие, достигло своего пика примерно 280–300 млн лет назад (Ершов, 1996). В периоды максимального развития площадь материковых ледников достигала 35–45 млн км2. Изменение размеров ледникового покрова могло приводить к значительным колебаниям уровня Мирового океана и, как следствие, эпиконтинентальных морей. Цикличность оледенения находила также отражение в изменениях климата на региональном уровне (Хасанов, 1999). Связь внутриконтинентального моря с Мировым океаном временами могла прерываться, что вело к его усыханию, обмелению и образованию эвапоритовых бассейнов (раннепермские сульфат-карбонатные толщи). Таяние горных ледников на Урале в периоды потепления приводило к увеличению стока воды и выносу терригенного материала на равнину. Так образовалась красноцветная уфимская моласса, перекрывшая осадки раннепермского солеродного бассейна. Климатические изменения сопровождались кратковременными трансгрессиями и регрессиями внутриконтинентального моря. Наиболее крупная трансгрессия относится к казанскому веку с максимумом в байтуганско-камышлинское время. Казанская трансгрессия осложнялась эвстатическими колебаниями более мелкого порядка, что нашло отражение в известной ритмичности верхнеказанских отложений (Стратотипы…, 1998). Следствием казанской трансгрессии местного значения стали гумидизация условий осадконакопления и возникновение торфяников на прибрежных равнинах (пермское торфоугленакопление) в Волго-Уральском регионе. Климат отличался сильной контрастностью. На некотором удалении от побережья в сторону Урала (восточнее современного русла Вятки) расстилалась область красноцветной седиментации, рассекаемая руслами многочисленных водотоков, носивших, по всей видимости, временный характер. В аллювии, заполняющем их палеоврезы, обнаруживаются многочисленные находки фоссилизированной древесины. К концу казанского века единый бассейн распадается на отдельные водоемы. В начале татарской эпохи на платформе устанавливается континентальная обстановка (Сементовский, 1979). Потепление климата в конце пермского периода привело к смягчению и гумидизации климата в раннетатарское время. Увеличение количества выпадаемых осадков и таяние горных ледников привели к возрастанию стока воды на равнину и, как следствие, к формированию пресноводных осадков на обширной территории. По мнению В.И. Игнатьева (1976), в уржумское время происходит слияние изолированных реликтов казанского моря в единый пресноводный бассейн с образованием моря–озера. Однако образование татарских отложений происходило, по всей видимости, в условиях многочисленных озер в результате неоднократных половодий, а также в руслах постоянных и временных водотоков. В триасе на рассматриваемой территории установились континентальные условия, и осадконакопление практически прекратилось. В полном соответствии с палеоклиматическими находятся и палеомагнитные данные, полученные по многочисленным разрезам верхней перми востока Восточно-Европейской платформы (Храмов и др., 1982). Палеогеографическая обстановка в позднем карбоне – перми определялась меридиональным дрейфом Восточно-Европейской плиты в северном направлении вкрест общепланетарных климатических поясов (Геология…, 2003). В пермском периоде рассматриваемая территория располагалась в низких широтах (20–25°) северного полушария Андреичев В.Л., Ронкин Ю.Л., Лепихина О.П., Литвиненко А.Ф. Изотопный возраст пермо-триасового базальтового магматизма Полярного Предуралья: Rb-Sr и Sm-Nd данные // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2007. Т. 15. № 3. – С. 22–31. Балабанов Ю.П. Палеомагнитная характеристика базальтов нижнего триаса бассейна реки Адьзва // Материалы XV геологического съезда Республики Коми «Геология и минеральные ресурсы Европейского северо-востока России» (13–16 апреля 2009 г.). – Сыктывкар: Геопринт, 2009. – Т. 3.2. – С. 95–96. Буров Б.В., Боронин В.П. Палеомагнитная зона Иллавара в отложениях верхней перми и нижнего триаса Среднего Поволжья // Материалы по стратиграфии верхней перми на территории СССР. – Казань: КГУ, 1977. – С. 25–52. Геология Татарстана. Стратиграфия и тектоника. – М.: ГЕОС, 2003. – 402 с. Ершов Э.Д. Эволюция мерзлых толщ в истории Земли // Соросовский образовательный журнал. 1996. № 1. – С. 75–81. Игнатьев В.И. Формирование Волго-Уральской антеклизы в пермский период. – Казань: Изд-во КГУ, 1976. – 255 с. Миних А.В., Голубев В.К., Кухтинов Д.А., Балабанов Ю.П. и др. К характеристике опорного разреза пограничных отложений перми и триаса в овраге Жуков (Владимирская обл., бассейн р. Клязьмы) // Пермская система: стратиграфия, палеонтология, палеогеография, геодинамика и минеральные ресурсы: Сб. материалов Междунар. науч. конф. – Пермь, Пермский ГУ, 2011. – С. 133–138. Материалы III Всероссийского совещания (Игнатьев, 1976; Геология…, 2003), переместившись из влажной тропической зоны в зону сухих субтропиков, расположенных на широте 20–30°. Палеомагнитологами ВНИГРИ во главе с А.Н. Храмовым убедительно показано, что в это время здесь преобладало смещение географических параллелей с северо-востока на юго-запад. На фоне этого смещения наблюдались иногда и обратные движения палеоширот. Изменению положения палеоширот отвечал определенный режим колебательных движений на платформе (относительный подъем и опускания суши), что, по всей видимости, стало отражением колебаний уровня моря в связи с описанными выше климатическими изменениями. Так, в начале пермского периода продвижение палеоширот на юго-запад сопровождалось опусканием суши (подъмом уровня моря). В кунгурский век движение палеоширот изменялось на обратное и совпадало со значительным поднятием территории относительно уровня моря. Начало казанского века характеризовалось смещением палеоширот вновь к юго-западу, а на платформе отмечалось существенное погружение, приведшее к образованию обширного морского бассейна. На рубеже казанского и уржумского веков ситуация вновь изменяется на обратную – граница аридной зоны продвигается на северо-восток, а платформа испытывает новое «поднятие». И наконец, в северодвинский век границы аридной зоны смещаются к юго-западу и занимают прежнее положение, а на платформе возникает серия неглубоких пресноводных озер и речных половодий («татарское» озеро-море). Установленное А.Н. Храмовым положение палеоширот для позднего палеозоя резко отличалось от современного – виртуальный геомагнитный полюс располагался в это время в северо-западной части Тихого океана, а восток Восточно-Европейской платформы находился преимущественно между палеомагнитными широтами 30 и 10° (в зоне аридного климата), периодически смещаясь относительно них в среднем на 9–10° в юго-западном и северо-восточном направлениях. Палеомагнитные исследования на востоке Восточно-Европейской платформы, выполненные исследователями из Казанского университета на основе детального изучения опорных разрезов верхней перми и нижнего триаса, показали, что за период от уржумского до раннетриасового времени виртуальный геомагнитный полюс сместился более чем на 10° к северу. Данное смещение отразилось и на палеоширотном положении исследованной территории – палеошироты были направлены с северо-запада на юго-восток под углом 50–55° к современным параллелям в конце биармийского и татарского времени и около 40° в раннетриасовое время, а сама территория располагалась в позднепермское время между 20 и 30° с.ш., а в раннем триасе – между 30 и 40° с.ш. (Буров, Боронин, 1977; Стратотипы..., 1998). Более точное положение полюса в раннем триасе получено Ю.П. Балабановым (2009) по нижнему покрову базальтов гряды Чернышева (р. Адзьва) на Европейском северо-востоке, в пределах полярноуральской части Предуральского краевого прогиба. По результатам Rb-Sr и Sm-Nd изотопного датирования возраст этих базальтов 250 млн лет, т. е. приурочен к рубежу перми и триаса (Андреичев и др., 2007). Виртуальный геомагнитный полюс располагался в западной части Тихого океана, у восточного побережья о. Хонсю (Ф° = 40°, Λ° =145°), а исследованные базальты находились на палеошироте 30°. С учетом этих данных, восток Восточно-Европейской платформы должен был размещаться между палеоширотами 20 и 30° с.ш. Следует также отметить, что характерной особенностью глинистых образований нижнего триаса и, как показали последние исследования (Миних и др., 2011), образований терминальной перми является широкое развитие в них почвенных горизонтов, свидетельствующих о гумидизации климата. 255 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео256 Сементовский Ю.В. Условия образования месторождений минерального сырья в позднепермскую эпоху на востоке Русской платформы. – Казань: Тат. книж. изд-во, 1973. – 256 с. Стратотипы и опорные разрезы верхней перми Приказанского района: Материалы к междунар. симп. «Верхнепермские стратотипы Поволжья». – М.: ГЕОС, 1998. – 105 с. Хасанов Р.Р. Геохимическая эволюция позднепермского осадочного бассейна Волго-Камского ре­ гиона // Док. Междунар. симп. «Верхнепермские стратотипы Поволжья» (28 июля – 3 августа 1998 г.). – М.: ГЕОС, 1999. – С. 151–156. Храмов А.Н., Гончаров Г.И., Комиссарова Р.А. и др. Палеомагнитология / Под ред. А.Н. Храмова. – Л.: Недра, 1982. – 312 с. М. Хорачек, А.С. Бяков, Ю.Д. Захаров, C. Рихоз ПРОБЛЕМА ГРАНИЦЫ ПЕРМИ И ТРИАСА В МОРСКИХ ФАЦИЯХ СИБИРИ (В СВЕТЕ ПЕРВЫХ ИЗОТОПНО-УГЛЕРОДНЫХ ДАННЫХ ПО РАЗРЕЗУ реки СЕТОРЫМ, ЮЖНОЕ ВЕРХОЯНЬЕ) Впервые получены результаты определений изотопного состава органического углерода в 235 образцах аргиллитов, отобранных из пограничных пермо-триасовых (PTB) отложений имтачанской и некучанской свит известного разреза на правобережье р. Сеторым (руч. Суол, бас. р. Восточная Хандыга). Анализы выполнены с применением масс-спектрометра Finnigan MAT 251 в Университете Карла-Франца (Грац, Австрия). Исследованный PTB интервал разреза представлен преимущественно темно-серыми аргиллитами с несколькими прослоями глинистых и тонкозернистых песчаников. Полученная кривая δ13Сорг почти идентична таковым разрезов Евразии и Северной Америки, исследованных геохимическим методом. Наиболее высокие значения δ13Сорг, от –29 до –26,3 ‰ установлены в нижней части исследованного интервала (верхняя часть имтачанской свиты, отвечающая верхней части подзоны Postevenicum, и базальные слои некучанской свиты, соответствующие нижней части слоев с Otoceras concavum зоны Boreale). В последующем интервале некучанской свиты, соответствующем верхней части слоев с Otoceras concavum, обнаружено резкое снижение значений δ13Сорг, свойственное базальным слоям индского яруса триаса. В этом четырехметровом интервале установлены три негативных изотопно-углеродных экскурса (рисунок). Первый из них (δ13Сорг = –30,2 ‰) обнаружен в основании интервала, второй (–30,1 ‰) в 1,8 м выше, третий (–30 ‰) вблизи верхней границы слоев с Otoceras concavum. Интервал с негативными экскурсами резко сменяется в разрезе интервалом с более высокими значениями δ13Сорг, флюктуирующими чаще всего между –28,6 и –28‰. Последний экскурс соответствует верхней части зоны Boreale и всему объему зоны Morpheos. Корреляция по изотопно-углеродным данным свидетельствует о том, что PTB в разрезе Сеторым приходится на интервал с негативными изотопно-углеродными аномалиями и, вероятнее всего, близко соответствует первому экскурсу, установленному в основании верхнего подразделения слоев с Otoceras concavum, что совпадает с появлением (FAD) цератитов Tompophiceras pascoei – типичного индекса грисбахского яруса Бореальной области. Судя по изотопным данным, PTB в Сибири (Бореальная область), в отличие от Гималаев, располагается в пределах Otoceras-содержащих слоев. Это свидетельствует, очевидно, о позднепермском возрасте нижней части слоев с Otoceras concavum зоны Boreale, что соответствует палеонтологическим данным, недавно полученным по разрезу Файскегрэв в Гренландии. Новые палеонтологические и изотопные данные позволяют предполагать, что только два рода аммоноидей (Episageceras, как было опубликовано нами ранее, и Otoceras) пережили массовое вымирание на рубеже перми и триаса. Район р. Сеторым расположен вблизи мест излияния сибирских трапповых базальтов, наиболее цитируемых в качестве возможного спускового механизма массового вымирания. Однако полученная кривая, фиксирующая особенности изменений изотопного состава аргиллитов PTB интервала в этом регионе, судя по корреляции, не отражает каких-либо явно локальных изменений, связанных с этим явлением. Работа выполнена при поддержке РФФИ и ДВО РАН, проекты 11-05-00053, 11-05-00785а, 11-05-98569-р_восток, 11-05-98538-р_восток, 12-III-А-08-189 и Independent Research Program of AIT. Материалы III Всероссийского совещания Распределение остатков фауны и вариации содержания изотопа δ13С в аргиллитах пограничных отложений перми и триаса на р. Сеторым, Южное Верхоянье 257 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео258 Дагис А.С., Архипов Ю.В., Трущелев А.М. Экскурсия 054. Пермские и триасовые отложения Якутии // 27-й Междунар. геолог. конгресс. Якутская АССР, Сибирская платформа. Сводный путеводитель экскурсий 052-055. – Новосибирск: Наука, 1984. – С. 72–89. Захаров Ю.Д. Otoceras Бореальной области // Палеонтол. журн. 1971. № 3. – С. 50–59. Dagys A., Ermakova S. Induan (Triassic) ammonoids from North-Eastern Asia // Rev. Palaeobiol. 1996. Vol. 15. N 2. – P. 401–447. Zakharov Y.D. Ammonoid Succession of Setorym River (Verkhoyansk Area) and Problem of Permian – Triassic Boundary in Boreal Realm // J. of China Univ. of Geosci. 2002. Vol. 13. N 2. – P. 107–123. В.С. Цыганко ЗОНАЛЬНАЯ БИОСТРАТИГРАФИЯ ДЕВОНА РОССИИ ПО РУГОЗАМ Девон является периодом максимального расцвета фауны кораллов ругоз. Высокая степень изученности этой группы фауны обусловила активное ее использование для расчленения и корреляции разрезов системы на территории большинства регионов России. Выделение приводимых ниже провинциальных и местных зон по ругозам основывается на материалах исследований Э.З. Бульванкер, К.А. Ермаковой, Р.А. Жаворонковой, В.А. Желтоноговой, В.А. Ивании, А.Г. Кравцова, Г.В. Лахова, Ю.И. Оноприенко, Е.Д. Сошкиной, Н.Я. Спасского, В.А. Сытовой, Л.М. Улитиной, В.С. Цыганко, М.В. Шурыгиной и др. Нижний девон. Лохковский ярус. На западном склоне Урала ругозы приурочены к мелководношельфовым глинисто-карбонатным образованиями, а также к развитым в виде редкой цепочки вдоль восточной окраины Русской платформы биогермным и рифовым постройками. На Южном и Среднем Урале ярус представлен сиякским (= зоне Neomphima originata (Soshk.) и шерлубайским (= зоне Pseudamplexus subbrevis Shur.) горизонтами. На севере Урала зона Neomphima originata (Soshk.) установлена только в нижней части яруса, соответствующей овинпармскому горизонту. На Салаире аналогичная зона отвечает томьчумышскому горизонту, а на восточном склоне Урала – сарайнинскому горизонту. Залегающий выше саумский горизонт содержит ругозы зоны Stylopleura quadripartitus (Soshk.). На этом же уровне на Новой Земле появляется первый девонский комплекс ругоз зоны Nardophyllum clarum Kravtsov в отложениях горизонта губы Моржовая. На Салаире ярус венчает крековский горизонт с ругозами зоны Pseudotryplasma altaica (Dyb.). Ругозы этой же зоны выявлены в урюмских слоях устьтарейского горизонта на Таймыре. В пределах Верхояно-Чукотской складчатой области морские отложения тихоручьевского горизонта охарактеризованы ругозами зоны Spongophylloides tenuiseptatum Kravtsov. Пражский ярус на Урале характеризуют ругозы зоны Chlamidophyllum obscurum (Pocta) (западный склон) и Embolophyllum irgislense (Soshk.) (восточный склон). На Новой Земле этот же интервал представлен зоной Zonophyllum polaricum (Krav.), Camurophyllum camurum Krav., а на Салаире – зоной Taimyrophyllum gracile Zhelt. На Таймыре отвечающая ярусу нижняя часть злобинского горизонта в составе даксанских и юнходских слоев охарактеризована ругозами зоны Pseudotryplasma bimorphoseptata Krav., Embolophyllum aggregatum (Hill). В Верхояно-Колымской области в белякском горизонте широко представлена местная зона Pseudotryplasma altaica (Dyb.), Taymirophyllum speciosum Tchern. Эмский ярус характеризуется существенным увеличением разнообразия ругоз, комплексы которых значительно различаются в нижнем и верхнем подъярусах. В первом из них в морских карбонатных образованиях западного склона Урала в качестве зональных могут рассматриваться виды Aculeathophyllum uralicum Zhav. и Lyrielasma petschorense (Soshk.). Соответствующий интервал на восточном склоне Урала представлен зоной Neocolumnaria vagranensis Soshk., Xystriphyllum prismaticum (Soshk.), а на Новой Земле – зоной Radiastraea novozemelica (Krav.), Acanthophyllum alatum Krav. Двумя зонами представлен нижний эмс на Салаире: Acanthophyllum breviforme Zhelt. (салаиркинский горизонт) и Fasciphyllum urense Zhmaev (беловский горизонт). На Таймыре ругозы на данном уровне практически отсутствуют. На Колыме нижний эмс (вечернинский горизонт) охарактеризован ругозами зоны Lyrielasma petschorense (Soshk.). Близкие по характеру отложения койвенского и бийского горизонтов верхнего эмса западного склона Урала и Русской платформы содержат ругозы зоны Mansuyphyllum soetenicum Материалы III Всероссийского совещания (Schlut.). На восточном склоне Урала ей отвечает зона Lyrielasma halliaforme (Soshk.) из тальтийского горизонта, на Новой Земле – зона Spongonaria ampullaceal Lach. из нижней части кабанинского горизонта, а на Салаире – зона Arcophyllum, Thamnophyllum rzonsnickajae Bulv., характеризующая шандинский горизонт. В Верхояно-Чукотской области данный интервал охарактеризован ругозами зоны Mansuyphyllum soetenicum (Schlt.), M. maximum Spassky. Средний девон. Эйфельский ярус характеризуется расширением биогеографических связей между регионами, выразившееся в распространении на территории большинства их в качестве зональной формы вида Dendrostella trigemme (Quenst.). В качестве второй зональной формы на восточном склоне Урала принят вид Columnaria devonica Bulv., на Салаире – Mycophyllum difficile Zhelt., а в Верхояно-Чукотской области – Crypophyllum gracile Wdkd. Живетский ярус. В живете биогеографические связи между регионами несколько ослабли. Тем не менее отложения нижнего подъяруса в ряде регионов (Русская платформа, Урал) охарактеризованы сходными зональными комплексами ругоз зоны Neospongophyllum isactis (Frech.). На южном острове Новой Земли верхняя часть черногубского горизонта, а в ВерхояноЧукотской области вояхский горизонт содержат ругозы зоны Neostringophyllum waltheri (Yoh). На Алтае, Силаире и в Кузбассе отложения данного уровня охарактеризованы ругозами зоны Dialythophyllum annulatum (Peetz). Обедненный комплекс ругоз зоны Disphyllum paschiense (Soshk.) установлен в верхнеживетском подъярусе на Русской платформе, на западном склоне Урала, в Кузбассе и Верхояно-Чукотской области. На Новой Земле отложения подъяруса достоверных остатков ругоз не содержат, а на Алтае этот уровень представлен ругозами зоны Altaiophyllum belgebaschicum Iv., Phyllipsastrea carinata Bulv. Верхний девон. Франский ярус. Вследствие обширной трансгрессии моря франский век характеризуется существенным расширением биотопов ругоз. Однако усиление различий в условиях осадконакопления и, естественно, в условиях обитания ругоз привели к разновременному появлению одних и тех же форм в различных регионах, что затрудняет выявление четких коррелятивных уровней между ними. На Русской платформе для мелководных отложений Российского надгоризонта в качестве зональных могут рассматриваться Macgeea mutizonata (Reed) и M. solitaria (Hall et Withf.); для нижней и верхней частей донского надгоризонта – соответственно зоны Thamnophyllum virgatum Soshk., Frechastrea micrommata (Roem.) и Peneckiella minima (Roem.), P. evlanensis Bulv., Donia russiensis Soshk. На западном склоне Урала нижнюю часть яруса (саргаевский и доманиковый горизонты) представляет зона Thamnophyllum monozonatum (Soshk.), а верхнюю – зона Distetskae kostetskae (Soshk.), Tabulophyllum gorskii (Bulv.). На восточном склоне Урала весь ярус характеризует зона Thamnophyllum monozonatum (Soshk.). На Новой Земле низы яруса (верхняя часть жандровского горизонта) содержат ругозы зоны Disphyllum caespitosum (Goldf.), Peneckiella sachanensis Lach., а верхи (меньшиковский горизонт) – ругозы трех зон: Thamnophyllum virgatum Soshk., Disphyllum unicum (Ermac.), Peneckiella evlanensis (Bulv.). На Салаире и в Кузбассе зональные комплексы ругоз установлены в нижней части яруса (вассинский горизонт) – зона Disphyllum lazutkini (Bulv.), а также у кровли яруса: в глубокинском (зона Solominella soshkinae Iv.), соломинском (зона Peneckiella carinata Iv.) и низах пещеркинского (зона Neostringophyllum fameniense Iv.) горизонта. В Верхояно-Чукотской области зональные комплексы ругоз установлены только во фране Колымского края: в нижней части яруса – зона Thamnophyllum monozomatum (Soshk.), Neostringophyllum modicum (Smith); в верхней – Phyllipsastrea ibergensis (Roem.), Frechastrea pentagona (Goldf.). Фаменский ярус остатками ругоз охарактеризован слабо, что не позволяет наметить их биостратиграфическую зональность. Можно лишь отметить редкие находки в нижнем фамене поднятия Чернышева видов Nalivkinella profunda Soshk., Gorizdronia profunda (Soshk.) и Oligophylloides pachythecus Rozk., а на Пай-Хое – вида Nalivkinella profunda Soshk. В среднем фамене ругозы неизвестны, а в верхнем фамене их единичные находки выявлены на Приполярном Урале (Neaxon tenuiseptatus Weyer). На этом же уровне более многочисленные находки ругоз выявлены в элергетинской свите Омолонского массива на северо-востоке Сибири: Tabulophyllum latetabulatum Onopr., T. simplex Onopr., Protocaninia cylindrica Onopr., Pr. parva Onopr. Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН «Происхождение биосферы и эволюция геобиологических систем» (Проект № 12-П-5-1015). 259 В.А. Цыганкова Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПАШИЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОЛГОГРАДСКОГО ПОВОЛЖЬЯ 260 В пашийское время в пределах Волгоградского Поволжья продолжали накапливаться, как и в живетском веке, преимущественно терригенные отложения. Для него характерны наиболее нестабильные, по сравнению с воробьёвским и ардатовским временем, условия седиментации, изменяющиеся от мелководно-морских до прибрежных. В отличие от существенно кварцевых песчаников живетского яруса, в литологическом составе пашийских отложений намечается чёткая субширотная зональность, обусловленная проявлением с раннепашийского времени нового южного источника сноса, расположенного в пределах Задонского выступа фундамента. На севере Волгоградского Поволжья продолжали накапливаться кварцевые песчаники, а на юге полевошпатово-кварцевые с туфогенным материалом. В разрезе пашийских отложений выделяются нижне- и верхнепашийские отложения, отражающие циклический характер осадконакопления. Песчаники из основания циклов перекрываются глинами с прослоями алевролитов и известняков. В пашийское время, как отмечалось ранее П.А. Карповым, Г.П. Батановой и др. (Алиев, Батанова и др., 1978), осадконакопление происходило в мелководном опреснённом бассейне с неустойчивой береговой линией, с многочисленными временно возникающими мелкими островами, сетью лагун, озёр и пр. Небольшие острова резко отличаются от крупных, близких к материкам, они «…теснейшим образом связанные с морем, вызывают изменения в составе морских отложений и не сопровождаются образованием континентальных отложений. Небольшие острова близки к банкам» (Наливкин, 1956). В пашийских отложениях остатки фауны малочисленны, представлены они в основном замковыми и беззамковыми брахиоподами, реже гастроподами, криноидеями и двустворками, но на плоскостях наслоения в изобилии встречаются остатки углефицированной растительности, реже линзочки угля (до 0,7 см). Пашийские отложения отличаются от воробьёвских и ардатовских максимальной вертикальной расчленённостью, в них выделяется до 15 песчаных пластов, что обусловлено пульсационным характером седиментации. Как известно, число песчаных пластов вблизи берега мало из-за большого объёма кластики и незначительного количества глинистого материала, участвующего в переслаивании, а в глубоководных частях за счёт ограниченного количества песчаного материала. Наиболее интенсивное переслаивание наблюдается в зонах, где песчаный материал поступает периодически, как например, в речных системах или временных потоках. Максимальное число пластов в пашийских отложениях зафиксировано на севере области, в Линёвской впадине (пятнадцать пластов в скв. 7 Линёвская), а также в Ивановском прогибе (одиннадцать пластов в скв. 38 Терсинская). На юге выносы временных потоков, отражая тектонические пульсации, сформировали шесть грубозернистых песчаных пластов (скв. 52 Октябрьская). Анализ состава песчаников пашийского возраста показал, что с севера в бассейн седиментации поступали хорошо отсортированные, мелкозернистые кварцевые зёрна, а с юга мелкосредне-крупнозернистые с гравием полимиктово-туфогенные разности. На севере, где развиты кварцевые (95–98 %) с единичными (2–3 %) зёрнами полевых шпатов песчаники, главными аутигенными минералами являются вторичный кварц (80 %), кальцит (15–17 %) и каолинит (2–5 %). Здесь, помимо регенерационных каёмок на зёрнах, встречаются и идиоморфные кристаллы кварца, свидетельствующие о значительной первичной пористости осадка, накопление которого происходило в условиях развития Ивановско-Линёвской авандельты, распространявшейся по понижениям палеорельефа: в Ивановском прогибе и Линёвской мульде. В песчаниках отмечена веерообразная, сходящаяся и перекрёстная слоистость, характерная (Ботвинкина, 1965) для авандельтовых отложений. Хорошо промытые неглинистые мелкозернистые песчаники, участками сильно биотурбированные, характерны для отложений пляжа, точнее, нижнего пляжа, распространённого в пашийское время на севере, западе и юге исследуемой территории. Формирование осадков происходило на глубинах, не превышающих 4–6 м (Рейнек, Сингх, 1981). Восточнее, в пределах Приволжского мегавала, отделяющего Доно-Медведицкий прогиб центральной части Волгоградского Поволжья от Прикаспийской впадины, состав песчаников Материалы III Всероссийского совещания практически не меняется, но в них появляется алевритовая и глинистая примесь. По глинам развиты мелкие кристаллы сидерита. В прослоях и линзах, лишённых глинистой примеси, наблюдается окварцевание или кальцитизация базального типа. В пределах Приволжского мегавала существовала зона, переходная от пляжа к шельфу Прикаспийского бассейна. Здесь седиментация происходила на глубинах более 6 м (Рейнек, Сингх, 1981). В северной части Доно-Медведицкого прогиба (в Умётовско-Линёвской впадине) пашийские отложения глинизированы. Глинистые минералы представлены каолинитово (50 %)-гид­ рослюдистой (50 %) ассоциацией. Обилие каолинита подтверждает наличие авандельтовых проток, приносивших с суши продукты выветривания, накопление которых происходило в понижениях рельефа дна мелководного бассейна седиментации. В зоне влияния южного источника сноса (скважины 47 Усть-Погожская, 52 Октябрьская) вскрыты песчаники зеленовато-серые разнозернистые, прослоями грубозернистые до мелкогравийных. Породы представлены толщей переслаивания: песчаников туфогенных, линзовидно окварцованных; песчаников глинистых полевошпатово-кварцевого состава; кристаллокластических туфов, сильно изменённых, кальцитизированных, содержащих обломки резорбированных и растресканных кристаллов кварца, каолинизированных полевых шпатов, хлоритизированного вулканического стекла и обломков эффузивов. Цемент в основном кальцитовый, пойкиллитовый, участками каолинитовый, прослоями гидрослюдисто-хлоритовый, по которому развит сидерит. Песчаники сформированы временными потоками большой энергии, о чём свидетельствуют однонаправленная косая слоистость с углами наклона слоёв до 25–30° к горизонтали, а также плохая сортировка и грубозернистость кластического материала. На восточном склоне Приволжского мегавала (скв. 4 Николаевская) вскрыты песчаники светло-серые, мелкозернистые, алевритистые кварцевого состава. В шлифах заметны хлоритовые оболочки почти на всех обломочных зёрнах. Часть пор заполнена аутигенным кальцитом, наблюдается регенерация зёрен кварца, отмечено развитие сидерита в участках с глинисто-карбонатным цементом. Глинистые минералы представлены смешанослойно (10 %)-хлоритово (10 %)-коалинитово (20 %)-гидрослюдистой (60 %) ассоциацией. Песчаное тело типа песчаного вала, вскрытое скв. 4 Николаевская, представляет собой линзу, ориентированную субмеридионально вдоль склона мегавала. Хотя туфогенный материал с юга не достигал этой зоны, но наличие хлорита, каолинита и смешанослойных минералов в составе глин свидетельствует, повидимому, о значительном содержании в водах бассейна продуктов вулканической деятельности. Таким образом, в пашийское время в пределах Волгоградского Поволжья на севере области унаследованно с живетского века существовали условия, благоприятные для развития авандельтовых комплексов. Кратковременные мелководно-морские условия седиментации сменялись кратковременными прибрежно-континентальными, в результате чего фауна в разрезах почти отсутствует, но углефицированный растительный детрит встречается постоянно, что обусловлено широким распространением мелких островов с богатой растительностью, разраставшейся в периоды понижения уровня моря и захоронявшейся во время повышения уровня морских вод. Увеличение количества органических остатков в восточном направлении обусловлено, видимо, связью с морским бассейном Прикаспия. Литолого-фациальный анализ свидетельствует о максимальной мелководности и об усилении регрессивного характера осадконакопления пашийских отложений, а также о закономерном усилении тектонической активности недр, характерной для завершающего этапа каледонского цикла тектогенеза, проявившегося на исследуемой территории в пашийское время активизацией Задонского выступа фундамента. В настоящее время граница между живетским и франским ярусами на территории России проводится в основании пашийских отложений, тогда как в Международной стратиграфической шкале принят более высокий уровень границы живетского и франского ярусов. В палинологических работах рассматривается несколько возможных уровней верхней границы живетского яруса на Русской платформе. Наиболее приемлема граница в основании кикинских слоев тиманского горизонта, которая была предложена в 1990 г. М. Раскатовой как один из вариантов (Манцурова, 2008). В осадочном чехле Русской платформы выделена (Иголкина и др., 1981) прибрежно-континентальная глинисто-песчаная формация, включающая старооскольско-пашийские отложения, нижняя её граница проводится по исчезновению морских отложений (в Волгоградском Поволжье – черноярских глин эйфельского яруса), а верхняя определяется появлением прослоев известняка (в верхнепашийских отложениях и арчединских в основании кикинских слоёв тиманского горизонта). 261 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия Проведённые литолого-фациальные исследования подтверждают правомочность именно этого уровня, так как обычно наибольшая активизация тектонических движений приурочена к завершающему циклу седиментации, в нашем случае живетскому, который должен включать и пашийское время как наиболее тектонически активное. 262 Алиев М.М., Батанова Г.П., Хачатрян Р.О. и др. Девонские отложения Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. – М.: Недра, 1978. – 216 с. Ботвинкина Л.Н. Методическое руководство по изучению слоистости // Тр. ГИН. 1965. Вып. 119. – 260 с. Иголкина Н.С., Кириков В.П., Кочин Г.Г. и др. Геологические формации осадочного чехла Русской платформы. – Л.: Недра, 1981. – 168 с. (Труды Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-та. Т. 296). Манцурова В.Н. Биостратиграфия живетских отложений Волгоградского Поволжья по миоспорам // Палинология: стратиграфия и геоэкология: Материалы XII Всерос. палинол. конф. Т. III. – СПб.: ВНИГРИ, 2008. – С. 52–59. Наливкин В.Д. Учение о фациях. Географические условия образования осадков. – М.–Л.: АН СССР, 1956. – 536 с. Рейнек Г.Э., Сингх И.Б. Обстановки терригенного осадконакопления (с рассмотрением терригенных кластических осадков): Пер. с англ. – М.: Недра, 1981. – 439 с. В.В. Черных, Б.И. Чувашов КОНОДОНТОВАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА ВЕРХНЕГО КАРБОНА – НИЖНЕЙ ПЕРМИ УРАЛА И ЗАДАЧИ ДАЛЬНЕЙШИХ СТРАТИГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ К систематическому изучению конодонтов верхнего карбона – нижней перми лаборатория стратиграфии и палеонтологии Института геологии и геохимии УрО РАН приступила в 1981 г. по инициативе одного из авторов настоящего сообщения Б.И. Чувашова. В течение последующих 30 лет выполнена основная задача, которая была поставлена в начале пути – разработать зональную шкалу гжельского яруса верхнего карбона и зональную шкалу нижней перми для Уральского региона. Попутно решалась и другая задача, связанная с выбором стратотипических разрезов и обоснованием границ ярусов нижней перми для включения их в Международную стратиграфическую шкалу. Сформулированы основные требования, которые необходимо учитывать при построении биохронологической зональной шкалы (Черных, 1995, 2002). Корректно построенная зональная шкала должна быть непрерывной, универсальной (иметь высокий корреляционный потенциал), границы зональных подразделений шкалы должны быть строго (однозначно) определены, элементарная шкала, содержащая не менее трех зон, должна быть установлена на одном или немногих близко расположенных разрезах. Непрерывность шкалы наилучшим образом обеспечивается использованием в качестве базиса эволюционной последовательности ископаемых, принадлежащих к одной фратрии. В частности, для конодонтовых шкал мы использовали эволюционные тренды изменения морфологии Ра элементов. Универсальность шкалы достигается в первую очередь тем, что для ее построения привлекается ортостратиграфическая группа ископаемых. Однако основным способом универсализации зональной шкалы является создание комплексной характеристики зональных подразделений (Черных, 2002). Строгая маркировка зональных границ обеспечивается их совмещением с элементарными эволюционными событиями – уровнями возникновения видовых таксонов или формальных видов при построении мерономических конодонтовых шкал (Черных, 2008). Использование качественно определенных событий для проведения зональных границ обеспечивает их линейность и однозначность положения на шкале. При построении конодонтовых зональных шкал нами в качестве инициальной использована существующая зональная биостратиграфическая шкала, сконструированная по результатам изучения фузулинид. Вначале были выделены ассоциации конодонтов в границах зональных Материалы III Всероссийского совещания подразделений фузулинидовой шкалы (Чувашов и др., 1983). Это позволило выявить хронологическую последовательность отдельных морфотипов конодонтов и их комплексов. Последующее послойное изучение конодонтов и установление их стратиграфического распределения по разрезу дали возможность выявить морфологические тренды гжельских и ассельских стрептогнатодонтид. Эти данные и легли в основу зональной конодонтовой шкалы гжельского и ассельского ярусов. Начиная со среднего асселя, стрептогнатодусовая последовательность дублируется и наращивается морфологическим трендом представителей рода Mesogondolella. Менее протяженные тренды, установленные по результатам изучения конодонтов, относящихся к родам Sweetognathus и Neostreptognathodus, были положены в основу построения зональной шкалы для сакмарского, артинского и кунгурского ярусов. Зональная шкала гжельского яруса верхнего карбона (рисунок). Зональная шкала для верхней части касимовского и гжельского ярусов предложена нами в 2000 г. по результатам изучения конодонтов в разрезах Усолка и Никольский (Черных, 2000). Эта шкала оказалась актуальной в приложении к разрезам Подмосковья и Среднего Поволжья. Зональные подразделения выделены нами в традиционном для конодонтовой стратиграфии ключе: нижние границы зон устанавливаются по уровням возникновения определенных видов-индексов. Такие зоны принято называть интервал-зонами, если виды-индексы не образуют эволюционной последовательности. В отдельных случаях такая последовательность может быть указана для гжельских видов – индикаторов нижних границ зон. Так, cтратиграфический ряд S. vitali – S. virgilicus – S. bellus – S. wabaunsensis может рассматриваться как эволюционная последовательность названных видов. Одноименные зоны, установленные по таким последовательным видам-индексам, точнее квалифицировать как филозоны. Последовательность видов-индексов S. firmus, S. simulator и S. vitali не обнаруживает преемственности в морфологических признаках ее членов и, по-видимому, не является эволюционным трендом. Эта последовательность использована для установления зон в верхней части касимовского и нижней части гжельского ярусов. Выделенные здесь зональные подразделения являются интервал-зонами. Однако если убрать из общего названного выше ряда вид S. simulator Ellison, введенного в него только для идентификации нижней границы гжельского яруса, то последовательность S. firmus – S. vitali – S. virgilicus – S. bellus – S. wabaunsensis можно считать эволюционным трендом, и соответствующие зональные подразделения будут квалифицироваться как филозоны. Существенный недостаток шкалы, составленной из этих зон, состоит в наличии разрыва между стратозонами firmus и vitali и невозможности определить по ней нижнюю границу гжельского яруса. Для его устранения необходимо найти промежуточный морфотип между видами S. firmus Kozitskaya и S. vitali Chern. Стратиграфическая последовательность видов, использованная в качестве базы для разработки зональной шкалы гжельского яруса, отличается одной важной особенностью – в ней смежные виды-индексы имеют частично перекрывающиеся интервалы. Это обеспечивает хронологическую непрерывность предложенной зональной шкалы. Все виды-индексы, использованные для построения шкалы, имеют глобальное распространение и обеспечивают корреляцию стратиграфических подразделений гжельского яруса Урала с одновозрастными образованиями европейской части России, США, Канады, Китая. Зональная шкала нижней перми (таблица). Для построения зональной шкалы нижней перми по конодонтам было использовано несколько южноуральских разрезов. Разрез Усолка и дублирующий его разрез по руч. Дальний Тюлькас вскрывают непрерывную серию отложений ассельского, сакмарского и артинского ярусов до иргинского горизонта включительно. Усольский разрез является паралимитотипом нижней границы ассельского яруса, а Тюлькасский предлагается нами в качестве лимитотипа нижней границы артинского яруса. Разрез близ ст. Кондуровка использован в качестве лимитотипа нижней границы сакмарского яруса. Артинско-кунгурская часть представлена в разрезе близ с. Мечетлино, где нами предлагается лимитотип нижней границы кунгурского яруса. Корреляционный потенциал предложенной шкалы позволяет сопоставить ярусные границы верхнего карбона и нижней перми Урала с одновозрастными стратиграфическими уровнями территорий Европейской части России, Ирана, США, Канады, Боливии и Южного Китая (Черных, 2006). Определение нижних границ ярусов. Основным инструментом определения стратиграфической границы является ее биохронотип, который извлекается из зональной шкалы. Биохронотипом стратиграфической границы мы называем эволюционную последовательность видов-индексов, в пределах которой находится интересующая граница стратона. Эта граница, совмещенная в стратотипическом разрезе с одной из границ зонального подразделения используемой шкалы, может быть затем опознана и во всех других разрезах. Закрепление положения стратиграфической границы на зональной шкале считается корректным, если в стратотипи- 263 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео264 Зональная шкала гжельского яруса ческом разрезе устанавливается последовательность (как минимум) трех зон, внутри которой располагается определяемая граница стратона (яруса). Иными словами, корректным биохронотипом стратиграфической границы является элементарная зональная биохронологическая шкала, внутри которой лежит искомая граница (Черных, 2005, 2008). Такая процедура маркировки нижней границы яруса полностью отвечает требованиям Международной комиссии по стратиграфии по установлению «точки глобального стратотипа границы», которая и принимается за стандарт для определения нижней границы ярусных подразделений Международной стратиграфической шкалы. Иренский Филипповский Саранинский Артинский Саргинский Иргинский Сакмарский Бурцевский Стерлитамакский Тастубский Фораминиферы Конодонты Parafusulina aff. solidissima – Nodosaria sexangulata Neostreptognathodus imperfektus Nodosaria pugioidea Neostreptognathodus clinei Hemigordius saranaensis Parafusulina solidissima Pseudofusulina juresanensis – Eoparafusulina lutugini Pseudofusulina pedissequa – Pseudofusulina concavutas Pseudofusulina urdalensis Pseudofusulina verneuili – Eoparafusulina tschernyschewi Pseudofusulina moelleri Холодноложский Ассельский Шиханский Sphaeroschwagerina sphaerica – Globifusulina firma Pseudoschwagerina uddeni Sphaeroschwagerina moelleri – Globifusulina fecunda Globifusulina nux Sphaeroschwagerina fusiformis Радиолярии Ruzhencevispongus uralicus Neostreptognathodus pnevi Neostreptognathodus pequopensis Polyentactinia lautitia Sweetognathus clarki – S. aff. ruzhencevi Tetracircinata reconda Sweetognathus whitei Sweetognathus binodosus Sweetognathus merrilli S. postfusus – S. barskovi S. fusus S. constrictus Mesogondolella bisselli Entactinosphaera crassicalthrata – Quinqueremis arundinea Rectotormentum fornicatum Camptoalatus monopterygius M. visibilis M. lata Mesogondolella uralensis Entactinia pycnoclada – Tormentum circumfusum Helioentactinia ikka – Haplodiacanthus perforatus Tetragregnon vimineum – Copiellintra diploacantha Mesogondolella pseudostriata Mesogondolella striata Mesogondolella simulata Материалы III Всероссийского совещания Горизонт Sweetognathus anceps Кунгурский Ярус Конодонтовые зоны нижней перми и их соотношение с зонами по фузулинидам и радиоляриям (по Chuvashov B.I., Chernykh V.V., Amon E.O., 2004, с дополнениями) Haplodiacanthus anfractus Mesogondolella belladontae S. sigmoidalis S. cristellaris Streptognathodus glenisteri – S. isolatus Палеонтологическая основа для построения эффективного конодонтового биохронотипа – морфологические тренды, составленные из последовательных стадий эволюционного преобразования определенного мерона (Ра элемента), гомологичного для большой группы родственных видов. Ранние члены эволюционной линии характеризуются более отчетливо выраженной морфологической обособленностью от последующих, имеют узкое стратиграфическое и широкое географическое распространение и предпочтительны при выборе индикатора устанавливаемой границы. Так, в качестве индикатора нижней границы ассельского яруса выбран глобально распространенный морфотип S. isolatus Chern., Ritter et Wardlaw – первый член 265 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео266 ассельского тренда стрептогнатодонтид S. isolatus – S. glenisteri – S. cristellaris – S. constrictus – S. fusus – S. postfusus, имеющий узкое стратиграфическое распространение. Это позволяет довольно точно определить положение нижней границы ассельского яруса по находке S. isolatus. Нижняя граница сакмарского яруса маркируется по уровню возникновения морфотипа Sweetognathus merrilli Kozur, который также является первым в тренде представителей этого рода, и характеризуется отмеченными выше особенностями – узким стратиграфическим диапазоном и широким территориальным распространением. Для определения нижней границы артинского яруса используется морфотип Sweetognathus whitei (Rhodes), который замыкает эволюционный тренд Sw. merrilli – Sw. binodosus – Sw. anceps – Sw. whitei. Такой выбор вида-индикатора нижней границы артинского яруса был продиктован его глобальным распространением. Однако размещение вида в конце указанной последовательности сопровождается его значительным стратиграфическим распространением, что имеет понятные неудобства при определении уровня его первого появления. Аналогичное положение наблюдается с определением нижней границы кунгурского яруса, где глобально распространенный вид-индикатор Neostreptognathodus pnevi Kozur является также замыкающим в эволюционном тренде N. clarki – N. pequopensis – N. pnevi и соответственно имеет широкое стратиграфическое распространение, что также затрудняет точное определение положения нижней границы кунгурского яруса. Основные задачи изучения конодонтовой стратиграфии верхнего карбона и нижней перми: – разработка эволюционного базиса зональной шкалы верхнего карбона; – детализация зонального расчленения артинского и кунгурского ярусов; – изотопная датировка ярусных границ по цирконам. Работа выполнена при финансовой поддержке УрО РАН (проект № 12-У-5-1007) и Президиума РАН (проект № 12-П-5-1029). Черных В.В. Зональные подразделения верхнего карбона на Южном Урале по конодонтам // Зональные подразделения карбона Общей стратиграфической шкалы России: Материалы Всерос. совещания 29–31 мая 2000 г. – Уфа: Гилем, 2000. – С. 100–101. Черных В.В. Совершенствование зональных стратиграфических шкал // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 2002. Т. 10. № 2. – С. 15–26. Черных В.В. Зональный метод в биостратиграфии. Зональная шкала нижней перми по конодонтам. – Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2005. – 217 с. Черных В.В. Нижнепермские конодонты Урала. – Екатеринбург: ИГГ УрО РАН, 2006. – 130 с. Черных В.В. Определение ярусных границ Международной стратиграфической шкалы по конодонтам // Литосфера. 2008. № 1. – С. 3–17. Чувашов Б.И., Мизенс Г.А., Черных В.В., Дюпина Г.В. Опорный разрез верхнего карбона и нижней перми центральной части Бельской впадины (Западный склон Южного Урала). Препринт. – Свердловск: УНЦ АН СССР, 1983. – 55 с. Chuvashov B.I., Chernykh V.V,, Amon E.O. Sakmarian stage of Cis-Uralian division of Permian system: biostratigraphy and correlative potential // Permophiles. Vol. 44. 2004. – P. 10–11. Б.И. Чувашов, В.В. Черных НИЖНИЙ ОТДЕЛ ПЕРМСКОЙ СИСТЕМЫ: СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ И ЗАДАЧИ БУДУЩЕГО Нижний отдел пермской системы пережил несколько этапов биостратиграфических исследований. Первый связан с использованием брахиопод и кораллов как ведущих биостратиграфических инструментов. Начало первого этапа – время путешествия Р. Мурчисона – конец тридцатых годов XIX в. Второй этап – конец тридцатых годов – семидесятые годы XX в. – широкое внедрение в биостратиграфию перми фузулинид и аммоноидей, палинологии. Третий этап – семидесятые годы – ныне – внедрение в практику биостратиграфии по конодонтам, а также изотопных методов датирования. Надо признать, что к настоящему времени в разных регионах мира используются все упомянутые методы биостратиграфии. Методы изотопной стратиграфии приобретают большее значение. Нижний отдел пермской системы в составе ассельского, сакмарского, артинского и кунгурского ярусов полнее всего изучен на территории Западного Урала и Предуралья. В тектоническом Материалы III Всероссийского совещания отношении наиболее информативна приуральская часть обширного Восточно-Европейского бассейна – Приуральское море, по классификации Б.И. Чувашова (Chuvashov, Craquin-Soleau, 2000), которое занимало относительно узкую депрессию Предуральского краевого прогиба, соединяющего бассейны области Тетис на юге с морями западного сектора Арктики. Такая позиция обеспечила широкие возможности биостратиграфической корреляции отложений этой части морей ранней перми. Во время работы Международного конгресса «Пермская система земного шара» в 1991 г. состоялась серия экскурсий по территории Урала и Русской платформы. Основные разрезы с официальными ярусными стратотипами нижнего отдела пермской системы демонстрировались в Южной и Среднеуральской экскурсиях. При обсуждении представленных разрезов было предложено выполнить доизучение нижних границ ярусов в соответствии с концепцией GSSP (обоснование границ ярусов в едином разрезе). Для этой цели была создана Международная рабочая группа. Основная работа, естественно, ложилась на российских участников. Исследования начинались с оценки стратотипов ярусов. В результате установлена полная их непригодность для решения поставленных задач. Наиболее важный стратотип нижней границы ассельского яруса и системы был доизучен и принят в разрезе «Айдаралаш» в существенно песчаниковом типе отложений (Davydov et al., 1998). Позднее были выбраны разрезы в депрессионных конденсированных отложениях осевой части Предуральского прогиба на р. Усолка у курорта и пос. «Красноусольский». Здесь были предложены ярусные стратотипы нижних границ ассельского и артинского ярусов. Стратотип основания сакмарского яруса был выбран на р. Сакмара (Черных, 2006; Чувашов и др., 1990; Чувашов, Черных, Богословская, 2002; Чувашов, Черных, 2000, 2003 и др.). Основные трудности были связаны с выбором стратотипа кунгурского яруса, который первоначально не имел стратотипа (Чувашов, 1997). В 1962 г. на Всесоюзном стратиграфическом совещании было предложено считать типовым разрезом серию обнажений на р. Сылва выше г. Кунгур, где представлены отложения саранинского горизонта артинского яруса и филипповского горизонта кунгурского яруса (по старой схеме расчленения). Обосновать ярусную границу по конодонтам в этом разрезе не представляется возможным, хотя к этому времени мы уже имели один уровень с конодонтами в основании «саранинского горизонта» (Мовшович, Коцур и др., 1989), но в этом разрезе, как показано авторами, нижняя граница кунгура почти совмещена с подошвой филипповского горизонта. Артинский ярус представлен карбонатнокремнистой серией без фузулинид и конодонтов. В конечном итоге был выбран разрез на правом берегу р. Юрюзань ниже с. Мечетлино (Чувашов и др. 1990; Чувашов, Черных, 2007). Обнаженная здесь последовательность глинистокарбонатных пород с относительно редкими пачками песчаников и единственным слоем гипсов мощностью около 5 м уникальна по составу и обнаженности. Представленный разрез нижнего кунгура содержит на многих уровнях фузулиниды, чаще представлены слои с «мелкими» фораминиферами, на ряде уровней найдены аммоноидеи, чаще выявлены уровни, содержащие конодонты. Кроме того, Мечетлинский разрез содержит представительную часть саргинского горизонта артинского яруса. Разрез доступен для посещения, вблизи него проходит асфальтовая автострада Екатеринбург – Уфа. В 2007 г. был проведен Международный полевой симпозиум с демонстрацией стратотипов ярусов нижнего отдела перми. Членам Международной подкомиссии по пермской системе были показаны стратотипы нижних границ всех ярусов: ассельского яруса в разрезе «Усолка». В этом же разрезе была показана нижняя граница сакмарского яруса. В разрезе «Дальний Тюлькас» в 7 км севернее усольского разреза демонстрировалась нижняя граница артинского яруса. На р. Сакмара была показана нижняя граница сакмарского яруса. Мечетлинский разрез демонстрировался как нижняя граница кунгурского яруса. Первые три границы были одобрены с одним замечанием. Вместо ранее предложенной исполнителями нижней границы сакмарского яруса на р. Сакмара, было предложено принять ярусный стратотип на р. Усолка. Более жестко воспринималась нижняя граница кунгурского яруса с решением «в ближайшее время сократить в этом разрезе ”четырехметровое зияние“ между границами артинского и кунгурского ярусов». В течение трех лет в том же Мечетлинском разрезе разрыв был сокращен до 70 см. Результаты опубликованы (Чувашов, Черных, 2010а). Кроме того, последние, более уточненные сведения по конодонтовой биостратиграфии были разосланы членам Подкомиссии в мае 2012 г. Авторы этой информации считают, что поставленная в 1991 г. задача выполнена и обоснование нижних границ ярусов нижней перми закончено, что закрывает «окно неопределенности» в нижнем отделе системы Международной шкалы. Кроме биостратиграфического 267 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео268 обоснования, все ярусные границы получили изотопные датировки уран-свинцовым методом по цирконам, чем мы обязаны нашим коллегам Университета г. Бойсе (США) (рисунок). В связи с полученными результатами возникают новые задачи. Конодонтовая стратиграфия эффективна для существенно терригенных отложений восточного борта ПП и для депрессионных фаций осевой его части. Отложения западного борта прогиба и обширных районов платформы расчленяются по фузулинидам. Выяснилось также значительное расхождение в уровнях появления новых конодонтовых индикаторов и ранее принятых границ по фузулинидам: конодонтовые границы расположены выше фузулинидовых. В терригенных фациях эти расхождения измеряются десятками метров, в конденсированных разрезах оси прогиба – в нескольких метрах. Границы по конодонтам прослеживаются в глобальном масштабе, границы ярусов по фузулинидам и аммоноидеям большей частью ограничены седиментационным бассейном. Длительная работа с поисками и обоснованием ярусНовые изотопные датировки ных границ выявила существенные дефекты биостратиграуран-свинцовым методом по цирконам границ ярусов нижнего отдела фической шкалы нижнего отдела пермской системы при пермской системы расчленении ярусов на горизонты. Почти все стратотипы горизонтов имели неудовлетворительное обоснование границ. Часть из них в настоящее время не существует. Обзор состояния опорных разрезов горизонтов с предложением их замены сделан ранее (Чувашов, Черных, 2010б). Один из примеров такого нововведения приведен в таблице. Важная задача будущих исследований – обоснование неостратотипа кунгурского яруса на базе того же разреза «Мечетлино». Среди мирового сообщества геологов с 1938 г. (Международный геологический конгресс) укрепилось представление о кунгуре, как о стратиграфическом интервале разреза, сложенного только эвапоритами без возможностей биостратиграфической датировки и точной корреляции. Это представление о кунгуре может быть рассеяно только созданием двуязычной монографии с описанием разнофациальной природы яруса и его достаточно высокого биостратиграфического потенциала. Другая важная задача – обоснование нижних ярусных границ отдела – начальная стадия создания обновленной стратиграфической шкалы системы. Следующая стадия определяется созданием стратотипов горизонтов также с обоснованием их границ. Ранее существовавшие горизонты утратили свое значение по разным причинам: вследствие уничтожения разреза, чаще вследствие неопределенности единой системы требований, первоначальной недостаточной палеонтологической информации разрезов. Таблица 2 Предлагаемая система горизонтов ассельского яруса Настоящее время Горизонт Фации Предлагаемый вариант горизонтного расчленения Горизонт Общая шкала Фации Глобальная шкала Горизонт Фации Региональная шкала Шиханский Рифовые Курортный Конденсированные относительно глубоководные кремнисто-карбонатно-глинистые отложения. Стратотип – р. Усолка у курорта Красноусольский Белогорский – стратотип на р. Косьва Зарифовые слоистые карбонаты Холодноложский Зарифовые фации, р. Косьва Усольский Конденсированные кремнисто-глинисто-карбонатные отложения. Стратотип – р. Усолка у курорта Красноусольский Холодноложский – стратотип на р. Косьва Зарифовые фации: слоистые карбонаты Мовшович Е.В., Коцур Х., Павлов А.М. и др. Комплексы конодонтов нижней перми Приуралья и проблемы корреляции нижнепермских отложений // Кондонты Урала и их стратиграфическое значение. – Свердловск: Ин-т геологии и геохимии УНЦ АН СССР, 1979. – С. 91–131. Черных В.В. Нижнепермские конодонты Урала. – Екатеринбург: Ин-т геологии и геохимии УрО РАН, 2006. – 131 с. Чувашов Б.И. Кунгурский ярус пермской системы. Проблемы выделения и корреляции // Стратиграфия. Геол. корреляция. 1997. Т. 5. № 3. – С. 10–28. Чувашов Б.И., Черных В.В. Кунгурский ярус Общей стратиграфической шкалы Пермской системы // Докл. РАН. 2000. Т. 375. № 3. – С. 370–374. Чувашов Б.И., Черных В.В. Разрез «Красноусольский» // Путеводитель геологических экскурсий по карбону Урала. Ч. 1. Южноуральская экскурсия. – Екатеринбург: Ин-т геологии и геохимии УрО РАН, 2002. – С. 18–33. Чувашов Б.И., Черных В.В. Биостратиграфическая и литофациальная характеристика пограничных артинско-кунгурских отложений разреза «Мечетлино» – потенциального стратотипа нижней границы кунгурского яруса Международной стратиграфической шкалы // Геология Урала и сопредельных территорий. – Екатеринбург: Ин-т геологии и геохимии УрО РАН, 2007. – С. 201–218. Чувашов Б.И., Черных В.В Модернизированная биостратиграфическая шкала нижнего отдела пермской системы // Геология и нефтегазоносность северных районов Урало-Поволжья: Сб. материалов Всерос. науч.-практич. конф., посвященной 100- летию со дня рождения проф. П.А. Софроницкого. – Пермь, 2010. – С. 121–128. Чувашов Б.И., Черных В.В., Богословская М.Ф. Биостратиграфическая характеристика стратотипов ярусов нижней перми // Стратиграфия. Геологич. корреляция. 2002. Т. 10. № 4. – С. 3–19. Chuvashov B.I., Crasquin-Soleau S. Paleogeography and paleotectonic of the jointing area between the Eastern European Basin and the Tethys Basin during Late Carboniferous (Moscovian) and Early Permian (Asselian and Artinskian) // Peri-Tethys Memoir 5, new data on Pery-Tethyan sedimentary basins. Paris. Mem. nath. Hist. nat. Vol. 182. 2000. – P. 203–238. Davidov V.I., Glenister B.F., Spinosa C. et al. Proposal of Aidaralash as Global Stratotype Section and point (GSSP) for base of the Permian System // Episodes. 1998. Vol. 21. N 1. – P. 11–8. Д.Н. Шеболкин Материалы III Всероссийского совещания В связи с приданием ряду разрезов международного корреляционного значения необходимо создать две параллельные системы горизонтов, одна из которых выполняет роль эталонов межконтинентальной корреляции, а другая служит источником региональной информации. Эти разрезы должны быть увязаны между собой. Полное выполнение такой программы займет неопределенно долгое время. Исследования выполнены в процессе выполнения Международной программы «Ярусные стратотипы нижнего отдела пермской системы» и программы Президиума РАН № 12-П-5-1029 «Состав, особенности формирования и эволюция раннепермской биоты». НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО СТРАТИГРАФИИ И ЛИТОЛОГИИ ВЕНЛОКСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ НА ЮГЕ ГРЯДЫ ЧЕРНЫШЕВА Разрезы силура гряды Чернышева с позиции детальных литологических особенностей изза ее сложного тектонического строения изучены слабо. Разрез р. Изьяю, расположенный в ее южной части, важен тем, что здесь можно наблюдать пограничные отложения верхнего лландовери, венлока и нижней части лудлова, вскрытые в одном обнажении. Нами изучалась та часть разреза в обн. 479 на р. Изьяю, которая относится к устьдурнаюской свите мощностью 18 м. В настоящее время эта свита включает в себя верхи лландовери и венлок (Палеозойское осадконакопление…, 2011). Небольшая мощность венлокских отложений определяется специ­ фичными обстановками осадконакопления в то время. Особенностью условий седиментации в данном регионе является крайняя мелководность, когда даже незначительные колебания уровня водного бассейна приводили к резкой фациальной смене. Именно этим и объясняется широкий спектр литотипов в таком маломощном разрезе. Изучаемый разрез устьдурнаюской свиты представлен чередованием следующих разностей: известняков литобиокластовых, карбонатных конглобрекчий, доломитов известковистых, доломитов с линзовидно-полосчатой текстурой, доломитов глинистых с пятнистой текстурой, известняков ооидных разного генезиса, известняков строматолитовых, известняков микрозернистых неравномерно слоистых, известняков остракодовых-биокластовых перекристаллизован- 269 270 Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, геои биособытия Литологическая и изотопная характеристика венлокских отложений на р. Изьяю, южная часть гряды Чернышев ных, известняков микрозернистых, известняков полибиокластовых, известняков пелитоморфных алевритовых, известняков с крупным биокластовым материалом (рисунок). На разрезе венлокских отложений хорошо отражена частая смена литотипов. Важно отметить, что в пределах одного шлифа мы можем увидеть до трех литотипов, разделенных между собой поверхностями размыва с эрозионными карманами разной глубины или с постепенными переходами. Резкие границы литотипов отражают быструю смену условий осадконакопления, а постепенная их смена свидетельствует о довольно плавном колебании уровня водного бассейна. В кровле лландовери характерно присутствие в известняках обильной фауны и обломочных разностей, что говорит о нормально морских условиях мелководного морского бассейна с нестабильным тектоническим режимом. На границе с венлоком проявляется резкая смена обстановок, которая отражается не только в литологии, но и в геохимической характеристике пород. В нижнем венлоке в целом преобладают доломитовые образования с остракодовой фауной. Полученные данные по δ13Ccarb показали утяжеление изотопов углерода –5,9 до –2,8 ‰, что может свидетельствовать об изменении солености и повышении микробиальной активности в осадках. Литологическая характеристика отложений в этом интервале свидетельствует о том, что происходит отчетливая смена известняков лито-биокластовых и известняковых конглобрекчий седиментационно-диагенетическими доломитами (Шеболкин, 2011). На этом уровне установлено позитивное отклонение изотопной кривой, которое характерно для события Иревикен, располагавшегося непосредственно выше границы лландовери и венлока (Aldridge et al., 1993; Kaljo et al., 2003). Эти данные согласуютcя с результатами изотопных датировок, полученными из разрезов скважин Эстонии и в других регионах. Вверх по разрезу изотопная кривая выражена пилообразно, что указывает на нестабильность обстановок осадконакопления. Литологически доломиты сменяются известняками ооидными, включающими в себя различные образования шаровидной или эллипсоидальной форм (оолиты, пизолиты, онколиты, кортоиды и др.) с концентрически-слоистыми и радиально лучистыми сферами. Они ассоциируются со строматолитовыми известняками. Выше характерно чередование различных известняков с биокластовым, обломочным, алевритовым материалом и строматолитовыми постройками. Возможно, данный интервал можно отнести к верхнему венлоку. Тенденцию к изменению обстановок показывает и изотопная кривая колебанием содержаний изотопов углерода от –3,8 до –1,3 ‰, что отражает смену пресноводных обстановок нормально морскими. Появление микрозернистых известняков с последующим переходом в известняки песчано-алевритовые и крупнобиокластовые может указывать на начавшийся трансгрессивный цикл осадконакопления. Подобная тенденция развития морского бассейна характерна для раннего лудлова (Палеозойское осадконакопление…, 2011). К сожалению, на изотопных кривых во многих регионах эта граница не проявляется (Martma et al., 2005). Проведенные исследования показали, что в маломощном разрезе р. Изьяю представлены отложения венлокского яруса в полном объеме. Они характеризуются четкими литологическими реперами на границах яруса и внутри него. Палеозойское осадконакопление на внешней зоне шельфа пассивной окраины северо-востока Европейской платформы / Коллектив авторов. – Сыктывкар: Геопринт, 2011. – 200 с. Шеболкин Д.Н. Литолого-геохимический маркер границы лландовери и велока на юге гряды Чернышева // Концептуальные проблемы литологических исследований в России: Материалы 6-го Всерос. литологич. совещания. – Казань, 2011. Т. II. – С. 473–475. Aldridg R.J., Jepsson L., Dorning K.L. Early Silurian oceanic episodes and evets // J. Geol. Soc. London, 1993. 150. 501–503. Kaljo D., Martma T., Mannik P., Viira V. Implications of Gondwana glaсiations in the Baltic late Ordovician and Silurian and a carbon isotopic test of environmental cyclicity // Bulletin de la Societe Geologique de France. 2003.174. 59–66. Martma T., Brazauskas A., Kaljo D., Kaminskas D., Musteikis P. The Wenlock – Ludlow carbon isotope trend in the Vidukle core, Lithuania, and its relations with oceanic events // Geological Quarterly. 2005. 49. 223–234. Материалы III Всероссийского совещания 1 – известняки лито-биокластовые; 2 – карбонатные конглобрекчии; 3–5 – доломиты: 3 – известковистые, 4 – с линзовидно-полосчатой текстурой, 5 – глинистые с пятнистой текстурой; 6–13 – известняки: 6 – ооидные разного генезиса, 7 – строматолитовые, 8 – микрозернистые неравномерно слоистые, 9 – остракодовые-биокластовые перекристаллизованные, 10 – микрозернистые, 11 – полибиокластовые, 12 – пелитоморфные алевритовые, 13 – с крупным биокластовым материалом 271 Р.А. Щеколдин Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия НОВОЗЕМЕЛЬСКИЙ БАССЕЙН В КОНЦЕ СРЕДНЕГО – НАЧАЛЕ ПОЗДНЕГО ПАЛЕОЗОЯ 272 В позднедевонских и каменноугольных отложениях Новой Земли выделяются две структурно-формационные зоны (СФЗ): Баренцевская и Карская (Соболев, 1992; Schekoldin, 1997). Баренцевская СФЗ характеризуется мощными, преимущественно карбонатными отложениями, содержащими богатый комплекс остатков бентосных организмов. Предполагается, что она представляет собой шельфовые палеообстановки. Карская СФЗ характеризуется маломощными глинистыми, известковистыми и кремнистыми осадками, содержащими немногочисленные остатки пелагических организмов. Эта зона предположительно соответствует батиальным палеообстановкам (склону и ложу бассейна). Переход от Баренцевской СФЗ к Карской весьма резкий: на расстоянии в несколько километров происходит быстрая смена фаций и многократное сокращение мощности одновозрастных подразделений. Основной контроль за процессами осадконакопления как в шельфовой, так и в батиальной области осуществлялся подъемами и падениями относительного уровня моря, которые повторялись с периодичностью, в среднем равной веку (Щеколдин, 2009). Высокое стояние уровня моря соответствует периодам низких скоростей осадконакопления и стагнации в глубоководной зоне, которая способствовала сохранению органического вещества. Низкое стояние уровня моря способствовало усилению осадочных гравитационных потоков, возрастанию скорости осадконакопления и лучшей аэрации придонных вод. Стратиграфические интервалы, отвечающие этим периодам, в шельфовой зоне представлены грубозернистыми терригенными отложениями, биогенными, биокластическими и оолитовыми известняками, а в батиальной зоне содержат существенную долю турбидитов, дебритов и оползней. В конце живетского и самом начале франского века произошло значительное падение относительного уровня моря, которое сопровождалось в Баренцевской СФЗ осушением шельфа и эрозией. Глубина размыва различна и достигает верхов нижнего девона. В раннем фране здесь накапливается трансгрессивная последовательность от дельтовых и прибрежно-морских конгломератов до мелководно-шельфовых песчаников и алевролитов. Одновозрастные вулканические извержения были как наземными, так и подводными. В то же самое время в Карской СФЗ происходит отложение турбидитов, сопровождающееся подводными излияниями базальтовых лав. Поздний фран соответствует высокому стоянию уровня моря, при котором в Баренцевской СФЗ формировались небольшие органогенные постройки и связанные с ними биокластические осадки. Одновременно в Карской зоне отлагаются гемипелагические углеродистые осадки с относительно низкими скоростями седиментации. Низкое содержание кислорода в придонных водах способствовало сохранности органического вещества. В течение раннего фамена в Баренцевской СФЗ произошло обмеление карбонатного шельфа, на отмелях отлагались оолитовые карбонатные пески, а во впадинах тонкозернистый карбонатный детрит и ил. В Карской СФЗ отлагались гемипелагические глинисто-карбонатные илы; временами происходили оползни. Обстановки осадконакопления здесь соответствуют склону, основанию склона и ложу бассейна. Аэрация придонных вод, по-видимому, улучшилась, поскольку осадки содержат мало реликтового органического вещества. В течение позднего фамена произошла регрессия. В Баренцевской СФЗ в это время в крайне мелководной обстановке накапливаются биокластические карбонатные пески, оолиты и водорослевые желваки. В Карской структурно-формационной зоне происходят массовые гравитационные перемещения осадочного материала. Оползни, дебриты, грубозернистые и среднезернистые турбидиты отлагаются в Рогачевской подзоне, а тонкозернистые турбидиты – в Литкинской подзоне Карской зоны. Турне – среднее визе – время подъема относительного уровня моря, которое отразилось в Баренцевской структурно-формационной зоне в накоплении тонкозернистых биокластических осадков и карбонатных илов. В Карской СФЗ карбонатная седиментация сменилась кремнистой. Вследствие высокой биологической продуктивности поверхностных вод и, вероятно, плотностной стратификации водного столба, в придонных водах установились анаэробные усло­вия. Гравититы присутствуют только в виде мелких оползней. В позднем визе – серпухове произошло новое падение уровня моря. Во всей Баренцевской СФЗ накапливаются биокластические карбонатные осадки, за исключением района пролива Соболев Н.Н. Унифицированная региональная схема верхнедевонских отложений Новой Земли // Геология Южного острова Новой Земли: Сб. науч. трудов. – Л.: ПГО «Севморгеология», 1982. – С. 5–24. Щеколдин Р.А. Цикличность девонских и каменноугольных отложений Новой Земли // Зап. Горного института. Т. 183. 2009. – С. 53–62. Schekoldin R.A. Upper Devonian – Carboniferous deep-water deposits of Novaya Zemlya // Memorias del I Congreso Latinoamericano de Sedimentologia. November 1997. T. II. – Р. 265–270. Schekoldin R.A., Sobolev N.N., Matveev V.P. Carboniferous deposits of the southern area of Novaya Zemlya // Newsletter on Carboniferous Stratigraphy. 1994. 12. – Р. 1720. Материалы III Всероссийского совещания Костин Шар, где локально формируются эвапориты. В батиальной зоне в течение позднего визе отлагаются тонкозернистые карбонатные илы, но позднее, в серпуховском веке, развиваются процессы гравитационного перемещения осадочных масс. Эти процессы обусловили формирование многочисленных оползней и обломочных потоков в области склона в Рогачевской подзоне; в Литкинской подзоне в обстановке подводного конуса выноса происходит накопление терригенных турбидитов (Schekoldin et al., 1994). В течение среднего карбона постепенно отступают бровки шельфа. В Баренцевской СФЗ продолжается накопление мелководных карбонатных биокластических осадков. Падение относительного уровня моря в башкирском веке усилило оползание и обломочные потоки в верхней части склона (в Рогаческой подзоне). Гемипелагиты представлены в основном кремнистыми и глинистыми илами. Мутьевые потоки низкой плотности отлагают терригенные и смешанные карбонатно-терригенные турбидиты в основании склона и ложе бассейна (в Литкинской подзоне). Подъем относительного уровня моря в московском веке обусловили самые низкие скорости осадконакопления и условия стагнации во всей Карской зоне. Анаэробные условия в застойных придонных водах благоприятствуют накоплению марганцевых карбонатов. В касимовском веке позднего карбона произошло значительное отступание бровки шельфа. На погрузившихся участках шельфа отлагаются кремнистые и глинистые илы. В начале гжельского века батиальные условия установились на всей современной территории архипелага. В течение гжельского и ассельского веков отлагаются гемипелагиты (преимущественно глинистые илы) и тонкозернистые турбидиты, содержащие примесь карбоната марганца. Начало пермского периода ознаменовалось в Новоземельском седиментационном бассейне радикальной перестройкой всей седиментационной системы. Устойчиво существовавшая на протяжении позднего девона – карбона структурно-формационная зональность уступает место обстановке проградирующего подводного конуса выноса, где происходит накопление терригенных обломочных осадков. Такая перестройка была обусловлена возникновением нового мощного источника обломочного материала в виде растущих горных сооружений Уральского орогена к югу от Новой Земли. Обломочный материал транспортировался, главным образом, высокоплотностными мутьевыми течениями и гравитационными потоками. Скорости осадконакопления многократно возрастают, в связи с чем седиментацию можно охарактеризовать как лавинную. З.П. Юрьева ПРАЖСКИЕ И ЭМССКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ РАЗРЕЗАХ ТИМАНО-СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА Пражский и эмсский ярусы нижнего девона прекрасно обнажены в бассейнах рек Западного Урала Тимано-Североуральского региона. Северная часть Варандей-Адзьвинской структурной зоны (ВАСЗ) – перикратонная часть северо-восточной окраины Европейской платформы – представляет собой район, где в разрезах скважин установлены наиболее полные глубокозалегающие пражский и эмсский ярусы (рис. 1). Кровля отложений находится на глубинах 2650– 3580 м. По данным сейсмических исследований, глубина кровли достигает 4000–4200 м. Общая мощность ярусов изменяется в южном направлении от 350 м до полного выклинивания, что связано с размывом отложений в предсреднедевонское и раннефранское время. В практике геологоразведочных работ эти отложения по литологическим и соответственно геофизическим критериям расчленяются на пять пачек (рис. 2). Литологически пачки выдержаны по площади. 273 Рис. 1. Тектоническая схема Тимано-Североуральского региона Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия ВАСЗ – Варандей-Адзьвинская структурная зона. Расположение разрезов скважин: Вр – Варандейский, Мд – Мядсейский, Тб – Тобойский Отложения пражского яруса выделяются в объеме наульской свиты (120–160 м) и согласно залегают на сульфатно-карбонатных породах сотчемкыртинского горизонта верхнего лохкова. Нижняя пачка 1 (50–80 м) сложена пестроцветными алевролитами, аргиллитами, песчаниками, доломитами и ангидритами. Пачка 2 (12–70 м) выделяется повышенными значениями сопротивлений пород и представлена доломитами, ангидритами и доломитовыми мергелями. Акантодовая зона Nobilesquama watsoni приурочена к верхней пачке наульской свиты. Вид Nostolepis taimyrica характерен для пражских и нижнеэмсских отложений (Valiukeviius, 2003; Valiukeviius, Burrow, 2005). Пражский возраст пачки 1 характеризует комплекс остракод Clavofabellina sp. nov., Kielciella sp. indet., Ochescapha sp. nov., Pseudomyomphalus sp. nov., Knoxiella aff. distributa distributa Polenova, Cavellina Рис. 2. Схема сопоставления геофизических характеристик пражских и эмсских отложений северо-восточной части Варандей-Адзьвинской структурной зоны 274 КС – кажущееся сопротивление пород, ПС – собственная поляризация пород Материалы III Всероссийского совещания aff. explicata L. Egorova (Абушик, Шамсутдинова, 2000). Комплекс гетеростраков представлен в них отрядом Pteraspidida – новыми семействами и родами. В плохосортированных глинистых песчаниках нижней пачки наульской свиты обнаружены фрагменты панциря Rhinopteraspis и Doryaspididae (Yuryeva, Karatajte-Talimaa, 2005). Эмсский ярус охарактеризован варандейской свитой (до 180 м), которая подразделяется на три пачки. Варандейская свита менее распространена по площади, чем наульская, что является следствием размыва пород в среднедевонское и раннефранское время. Пачка 3 (до 70 м) представлена переслаиванием доломитов, известняков, мергелей, алевролитов и аргиллитов. В пачке 4 (до 80 м) преобладают доломиты с прослоями мергелей доломитовых и аргиллитов, с гнёздами ангидритов. Пачка 5 (до 25 м) сложена вторичными доломитами, доломитовыми мергелями, часто сульфатизированными. В объеме варандейской свиты установлена раннеэмсская акантодовая биозона Peregrinosquama costata. Комплекс эмсских остракод, сходный с позднелохковским, обновлён новыми видами Aparchitellina rozhdanna, Sulcatiella armata, Bairdia nordica, а также представителями рода Bivlada (Абушик, Шамсутдинова, 2000). При изучении разнофациальных пражских и эмсских отложений в естественных обнажениях Западного Урала отмечен непродолжительный перерыв в осадконакоплении. Присутствие пачки водорослево-амфипоровых конгломератов мощностью 4,5 м (р. Верхняя Печора), линз кварцевых алевролитов (р. Лек-Елец) и корунда (окисленного боксита) в нерастворимом остатке (р. Лемва) фиксирует резкое обмеление и свидетельствует о предтакатинском перерыве в рифообразовании на границе пражского и эмсского ярусов (Антошкина, 2003). На р. Щугор на поверхности размыва пристаньской свиты филиппчукского горизонта залегают песчано-глинистые породы (0,2–0,3 м), которые рассматриваются как переотложенная кора выветривания. Грубозернистые отложения сывьюской свиты обнажаются в бас. р. Илыч. Мощность слоёв от 0,15–0,30 до 2 м при мощности выходов около 50 м (Щербаков, 1977; Цыганко, 2011). В разрезах скважин граница между пражским и эмсским ярусами проводится по кровле сульфатно-карбонатной пачки 2. В большинстве северных разрезов ВАСЗ в интервале пачки 3 отмечается отрицательное отклонение кривой собственной поляризации пород (ПС), что свидетельствует о повышенных фильтрационных свойствах карбонатных пород и даёт основание предположить перерыв в осадконакоплении на рубеже раннего и позднего эмса (рис. 2). Изменение геологических условий, контролировавших проявление постседиментационных процессов, отражается на изменении физической характеристики карбонатных пород. Потенциал собственной поляризации находится в прямой зависимости от диффузионно-адсорбционной активности пород. Интервалы проницаемых пород (8–10 м) сложены доломитами мелкокристаллическими, песчаниковидными и мелоподобными, пористыми. Слои проницаемых доломитов в керне скважин (площадей Тобойской, Мядсейской и др.) имеют мощность от десяти сантиметров до 3 м и более. В породах присутствуют ихнофоссилии диаметром до 0,5–1 см. Онтогенез и морфологию осадочного бассейна определяли тектоническая эволюция северовосточного литосферного сегмента Европейской платформы, развитие Палеоуральского океана и эвстатические колебания уровня моря. Палеогеографическая история среднего палеозоя Тимано-Североуральского региона подразделяется на несколько этапов, которые существенно отличаются по условиям седиментации. Активное рифообразование на окраине шельфа на позднелохковско-раннеэмсском этапе седиментации определило широкий фациальный спектр бассейна седиментации (Антошкина, 2003; Цыганко, 2011). Антошкина А.И. Рифообразование в палеозое (север Урала и сопредельные области). – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2003. – 304 с. Цыганко В.С. Девон западного склона севера Урала и Пай-Хоя (стратиграфия, принципы расчленения, корреляция). – Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2011. – 356 с. Щербаков Э.С. Терригенный девон западного склона Северного Урала. – Л.: Наука, 1977. – 157 с. Yuryeva Z., Karatajte-Talimaa V. Vertebrates in the Lower Devonian and overlying Devonian deposits of the Pechora Basin, Russian // Middle Palaeozoic vertebrates of Laurussia: relationship with Siberia, Kazakhstan, Asia and Gondwana (IGCP 491, 6th Baltic Stratigraphical Conf.). – St. Petersburg: Sp. publ. 9. St. Petersburg Univ., 2005. – P. 45–47. Valiukeviius J. New Late Silurian to Middle Devonian acanthodians of Timan-Pechora region // Acta Geologica Polonica. 2003. 53 (3). – Р. 209–245. Valiukeviius J., Burrow C. J. Diversity of tissues in acanthodians with Nostolepis-type histological structure // Palaeontol. Polonica. 2005. 5 (3). – Р. 635–649. 275 А.Ю. Язиков, Н.К. Бахарев Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео- и биособытия О СМЕШЕНИИ КОМПЛЕКСОВ БРАХИОПОД ШАНДИНСКИХ И ПЕСТЕРЕВСКИХ ИЗВЕСТНЯКОВ САЛАИРА 276 В ходе проведения детальных стратиграфических работ в окрестностях г. Гурьевск в серии разрезов 9, 14, 25 и др. (Стратотипические…, 1986, 1987), в интервале верхней части шандинского горизонта обнаружен целый ряд видов брахиопод, которые на протяжении нескольких десятилетий ассоциировались с видами-индексами мамонтовского горизонта (точнее, пестеревских слоев мамонтовского горизонта). Ассоциация с Gypidula urensis Rzon., Ivdelinia (I.) acutolobata (Sanb.), Desquamatia (Variatrypa) pesterevskensis (Rzon.), Vagrania (Mimatrypa) flabellata kuznetskiensis Rzon. et Miz., Pesterevatrypa malosalairica Rzon., Nymphorhynchia uscandica tenuicostata Rzon. зафиксирована в ряде разрезов совместно с комплексом конодонтов зоны serotinus (включая и сам зональный вид), тогда как по последним данным (Бахарев и др., 2012; Izokh, 2011; Middle-Upper Devonian…, 2011) пестеревские слои мамонтовского горизонта отвечают интервалу конодонтовых зон costatus – australis. Авторы попытались найти этому факту логичное объяснение. М.А. Ржонсницкая как автор мамонтовского горизонта назначила в качестве его стратотипа разрез «в районе г. Гурьевск, на правом берегу р. М. Бачата, северо-восточнее Акарачкинского карьера» (Стратиграфический…, 1975, с. 291). В современном выражении стратотип мамонтовского горизонта описан авторами настоящего сообщения: а) серией разрезов на верхнем уступе Акарачкинского карьера (Стратотипические..., 1986, 1987), где представлена нижняя пачка мамонтовского горизонта; б) разрезом по скв. Б-8119Г, демонстрирующим малосалаиркинские слои; в) разрезом Б-8410 (Middle-Upper Devonian…, 2011), пересекающим аналоги пестеревских и акарачкинские слои. Следует отметить, что во всех этих разрезах фауна брахиопод крайне скудна. Это обусловлено с одной стороны фациальным характером самих отложений – преобладанием песчаников и кораллово-строматопоровых известняков, с другой стороны – фрагментарной обнаженностью отложений вне Акарачкинского карьера. По-видимому, именно это послужило причиной того, что для малосалаиркинских слоев М.А. Ржонсницкая предложила в качестве стратотипа разрез «на первом холме к востоку от дер. Мал. Салаирка» (Ржонсницкая, 1968, с. 87), где она привела обширный список брахиопод «Schizophoria ex gr. striatula (Sсhl.), Stropheodonta sp., Leptagonia rhomboidalis (W.), Productella subaculeata mesodevonica Nal., Ivdelinia acutolobata (Sandb.), Nymphorhynchia uscandica Rzоn., N. ex gr. pseudolivonica (Вarr.), Tetratomia? yavorskii Rzon., Uncinulus angularis pentagoniformis Rzоn., Unc. parallelepipedus (Вronn), Septalaria? transuralica sibirica Rzоn., Atrypa ex gr. reticularis L., Spinatrypa aspera subspinosa (Laz.), Eoreticularia cf. indifferens (Barr.), Eoreticularia salairica Rzon., Urella asiatica Rzon., Retzia salairica Peetz, Cryptonella sp.». В данном пересечении о более высоком стратиграфическом уровне пестеревских известняков М.А. Ржонсницкая пишет: «Для светло-серых биоморфных пестеревских известняков характерен следующий комплекс органических остатков: Ivdelinia acutolobata (Sandb.), Iv. acutolobata var. belticostata (Khоd.), Devonogypa rariformis Rzоn., Nутрhorhyncyia uscandica var. tenuicostata Rzon., Uncinulus parallelepipedus pestereviensis Rzоn., U. pentagonus (Kays.), U. angularis pentagoniformis Rzоn., Pugnax pugnoides (Schnur), Salairotoechia pseudocarens (Kulk.), Сamerophorina pachyderma (Quenst.), Mimatrypa flabellata (Rоem.), Carinatina plana (Kays.), Cyrtinopsis nalivkini Rzon., Plectospira ferita (Schnur) и некоторые другие». В последующие годы (Ржонсницкая, 1975, 1978) уточнение таксономического состава брахиопод мамонтовского горизонта происходило в значительной мере на основе коллекций из района дер. Малая Салаирка. По устному сообщению Н.П. Кулькова, проводившего работы по ревизии брахиопод «пестеревских» известняков в конце 50-х годов прошлого столетия (Кульков, 1960), сбор этих коллекций осуществлялся из канав и траншей, заложенных по сетке разведочных линий на месте разрабатываемого в настоящее время Малосалаиркинского карьера. В последние десятилетия авторы настоящего сообщения описали целый ряд разрезов в Малосалаиркинском карьере (Ключевые…, 2004; Middle-Upper Devonian…, 2011), собрали обширные коллекции по различным группам фауны, выявили фациальные взаимоотношения слоев внутри мамонтовского горизонта и обоснованно могут констатировать, что практически весь восточный борт на верхних уступах карьера сложен известняками шандинского горизонта и базальной терригенной пачкой малосалаиркинских слоев. По крупному тектоническому нарушению, осложнённому многочисленными оперяющими разломами, блоки шандинских извест- Бахарев Н.К., Изох Н.Г., Соболев Е.С., Язиков А.Ю. Био- и литостратиграфические маркеры среднего девона Салаира // Недропользование. Горное дело. Новые направления и технологии поиска, разведки и разработки месторождений полезных ископаемых: Сб. материалов VIII Междунар. науч. конгр. «ГЕОСибирь-2012» (10–20 апреля 2012 г., Новосибирск). Т. 2. – Новосибирск: СГГА, 2012. – С. 81–84. Ключевые разрезы девона Рудного Алтая, Салаира и Кузбасса / Н.К. Бахарев, Н.В. Сенников, Е.А. Елкин, Н.Г. Изох, А.А. Алексеенко, О.Т. Обут, О.А. Родина, С.В. Сараев, Т.П. Батурина, Т.П. Киприянова, И.Г. Тимохина, А.Ю. Язиков. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – 104 с. Кульков Н.П. О фауне брахиопод пестеревских известняков и их фациальных аналогов // Вопросы стратиграфии и палеонтологии Западной Сибири. – Новосибирск: ИГиГ СО АН СССР, 1960. – С. 153– 193. (Труды ИГиГ СО АН СССР. Вып. 1). Ржонсницкая М.А. Биостратиграфия девона окраин Кузнецкого бассейна. Стратиграфия. – Л.: Недра, 1968. Т. 1. – 288 с. Ржонсницкая М.А. Биостратиграфия девона окраин Кузнецкого бассейна. – Л.: Недра, 1975. – 229 с. Ржонсницкая М.А. Обзор девонских ринхонеллид окраин Кузнецкого бассейна // Ежегодник ВПО. 1978. Т. 21. – С. 174–196. Стратиграфический cловарь СССР. Кембрий, ордовик, силур, девон. – Л.: Недра, 1975. – 622 с. Стратотипические разрезы нижнего и среднего девона Салаира. Теленгитский надгоризонт: терригенно-карбонатные фации. – Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН, 1986. – 143 с. Стратотипические разрезы нижнего и среднего девона Салаира. Теленгитский надгоризонт: карбонатные фации. – Новосибирск: Изд-во ИГиГ СО АН, 1987. – 194 с. Izokh N.G. Biodiversity of Devonian conodonts from the West Siberia // Berichte des Institutes fr Erdwissenschaften, Karl-Franzens-Universitt Graz. IGCP 596 Opening Meeting. Graz, 19-24th September. 2011, Band 16. – P. 49-51. ISSN 1608-8166. Middle-Upper Devonian and Lower Carboniferous Biostratigraphy of Kuznetsk Basin. Field Excursion Guidebook. Intern. Conf. “Biostratigraphy, paleogeography and events in Devonian and Lower Carboniferous” (SDS/IGCP 596 joint field meeting) / Eds. N.K. Bakharev, N.G. Izokh, O.T. Obut, J.A. Talent. (Authors N.K. Bakharev, N.G. Izokh, A.Yu. Yazikov, T.A. Shcherbanenko, S.A. Anastasieva, O.T. Obut, S.V. Saraev, L.G. Peregoedov, V.G. Khromykh, O.A. Rodina, I.G. Timokhina, T.P. Kipriyanova). Novosibirsk, July 20 – August 10, 2011. – Novosibirsk: Publishing House of SB RAS, 2011. – 98 p. Материалы III Всероссийского совещания няков контактируют с различными стратиграфическими уровнями пестеревских известняков и терригенными пачками акарачкинских слоев. В фациальном выражении верхнешандинские известняки представлены слоистыми и грубослоистыми разностями с богатым комплексом брахиопод, включающим вид-индекс верхнешандинских слоев Zdimir baschkiricus (Vern.). Авторы предполагают, что при отборе брахиопод из траншей восточного сектора разведочных линий в коллекции попали образцы из блоков шандинского горизонта. Известняки эти были восприняты как верхние уровни пестеревского известняка, поскольку наращивание разреза отложений мамонтовского горизонта идет с запада на восток. Вывод о наличии или отсутствии видов Gypidula urensis Rzon., Ivdelinia (I.) acutolobata (Sanb.), Desquamatia (Variatrypa) pesterevskensis (Rzon.), Vagrania (Mimatrypa) flabellata kuznetskiensis Rzon. et Miz., Pesterevatrypa malosalairica Rzon., Nymphorhynchia uscandica tenuicostata Rzon. в мамонтовском горизонте может быть сделан только после анализа собранных коллекций брахиопод из «достоверно» мамонтовских разрезов Малосалаиркинского карьера. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-05-00737), Программ РАН 23 и 28, Интеграционного проекта 93, выполняемого совместно с УрО РАН. Авторы координируют свои исследования с программами работ по проекту 596 IGCP. 277 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео278 СПИСОК АВТОРОВ Агафонова Галина Валентиновна, ВНИГНИ, Москва Айнсаар Лехо, Университет Тарту, г. Тарту, Эстония Алберг Пьер Ерик, Университет Уппсалы, г. Уппсала, Швеция Алексеев Александр Сергеевич, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, [email protected] Алексеев Дмитрий Викторович, ГИН РАН, Москва, [email protected] Амон Эдуард Оттович, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, [email protected] Анищенко Лидия Александровна, ИГ Коми НЦ УРО РАН, г. Сыктывкар Антошкина Анна Ивановна, ИГ Коми НЦ УРО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Антропова Евгения Викторовна, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Анфимов Артемий Львович, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, [email protected] Арефьев Михаил Павлович, ГИН РАН, Москва, Музей естественной истории Свято-Алексиевской Пустыни, [email protected] Аристов Виктор Алексеевич, ГИН РАН, Москва Артюшкова Ольга Викторовна, ФГБУН ИГ УНЦ РАН, г. Уфа, [email protected] Афанасьева Марина Спартаковна, ПИН РАН, Москва, [email protected] Базаревская Венера Гильмеахметовна, ТатНИПИнефть, г. Бугульма, [email protected] Балабанов Юрий Павлович, КФУ, г. Казань, [email protected] Баранова А.В., ВНИГНИ, Москва Бахарев Николай Кириллович, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, [email protected] Безносов Павел Александрович, ИГ Коми НЦ УРО РАН, г. Сыктывкар Бискэ Георгий Сергеевич, СПбГУ, Санкт-Петербург Бойко Максим Сергеевич, ПИН РАН, Москва, [email protected] Борисенков Константин Вадимович, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, [email protected] Бразаускас Антанас, Вильнюский университет, г. Вильнюс, Литва, [email protected] Буланов Валерий Викторович, ПИН РАН, Москва, [email protected] Бухман Николай Сергеевич, СамГАСУ, г. Самара, [email protected] Бушуева Марина Александровна, ВНИГНИ, Москва Бяков Александр Сергеевич, СВКНИИ ДВО РАН, СВГУ, г. Магадан, [email protected] Ведерников Игорь Львович, СВКНИИ ДВО РАН, г. Магадан, [email protected] Ветлужских Лариса Ивановна, ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, [email protected] Ветошкина Ольга Савватьевна, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Гаген-Торн Ольга Яковлевна, ГИН РАН, Москва, [email protected] Ганелин Виктор Гдальевич, ГИН РАН, Москва, [email protected] Гафуров Шавкат Закирович, КФУ, г. Казань Геккер Мария Романовна, ПИН РАН, Москва, [email protected] Гетман Ольга Федоровна, Госгеолагентство Кыргызстана, г. Бишкек, Киргизия Гибадуллина Ольга Геннадьевна, ТатНИПИнефть, г. Бугульма, [email protected] Глинский Вадим Николаевич, СПбГУ, Санкт-Петербург Голубев Валерий Константинович, ПИН РАН, Москва, [email protected] Гоманьков Алексей Владимирович, БИН РАН, Санкт-Петербург, [email protected] Гонта Тарас Викторович, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, Горева Наталья Валериевна, ГИН РАН, Москва, [email protected] Горожанин Валерий Михайлович, ФГБУН ИГ УНЦ РАН, г. Уфа, [email protected] Горожанина Елена Николаевна, ФГБУН ИГ УНЦ РАН, г. Уфа, [email protected] Груздев Денис Александрович, ИГ Коми НЦ УРО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Грунт Татьяна Александровна, АНО лаборатория-студия «Живая Земля», Москва, t.grunt@ mail.ru Гутак Ярослав Михайлович, Сибирский гос. индустриальный ун-т, г. Новокузнецк, [email protected] Данилова Анна Владимировна, ВНИГРИ, Санкт-Петербург, [email protected] Дегтярев Кирилл Евгеньевич, ГИН РАН, Москва, [email protected] Дженчураева Александра Васильевна, Госгеолагентство Кыргызстана, г. Бишкек, Киргизия Дронов Андрей Викторович, ГИН РАН, Москва, [email protected] Журавлев Андрей Владимирович, ВНИГРИ, Санкт-Петербург, [email protected] Зайцев Алексей Викторович, МГУ, Москва, [email protected] Зайцева Елена Леонидовна, ВНИГНИ, Москва, [email protected] Захаров Юрий Дмитриевич, ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток, [email protected] Зверева Анастасия Владимировна, ФГУП «СНИИГГиМС», г. Новосибирск, [email protected] Зеленщиков Геннадий Викторович, ОАО «Южгеология», г. Ростов-на-Дону, [email protected] Зинатуллина Ирина Павловна, КФУ, г. Казань, [email protected] Зупиньш Ивар, Музей природы Латвии, г. Рига, Латвия Иванов Александр Олегович, СПбГУ, Санкт-Петербург, [email protected] Изох Надежда Георгиевна, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, [email protected] Исакова Татьяна Николаевна, ГИН РАН, Москва, [email protected] Искюль Георгий Сергеевич, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, [email protected] Исламов Альберт Фагилевич, КФУ, г. Казань Калинин Василий Васильевич, ЗАО «ВолгоградНИПИнефть», г. Волгоград, [email protected] Канева Наталья Александровна, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар Каныгин Александр Васильевич, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск Карпова Евгения Владимировна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, [email protected] Карцева Ольга Андреевна, ВНИГНИ, Москва Кирилишина Елена Михайловна, МГУ, Музей Землеведения, Москва, [email protected] Киселев Геннадий Николаевич, СПбГУ, Санкт-Петербург Клименко Сергей Сергеевич, ИГ Коми НЦ УРО РАН, г. Сыктывкар Кокорин Александр Игоревич, ПИН РАН, Москва Кононова Людмила Ивановна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, [email protected] Коссовая Ольга Леонидовна, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, [email protected] Котляр Галина Васильевна, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, [email protected] Кояле Андриус, Вильнюсский университет, Кафедра геологии и минералогии, Литва Кулагина Елена Ивановна, ФГБУН ИГ УНЦ РАН, г. Уфа Кулешов Владимир Николаевич, ГИН РАН, Москва, [email protected] Кундрат Мартин, Университет Уппсалы, г. Уппсала, Швеция Куриленко Алена Васильевна, ОАО «Читагеолсъемка», г. Чита, [email protected] Кучева Надежда Александровна, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, [email protected] Материалы III Всероссийского совещания Евдокимова Ирина Олеговна, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, [email protected] Ермакова Юлия Викторовна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва Леонова Татьяна Борисовна, ПИН РАН, Москва, [email protected] Леонтьев Денис Игоревич, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург Лукшевич Эрвин, Латвийский Университет, г. Рига, Латвия Мавринская Татьяна Михайловна, ФГБУН ИГ УНЦ РАН, г. Уфа, [email protected] Мадисон Анна Андреевна, ПИН РАН, Москва, [email protected] Макаренко Светлана Николаевна, ТГУ, г. Томск Малышева Екатерина Николаевна, ДВГИ ДВО РАН, г. Владивосток, [email protected] Мамонтов Дмитрий, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва Манцурова Валентина Николаевна, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»; ЗАО «ВолгоградНИПИморнефть», г. Волгоград, [email protected] Матвеев Владимир Анатольевич, ИГ Коми НЦ УРО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Матвеев Владимир Петрович, НМСУ «Горный», Санкт-Петербург, [email protected] Маслов Виктор Алексеевич, ФГБУН ИГ УНЦ РАН, г. Уфа, [email protected] 279 и биособытия Палеозой России: региональная стратиграфия, палеонтология, гео280 Мизенс Лариса Ивановна, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург Минина Ольга Романовна, ГИН СО РАН, г. Улан-Удэ, [email protected] Миранцев Георгий Валерьевич, ПИН РАН, Москва, [email protected] Михеева Анна Игоревна, ВНИГНИ, Москва Молошников Сергей Владимирович, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, [email protected] Морокова Ю.И., СыктГУ, г. Сыктывкар Мочалова Ирина Леонидовна, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар Муравьев Федор Александрович, КФУ, г. Казань, [email protected] Наугольных Сергей Владимирович, ГИН РАН, Москва, [email protected] Неберикутина Людмила Николаевна, Воронежский госуниверситет, г. Воронеж, [email protected] Никитина Ольга Игоревна, ГИН РАН, Москва, [email protected] Николаев Александр Иванович, ФГУП «ВНИГРИ», Санкт-Петербург Николаева Светлана Витальевна, ПИН РАН, Москва Обут Ольга Тимофеевна, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, [email protected] Обуховская Вероника Юрьевна, РУП «Белорусский научно-исследовательский геологоразведочный институт», г. Минск, [email protected] Орлова Ольга Александровна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, [email protected] Пазухин Владимир Николаевич, БашНИПИнефть, г. Уфа, [email protected] Папин Юрий Семенович, ТюмГНГУ, г. Тюмень, [email protected] Пашкевичюс Иозас, Вильнюсский университет, Кафедра геологии и минералогии, Литва Пегель Татьяна Владимировна, ФГУП «СНИИГГиМС», г. Новосибирск, [email protected] Перегоедов Леонид Григорьевич, ФГУП «СНИИГГиМС», г. Новосибирск, [email protected] Перфильев Ю.А., КузГПА, г. Новокузнецк Пискун П.П., ЗАО «Поляргео», [email protected] Покровский Борис Глебович, ГИН РАН, Москва Пономарева Галина Юрьевна, Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), г. Пермь, [email protected] Пономаренко Евгений Сергеевич, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Пороховниченко Любовь Георгиевна, ТГУ, г. Томск, [email protected] Процько Ольга Сергеевна, ИГ Коми НЦ УРО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Пухонто Светлана Кирилловна, ГГМ им. В.И. Вернадского РАН, Москва, [email protected] Радзевичюс Сигитас, Вильнюсский университет, Кафедра геологии и минералогии, г. Вильнюс, Литва, [email protected] Рахимова Е.В., ВНИГНИ, Москва Реймерс Алексей Николаевич, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва Ремизова Светлана Тихоновна, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, [email protected] Рихоз Cильвиан, University of Graz, Austria, [email protected] Родина Ольга Алексеевна, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, [email protected] Родыгин Сергей Александрович, ТГУ, г. Томск, [email protected] Рожнов Сергей Владимирович, ПИН РАН, Москва Рябинкина Надежда Николаевна, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Рязанцев Алексей Викторович, ГИН РАН, Москва, [email protected] Савина Наталья Ивановна, ТГУ, г. Томск Салдин Виктор Алексеевич, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Саммет Эвальд Юрьевич, ФГУП ПКГЭ, Санкт-Петербург Сандула Андрей Николаевич, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Седаева Куляш Мусамбековна, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, [email protected] Сенников Андрей Герасимович, ПИН РАН, Москва, [email protected] Сенников Николай Валерианович, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, [email protected] Силантьев Владимир Владимирович, КФУ, г. Казань, [email protected] Снигиревский Сергей Михайлович, СПбГУ, Санкт-Петербург Соболев Дмитрий Борисович, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Спиридонов Андрей, Вильнюсский университет, г. Вильнюс, Литва, [email protected] Степанова Татьяна Ивановна, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, [email protected] Сунгатуллина Гузель Марсовна, КФУ, г. Казань, [email protected] Сухов Сергей Сергеевич, ФГУП «СНИИГГиМС», г. Новосибирск, [email protected] Суяркова Анна Алексеевна, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург Улановская Тамара Емельяновна, ЗАО «ВолгоградНИПИнефть», г. Волгоград, [email protected] Уразаева Миляуша Назимовна, КФУ, г. Казань, [email protected] Устьянцева Ольга Юрьевна, ТюмГНГУ, г. Тюмень, [email protected] Филимонова Татьяна Валериевна, ГИН РАН, Москва, [email protected] Фортунатова Наталья Константиновна, ВНИГНИ, Москва Хасанов Ринат Радикович, КФУ, г. Казань, [email protected] Хорачек Михаил, Austrian Institute of Technology, [email protected] Хорошавин Владимир Анатольевич, ОАО «Южгеология», г. Ростов-на-Дону Цыганко Владимир Степанович, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Цыганкова Валентина Александровна, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ЗАО «ВолгоградНИПИморнефть», г. Волгоград, [email protected] Черных Валерий Владимирович, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, [email protected] Чувашов Борис Иванович, ИГГ УрО РАН, г. Екатеринбург, [email protected] Чупров Владимир Сергеевич, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар Шабанов Юрий Яковлевич, ФГУП «СНИИГГиМС», г. Новосибирск, cambrian@ sniiggims.ru Шадрин Андрей Николаевич, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Швец-Тэнэта-Гурий А.Г., ВНИГНИ, Москва Шеболкин Дмитрий Николаевич, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Материалы III Всероссийского совещания Тагариева Резеда Чулпановна, ФГБУН ИГ УНЦ РАН, г. Уфа, [email protected] Танинская Надежда Владимировна, ФГУНПП «Геологоразведка», Санкт-Петербург, [email protected] Тарабукин Владимир Прокопьевич, Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, г. Якутск, [email protected] Тарасенко Анна Борисовна, НМСУ «Горный», Санкт-Петербург, [email protected] Тарасова Т.И., ТатНИПИнефть, г. Бугульма, [email protected] Тельнова Ольга Павловна, ИГ Коми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар, [email protected] Тимохин Александр Владиленович, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, [email protected] Тимохина Ирина Геннадьевна, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, [email protected] Толмачева Татьяна Юрьевна, ВСЕГЕИ, Санкт-Петербург, [email protected] Толоконникова Зоя Алексеевна, КузГПА, г. Новокузнецк, [email protected] Троицкая А.Н., ТатНИПИнефть, г. Бугульма Щеколдин Роман Анатольевич, НМСУ «Горный», Санкт-Петербург Юрьева Зинаида Петровна, Филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «ПечорНИПИнефть», г. Ухта, yurzp@ atknet.ru Язиков Александр Юрьевич, ИНГГ СО РАН, г. Новосибирск, [email protected] Якупов Рустем Раулевич, ФГБУН ИГ УНЦ РАН, г. Уфа, [email protected] 281 ПАЛЕОЗОЙ РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ, ГЕО- И БИОСОБЫТИЯ Материалы III Всероссийского совещания 24–28 сентября 2012 г. Редакторы издательства Т. М. Барабанова, В. И. Гинцбург Корректоры Л. В. Набиева, Д. Е. Крепс Технический редактор С. В. Щербакова Верстка С. В. Щербакова Подписано в печать 6.09.2012. Формат 60 × 84/8. Объем 35,5 печ. л. Уч.-изд. л. 36,5 Тираж 200. Цена договорная. Заказ № 80000333 Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского» (ФГУП ВСЕГЕИ) 199106. Санкт-Петербург, Средний пр. 74 Отпечатано на картографической фабрике ВСЕГЕИ 199178. Санкт-Петербург. Средний пр., 72. Тел. 8 (812) 328-90-91; Факс 321-81-53