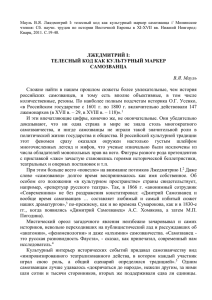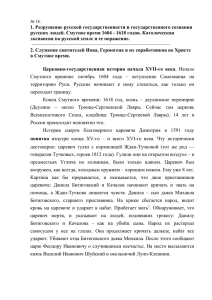ТЕЛО ЛЖЕДМИТРИЯ I В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ И ЗАПАДНОЙ
реклама

ББК 63.3 (2) 4; УДК 94(470). 03.23.31 Commentarii В. Я. Мауль ТЕЛО ЛЖЕДМИТРИЯ I В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ И ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ Как известно, сегодня «ремесло историка» в нашей стране переживает удивительное и необычайно плодотворное время. Методологический монизм безвозвратно канул в Лету, и наступило торжество познавательного плюрализма. В результате ученые решительно вывели на авансцену театра истории живого человека в рутине его повседневности. На фоне историографических трансформаций понятно появление устойчивого интереса исследователей к соматической проблематике в исторической ретроспективе, который задает гносеологический вектор, позволяющий реконструировать более адекватные картины минувшего — увидеть «человеческую историю через телесность»1. Тем не менее, следует признать, что заявленное современными публикациями новое перспективное направление еще не нашло достаточного отражения в практике конкретных исторических исследований. Поэтому «история тела» по-прежнему относится к нереализованному потенциалу отечественной гуманитарной мысли. Познавательно важной для нас представляется исследовательская позиция Ив Левин, поставившей правомерный вопрос о том, «какие представления имели русские позднего Средневековья о человеческом теле, живом и мертвом…?»2 В этой связи вызывает немалый интерес попытка апробировать названные познавательные стратегии на конкретном примере истории первого российского самозванца, чье тело можно рассматривать как семиотически значимый источник для исторических интерпретаций. Заметим, что в нашем прошлом сложно найти сюжеты более увлекательные, чем история самозванцев. В российской культурной традиции этот феномен оказался окружен настолько густым шлейфом многочисленных легенд и мифов, что ученые изначально были исключены из числа обладателей монопольных прав на него. 1 Зарецкий Ю. П. «Тело», современная медиевистика и автобиографизм Епифания Соловецкого // Средние века. Вып. 63. М., 2002. С. 101. 2 Левин И. От тела к культу // Левин И. Двоеверие и народная религия в истории России. М., 2004. С. 163. 2012. № 2 (12). Июль – декабрь 107 Studia Slavica et Balcanica Petropolitana Фигуры разного рода претендентов с приставкой «лже» зачастую становились героями исторической беллетристики, театральных и оперных постановок. При этом больше всего «повезло» на внимание потомков Лжедмитрию I. Даже слово «Самозванец» долгое время воспринималось как имя собственное. Мистический ореол загадочного явления неизбежно зачаровывал и самих историков, невольно переходивших на публицистический лад и рассуждавших об «анатомии», «феноменологии» и даже «алхимии» самозванчества. Одним самозванцам лучше удавалось «докричаться до народа», нежели другим, за ними шли сотни и тысячи сторонников, вторых же поддерживали едва ли единицы. Иначе говоря, российское самозванчество явило миру многоцветную палитру «верхних» и «нижних» самозванцев, «авантюристов», «пропагандистов», «бунтарей», «марионеток», «реформаторов», «блаженных» и мн. др. Являясь наиболее яркой проекцией народной монархической утопии, самозванчество аккумулировало в себе целый комплекс архаических стереотипов, ориентаций и установок, характерных для доиндустриальных цивилизаций. Многие из них давно и плодотворно изучены в научной литературе. Однако телесный код как культурный маркер самозванцев мало привлекал внимание историков. Признавая его имманентным идентификатором традиционной культуры, отметим пристальный интерес современников именно к телу первого самозванца. В нашем культурном казусе оно фигурирует дважды. Первый раз при описании внешности в процессе зарождения и развития самозванческой интриги и затем — в связи с символическим глумлением над ним после убийства. Дмитрий выглядел лет на 20–25, был «толстоват», роста скорее «малаго, чем средняго», «мужчина крепкий и коренастый», «широкоплечий», «с сильными и жилистыми членами», «обладал большою силою в руках», «волосы были темные и жесткие», лицо имел смугловатое, «круглое, некрасивое» «с толстым носом, возле которого была синяя бородавка» «под правым глазом», «глаза карие», «большой рот», а бороды и усов «совсем не имел». «Он тем еще отличался от других, что одна рука у него была немного длиннее другой»3. Необычная внешность и непривычные поведенческие стратегии внезапно объявившегося «истинного» царя/царевича не могли не вызвать противоречивых реакций со стороны «зрителей». Антиномично выраженные воображаемые и вербальные рефлексии мотивировались тем, что они пропускались через сознание представителей разных культурных традиций. Если для Европы уже фактически началось Новое время, и был характерен преимущественно прагматично-рациональный склад ума, то «московиты» отличались эмоционально-образной «картиной мира», в которой большую роль все еще играли мифологические мотивы. К этому добавим, что и сам «язык тела не универсален, он в значительной мере обусловлен социальными, культурными и историческими факторами»4. Среди зарубежных авторов практически не было людей совсем посторонних, большинство из них, так или иначе, находились в самой гуще социально-политической борьбы 3 Чиямпи С. Критический разбор неизданных документов, относящихся до истории Димитрия, сына московскаго великаго князя Иоанна Васильевича // Калачов Н. В. Архив исторических и практических сведений, относящихся до России. СПб., 1860. Кн. 1. С. 19, 42; Записки Станислава Немоевского // Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие И. А. Вахрамееву. М., 1907. Вып. 6. С. 118; Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. М., 1937. С. 143; Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета. М., 1982. С. 204; Петрей П. Достоверная и правдивая реляция // Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в записках современников. М., 1989. С. 178. 4 Соколов А. Б. История тела: Предпосылки становления нового направления в историографии // Диалог со временем. Вып. 26. М., 2009. С. 206–207. 108 Петербургские славянские и балканские исследования В. Я. Мауль. Тело Лжедмитрия I в контексте... 5 Чиямпи С. Критический разбор… С. 42, 50; Записки Станислава Немоевского… С. 118; Масса И. Краткое известие о Московии… С. 143; Петрей П. Достоверная и правдивая реляция… С. 178; Буссов К. Московская хроника. 1584–1613. М.; Л., 1961. С. 111. 6 «Временник» Ивана Тимофеевича Семенова // Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в записках современников. М., 1989. С. 103; Четыре сказания о Лже-Димитрии, извлеченные из рукописей Императорской Публичной библиотеки. СПб., 1863. С. 66–67; Иное сказание // Смута в Московском государстве: Россия начала XVII столетия в записках современников. М., 1989. С. 39. 77 Вендина Т. И. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. М., 2002. С. 71. 2012. № 2 (12). Июль – декабрь 109 Commentarii в Московском государстве начала XVII в. К тому же, это были не высокообразованные интеллектуалы, но, чаще всего, разного рода наемники, искатели приключений и авантюристы всех мастей. Иностранцы вполне комплиментарно называли претендента «очень способным и послушным», восхищались «храбростию и умом не по летам», наделяли «необыкновенными способностями». «По его глазам, ушам, рукам и ногам было видно, а по словам и поступкам чувствовалось, — словно резюмировал общее мнение саксонский наемник Конрад Буссов, — что был он совсем иной Гектор, чем прежние…»5 Куда менее благосклонны к Дмитрию русские источники, практически единодушно настаивавшие, что самозванец явился «вполне сатаной и антихристом во плоти», «естеством плоти зело невзрачен и скупоростен, а сердцем лют и свиреподушен», квалифицировали его как «сатанина угодника и возлюбленного бесами»6. Отметим доминирование эсхатологических, а не соматических критериев в отзывах отечественных современников, и это вполне понятно. Во-первых, большинство повестей и сказаний о Смутном времени появились позже описываемых событий, когда страсти и эмоции по первому самозванцу несколько улеглись и отошли в прошлое. Создатели этих произведений успели определить собственное отношение к проигравшему и разоблаченному авантюристу и пытались использовать его историю в конкретных политических, идеологических и назидательных целях. Во-вторых, в подобных оценках, несомненно, проявилась «общая установка культуры Средневековья, характеризовавшейся отсутствием интереса к человеку физическому, а также установка средневекового мышления, которое носило по преимуществу дидактический характер». В результате человек, в глазах воспринимающих, превращался «в субъект морального выбора»7. По сути дела, мы сталкиваемся здесь с феноменом «двух тел короля», которые следовало предполагать и у самозванца, как эманации царской харизмы. Причем важно было не само по себе тело как таковое, но именно его культурный дискурс, когда мирское тело с необходимостью давало информацию о священном. В пространстве традиционного локуса оно выступало не просто в своей профанной ипостаси, как физическая реальность, но и как культурный знак, обозначающий заложенный в нем символический смысл. Тем более что подразумевалось тело столь высокой сакральной значимости. Обозначаемое (истинный царь) и обозначение (я и есть царь) в семиотическом контексте эпохи должны были отождествляться. Поэтому тело названного претендента, наряду с другими «доказательствами» могло восприниматься как культурный маркер идентичности, способ подтверждения или опровержения его «истинности». С такими аксиологическими запросами русские очевидцы и должны были подходить к Лжедмитрию, чье тело провоцировало множество семантических коннотаций, требуя адекватного «прочтения». Но уже на этой стадии в механизме культурной идентификации возникали серьезные сбои. Через соматические признаки претендента не только не происходило его «узнавание» как истинного царя, но, напротив, тело внешними Studia Slavica et Balcanica Petropolitana особенностями и способами позиционирования вызывало многочисленные подозрения. Взбудораженное предощущением «последних времен» сознание средневековых «московитов» настороженно предполагало, что «герой может скрывать свою идентичность и стремиться к ложной идентификации со стороны других»8. Попытки верно его распознать детерминировали стремление понять суть загадочного явления, пугающего именно своей неопознанностью и таинственностью. В этом им помогали многочисленные, так сказать, «аксессуары», среди которых наиболее надежными традиционно считались признаки внешнего вида, и, прежде всего, особенности телосложения. Явной, бросавшейся в глаза телесной аномалией названного Дмитрия была бородавка на лице, располагавшаяся на видном месте около носа. Правда, среди свидетелей нет единодушия о том, с какой она находилась стороны. Одни полагали, что бородавка располагалась «около носа, под правым глазом», в то время как другие «размещали» ее «на левой стороне носа». Имеются даже сведения, что на лице самозванца было «две бородавки — одна большая под носом, другая поменьше у праваго глаза…»9 В любом случае, нам известно об ее синем цвете. Бородавка могла актуализировать в коллективной мифологической памяти длинный ассоциативный ряд божьих отметин, свидетельствовавших о нечистоте и демонической природе человека. Согласимся с мнением английской исследовательницы Морин Перри, что эти приметы были еще «далеки от мистических “царских знаков”, таких как кресты или звезды на теле, которые демонстрировали последующие русские самозванцы как доказательство своей идентичности»10. Недостаточно репрезентативное отражение данного сюжета в источниках начала XVII в. не было случайностью. Для времен Смуты сакральные запросы типа «у государей-де бывают на теле царские знаки» еще не очень характерны. Феномен самозванчества только рождался на глазах изумленных современников, чьи поведенческие реакции могли адаптировать его в своем сознании лишь через архетипические образы. Вполне коррелировали с символическим пониманием отметин массовые поверья, согласно которым бородавки возникают от лягушек и жаб, считавшихся хтоническими животными, нечистыми дьявольскими созданиями, злыми духами, обладавшими демоническими свойствами, способностью насылать на человека чары. Не удивительно, что бородавки неизменно оказывались объектом народных обрядово-ритуальных манипуляций. В культурной традиции славянских народов бородавки связаны с магическими заговорами, краткими вербальными формулами исцеления. Выросшая бородавка не имела никаких жизнеутверждающих коннотаций, она предвещает смерть кого-либо из близких, и по ней можно узнать, от чего человек умрет. На архетипическом уровне покрытая бородавками кожа человека означала, что он — антитотем, жаждет власти, подавляет других и любит приписывать себе чужие достоинства. Иначе говоря, бородавка могла рассматриваться как знак отрицательной сакральной отмеченности. Бородавки на лице, с точки зрения бытовой религиозности, было достаточно, чтобы включить тело Лжедмитрия в символический круг народной магии. Окрас же бородавки Софронова Л. А. О проблемах идентичности // Культура сквозь призму идентичности. М., 2006. С. 14. Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета. С. 204; Петрей П. Достоверная и правдивая реляция… С. 178; Гиршберг А. Марина Мнишек. М., 1908. С. 12. 10 Perrie M. Pretenders and popular monarchism in early modern Russia: The false tsars of the Time of Troubles. Cambridge, 1995. P. 67. 8 9 110 Петербургские славянские и балканские исследования В. Я. Мауль. Тело Лжедмитрия I в контексте... Вендина Т. И. Средневековый человек… С. 246, 244. Гиршберг А. Марина Мнишек. С. 19; Петрей П. Достоверная и правдивая реляция… С. 189, 178; Иное сказание… С. 50, 53; Масса И. Краткое известие о Московии... С. 144–145. 13 Кабакова Г. И. Нос // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 2004. Т. 3. С. 435–436. 11 12 2012. № 2 (12). Июль – декабрь 111 Commentarii лишь подчеркивал его адресованность к злым, колдовским силам, т. к. «цвет в средневековом сознании наряду с денотативной обладал символической функцией, т. е. “работал” не только или даже не столько в онтологическом, сколько в метафорическом регистре». Поскольку в славянской культуре «цветовая палитра выражена довольно бедно»11, многие цвета воспринимались ассоциативно, вызывая разнообразные религиозные или социальные проекции. Темный цвет кожи и глаз в мифологической традиции стабильно считался одной из устойчивых характеристик колдунов. Вспомним, что названный Дмитрий также имел карие глаза, темные волосы и смугловатое лицо. Конечно, только наличие бородавки не могло полностью травестировать образ предполагаемого «истинного» царя/царевича, но являлось симптоматичным предупреждением для людей, воспринимавших объективную реальность через призму эсхатологических ожиданий и имевших основания полагать, что «беззаконие» нарастает, а это — верный признак прихода Антихриста. Не забудем, что речь идет об эпохе приближения «последних времен», мыслившихся современниками как вполне актуальная идея. Однако существование отметин само по себе не всегда говорило о принадлежности человека к числу именно вредных «чужих», но и о том, что их носитель — это просто «знающий» человек, наделенный сверхъестественными свойствами, который мог быть полезен людям во многих житейских ситуациях. Отношение к таким «меченым» было настороженным, но не обязательно враждебным. В нашем случае многое зависело от того, как позиционируется тело предполагаемого царя, к которому прикладывали нормативистский ранжир традиционной культуры, четко установившей границы дозволенного и недозволенного поведения. Например, если среди наиболее табуированных религиозной моралью норм были плотские наслаждения, то названный Дмитрий регулярно обвинялся в необузданной (сверх меры/нормы) похоти. Опасные персонажи («чужие») в народном представлении так и должны были «узнаваться» — по признаку избыточности или недостаточности внешнего вида и действий, отличаться от «своих» тем, что они аномальны в социальном, моральном и физическом отношении. Неудивительно, что источники неоднократно писали о реальных или мнимых сексуальных «подвигах» самозванца, и даже в Польшу доходили известия «о слишком разгульной жизни Димитрия, главным образом о его многочисленных связях с прекрасным полом». Утверждали, что «осквернитель девственности» предполагаемый Дмитрий «лишил девичества» дочь царя Бориса Ксению Годунову, «чтобы ему красоты ее насладиться», «многих юных монахинь осквернил» и «обрюхатил», а кроме того «всякую ночь растлевал новую девицу12. Толстый нос самозванца лишь усиливал общую эротическую тональность предполагаемых сексуальных вакханалий. В традиционной культуре он «выступает важным каналом связи с внешним миром и напрямую соотносится с материально-телесным низом... через нос внутрь тела может проникать нечистая сила и ее “агенты”, при этом по форме и размерам носа «судят о мужских качествах его обладателя: чем больше и прямее нос, тем крупнее член»13. Заметим, что фаллической символике и телесной наготе вообще славянская мифология отводит значительное место, подчеркнуто акцентируя ее в праздничных Studia Slavica et Balcanica Petropolitana развлечениях, например, в ходе святочных игр: «Ряженые мужики и парни не только демонстрировали девушкам свой срам, но и вели себя агрессивно по отношению к ним: били или стегали их пониже спины, тискали, валяли по полу, а иногда даже поднимали за ноги и натирали им снегом между ног». Эротический анонс отразился и в поведении современников в отношении тела Лжедмитрия. Известно, что во время расправы над ним заговорщики явно неслучайно положили карнавальную маску не куда-нибудь, но «на живот у стыдного места», а московские простолюдинки, беззастенчиво глазея на полностью обнаженный труп самозванца, зачастую «непристойно выражались о его стыдном месте…»14 Таким образом, в символических ассоциациях тела нарочито подчеркивались признаки, оцениваемые в народной культуре негативно и сближаемые со значениями «чужой», «природный» и «демонический», что могло порождать еще большую людскую настороженность. Вероятные сомнения русских современников должны были буквально взрываться феерией подозрений из-за отсутствия у Лжедмитрия бороды. Это не могло не шокировать наблюдавших его воочию или узнававших о таком визуальном кощунстве со слов других: «видящим его тогда он представлялся ничем не меньше самого антихриста»15. Сведения источников показывают, что самозванец не просто брил бороду, но вообще не имел растительности на подбородке. Столь явно выраженная телесная аномалия провоцировала архетипические припоминания о том, что отсутствие поросли на верхней губе и подбородке у мужчин считалось свидетельством их принадлежности к категории ведунов. И наоборот: борода — это признак мужественности, воплощение жизненной силы, роста, плодородия, но в первую очередь атрибут бога, по образу и подобию которого создан человек. В эмоционально-образной «картине мира» средневекового человека борода занимала важное положение, а в нормативном пространстве обычного права «лишение бороды являлось ритуализованной формой унизительного наказания»16. Вспомним, например, как Борис Годунов назначил боярину Б. Я. Бельскому «в наказание позорную казнь, установленную городскими законами, какою по городам казнили злодеев, разбойников и взяточников». Вельможе вырвали «пригоршнями всю густую длинную бороду». Любопытно, что поводом к такой расправе послужили подозрения в связях опального вельможи с нечистой силой. По словам современников, «Богдан Бельский… ведает, чем человека испортить и чем его опять излечить, да и над собою Богдан то делывал, пил зелье дурное, а после того пил другое», он «знает всякие зелья, добрые и лихие… да и то знает, что кому добро зделать, а чем ково испортить…»17 Анализируя символическое анти-поведение в русской культурной традиции, Б. А. Успенский доказывал, что оно «исключительно характерно для ритуала наказаний», которые «были направлены на публичное осмеяние (бесчестье) и, в конечном счете, на принудительное или разоблачительное приобщение к “кромешному”, перевернутому миру», осмысляемому «как потусторонний или же как бесовской». Не забу14 Агапкина Т. А., Валенцова М. М., Топорков А. Л. Нагота // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 2004. Т. 3. С. 355, 359; Буссов К. Московская хроника… С. 128. 15 «Временник» Ивана Тимофеевича Семенова… С. 106. 16 Левкиевская Е. Е. Борода предорогая… // Категории и концепты славянской культуры. Труды отдела истории культуры. М., 2007. С. 111; Констебл Дж. Бороды в истории. Символы, моды, восприятие // Одиссей. Человек в истории. М., 1994. С. 172. 17 «Временник» Ивана Тимофеевича Семенова… С. 87; Буссов К. Московская хроника… С. 93; Из следственного дела Богдана Бельского // Археографический ежегодник за 1985 год. М., 1986. С. 303. 112 Петербургские славянские и балканские исследования В. Я. Мауль. Тело Лжедмитрия I в контексте... 18 Успенский Б. А. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1996. С. 466; Белова О. В. Бес // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1995. Т. 1. С. 165. 19 Записки Станислава Немоевского... С. 118. 20 Иное сказание… С. 53; Масса И. Краткое известие о Московии… С. 144–145. 2012. № 2 (12). Июль – декабрь 113 Commentarii дем также, что в древнерусской иконописной традиции безбородыми и вообще безволосыми принято было изображать бесов (говорили так: «лысый черт», «лысый бес»), а литературные памятники отмечали, в частности, что бес может предстать как «нагой женоподобный отрок»18. Борода считалась свидетельством маскулинности и была едва ли не единственным в те времена видимым гендерным различием. Неслучайно у всех традиционных народов длинные и густые волосы символизировали половую силу, и наоборот. Отрезать у коголибо волосы означало подавить мужское начало, что на языке традиционной культуры фактически отождествлялось с кастрацией. В глазах современников не имевший бороды Лжедмитрий словно бы примерял на себя женскую маску, оказывался ряженым, имплицитно акцентируя эротический дискурс тела, и в то же время органично вписывался в локус народной смеховой культуры. Симптоматично, что во внешности самозванца один из современников отметил его «бабье лицо»19. Поведение венценосного, но безбородого претендента императивно предполагало возможность нарушения им существующих культурных запретов. Поэтому перемена мужского/женского начала приобретала особое семантическое звучание. Воображаемая культурная инверсия могла экстраполироваться на неправильные сексуальные отношения, в которые оказывалось вовлеченным тело Лжедмитрия. Поскольку в народной традиции любые отклонения от нормы осмысливались как признак демонического или «чужого», им присваивался характер анти-поведения. В этом смысле едва ли не закономерными следует считать сведения современников о сексуальной девиантности самозванца, обвиняемого даже в содомском грехе. Сообщалось, как он развратил «многих отроков», «растлил одного благородного юношу из дома Хворостининых… и держал этого молокососа в большой чести, чем тот весьма величался и все себе дозволял»20. Другие отмеченные визуальные аномалии «проклятого еретического тела» Лжедмитрия, в том числе нарушение пропорций (руки разной длины), нечистые пальцы на ногах и длинные ногти, гипертрофированность признаков его частей (жилистые члены, большой рот, большая сила в руках), работали в том же разоблачительном направлении. Таким образом, очевидно, что русским нарративным источникам начала XVII в. была свойственна недвусмысленная убежденность в его самозванстве. В то же время народная мифологическая традиция также давала своим адептам основания подозревать, что нареченное сакральное тело в целом и в частности намекает на свою демоническую природу. Неслучайно некоторые уверяли, «что то был сам дьявол». Иные же в этом по-прежнему осторожно сомневались, так что вопрос с идентификацией «истинного» царя/царевича не мог быть изначально предрешенным. Вследствие его отклонений от внешних стандартов в народе доминировало настороженное отношение к подозрительному «чужаку». Необходимы были дополнительные аргументы, в том числе телесные, чтобы всеобщие сомнения временно уступили место массовому доверию. Показательно, что даже казаки, активно участвовавшие в перипетиях Смутного времени, не спешили признавать претендента истинным царем: «ни одно из формирующихся на Днепре, Studia Slavica et Balcanica Petropolitana Дону, Волге вольных казачьих войск не выступило сразу и однозначно в поддержку самозванца в начале его движения»21. Не стоит забывать, что в те времена привычным и даже единственным каналом распространения информации были слухи, которым, вследствие этого, невозможно было не верить. При столь высоком значении устного слова в традиционной культуре оно могло намеренно использоваться в различных политических манипуляциях, например, с целью дезавуировать противников и легитимировать объявившегося «сына» грозного царя. В такой ситуации, обращаясь с воззваниями к народу, самозванец сознательно, но оправданно шел на известный риск, публично акцентируя черты собственного визуального сходства: «Поставьте меня перед Мстиславским и моею матерью, которая, я знаю, еще жива, но терпит великое бедствие под властью Годуновых, и коли скажут они, что я не истинный Димитрий, то изрубите меня на тысячу кусков»22. Надо признать, это был сильный и результативный вербальный ход претендента в поисках людской доверчивости и доверившихся. Обеспокоенный современник тревожился, что «по научению дьявола, отца всякой лжи и лести», самозванец соблазняет «всех сладкими словами, будто медом».23 Неизгладимое впечатление на простолюдинов произвело долгожданное «опознание» Марией Нагой по внешнему виду своего «чудом спасшегося», но успевшего вырасти без материнской ласки ребенка. Серьезным добавлением на чашу весов венценосного кандидата стали позиция и свидетельства людей, по их словам, помнивших, как выглядел Дмитрий еще в младенческом возрасте. После же того как явленного государя в Москве торжественно встретили «митропалиты, архиепискупы и епискупы, и архимариты, и игумены, и весь причет церьковный со кресты и с образы, по царьскому же чину», остатки сомнений должны были быть отброшены24. Самозванец получил необычайно высокий «кредит доверия» со стороны различных сословий, что и обеспечило ему грандиозный триумф. По свидетельству иностранцев, названному Дмитрию удалось привлечь «к себе сердца почти всего народа», люди «взирали на него, как на восходящее солнце», «каждодневно перебегали к нему»; «Московиты падали перед ним ниц и говорили: “Дай господи, государь, тебе здоровья! Тот, кто сохранил тебя чудесным образом, да сохранит тебя и далее на всех твоих путях!”», «Ты — правда солнышко, воссиявшее на Руси»25. Но удержаться на такой сакральной высоте было намного труднее, чем покорить ее, ибо по «сценарию», писавшемуся традицией, победитель всем видом и делами ежедневно должен был изыскивать убедительные аргументы в свою пользу. Иначе ему грозило всеобщее разочарование, отказ от поддержки и, как следствие, полный провал всего начинания. Развенчание правителя могло состояться в любую минуту при первой же ошибке. В контексте массовых настроений важным представлялось, насколько убедительно профанное тело «царя Дмитрия» формировало сакральные репрезентации властителя, и насколько они соответствовали мифологическим императивам народного монархизма. Здесь не могло быть второстепенных сюжетных ходов или малозначительных деталей. В символической интерпретации русских людей любая «мелочь» 21 Тюменцев И. О. Азовский поход Лжедмитрия I и вольное казачество // Казачество в южной политике России в Причерноморском регионе. Ростов-на-Дону; Азов, 2006. С. 118. 22 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 93. 23 Иное сказание… С. 45. 24 Пискаревский летописец // ПСРЛ. М., 1978. Т. 34. С. 207. 25 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 92–93; Буссов К. Московская хроника… С. 109. 114 Петербургские славянские и балканские исследования В. Я. Мауль. Тело Лжедмитрия I в контексте... Буссов К. Московская хроника… С. 117; Гиршберг А. Марина Мнишек. С. 20; Иное сказание… С. 55. Мархоцкий Н. История московской войны. М., 2000. С. 26. 28 Россия начала XVII в. Записки капитана Маржерета. С. 201. 29 Соколов А. Б. Тело как способ идентификации «Другого» // Диалог со временем. Вып. 33. М., 2010. С. 219. 30 Новый источник по истории восстания Болотникова [Казанское сказание] // Исторический архив. М.; Л., 1951. Т. VI. С. 99; Пискаревский летописец… С. 207. 26 27 2012. № 2 (12). Июль – декабрь 115 Commentarii становилась сущностно важной. Огромную роль играло то, как с внешней стороны выглядело его тело (телесный код), во что оно было одето (код одежды), каковы были состав и качество принимаемой еды (пищевой код), двигательные манипуляции тела (поведенческий код) и т. д. Ключевую роль играл тот фактор, что Лжедмитрий был несомненным продуктом элитарной интриги, кто бы ее ни инспирировал. Пусть он и был «заквашен в Москве», но ведь «испечен в польской печке», а потому в ситуации семиотического двуязычия нередко использовал неверные «телесные жесты». Наглядным примером антагонистического «столкновения цивилизаций» стали московские свадебные торжества нового монарха и его нареченной невесты Марины Мнишек. Устроенные в те дни в кремлевских царских палатах празднования «к немалому соблазну народа» проходили «в роскоши и веселье, в пирах и трапезах с пением и плясками». Своей видимой бесовщиной они не могли не травмировать народную религиозность, с точки зрения которой пляски нечистой силы — дело вполне обычное: они водят хороводы, хлопают в ладоши и играют на музыкальных инструментах. Впоследствии массовые слухи уверенно утверждали, что и по смерти самозванца над его могилой «многие люди слышали в полночь и до самых петухов громкие вопли и бубны и свирели и прочие бесовские игрища над его телом: так сатана радовался приходу своего слуги»26. Добавим сюда «кощунство» пищевого рациона («жрет нечистую пищу»), иноземную одежду, которую он часто носил, а также необычные поведенческие практики (отменил и не соблюдал «многие нескладные московитские обычаи и церемонии»). И в результате, с точки зрения коллективного восприятия, получим практически готовый портрет ложного царя. Противникам самозванца не надо было даже прилагать изрядных усилий, чтобы убедить в этом простонародье. Столица и без того полнилась мистическими слухами и с тревогой негодовала, сознавая свою оплошность. Прав был один из активных польских участников событий, проницательно заметивший: «Когда же состоялась свадьба, царь перестал нравиться москвитянам: они стали подозревать, что он самозванец»27. Произошедшая переоценка ценностей предопределила и закономерный эпилог всей интриги, когда в «роковой день» «император Дмитрий Иванович был бесчеловечно убит» заговорщиками28. Анализ обстоятельств его смерти особенно важен, поскольку конструирование образа «чужака» происходит также «через описание телесных практик или каких-то особых действий, служащих для нанесения чрезвычайной физической боли»29. Причем переживаемая боль тела метафорически могла восприниматься как его внутреннее страдание и духовное искупление. Надо полагать, что последовавшие символические манипуляции с трупом самозванца не только имели цель развенчивания ложного кумира в глазах рядовых москвичей, но и носили явный эсхатологический характер. Это был своего рода обряд священного заклания как искупительной жертвы в дар Господу. Поскольку историей самозванца «грех ради наших божий превеликий гнев разлился», постольку теперь публично совершался сакральный акт очищения Московского государства от скверны дьявольского наваждения. Неслучайно в одном из русских источников прямо говорилось, что «убил ево бог неведимою силою»30. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana В необузданной ненависти толпы, глумившейся над поверженным вчерашним героем, отразилась вся ярость разочарования и неоправдавшихся ожиданий. Все сведения на этот счет буквально леденят кровь смакованием жутких подробностей произошедшего. Приведем одно из наиболее живописных свидетельств о посмертных надругательствах над телом: «Враги убивают его и на веревке, затянутой вокруг шеи, по грязи тянут на рынок на глазах черни. Тут они его постыдно обнажили, плевали на него, отрезали нос и уши, испачкали труп в зловонных клоаках, привязали к хвосту лошади и всячески издевались над ним. Наконец оставив его в течение двух дней на рынке... Они обливали его голову помоями и вонючей жидкостью, а на третий день, привязав к шесту, сожгли»31. Мертвое тело «нечистого покойника» превратилось в ритуальный объект вымещения отрицательных эмоций недавних верноподданных. Возможно, мы сталкиваемся здесь с известным из средневековых источников ритуалом поругания умершего правителя. Поведение «московитов» вполне соотносится с неоднократно повторявшейся в истории Западной Европы ситуацией панических состояний, эмоциональных взрывов, тотальных грабежей и разрушений, следовавших немедленно после кончины папы римского или короля. По мнению А. Я. Гуревича, они «имели место в недрах социально-культурной системы, которая воспроизводила себя в горизонте апокалиптической эсхатологии. Идея «конца времен», близящегося появления Антихриста и вселенского финала — Второго пришествия, так или иначе присутствовала в сознании верующих. По временам Страшный суд ощущался в качестве непосредственной угрозы, сроки исполнения которой неведомы, но близки»32. Описывая данные казусы, европейские хронисты обычно назидательно заявляли: «Вот могущественный герой, которому некогда ревностно служили более ста тысяч рыцарей и которого в ужасе опасались многие племена, — теперь позорно ограблен своими же в чужом доме и оставлен на голой земле»33. Именно подобным образом реагировали наблюдатели-иностранцы на посмертные надругательства над телом убитого московского царя: «Так внизу в грязи валялся гордый и отважный герой, который еще вчера восседал в большом почете и своею храбростью прославился во всем свете»34. Однако в контексте российской ментальности предпринимаемые действия психологически интерпретировались через мифологические практики изгнания и нейтрализации нечистой силы. Поскольку колдуны даже «после своей смерти много делают зла людям», народная культура предусмотрела ряд специальных охранительных мер. С этой целью «мертвеца перекладывают в другую могилу или же, вырыв, подрезывают пятки и натискивают туда мелко нарезанной щетины, а иногда просто вбивают в могилу осиновый кол». Так и с трупом названного Дмитрия — «в серца ему велели вбить кол»35. Но, видимо, слишком значительной была колдовская сила, заключенная даже в мертвом теле бывшего царя («так тяжело проклятие на тебе, окаянном»), что не помогали и веками установленные ритуальные процедуры, ни Мать сыра Земля, не желавшая 31 Стадницкий М. История Димитрия, царя Московского и Марии Мнишковны, дочери воеводы сандомирского, царицы Московской // Иностранцы о древней Москве (Москва XV–XVII веков). М., 1991. С. 236. 32 Гуревич А. Я. «Время вывихнулось»: Поругание умершего правителя // Одиссей: человек в истории. М., 1993. С. 225. 33 Бойцов М. А. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. М., 2009. С. 283. 34 Буссов К. Московская хроника... С. 122. 35 Зеленин Д. К. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. М., 1995. С. 62–63; Пискаревский летописец… С. 207. 116 Петербургские славянские и балканские исследования В. Я. Мауль. Тело Лжедмитрия I в контексте... 36 Агапкина Т. А. Кол // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. М., 1999. Т. 2. С. 528; Новый источник… С. 100. 37 Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 220. 38 Масса И. Краткое известие о Московии… С. 145. 39 Буссов К. Московская хроника... С. 122. 2012. № 2 (12). Июль – декабрь 117 Commentarii его принимать, ни осиновый кол. И только великая очистительная сила огня, в конце концов, смогла избавить русскую землю от «смрадного дыхания» «сына погибели», пепел которого был развеян по ветру. Заметим, что в момент расправы над самозванцем с помощью кола в восприятии современников семантически вновь актуализировалась идея «двух тел короля». С сакральной точки зрения, использование кола в качестве предмета-оберега обусловливалось стремлением магическим путем нейтрализовать нечистую силу, т. к. он «считался эффективным средством против ходячих покойников и вампиров». Но в профанном контексте культуры вбивание кола в тело покойника означало унижение и понижение незаслуженно высокого. В качестве известного фаллического символа кол относился к числу так называемых сексуальных образов и гротескно акцентировал материальнотелесный низ. Вполне коррелируют с данными рассуждениями сведения о том, что в европейской традиции с помощью кола принято было наказывать преступников, изнасиловавших свои жертвы. Причем иной раз кол-фаллос вбивался не только в грудь или горло, но и в рот насильника. Не должно вызывать удивления, что современник событий счел необходимым самым уничижительным образом охарактеризовать гибель самозванца: «срамною смертью (курсив мой. — В. М.) от рук правоверных скончася»36. Очистительному характеру обряда соответствовала, в том числе, и ритуальная брань в адрес «заложного мертвеца», возможно, употребляемая в качестве оберега как спасения от нечистой силы. Но в нашем случае обсценная лексика могла иметь и пародийный смысл, реанимируя святочные мотивы игры «в покойника», во время которой «отпевание», как известно, состояло из отборных ругательств. Как отмечал по поводу аналогичных европейских казусов М. М. Бахтин, в системе образов смехового мира короля «всенародно избирают, его затем всенародно же осмеивают, ругают и бьют, когда время его царствования пройдет…»37 Подобным же унижениям и насмешкам теперь подвергалось и мертвое тело названного Дмитрия. Смех в этих условиях выполнял психотерапевтическую роль, снимая накопившийся в обществе эмоциональный заряд, восстанавливая психологическое равновесие и ликвидируя душевный дисбаланс. Сосчитавший все раны на теле убитого самозванца Исаак Масса отметил, что «их было двадцать одна, и сверх того череп его был рассечен, так что оттуда вывалились мозги»38. Обратим внимание, что в эпизодах убийства и глумления объектами насилия выступали, прежде всего, голова и все что с ней связано, а также материально-телесный низ («стыдное место», живот). Культурная семантика направленности таких ударов акцентирует мотивы социализации и статусной стратификации, которые в нашем случае выполняют понижающую роль, т. е. содержат указание на подлинное невысокое место жертвы. Убийцы обращаются к нему с вопросами: «Эй, ты, сукин сын, кто ты такой? Кто твой отец? Откуда ты родом?». Иронизируют по поводу его монаршего сана: «Смотрите, каков царь всея Руси», другой говорил: «Такой царь у меня дома на конюшне»39. При этом не столь важно, насколько точно источники отразили произнесенные слова. В контексте изучаемых представлений имеет значение, что именно в таком виде они зафиксировались в культурной памяти эпохи. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana Подводя итоги, заметим, что предложенная реконструкция телесного кода как культурного маркера не претендует на истину в последней инстанции. Это всего лишь один из возможных вариантов истолкования источников и народной мифологии. При желании в нем могут быть обнаружены определенные изъяны с точки зрения строгой научной верификации. Однако опасности такого рода следует признать неизбежными, поскольку прошлое, «как оно, собственно, было», недоступно взору историка. Наш культурный казус со всей очевидностью доказал, что соматические признаки предполагаемого Дмитрия формировали вполне определенное отношение к нему со стороны современников, зачастую решая вопрос веры или неверия названному претенденту. Несомненно, что в то время культурный анализ телесных особенностей и их восприятие проходили по линии размежевания «свой»/»чужой». Для иностранцев эта дихотомия рационалистически означала противопоставление, так сказать, цивилизованного Запада и «дикой» России, в то время как для самих россиян она сакрализовалась через антитезу божественного и демонического. К такому же выводу приводит нас и изучение обстоятельств убийства Лжедмитрия и посмертной судьбы его тела. Становится понятным, что насилие в истории всегда культурно конструируется и интерпретируется, но по-разному в специфических культурных контекстах. Если для иностранцев манипуляции с поверженным телом служили еще одним доказательством грубости нравов и варварства «московитов», то для наших соотечественников они ритуально символизировали восстановление социальной правды на земле через десакрализацию незаслуженно высокого. В изуверской и кажущейся нам неоправданной жестокости заключался определенный магический смысл, поиск самооправдания и одновременно признание греховности своих заблуждений. Данные о статье Автор: Мауль, Виктор Яковлевич, доктор исторических наук, профессор кафедры гуманитарных и экономических дисциплин Нижневартовского филиала Тюменского государственного нефтегазового университета, Нижневартовск, Россия, [email protected] Заголовок: Тело Лжедмитрия I в контексте русской и западной культурных традиций Резюме: В статье предпринята попытка использовать современные методологии для анализа внешности первого самозванца в контексте отечественной и западной культурных традиций. Исследуются восприятие русскими и европейскими современниками физических особенностей Лжедмитрия I и его убийства с последующим символическим надругательством над телом. Показано, что соматические признаки самозванца по-разному воспринимались участниками и свидетелями тех драматических событий в зависимости от того, носителями какого культурного багажа они являлись. Ключевые слова: первый самозванец, телесный код, культурные традиции, особенности внешности, символика насилия Литература, использованная в статье Агапкина, Татьяна Алексеевна; Валенцова, Марина Михайловна; Топорков, Андрей Львович. Нагота // Славянские древности: этнолингвистический словарь. Москва: Институт славяноведения РАН, 2004. Т. 3. С. 355–360. Агапкина, Татьяна Алексеевна. Кол // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Москва: Международные отношения, 1999. Т. 2. С. 527–528. Бахтин, Михаил Михайлович. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Художественная литература, 1990. 543 с. Белова, Ольга Владиславовна. Бес // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Москва: Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 164–166. Бойцов, Михаил Анатольевич. Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. Москва: РОССПЭН, 2009. 550 с. Вендина, Татьяна Ивановна. Средневековый человек в зеркале старославянского языка. Москва: Индрик, 2002. 336 с. 118 Петербургские славянские и балканские исследования В. Я. Мауль. Тело Лжедмитрия I в контексте... Information about the article Author: Maul, Victor Yakovlevich, Doctor in History, Professor of chair of humanitarian and economic disciplines, Tyumen State Oil & Gas University, Nizhnevartovsk affiliate, Russia, [email protected] Title: Body of a False Dmitry I in a context of the Russian and western cultural traditions Summary: In article attempt to use modern methodology for the analysis of appearance of the first impostor in a context of the domestic and western cultural traditions is undertaken. Are investigated perception by the Russian and European contemporaries of physical features of a False Dmitry I and its murders with the subsequent symbolical violation of a body. It is shown that corporal signs of the impostor were differently perceived by participants and witnesses of those drama events depending on what carriers of cultural traditions they were. Key words: the first impostor, corporal code, cultural traditions, features of appearance, violence symbolic References (transliteration) Agapkina, Tat’yana Alekseevna. Kol [The Stake], in Slavyanskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar’. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1999. T. 2. S. 527–528. Agapkina, Tat’yana Alekseevna; Valencova, Marina Mihailovna; Toporkov, Andrei L’vovich. Nagota [The Nakedness], in Slavyanskie drevnosti: etnolingvisticheskii slovar’. Moskva: Institut slavyanovedeniya RAN, 2004. T. 3. S. 355–360. 2012. № 2 (12). Июль – декабрь 119 Commentarii Гиршберг, Александр. Марина Мнишек. Москва: Издание И. А. Вахромеева, 1908. 375 с. Гуревич, Арон Яковлевич. «Время вывихнулось»: Поругание умершего правителя // Одиссей: Человек в истории. Москва: Наука, 1993. С. 221–241. Зарецкий, Юрий Петрович. «Тело», современная медиевистика и автобиографизм Епифания Соловецкого // Средние века. Вып. 63. Москва: Наука, 2002. С. 99–108. Зеленин, Дмитрий Константинович. Избранные труды. Очерки русской мифологии: Умершие неестественной смертью и русалки. Москва: Индрик, 1995. 432 с. Кабакова, Галина Ильинична. Нос // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Москва: Институт славяноведения РАН, 2004. Т. 3. С. 435–436. Констебл, Джайлз. Бороды в истории. Символы, моды, восприятие // Одиссей. Человек в истории. Москва: Наука, 1994. С. 165–181. Костомаров, Николай Иванович. Лжедмитрий Первый. По поводу современного его портрета. 1606 г. // Русская старина. 1876. Т. 15. № 1. С. 1–8. Левин, Ив. От тела к культу // Левин И. Двоеверие и народная религия в истории России. Москва: Индрик, 2004. С. 162–190. Левкиевская, Елена Евгеньевна. Борода предорогая… // Категории и концепты славянской культуры. Труды отдела истории культуры. Москва: Институт славяноведения РАН, 2007. С. 105–119. Скрынников, Руслан Григорьевич. Самозванцы в России в начале XVII века. Григорий Отрепьев. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1990. 238 с. Соколов, Андрей Борисович. История тела: Предпосылки становления нового направления в историографии // Диалог со временем. Вып. 26. Москва: ЛИБРОКОМ, 2009. С. 190–211. Соколов, Андрей Борисович. Тело как способ идентификации «Другого» // Диалог со временем. Вып. 33. Москва: ИВИ РАН, 2010. С. 213–232. Софронова, Людмила Александровна. О проблемах идентичности // Культура сквозь призму идентичности. Москва: Индрик, 2006. С. 8–24. Тюменцев, Игорь Олегович. Азовский поход Лжедмитрия I и вольное казачество // Казачество в южной политике России в Причерноморском регионе. Ростов-на-Дону; Азов: ООО «ЦВВР», 2006. С. 117–121. Усенко, Олег Григорьевич. Монархическое самозванчество в России XVII–XVIII веков как фронтир // Границы в пространстве прошлого: Социальные, культурные, идейные аспекты. Тверь: Изд-во Тверского ун-та, 2007. Т. 1. С. 19–28. Успенский, Борис Андреевич. Анти-поведение в культуре Древней Руси // Успенский Б. А. Избранные труды. Т. 1: Семиотика истории. Семиотика культуры. Москва: Языки русской культуры, 1996. С. 460–476. Perrie, Maureen. Pretenders and popular monarchism in early modern Russia: The false tsars of the Time of Troubles. Cambridge, 1995. 269 p. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana Bahtin, Mihail Mihailovich. Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul’tura srednevekov’ya i Renessansa [The worko of Francois Rabelais and the folk culture of the Middle Ages and the Renaissance]. Moskva: Hudozhestvennaya literatura, 1990. 543 s. Belova, Ol’ga Vladislavovna. Bes [Demon], in Slavyanskie drevnosti: Etnolingvisticheskii slovar’. Moskva: Mezhdunarodnye otnosheniya, 1995. T. 1. S. 164–166. Boicov, Mihail Anatol’evich. Velichie i smirenie. Ocherki politicheskogo simvolizma v srednevekovoi Evrope [Greatness and humility. Essays on the political symbolism in medieval Europe]. Moskva: ROSSPEN, 2009. 550 s. Girshberg, Aleksandr. Marina Mnishek. Moskva: Izdanie I. A. Vahromeeva, 1908. 375 s. Gurevich, Aron Yakovlevich. «Vremya vyvihnulos’»: Poruganie umershego pravitelya [«Time dislocated»: The desecration of the dead ruler], in Odissei: Chelovek v istorii. Moskva: Nauka, 1993. S. 221–241. Kabakova, Galina Il’inichna. Nos [The Nose], in Slavyanskie drevnosti: Etnolingvisticheskii slovar’ - Slavic antiquities: Ethnological dictionary. Moskva: Institut slavyanovedeniya RAN, 2004. T. 3. S. 435–436. Konstebl, Dzhailz. Borody v istorii. Simvoly, mody, vospriyatie [Beards in history. Symbols, fashion, perception], in Odissei. Chelovek v istorii. Moskva: Nauka, 1994. S. 165–181. Levin, Iv. Ot tela k kul’tu [From body to cult], in Levin I. Dvoeverie i narodnaya religiya v istorii Rossii. Moskva: Indrik, 2004. S. 162–190. Levkievskaya, Elena Evgen’evna. Boroda predorogaya [Most Dearest Beard], in Kategorii i koncepty slavyanskoi kul’tury. Trudy otdela istorii kul’tury. Moskva: Institut slavyanovedeniya RAN, 2007. S. 105–119. Perrie, Maureen. Pretenders and popular monarchism in early modern Russia: The false tsars of the Time of Troubles. Cambridge, 1995. 269 p. Sofronova, Lyudmila Aleksandrovna. O problemah identichnosti [On the problems of identity], in Kul’tura skvoz’ prizmu identichnosti. Moskva: Indrik, 2006. S. 8–24. Sokolov, Andrei Borisovich. Istoriya tela: predposylki stanovleniya novogo napravleniya v istoriografii [History of the Body: Prerequisites for the development of a new direction in the historiography], in Dialog so vremenem. Vol. 26. Moskva: LIBROKOM, 2009. S. 190–211. Sokolov, Andrei Borisovich. Telo kak sposob identifikacii «Drugogo» [The Body as a Means of the Identification of the «Other»], in Dialog so vremenem. Vol. 33. Moskva: IVI RAN, 2010. S. 213–232. Tyumencev, Igor’ Olegovich. Azovskii pohod Lzhedmitriya I i vol’noe kazachestvo [First False Dmitry Azov campaign and the Free Cossacks], in Kazachestvo v yuzhnoi politike Rossii v Prichernomorskom regione. Rostov-na-Donu; Azov: OOO «CVVR», 2006. S. 117–121. Usenko, Oleg Grigor’evich. Monarhicheskoe samozvanchestvo v Rossii XVII–XVIII vekov kak frontir [Monarchical imposture in Russia in 17th–18th centuries as a frontier], in Granicy v prostranstve proshlogo: social’nye, kul’turnye, ideinye aspekty. Tver’: Izd-vo Tverskogo un-ta, 2007. T. 1. S. 19–28. Uspenskii, Boris Andreevich. Anti-povedenie v kul’ture Drevnei Rusi [The contrary behavior in the culture of Ancient Russia], in Uspenskii B. A. Izbrannye trudy. T. 1: Semiotika istorii. Semiotika kul’tury. Moskva: Yazyki russkoi kul’tury, 1996. S. 460–476. Vendina, Tat’yana Ivanovna. Srednevekovyi chelovek v zerkale staroslavyanskogo yazyka [Medieval Man in the Mirror of Slavonic Language]. Moskva: Indrik, 2002. 336 s. Zareckii, Yurii Petrovich. «Telo», sovremennaya medievistika i avtobiografizm Epifaniya Soloveckogo [«The Body», a modern science of the medieval and the autobiographism of Epiphanius Solovetsky], in Srednie veka. Vol. 63. Moskva: Nauka, 2002. S. 99–108. Zelenin, Dmitrii Konstantinovich. Izbrannye trudy. Ocherki russkoi mifologii: Umershie neestestvennoi smert’yu i rusalki [Selected works. Essays on the Russian Mythology: Unnatural deaths and mermaids]. Moskva: Indrik, 1995. 432 s. 120 Петербургские славянские и балканские исследования