«Реализация» виртуального в пространстве новых медиа
реклама
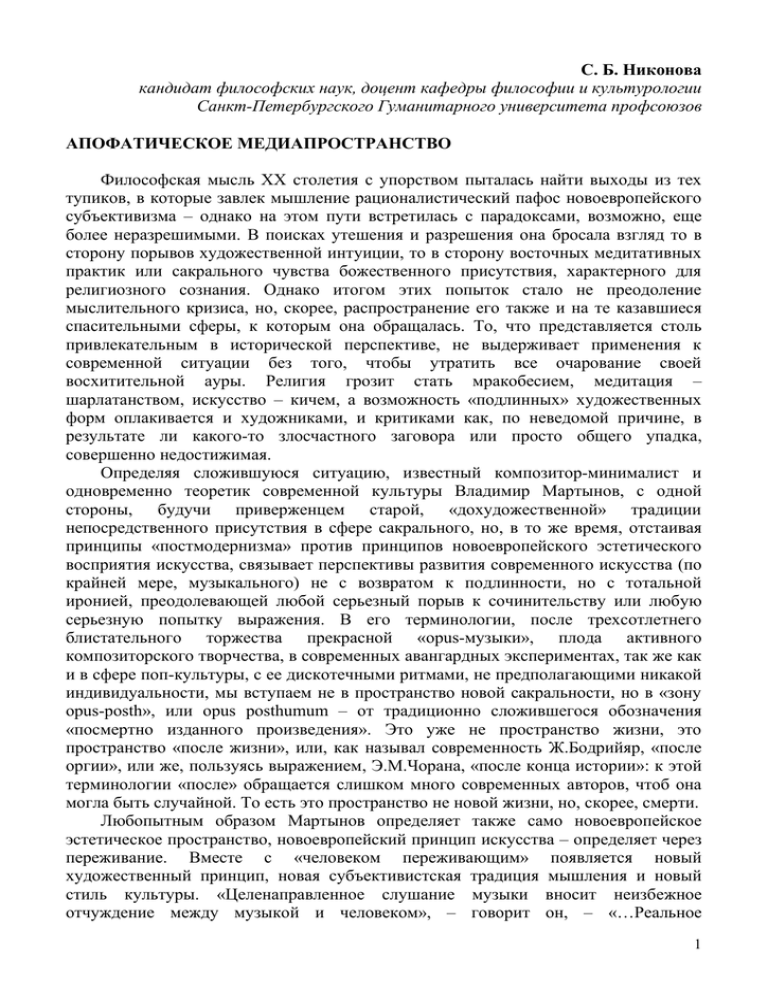
С. Б. Никонова кандидат философских наук, доцент кафедры философии и культурологии Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов АПОФАТИЧЕСКОЕ МЕДИАПРОСТРАНСТВО Философская мысль ХХ столетия с упорством пыталась найти выходы из тех тупиков, в которые завлек мышление рационалистический пафос новоевропейского субъективизма – однако на этом пути встретилась с парадоксами, возможно, еще более неразрешимыми. В поисках утешения и разрешения она бросала взгляд то в сторону порывов художественной интуиции, то в сторону восточных медитативных практик или сакрального чувства божественного присутствия, характерного для религиозного сознания. Однако итогом этих попыток стало не преодоление мыслительного кризиса, но, скорее, распространение его также и на те казавшиеся спасительными сферы, к которым она обращалась. То, что представляется столь привлекательным в исторической перспективе, не выдерживает применения к современной ситуации без того, чтобы утратить все очарование своей восхитительной ауры. Религия грозит стать мракобесием, медитация – шарлатанством, искусство – кичем, а возможность «подлинных» художественных форм оплакивается и художниками, и критиками как, по неведомой причине, в результате ли какого-то злосчастного заговора или просто общего упадка, совершенно недостижимая. Определяя сложившуюся ситуацию, известный композитор-минималист и одновременно теоретик современной культуры Владимир Мартынов, с одной стороны, будучи приверженцем старой, «дохудожественной» традиции непосредственного присутствия в сфере сакрального, но, в то же время, отстаивая принципы «постмодернизма» против принципов новоевропейского эстетического восприятия искусства, связывает перспективы развития современного искусства (по крайней мере, музыкального) не с возвратом к подлинности, но с тотальной иронией, преодолевающей любой серьезный порыв к сочинительству или любую серьезную попытку выражения. В его терминологии, после трехсотлетнего блистательного торжества прекрасной «opus-музыки», плода активного композиторского творчества, в современных авангардных экспериментах, так же как и в сфере поп-культуры, с ее дискотечными ритмами, не предполагающими никакой индивидуальности, мы вступаем не в пространство новой сакральности, но в «зону opus-posth», или opus posthumum – от традиционно сложившегося обозначения «посмертно изданного произведения». Это уже не пространство жизни, это пространство «после жизни», или, как называл современность Ж.Бодрийяр, «после оргии», или же, пользуясь выражением, Э.М.Чорана, «после конца истории»: к этой терминологии «после» обращается слишком много современных авторов, чтоб она могла быть случайной. То есть это пространство не новой жизни, но, скорее, смерти. Любопытным образом Мартынов определяет также само новоевропейское эстетическое пространство, новоевропейский принцип искусства – определяет через переживание. Вместе с «человеком переживающим» появляется новый художественный принцип, новая субъективистская традиция мышления и новый стиль культуры. «Целенаправленное слушание музыки вносит неизбежное отчуждение между музыкой и человеком», – говорит он, – «…Реальное 1 пространство богослужения подменяется пребыванием в пространстве представлений о богослужении». В то же время, «музыкальные звуки, расположенные автором в определенном, установленном им самим порядке, перестают быть просто звуками и превращаются в авторское высказывание или в авторское сообщение». В итоге мы получаем «феномен музыки, превратившейся в язык»1. Рассуждение, конечно же, применимо не только к музыке и претендует на описание сферы искусства как именно искусства – то есть как сферы активного производства эстетических объектов. Эстетика, авторское творчество и искусство, которое может быть понято как язык, появляются, с этой точки зрения, одновременно, и эта одновременность обусловлена существенным переворотом в сознании, которое осознает свою субъективность. В результате этого переворота пространство пребывания сменяется пространством представления и выражения. Это второе пространство имеет виртуальный характер и, с точки зрения первого, выступает в качестве некой иллюзорной надстройки, что значительно усложняет взаимоотношение человека с «самой реальностью», причем «фокусной точкой этих усложнившихся взаимоотношений опять-таки является произведение»2. Однако, как можно заключить из этого рассуждения, недостаточно сказать, что искусство начинает пониматься как язык. Искусство впервые и возникает, по мнению Мартынова, только в тот самый момент, когда оно начинает пониматься как язык авторского выражения, а прежняя сфера пребывания в сакральном не являлась сферой искусства в этом смысле слова. Но важно также и то, что меняется представление и о самом языке, который также теряет свою сакральную функцию и становится носителем смысла, становится не столько способом именования, сколько способом сообщения информации. Язык становится медиумом между людьми, а также между человеком и «реальностью». Медиумом, который одновременно обобщает, делает общение, понимание, постижение возможным, но тем же самым актом и разрывает, разобщает, становится непреодолимым препятствием на пути соединения двух сознаний, или сознания и «реальности». Язык-как-средствосообщения есть непреодолимый разрыв коммуникации в той же мере, в какой и условие ее возможности, самостоятельная структура опосредования на пути производства смысла. Таким образом, со времени появления искусства как объекта эстетического восприятия, со времени, когда появилась необходимость в том, чтобы удостоверить существование мира посредством акта мышления и представления, любая вещь утратила статус непосредственности присутствия и превратилась в знак, а философия, исследующая способы постижения этого мира знаков, стала медиафилософией. Мысль совершила критический поворот, поставив под вопрос возможность постижения реальности «за пределами текста». Поворот, критический, в первую очередь, в кантовском смысле ограничения притязаний разума, который слишком доверчиво по отношению к себе самому брался принимать собственные суждения о мире за непосредственную истину. Поворот критический также постольку, поскольку ведет разум к тому, чтобы признать себя самого лишь плодом бессознательной структуры способов говорить о мире, плодом грамматикориторических форм той ли иной знаковой системы. Но критический также и – как мы будем настаивать – потому, что возможно, этот поворот является необратимым и Мартынов В.И. Зона opus-posth, или Рождение новой реальности. М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2008. С.77-79. 2 Там же. С.11. 1 2 раз будучи совершен, он не может быть преодолен без того, чтобы было прекращено само мышление как таковое. На месте гаснущего в тотальном постструктуралистском саморазложении мышления взамен непосредственности бытия встает мир симуляции, гиперреальность потребления знаков, как называл ее Бодрийяр, а на месте искусства как выразителя истины встает не искусство-какистина, но искусство, которое осознает свою невозможность как искусства. Как говорил Ж.-Ф.Лиотар: не то, которое стремится изо всех сил представить непредставимое, но которое «указывает на непредставимое в самом представлении»3. Истина «реальности самой по себе», безнадежно отодвинутая вереницей обозначений, недоступная вне возможности ее представить, помыслить или выразить ее в слове, более не выступает чем-то, что может быть дано непосредственно, и тогда история мышления в подлинном смысле являет собою историю «забвения бытия», на которое указывал Хайдеггер. Однако Хайдеггер сам не был чужд «лингвистического поворота» в своей философской мысли, и именно с языком связывал возможность вспомнить то глубинное, что дает быть всему сущему. Но и Жак Деррида отталкивается от Хайдеггера, когда выдвигает знаменитый постструктуралистский тезис, устраняющий всякую надежду на возможность метафизического знания: «внетекстовой реальности вообще не существует»4. Развивая теорию тотальной медиальности, можно сказать, как это делает Никлас Луман, что нет смысла задаваться вопросом о том, как медиа искажают реальность, скорее следует задаваться вопросом о том, как они конструируют реальность. И это конструкрование не может быть попросту сочтено обманом, конструированием заведомой иллюзии. Анализируя структуры массмедиа, с их рекламной пропагандой, сенсационными репортажами, в которых риторика, направленная на привлечение растерянного перед потоком информации зрителя, часто, казалось бы, идет вразрез с какой-либо фактичностью, он замечает: «ученые могут быть абсолютно убеждены, что они лучше знают реальность, чем она изображается в массмедиа, обреченных на то, чтобы заниматься “популяризацией”. Но это означает всего лишь сопоставлять собственную конструкцию с некоторой другой»5. У нас нет никаких оснований заявлять о большей истинности одного текста по сравнению с другим, поскольку в мире, понятом как текст, мы усомнились в возможности найти критерий для сравнения, поскольку в таком мире, говоря словами Ницше, фактов нет, но только интерпретации. И однако, еще раз следует обратить внимание на то, как Деррида в своей радикальной критике отталкивается от Хайдеггера (и как Хайдеггер отталкивается от Ницще) в едином порыве «преодолеть метафизику» и одновременно с тем пробиться к некому знанию, лишенному метафизической отстраненности, отделенности от того, что оно познает. Сведение постструктуралистской деконструкции к простому отрицанию «истины там вовне» было бы не просто неверно, но в высшей степени самодеконструктивно: если мы говорим о несуществовании подобной истины за пределами языковых структур, то уже самим актом этого высказывания мы это существование утверждаем6. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? // Ad Marginem’93. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований Института философии Российской академии наук. М.: Ad Marginem, 1994. С.322. 4 Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad Marginem, 2000. С.313. 5 Луман Н. Реальность массмедиа. М.: Праксис, 2005. С.17. 6 Ср.: Derrida J., The Supplement of Copula: Philosophy before Linguistics // Textual Strategies: Perspectives in PostStructuralist Criticism. Cornell Univ. Press, 1979. P.84. 3 3 «Вопрос о медиальном носители, – говорит Б.Гройс в работе «Под подозрением», – является, в сущности, лишь новой формулировкой вопроса о субстанции, сущности или субъекте, которые предположительно скрываются позади картины мира. Теория медиа, поскольку она должна поставить вопрос о медиальном носителе, есть поэтому не что иное, как продолжение онтологии в условиях нового взгляда на мир»7. «Любая серьезная теория медиа,– также полагает он, – коль скоро она хочет оправдать свое имя, должна поставить медиа-онтологический вопрос о свойствах субмедиального пространства – и тем самым пойти дальше постструктуралистского теоретизирования, застрявшего на медиальной 8 поверхности» . Проблематика субмедиальной «глубины», непостижимого лаканианского Реального за пределами знаков является актуальным вопросом современной теоретической мысли. Эту проблематику Реального Гройс формулирует в терминологии подозрения – в самом общем виде, подозрения, что «позади видимого скрывается нечто невидимое»9. Однако, как он замечает, все было бы очень просто в двух случаях: если бы за медиа-пространством нарративной фиктивности действительно стояла некая непреложная Реальность (например, реальность Бога), или если бы, напротив, никакой реальности за ним не стояло, и знак действительно отсылал бы только к знаку, т.е. процедура деконструкции была бы исчерпывающей и окончательной10. Именно невозможность не просто выбрать между этими двумя вариантами, но хотя бы фактически допустить возможность преобладания одного из них составляет основу подозрения. При этом «медиа-онтологическое подозрение» относительно «события субмедиальной откровенности» имеет, как видит Гройс, зеркальную природу, природу эффекта ожидания того, что субмедиальное пространство обладает некими качествами, отличными от медиальной поверхности: в признаках такого отличия зритель мог бы узнать отражение собственных ожиданий11. Как мы уже предположили, реальность «за пределами текста» утверждает себя последним и окончательным, «недеконструируемым» образом только через посредство ее полного отрицания. Вновь сошлемся на рассуждение Гройса, полагающего, что для «медиа-теоретика» (каковым можно было бы назвать, следуя его же логике, любого человека, пытающегося развить онтологическое мышление в современных условиях) «гул медиа заглушает все сообщения – за исключением его собственного сообщения, доносящего этот гул. А это значит, что все остальные сообщения деконструируются, растворяются, затихают и умирают, но сообщению медиа-теоретика такая участь не грозит, ибо оно есть сообщение, посланное самой смертью – а смерть, в отличие от жизни, бессметна. Можно сказать, что медиум – это смерть, поэтому он и бессмертен»12. Таким образом, если Деррида в поздних работах обращается к текстам Дионисия Ареопагита13, если Бодрийяр проявляет заинтересованность в гностицизме14, если Лиотар обращается к анализу возвышенного, указывающего на Гройс Б. Под подозрением. М.: Художественный журнал, 2006. С.17. Там же. С.44. 9 Там же. С.21. 10 Там же. С.28. 11 Там же. С.19-20. 12 Там же. С.88. 13 Деррида Ж. Эссе об имени. СПб.: Алетейя, 1998. – 190 с. 14 См. напр.: Smith J. The Gnostic Baudrillard: A Philosophy of Terrorism Seeking Pure Appearance // International Journal of Baudrillard Studies. Volume 1, Number 2 (July 2004). 7 8 4 непредставимое, и С.Жижек развивает это понятие в применении к психоанализу современной культуры, трактуя лакановское Реальное в терминах пустоты или отсутствия15, если, в принципе, «постструктуралистский» порыв мысли второй половины ХХ века в своей парадоксальности отправной точкой и действующим механизмом языковой структуры, конструирующей реальность, полагает сбой или разрыв, и этот порыв не ослабевает, но усиливается со временем, отодвигая постепенно на второй план собственно текстуальную проблематику, если речь идет о следе следа или образе без изображаемого, то во всех этих случаях мы могли бы увидеть, как радикально критическая мысль приходит к терминологии, которую можно назвать апофатической в том смысле, какой придавался этому слову средневековыми мистиками. Вместе с тем, наряду с развитием того, что можно назвать медиафилософией в онтологическом смысле – то есть не столько анализом действия конкретных медианосителей, сколько исследованием медиальности онтологического мышления, развивается и полная критика любой знаковости, звучат требования возврата к непосредственности присутствия, к преодолению «культуры знаков»16. Оценивая эти две перспективы развития мысли «за пределами деконструкции» можно увидеть одновременно их противо- и со-направленность. Причем сонаправленность проявляет себя в терминологии сакральности, применяемой в обоих случаях. Мистическая непостижимость беспокоит равно как развивающуюся в сторону тотальной деконструкции рациональность, так и попытки полного отказа от рациональных принципов. Апофатика стала актуальным термином современной мысли. Однако апофатическая тенденция может являть себя по меньшей мере в двух видах. С одной стороны, непостижимость и сверхразумность божественного, даваемая лишь в непосредственности эпифании, может апеллировать к ней как к следствию переизбытка присутствия. С другой стороны, к не менее апофатическим выводам приводит и процесс радикально критического рационального мышления, устраняющий любую возможность помыслить, не впав в противоречие, что-либо из существующего. Можно назвать эти два вида мистических определений апофатикой присутствия и апофатикой отсутствия, где божественное, сущностное или субмедиальное оказываются равным образом невыразимы, в одном случае – ввиду переизбытка и превышения возможностей выражения, а в другом – вследствие радикального ускользания, исчезновения. Однако, в конечном счете, и преизбыток, и недостаток формируют в равной мере пространство неохватываемого воображением или разумом, превышающего возможности человеческой жизни или языка. Назвать ли это «возвышенное» и «запредельное» тотальностью присутствия или отсутствия – на индивидуальном уровне есть вопрос непередаваемого ощущения и веры, на уровне сообщения – вопрос риторики. Но если речь идет о медиапространстве, то риторика решает все. Постструктуралистская теория тотальной знаковости указывает на парадоксальность понятия «внетекстовой реальности», вера в которую основывается на неведении базовых предпосылок. По словам В.Руднева, реальность – столь сложная система знаков, «что рядовой носитель и пользователь реальности склонен См. напр.: Жижек С. Возвышенный объект идеологии. М.: Художественный журнал, 1999. – 238 с. Гумбрехт Х.У. Производство присутствия. Чего не может передать значение? М.: Новое литературное обозрение, 2006. – 184 с. 15 16 5 игнорировать ее семиотический характер»17. Достаточно последовательно проведенная рационально-критическая процедура в отношение реальности, как мы видели, приводит к ее полному устранению и признанию ее символического характера. Как бы глубоко мы ни уходили в своих попытках догнать ее, мы всегда остаемся в поле концептов. Что не мешает уверенности в том, что эти концепты являются сообщениями о некой скрытой сущности. Принцип медиальности, характерный для лингвистической парадигмы современной мысли, можно рассмотреть как неотъемлемую черту рационалистического субъективистского мышления. Субъект-центрированность предполагает «отстранение», несвойственное чуждому такого стиля мысли взгляду. Это отстранение представляет собой разрыв в непосредственности присутствия или пребывания внутри данности. То, что лишь переживается, но не есть непосредственно, есть знак. Знак предназначен для обозначения внетекстовой реальности, на которую он указывает, он есть средство сообщения о ней – но в то же время он есть то, что отделяет от нее, делает ее бесконечно отсроченной. Знак, медиум – носитель и единственный выразитель смысла этой реальности. Но как только оказывается, что ее смысл должен быть выражен (в чем-то еще), она ускользает. Тотальная критика ведет не столько к «виртуализации» реальности, сколько к раскрытию фундаментальной невозможности столкновения с вневиртуальной, внезнаковой, внесимволической реальностью. Современная система потребления знаков, которую критикует Бодрийяр, не столько обращает все в симулякры – копии без оригинала, образы, которые не имеют за собой того, что отображается, отражения без отражаемого, знаки без значения – сколько раскрывает этот характер симуляции за всей прежде столь надежной и очевидной реальностью, которая теперь понимается лишь как текст. Однако текст всегда есть повествование о чем-то, и знак невозможен без того, чтобы что-то значить. Утверждение «нет ничего вне текста» является, если принять его во всей буквальности, в равной мере утверждением, что текста не существует. Полагая мир текстом, мы вынуждены видеть во всем лишь наборы следов и знаков, не будучи уверены, что был тот, кто их оставил. Логически, вне этой уверенности, следы и знаки становятся невозможны. Однако если бы мы были уверены в непосредственном явлении того, кто говорит, мы не воспринимали бы мир как текст и как лишь сообщение – поскольку сообщение само раскрывало бы сообщающего и становилось бы тождественным ему. В любом случае, справедливо утверждение Маклюэна: «медиа есть сообщение»18. Однако это утверждение предполагает, что мы имеем дело со структурой медиальности, всегда отсылающей к чему-то за ее пределами. Утверждая, что медиа есть сообщение, мы одновременно сомневаемся в том, что медиа в принципе существует. Субмедиальность включена в качестве проективной структуры в сам процесс мышления о медиа – не в качестве «метафизической» предпосылки, но в качестве мистического отсутствия, или слепого пятна в процессе мышления, устраняющего любую возможность присутствия. После совершения критической процедуры мышление возможно только как непрерывный распад, умерщвляющий все, с чем бы оно ни столкнулось, как тотальная виртуализация, – либо вообще невозможно. Призыв к возвращению к непосредственности присутствия неосуществим без 17 18 Руднев В. Энциклопедический словарь культуры ХХ века. М.: Аграф, 2003. С.381. Маклюэн Г.М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М.: Гиперборея – Кучково поле, 2007 – 464 с. 6 прекращения собственно мышления. Единственный выход, который этот призыв мог бы предложить – это полностью забыть историю мысли. «Колебание» между ощущением непосредственности присутствия и знаковостью мышления, формулируемое Х.У.Гумбрехтом в хайдеггерианских терминах, является лишь неустойчивой попыткой переформулировать деконструктивную медиа-обращенную эстетизированную и элиминирующую реальность мысль в риторике апофатики присутствия. В то же самое время, само наличие колебания свидетельствует об отрицательном характере испытываемого ощущения: в момент колебания в сторону осмысления ощущение присутствия ускользает и оказывается присутствием знаков присутствия, или очередным симулякром присутствия. Риторика выражения мысли едва ли может быть воспринята как случайный факт, а не как ее единственная возможность. Апофатика переизбытка присутствия предполагает бессознательное принятие бытия как изначальной данности, если последнее уже поставлена под вопрос и перестала быть бессознательным, старая риторическая структура может быть возобновлена только посредством забвения вопроса. Если вернуться к музыкальной терминологии, упомянутой в начале статьи, то возвращение из зоны посмертной «постмодернистской» иронии в сферу сакрального возможно только посредством полного забвения истории музыки-как-искусства. Отказ от медиафилософии в таких условиях был бы отказом от философии вообще и возвратом не просто к некому мифологическому мышлению, но к мифологической вере в самом грубом и примитивном виде – то есть полным отказом от мышления. Собственно, нет гарантии, что данная перспектива не является возможной, или даже, что она не является предпочтительной. Однако с точки зрения продолжения критической процедуры, невозможность находится на стороне смерти и переводит нас полностью и без колебаний в пространство отсутствия, так что прекращение мышления в порыве движения к новой непосредственности присутствия является в гораздо большей степени элиминирующим и опустошающим актом, чем вечное умирание тотального распада в пространстве непрерывного подозрения. 7