Явление первое
реклама
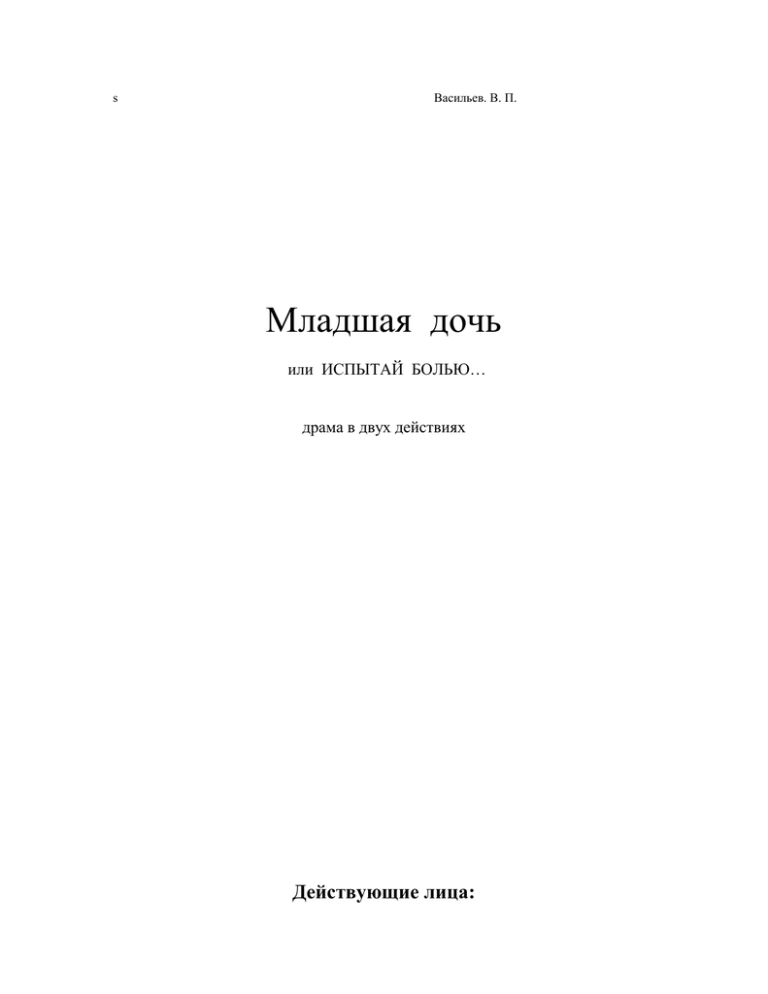
s Васильев. В. П. Младшая дочь или ИСПЫТАЙ БОЛЬЮ… драма в двух действиях Действующие лица: АННА – автор пьесы и младшая дочь, возраст моложаво-неопределенный, то есть, увы, зрелый. ОЛЬГА – актриса, играющая мать, тридцать с небольшим и на сцене и в жизни. МАРИНА – актриса, играющая старшую сестру в молодости, Валерию, ей едва за двадцать. АЛЕКСАНДР – режиссер, он же играет роль отца и Павла, около сорока. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – старшая сестра Анны в жизни, уже старуха. 2 Пролог. На едва освещенной сцене перед закрытым занавесом Анна. АННА - Когда наступают сумерки, мир становится невыносимым: фары машин слепят, больные глаза не могут сразу среагировать, изображение двоится, проваливается в темноту, вспухает пятнами, эти вспышки и провалы сводят меня с ума, делают беспомощной и несчастной… Улица жестока и враждебна, и земля уходит из-под ног… Слепота… она подвела меня ко “времени итогов” почти на полном нуле, ничего не осталось… А ведь подкрадывалась незаметно, как наши северные сумерки, такие замедленные, что кажется – ночь никогда не наступит. Но она все же наступает. Ночь. … и я перестала жить, потому что не осталось никаких желаний, кроме, пожалуй, одного – умереть раньше, чем ослепну совсем. Наступила тишина. Странная и пустая. И вдруг… “ВСПОМНИ, ТЫ ВСПОМНИ… ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО, ТЫ ТОЛЬКО ВСПОМНИ ОБО МНЕ…” И тогда я начала писать эту пьесу, и снова начала жить. И я уже больше не боюсь сумерек, потому что вечером зажигаются огни рампы, поднимается занавес… Занавес поднимается. … и наступает время другого зрения. Сейчас начнется репетиция. Еще так многое неясно и не готово. Я очень волнуюсь, потому что это пьеса о моей семье, о моем отце… И Анна вступает в пространство сцены. I действие. I картина. Явление первое На сцене обстановка начала пятидесятых годов, оранжевый абажур, круглый стол, покрытый скатертью, диван, патефон на тумбочке, старинные часы на стене... И режиссер, играющий роль отца – он, что называется, обживает реквизит: примеряет перед большим зеркалом кожаное пальто, подходит к патефону, перебирает пластинки, выбирает одну, ставит, вращает ручку… Это танго «Брызги шампанского». 3 Он снова подходит к зеркалу, примеривает шляпу, поднимает воротник, закуривает, сдвигает сигарету в уголок рта… Все это он проделывает с особенным шиком, фасоном… И, проделывая все это, он говорит Анне. АЛЕКСАНДР – Черт побери! В этих мужчинах был настоящий шик! Они как-то совсем по особенному носили шляпу, поднимали воротник, даже зажигали спичку и закуривали, смотрели на женщин, танцевали… И тут он подхватывает Анну, и они танцуют танго. «Кажется, вся жизнь заплачена за этот миг, за этот шаг, за этот взгляд…» АЛЕКСАНДР – А может быть, и любили, и ненавидели они тоже совсем иначе? А?!… «Этой волшебной ночью, лишь только ты, только ты мне нужна…» Они танцуют, но пружина ослабла, и музыка начинает замедлять темп и как бы гнусавить… Александр останавливается. АЛЕКСАНДР – Нет, это невозможно, думаю, музыку нужно пустить в записи, схожу к техникам… Он оставляет Анну, забирает пластинку и уходит. I картина. Явление второе Красивая, оживленная, цветущая, быстро входит Ольга. В руках у нее журналы. ОЛЬГА – Привет. Смотри, что принесла! И она бросает журналы на стол. ОЛЬГА – Журналы мод – пятидесятый, пятьдесят первый… Надо использовать, но это – не главное… И она с торжеством вынимает из сумки и показывает платье. ОЛЬГА – Бабкино. А как сохранилось! Ты посмотри какой крой, линия, эти защипы, сейчас так и не сошьют, а гладить – с ума сойдешь! А матерьял-то, ведь это настоящий крепдешин. Натуральный! Дед вернулся с войны, а она и сшила это платье, ей хотелось быть обворожительной… Они любуются платьем, но Ольга вдруг становится необыкновенно грустной, Анна с тревогой спрашивает. 4 АННА – Когда? ОЛЬГА – Послезавтра. АННА – Но может быть, еще… ОЛЬГА –Нет! Нет, он сам ушел, там другая женщина… АННА – Но ты же… ОЛЬГА – Не знаю! Я не знаю… С одной стороны, хочется, чтобы уже скорее, конец – все, все! А с другой – все эти дни вспоминается почему-то хорошее, начало, как любил, это сумасшедшее чувство, которому, казалось, не будет конца… а потом опять встает обида, все заслоняет… Ничего, переживу! Дело ведь не только во мне… АННА – Алешка? Ольга молча кивает, ей трудно говорить, и все же она преодолевает себя. ОЛЬГА – Вчера… он уже лежал в кроватке… Знаешь, раньше отец всегда говорил с ним перед сном, а теперь… я же не всегда могу. Так вот вчера, он лежит и говорит сам с собой, наверное думал, что шепотом, а получилось громко, я прислушалась, а он говорит «Я люблю папу, я люблю маму, я люблю дедушку Колю, и дедушку Славу, бабушку Веру и бабушку Иру, тетю Марину… » и так он перечислил всех родственников, знакомых, дошел до своих приятелей по детскому саду и по двору… Он ведь у меня такой смешной, познакомится с мальчиком во дворе, поиграет с ним пятнадцать минут, ведет домой и уже говорит мне: «Мама, познакомься, это мой лучший друг…» И так он перечислял всех, кого знает, иногда замолкал, припоминал и снова говорил: «Я люблю…» Это было… как такая детская молитва, казалось, он хочет обнять весь мир своей любовью… Но потом список, наконец, кончился, и он замолчал надолго, и я уже думала – заснул, а он, оказывается, просто задумался и в конце говорит: «Но больше всех я люблю папу.» Понимаешь? «Больше всех я люблю папу…» Ольга совсем уже запечалилась, но природная веселость берет верх и совсем уже другим тоном она говорит Анне. ОЛЬГА – Кстати, Вера мне дает для суда такой французский костюмчик – улет! Сама еще не надевала. Закачаешься! АННА – Зачем? ОЛЬГА – Как это зачем? Как это зачем?! Чтоб слишком не торжествовали, а то документы подавали – я стою, вся такая, понимаешь, допотопная, в своем уцененном бархате, а этот приперся со своей стервой, а на ней норка, нет, не до пола, и, возможно, не новая, так – жакетик, но все же норка – ценный мех… Ну, зараза! Не уступлю! Гвардия умирает, но не сдается! 5 I картина. Явление третье Входит Александр. АЛЕКСАНДР – Нет! Бабы, запомните - гвардия не сдается и не умирает, она побеждает и живет! Марины, конечно же, еще нет?! И тут же с мобильником в руках влетает Марина, и говорит она одновременно и в мобильник и присутствующим. МАРИНА – Как это нет?! Хорошо, я поняла, завтра… как это нет?! Да, завтра в 19, форма одежды богемная. Она отключает мобильник и с возмущением: МАРИНА – Как это нет?! Когда я уже здесь! ОЛЬГА – Что на этот раз? Радио? Телевидение? Показ мод? МАРИНА – А-ай! День рождения буржуя, будем создавать богемную атмосферу за сто баксов… Опять же, покормят! АЛЕКСАНДР – А ты не очень?… МАРИНА – Во-первых, деньги… ОЛЬГА – И во-вторых, деньги… МАРИНА – И в-третьих, деньги… А потом, иногда и хочется сказать “нет”, но раз откажешься, два, а потом нужда припрет, а не сунешься – выпала из обоймы, ряды сомкнулись. АЛЕКСАНДР – Забегаешься. МАРИНА – Если бы хоть квартира… ОЛЬГА – Быстро хочешь! АЛЕКСАНДР – Все. Все! Кончили. И начинаем. Анна! Пауза. Все занимают свои места, «собираются»… И Анна начинает. Анна – 52 год, зима, еще жив Сталин, мне пять лет, а старшей сестре – 21, она студентка политеха, отец только что вернулся с какой-то очередной грандиозной стройки в Сибири, он был гидростроитель… А ты ехала через весь город в промерзшем трамвае, метро и парового тогда еще не было… Но Марина еще не готова и отвечает не по роли. МАРИНА – И не было красивой одежды, секса и свободно конвертируемой валюты… В игру включается Ольга. ОЛЬГА – Хорошей косметики и контрацептивов… 6 АЛЕКСАНДР – Интернета и свободного выезда из страны… МАРИНА – Пещерные времена! И как они жили, бедные? Все смеются. АЛЕКСАНДР – Ну, хватит! Ты входишь в комнату, ты замерзла… А Марине жарко, она обмахивается листком бумаги, как веером. МАРИНА – А мне всегда жарко, я все время бегу… ОЛЬГА – В поисках куска хлеба и удачи… МАРИНА – В поисках всего… АЛЕКСАНДР – Соберись, ведь ты же актриса... Но тут женщины не дают ему закончить и, размахивая руками, дружно скандируют. ВСЕ ТРОЕ – А актриса – это такая женщина, которая заставляет поверить в то, чего никогда не было, нет, и, может быть, даже не будет! Опять все смеются. МАРИНА – Сейчас. Сейчас замерзну! И чтобы больше не смущать, все поворачиваются к ней спиной. И она отворачивается от зала. Пауза. В тишину негромко вплывает мелодия, это по трансляции пробуют музыку, и так будет несколько раз по ходу действия. Марина поворачивается, входит в комнату, и это уже не Марина, а Валерия, у нее уже замерзший вид, она подходит к печке, прижимается, греет руки… Отец идет ей навстречу, улыбается… А она оборачивается к нему и с жуткой злобой бросает: ВАЛЕРИЯ – Улыбаешься?! ОТЕЦ – Соскучился. Рад, что вижу тебя. Замерзла? ВАЛЕРИЯ – А я не улыбаться тебе приехала. Я приехала за деньгами. Ты мне должен. И будешь должен всегда. ОТЕЦ – Разве об этом нужно говорить? И он подает ей конверт. ВАЛЕРИЯ – Нужно! Входит мать с тарелками в руках. МАТЬ – Лера! Сейчас сядем за стол, обед горячий… ВАЛЕРИЯ – Нет. Я пойду, меня ждет мама. АННА – И тогда я обняла ее ноги, прижалась и сказала: “Не уходи…” МАТЬ – Она ждет тебя со вчерашнего дня под дверью... АННА – Это правда, я ждала ее в холодном тамбуре между входными дверями, прислушиваясь к шагам на лестнице… Родители спохватывались, возвращали меня в теплую комнату, но я убегала опять. Это было нелегко, коридор был длинный, а в 7 темном колене таилось страшное чудовище, оно дышало мне в затылок и хотело схватить за плечи, я пулей вылетала на свет окна в прихожей и снова приникала к выходной двери… “Не уходи…” И все с надеждой смотрят на Валерию. АННА –Не уходи, пожалуйста… Валерия, как бы нехотя, соглашается. ВАЛЕРИЯ – Только не долго... И влетает мелодия, и все начинают суетиться вокруг стола, усаживаются, мать вносит и разливает суп, отец достает из буфета и ставит на стол графинчик. Разливает. ОТЕЦ – Понемножку – за встречу и от простуды... Выпивают принимаются за еду. МАТЬ – А знаешь, Лера, отца представили к госпремии. Уже включили в списки… ВАЛЕРИЯ – Ну уж, это нет. МАТЬ – Почему? Он так много сделал… ВАЛЕРИЯ – Сделал “за”, сделает и “против”. Это все дым – мифы и легенды нашей семьи... Нет, нам премии не нужны, мы и орденов не получаем! Мать растерянно и вопросительно смотрит на мужа, а отец неожиданно смеется. ОТЕЦ – Кажется, она права! МАТЬ – Что случилось? ОТЕЦ – Ничего, но знаете, все может быть… ВАЛЕРИЯ – Скажи, только честно, разве слово стоит ордена? Тебе обязательно было говорить этому дураку, что он дурак? ОТЕЦ – Да, стоило… и слово стоит ордена, иногда оно стоит даже жизни… Во всяком случае, хочется рискнуть, чертовски хочется рискнуть! Понимаешь? А там была кровь… ВАЛЕРИЯ – А я бы на твоем месте… ОТЕЦ – Нет. Нет! Ты будешь на своем, и я так хочу, я так надеюсь, что тебе будет лучше, будет легче и счастливее… Тебе! На твоем месте! АЛЕКСАНДР (Анне) – Слушай, вся эта история с орденом кажется мне невероятной, в те-то времена! АННА – Но это правда! Во время финской его представили к ордену, даже уже было напечатано в газете, мама читала, но пока представление шло, он чуть было не попал под трибунал – обругал командира во время боя матом, говорил, он был дурак, из-за него зря гибли люди. Ну, а в результате – медаль “За отвагу”, отец смеялся, что это очень положительное сальдо… 8 ОТЕЦ – Орден минус трибунал равняется медаль. Да это очень хороший результат! Только я считал не так – один поступок оплачивает другой, в награду – жизнь… и не просто жизнь, а жизнь не на коленях! Понимаешь? ВАЛЕРИЯ – Неправда! Просто ты неудачник, ты берешь высоту и никогда не можешь ее удержать! ОТЕЦ – Ты думаешь?… АЛЕКСАНДР - И все же, я бы на его месте… АННА – Нет! Ты же слышал, каждый на своем. На своем! АЛЕКСАНДР - Но как автор, ты бы могла… АННА – Нет, это иллюзия! Я автор и я не могу. Все будет так, как было… Анна выходит из-за стола. Сцена тонет во мраке. Анна одна на авансцене. АННА – А было так, как было и я ничего не понимала… Почему она так сердится, если мы все ее так любим, и так долго ждали? Почему кричит на отца и убегает, не взяв подарков, которые он ей привез? И дверь хлопает так громко и так сердито, как гром в грозу… Хлопает дверь. II картина. Явление первое Слева лестничная площадка. Окно. С пальто в руках вбегает Марина, садится на подоконник. ВАЛЕРИЯ – А я хлопала дверью и убегала, а потом долго сидела на холодной площадке и плакала… Она замолкает и молчит довольно долго. АННА – Что с тобой? Ты забыла текст? МАРИНА – Нет, просто я думаю. Я думаю и не понимаю… Знаешь, а у меня никогда не было отца, и я ничего о нем не знаю… Но я всегда по нему тосковала… II картина. Явление второе Освещается правая половина сцены – и точно такая же лестница, площадка, окно, что и слева… И седая растрепанная старуха возбужденно кричит Анне: ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Она не понимает?! Она не понимает! И не поймет!… А ты?! Ты понимаешь?… Не-ет!!!… И не поймешь никогда!… Так почему же ты не спросишь? У меня?!… Почему?!… Ведь я живая!… Я еще 9 живая!… Слышишь?! Ну конечно, ты же не включаешь меня в свои игры!… Тебе же проще меня выдумать?! Да?! Проще, легче… Анна пытается что-то сказать, но Валерия Александровна ей не дает. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Молчи!… Молчи!!!… Потому что ты не знаешь, как трудно говорить «нет», когда хочется сказать «да»! Вот уж оно дрожит на кончике языка, это «да», а слетело и обернулось - «нет»! И я ничего не могу! Я ничего не могу сделать!!!… И невыносимо уходить, когда хочется остаться!… АННА – Но тогда почему?… Но Валерия Александровна словно и не слышит ее вопроса. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – О, если б ты знала!… Если б ты только знала, как тяжело, как невыносимо ненавидеть, когда так сильно любишь!!!… Почему?!… И она, обессиленная, опускается на подоконник в точно такой же позе, как сидит Марина. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Почему?!… Эти слезы на площадке… они были такие злые, такие холодные и горькие… А я все помнила о других слезах – это в детстве, когда что-то случится, или кто-то обидит и прибежишь к нему за утешением, и горе сразу становится такое маленькое… и вот оно уже растаяло, уже выплакано… но все еще плачешь, только затем, чтобы не слезать с его колен, чтобы длить эту ласку, чтобы не разрывать кольцо этих рук… и слезы такие сладкие, сладкие… И она замолкает, но потом с новой яростью кричит Анне: ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Смешно тебе, что старуха тоскует о детских слезах!… Смешно!… АННА – Нет… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Как-то раз я просила у него на мороженое и на кино, а у него не было мелких денег, только сотенная бумажка, последняя… и он не хотел давать… и тогда я нарисовала в его паспорте плачущую девочку… АННА – Я помню этот паспорт и этот рисунок, он хранил его вместе с нашими младенческими локонами и фотографиями… Как же ему удалось сохранить его при обмене? Наверное, сказал, что потерял, заплатил штраф, может быть, у него даже были неприятности… И все ради этого наивного детского рисунка: Стоит девочка – ручки-ножки, косички, а по щекам и платью катятся слезы-колечки, а внизу их наплакана уже целая горка… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Когда я принесла ему этот рисунок, он сначала ахнул – ведь паспорт… а потом рассмеялся и отдал все деньги. А как-то перед войной, летом я купалась в озере, отец сидел на берегу, у него после финской все не заживала рана на ноге, врачи запретили мочить… И 10 вот он сидел и смотрел за мной, а ко мне пристал какой-то пьяный, он просто хотел пошутить, а я стала захлебываться и тонуть, и никто еще ничего даже не понял, а отец бросился и вытащил. И после этого случая рана на ноге зажила. Да, рана затянулась… Пауза И влетает музыкальная фраза, а потом медленно и торжественно бьют часы. АННА – Ты помнишь наши часы? По ним я научилась понимать время… Я говорила: “Не уходи, побудь еще…” И ты отвечала: “Хорошо, еще полчаса.” ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – …” И я отвечала: “Хорошо, еще полчаса…” АННА – И я кричала: “Нет! Нет! Это слишком быстро! Пусть она много-много раз обойдет круг, а лучше не уходи совсем!” Полчаса было для меня так мало… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – А для меня так долго и так мучительно… АННА – Резная стрелка опускалась, часы били… Часы бьют полчаса. АННА – И ты уходила… и я снова начинала ждать… Лестничная площадка с Мариной и Валерией Александровной пропадает. III картина. Явление первое На опустевшей сцене одна Анна. АННА – А время шло… и часы все били… И бой часов сплетается с мелодией. АННА – И качался золотой многофигурный маятник – в центре головка красавицы, по бокам воины в римских шлемах, наверху младенец, а в самом низу старик, в бороде которого пряталась шайбочка, регулирующая длину маятника… Отец говорил: “Смотри, мужчина – младенец, воин и старик, а над женщиной время не властно, и она сияет вечной красотой!” И магический круг то ли отделял красавицу от мужчин, то ли объединял их всех вместе… И маятник качался, и время шло, а в жизни все было наоборот – это он, отец, был один, а мы – несколько женщин, любили его и мучили, и каждая хотела одна держаться за его руку… И рана не затягивалась… 11 III картина. Явление второе Опять влетает музыкальная фраза и стихает. И на сцене появляется отец. В руке у него лист бумаги и сначала он как будто читает по этому листу, потом просто говорит… а Анна, стоя на авансцене, слушает. ОТЕЦ – Любовь… я не знаю, что это такое… Ведь это только слово одно, а чувства такие разные, такие не сочетаемые, так странно и, порой, жестоко владеющие человеком… и чем дольше живу и больше понимаю, тем меньше ясности… Мать… да, сначала мать… хотя это больнее всего, ведь я любил ее, но могу ли… смею ли говорить об этом, если моя любовь не спасла ее, и она нашла свой конец там, в этой веревке на чердаке… Господи, как же она была одинока и несчастна, если так… она, родившая столько сыновей,… и я был старшим, был первым, был ее любимцем… Я вспоминаю самое детство – ее сумасшедшие, какие-то истерические ласки и поцелуи, смешанные со слезами, от которых я отмахивался, чтобы бежать к своим маленьким мальчишеским радостям, и тогда она приходила ко мне сонному, целовала и плакала, и старалась делать это втихомолку от отца, чтобы не вызвать его гнев. И опять я отмахивался… Бедная моя мать… Всегдашнее ее желание уберечь, подсунуть кусок повкуснее, оградить от гнева отца. И отец – жестокий, грубый, всегда недовольный,… поговаривали, что все дело было в этом, в тайне моего рождения, и что отец мой не был мне родным… не знаю… Все было предопределено – дед горький пьяница, семья – нищая, и детей, двух дочерей и сына, которые славились в округе красотой, за красоту же и продали. Девушек отдали за вдовцов, а сына, сына-красавца, просватали за горбунью из богатой семьи… Старшей сестре повезло больше других, муж ей попался трезвый, степенный, работящий, в доме был достаток, покой и уважение… Красавец Алексей метался долго, запивал, и жену пытался поколачивать, уходил из дома вовсе… но потом покорился, привык и жена победила его смирением и терпеливой любовью… а когда на фронте погиб их единственный сын, и жена сгорела от горя, он затосковал и вскоре последовал за ней… Моей матери не повезло больше всех, она все терпела, терпела, и никто – никто не заметил, когда кончилось ее терпение… А сестра?... моя младшая сестра… Во всем можно видеть случайность или закономерность?… Но какая, в сущности, разница, если вся жизнь, вся ее жизнь уложится в несколько строчек – закончила школу, приехала в город, поступила в институт, отправили на картошку. В бараке нужно было повесить платье, она решила забить гвоздик и сделала это… гранатой! Кто притащил ее туда? Почему она оказалась под рукой! Как ей могла придти в голову такая мысль? Просто она 12 никогда не видела гранаты… а ведь тогда, после войны этой дряни было везде… У нее было удивительно красивое лицо, от которого не осталось ничего… А приехала она ко мне. Теперь жена… Когда ее ранило, я бежал под бомбами и молил: «Только живи, только живи, только живи…» Осколочное ранение в голову. Когда я прибежал, операция уже закончилась, такие страшные слова – трепанация черепа… Хирург вышел покурить, посмотрел на меня и сказал: «Кажется, выживет, а может быть и нет… Не знаю, что лучше… вряд ли она останется нормальной, так что… оставь ее или будь готов ко всему.» Оставить ее, эту странную женщину, которая жила среди толпы как на необитаемом острове… Нет. Да и просто – оставить? Нет. И чудо, о котором я молил, произошло. Она выжила, и не просто выжила, поправилась и стала нормальной… Какое счастье! И мы вместе, и все хорошо. Все хорошо… но… Она казалась мне такой странной, таинственной, но никакой тайны я не разгадал… или ее не было? Или я не приблизился к ней ни на шаг… Как это можно, делить с человеком жизнь и быть от него так далеко? Как?… Почему?… За что?… Первая любовь, первый брак, первый ребенок… чувства идут вслед за плотью, новые, странные, яркие и сумасшедшие, они будоражат и разламывают тебя, всю твою сущность, мир лишается равновесия… А в зрелые годы хочется цельности, гармонии, но… Наверное, все дело в том, что в чувствах мы все время хотим смотреться в зеркало, а на нас смотрит другой человек, совсем другой человек… Я говорил о любви, но в сущности, все, что осталось, это чувство бесконечной тревоги… У меня должен родиться ребенок, и я так не хочу, чтобы это была еще одна дочь, этой тревоги я больше не вынесу… Сцена темнеет, отец уходит. На авансцене остается Анна. АННА – Но тогда я ничего этого не знала, я только пришла к тебе… пришла впервые за много лет. И попросила. И ты сказала: “Нет.” IV картина. Явление первое Обычная комната, или даже прихожая, на пороге Анна и Валерия Александровна кричит ей. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Нет!!! Нет… Никогда! Ты слышишь?! Он ничего тебе не оставил! АННА – Но ведь у тебя они есть, я знаю… 13 ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Ты знаешь? Ты знаешь! И ты знаешь, как они у меня оказались?! Я выхватила их из огня, когда он отвернулся! Всего несколько листков… Я пришла, а он топил печку своими записями, дневниками… Он сжег свои мысли, всю свою жизнь! И ты, конечно, знаешь, почему?… АННА – ?!… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Потому что ты родилась. Потому что он за тебя испугался… АННА – Но я не виновата… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Не-ет! Ты виновата всегда! И ты всегда его обманывала! Своими необыкновенными способностями! Своими талантами! АННА – … ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Из тебя ничего не вышло! АННА – … ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Что же ты молчишь?! Скажешь, из меня тоже?! Ну, скажи же! Скажи… Но я никогда не лгала! Я никогда не лгала! Это была честная ординарность! Слышишь? Честная… И никаких несбывшихся надежд… Никаких! АННА – … ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Уходи! Анна уходит, но на пороге оборачивается и долго смотрит на сестру. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (очень тихо) – … и зачем тогда он отнял у меня свою любовь и отдал ее тебе?… Такая сладкая и такая грустная мелодия. V картина. Явление первое Обстановка первой картины - на сцене Анна и Ольга. ОЛЬГА – Почему ты промолчала? Разве ты не могла сказать?… АННА – Нет. ОЛЬГА – Но нужно было возразить… АННА – Нет. ОЛЬГА – Но почему? Почему, почему?!… АННА – Потому что она должна была сказать то, что сказала. ОЛЬГА – Но она была несправедлива, она была не права… АННА – А она имеет право быть неправой! ОЛЬГА – ?!… АННА – Да… и в глубине души я этого хотела… 14 ОЛЬГА – ?!… АННА – Потому что это дает мне возможность утвердиться и в своем праве больше не любить ее. ОЛЬГА – «Утвердиться»?… «В праве»?… ?!… АННА – Такая сложная душевная подлость… Да?!… Ольга в замешательстве делает несколько кругов по комнате, потом останавливается и говорит, пристально глядя на Анну. ОЛЬГА – Значит ты все еще ее любишь?… Или хочешь любить?… Не в силах говорить, Анна только машет рукой – «Не надо об этом». Потом отворачивается от Ольги и уходит за край сцены. Повисает пауза и, поняв, что Анна не хочет продолжения, Ольга начинает уже совсем другим тоном. ОЛЬГА – Хорошо, хорошо, не надо об этом. Собственно, я пришла поговорить о своей роли. О роли матери… Знаешь, я все время думаю о ней. Пытаюсь понять и… не понимаю… АННА – Я тоже. ОЛЬГА – Но… ?!… Но ведь это была… твоя мать?!… АННА – Да. Да-а… но… всегда такая спокойная, такая ровная, такая доброжелательная, но такая… я не знаю как сказать… словно, находясь среди людей, она выполняла определенные условия, такую… такую работу, выполняла хорошо, может быть даже безупречно, а жила?… А жила она где-то там, всегда там… заключенная внутри себя, и никаких всплесков, эмоций, воспоминаний, желания поделиться… ОЛЬГА – Даже с тобой? АННА – Даже со мной. ОЛЬГА – Ну, а любовь? Война? Ранение, наконец, что ты об этом знаешь?… АННА – Да, но случайно... ОЛЬГА – ?!… АННА – В детстве моим основным занятием было вертеться возле взрослых и слушать, о чем они говорят. Так и говорили: «Ну, опять она «уши развесила»! Иди, иди, поиграй с детьми!» Но играть с детьми я никак не хотела, мне было интереснее здесь… Как-то у родителей собрались друзья, говорили о войне. Она была еще совсем недалеко, и у всех был свой собственный военный опыт. Интересный был разговор, они говорили о случайностях и закономерностях, о судьбе… о том, что и снаряд в одну воронку дважды падает… о своей и не своей пуле, ведь вот только что ты был тут, должен был быть, но вот отошел или позвали, и убило другого, а если бы я?… Чья это была пуля или осколок, его или моя? О счастливых или несчастных мистических случайностях… и о страхе. Да, все боятся, и это правильно, это нормально, но бывает другой страх… Когда человек пугается панически, смертельно, и когда он, бывает, бежит не от опасности, а навстречу ей. Собственно, потому мать и рассказала, речь шла не о 15 ней, а о той медсестричке, которая прибежала навстречу своей смерти… А в комнату, из которой она прибежала, не попало ни одного осколка… Дело было так… Ольга, тем временем ушедшая в темноту, возвращается, и это уже мать. МАТЬ – Дело было так… Раненых все везли и везли. И я несколько суток не отходила от операционного стола… И меня уже как будто не было, кто-то другой делал все, делал правильно и автоматически… А когда, наконец, я поднялась в общежитие, начался страшный обстрел, снаряды ложились так близко, что ясно было – следующим будет наше здание… А я лежала и все думала, что надо спуститься в бомбоубежище, что надо встать, надо встать… и знала, что не встану… Тут из соседней комнаты вбежала медсестричка со словами «Валя, мне страшно! Пусти меня, я с тобой лягу…» Она легла, прижалась ко мне, мы обнялись, и тут нас накрыло… Анна сидит за столом и слушает стихающий гром и удаляющуюся мелодию. Ольга уходит в тень, потом возвращается и подходит к столу. А Анна все сидит и никак на нее не реагирует. Ольга садится напротив, берет ее руки в свои. ОЛЬГА – Анна! Анна! Ау! Вернись! Это я! И Анна как будто возвращается. ОЛЬГА – Все, все… не будем больше о прошлом. Хватит на сегодня. Знаешь, вчера я была в ночном клубе с одним знакомым, так, ничего особенного, просто, чтобы забыться… Выпили, потанцевали… Так вот – там я встретила Павла, Пашу Новикова, он тоже был не с женой, ничего так девочка, очень изящна, сели за один столик... то-се... Потом разговор зашел о тебе... АННА – Зачем? ОЛЬГА – Что – зачем? АННА – Зачем ты обо мне сказала? ОЛЬГА – Ну-у – Здрасте! Как я могла? Это же всем известно… АННА – Все равно, не надо было. ОЛЬГА – Да что ты так переполошилась? Знаешь, что он о тебе сказал?! АННА – И знать не хочу… ОЛЬГА – Вот и зря. Он просил передать тебе привет. Он сказал, что так жалеет, что потерял с тобой всякую связь… А когда мы остались за столом вдвоем, он прибавил: «Я так ее любил, может быть, только ее одну и любил всю жизнь…» И это было так искренне, хотя, знаешь, он ужасный бабник, жене изменяет постоянно… Анна закрывает лицо руками. 16 ОЛЬГА – Ну вот! Ты что?!… А ведь я хотела тебя развеселить, хотела порадовать… И она своими руками отнимает руки Анны от лица, чтобы заглянуть ей в глаза. ОЛЬГА – Не вышло?… АННА – Не вышло… Они сидят за столом, а над ними мелодия танго «… лишь только ты, только ты мне нужна…» VI картина. Явление первое На пустой сцене Анна и появляется Валерия Александровна, в руках у нее небольшая пачка листов бумаги. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Возьми! Она бросает листки, и они веером разлетаются по сцене. Анна начинает собирать, в какой-то момент она опускается на колени и подносит листок к глазам. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – И все равно у тебя ничего не получится! Занавес. Конец первого действия. 17 II действие. I картина. Явление первое Как в конце первого действия, на пустой сцене Анна. Она все еще стоит на коленях, разбирая листки. АННА – … вот – «С чего начать?» … Зачеркнуто… зачеркнуто… «Я не думал, что это так трудно… мысль льется легко и свободно, но берешь в руки перо, и…» зачеркнуто… «начинаются мучения…» опять зачеркнуто… «Слово, да, да написанное слово, оно совсем другое. Вот оно смотрит на тебя со страницы, и ты его не узнаешь… Я хотел назвать все «Записки старого анархиста», но это такое ребячество, как будто мальчишка соблазнился надеть средневековые латы, и теперь бряцает ими… и все не по времени и не по росту… И потом это неправда. Скорее уж «Записки тайного идеалиста». И в слове тайного – такой постыдный оттенок… Неужели я трус? И был им всю жизнь??… Тогда зачем?…» Зачеркнуто… I картина. Явление второе С другой стороны сцены появляется Отец. И он перехватывает эстафету, только говорит уверенно, без запинки и не глядя в записи… и Анна поднимается с колен ему навстречу. ОТЕЦ - … «Записки тайного идеалиста». В слове тайного – такой постыдный оттенок… Неужели я трус? И был им всю жизнь??… Тогда зачем – чтобы оправдаться, приукрасить?… Нет. Буду, по крайней мере, честным, ради себя и своего будущего сына, из-за которого я все это и затеял… В детстве, совсем ребенком, валяясь где-нибудь в лопухах и глядя в небо, я мечтал, что когда вырасту, то непременно стану строителем и построю высокуювысокую башню, поднимусь на нее и тогда увижу весь свет. Другие города, страны, людей… Увижу ясно-ясно, и все пойму… Увидеть и понять… И столько раз в жизни я принимался ее строить и даже, кажется мне, уже начинал всходить по ступеням… И вот строю опять… Пытаюсь строить… Они жили в самой дальней избе на берегу реки, уже за окраиной деревни и назывались «ссыльные». А себя они гордо называли «анархистами». Это было непонятно и красиво и делало их в моих глазах этакими романтическими разбойниками, вроде Робин Гуда. 18 Советская власть тогда была еще почти гуманной и ссылала бывших товарищей по борьбе в европейскую часть на поселение и не навсегда, а как бы на время, для исправления… Я как-то повадился бегать к ним и пропадать у них днями. Отец сначала грозил: «Убью!», а потом махнул рукой… А мать плакала и говорила: «Шурка, не ходи к ним! Ведь они бандиты! Они тебя погубят…» А я был уверен, что бандиты-то все окружающие, вся деревня, все эти мужики и бабы с их грязью, руганью, вечным пьянством, с праздниками, которые всегда кончаются драками и поножовщиной… И если бы меня тогда спросили, почему они ссыльные, то есть за что их наказали, я бы с уверенностью сказал: «Потому что они другие люди!» Они другие люди, и поэтому они должны жить отдельно, и у них есть другой Бог – он называется идея. И за эту идею можно принять любые страдания и даже умереть… Так продолжалось несколько лет, я все бегал к ним и сначала только слушал в сторонке, и ничего не понимал, только плавал в тумане слов, а потом со мной стали разговаривать, объяснять, и туман стал отступать, и я стал подниматься по ступеням башни и видеть больше, и яснее. Я увидел другой мир, мир-мечту, и он был прекрасен… И еще я стал читать книжки, много, разные, и говорить о них, и это было счастье… А потом все кончилось. Их увезли ночью. Утром по деревне пробежал опасливый шепоток. Я прибежал. Дверь была распахнута, только на полу валялись разорванные листки из книг, книг, которыми они так дорожили… И мне не с кем стало разговаривать… Пауза. И в тишине возникает мелодия танго. ОТЕЦ - Шли годы, я рос, взрослел, жил, а поговорить было не с кем… работал, учился, воевал, снова работал… и все долгие-долгие годы поговорить было не с кем… Опять пауза и в ней далекая мелодия. ОТЕЦ – Впрочем, был один случай. Это было перед финской. Я тогда уже жил в городе, отслужил в армии, закончил институт, работал… я вернулся с очередного строительства, у меня были полные карманы денег и жуткая тоска, и я слонялся по разным забегаловкам. Тогда их было много в городе, и они были открыты до утра… Не помню, как я попал в этот низок на Васильевском и как он оказался за моим столиком… Я был пьян, одинок, и мне хотелось поговорить, а у него были такие понимающие глаза. И я разговорился. Я говорил о том, о чем молчал все эти годы. Ему ничего не надо было объяснять, он все знал, казалось, я встретил единомышленника. А я говорил и пьянел от вина, и еще больше от разговора… В какой- то момент он встал. - Я на минутку. Ты только не уходи. Такой разговор! Редко встретишь. Он вышел. 19 А ко мне подошел официант. Попросил рассчитаться, и тихо добавил: - Уходи через кухню. Двор проходной. И забудь к нам дорогу. Да поспеши, они быстро приезжают. Я оставил официанту почти все деньги и ушел. И когда я нырял в узкие проходы между дровяными сараями, меня затоплял даже не страх, а жуткая обида. Ведь у него были такие понимающие глаза… И больше я никогда ни с кем не заговаривал, так и молчал всю жизнь, только всматривался в лица и думал: ведь не один же я такой, ведь есть же на свете люди, которые так же думают… Свобода – это жизнь.» АННА – Свобода – это жизнь… Она и режиссер сходятся на авансцене. АННА – Последнее время, перед смертью, это была его идея-фикс… Грянула хрущевская оттепель, ожили надежды… А отец все повторял, что общество, как и человек, имеет право на ошибку, надо только вовремя это понять, начать исправлять. РЕЖИССЕР – Конечно, имеет. Только у нас всегда почему-то так получается, что за ошибку не наказывают, а сразу отрубают голову… АННА – Несколько лет назад (уже была перестройка) я ехала в троллейбусе по Невскому, и кто-то из сидящих развернул «Огонек», и надпись ударила меня по глазам, мне показалось, что я теряю сознание – такие огромные буквы – СВОБОДА – ЭТО ЖИЗНЬ… I картина. Явление третье ОЛЬГА – Кто здесь говорит о свободе? На сцену вылетает Ольга. Она нарядна, неестественно оживлена: она делает несколько вальсирующих кругов под затихающую мелодию. ОЛЬГА – Я свободна! Я свободна! Я наконец свободна… Я начинаю новую жизнь… Внезапно она останавливается и закрывает лицо руками. Ее веселость на грани истерики. АННА – Развелись? Ольга молча кивает. АННА (неуверенно) – Но ведь ты же знала это… ОЛЬГА – Да. Да! Я знала!… Мне казалось, что я даже хочу этого!… Но оказывается, этого знать нельзя… Знать нельзя! Это нам только кажется… Вот 20 он уходил, уходил… И вдруг ушел! И мои любовь и ненависть, я больше не имею на них права… нет, не так, наверное имею, только он имеет право не отвечать… Она замолкает и молчит некоторое время. АННА – А что Алешка? ОЛЬГА – А-а… все так плохо… И она обреченно машет рукой, как будто не может больше продолжать, но потом не выдерживает. ОЛЬГА – Они с классом по пятницам ходят в бассейн… а я не купила ему шапочку, не успела… и он пропустил, так расстраивался и все просил, напоминал. Наконец на этой неделе купила – он так обрадовался, носил ее весь вечер, смотрелся во все зеркала, чуть ли не спать в ней улегся… а на следующий день пришел сердитый, бросил ее в угол и сказал, что больше не наденет… Оказывается, у детей дорогие силиконовые за двести с лишним, а у него резиновая за 55… Я рассердилась, стала говорить, что он неблагодарный, что у меня нет таких денег… А он говорит: «А папа бы купил»… Тут я совсем вышла из себя и закричала: «Вот и уходи к своему папе! Ты ему не нужен! Он тебя бросил!» Потом оба ревели… Потом помирились… Но что-то сломалось… все время что-то ломается… Так мы начали новую жизнь… Ольга закрывает лицо руками и замолкает, потом отнимает руки от лица и продолжает. ОЛЬГА – И я все время твердила: «Я не за себя, я не за себя… я только из-за сына… Я за него боюсь. А мне ничего не надо…» Но оказывается, это неправда. Неправда! И защищать его нужно прежде всего от меня… Анна подходит к Ольге, приобнимает за плечи и шепчет что-то утешительное. РЕЖИССЕР – Может быть, отменить репетицию? Пойдешь домой, успокоишься… ОЛЬГА – Нет. Нет! Не могу домой… РЕЖИССЕР – Но ты не готова. ОЛЬГА – Пожалуйста! РЕЖИССЕР – Хорошо. Тогда пошли… И все трое с авансцены направляются на сцену. 21 II картина. Явление первое Сцена освещается. На ней обстановка комнаты Анниной семьи. Правда, прошло 11 лет, и в обстановке произошли некоторые изменения: оранжевый абажур заменила люстрочка, и еще кое-какие мелочи, но часы, стол в центре все те же… За столом, задумавшись, сидит Марина. В комнату входят Анна, Ольга и режиссер. Они здороваются с Мариной коротким «Привет», взмахом руки, кивком головы… РЕЖИССЕР – Давно сидишь? Марина молча кивает. РЕЖИССЕР – Что-то на тебя не похоже… Случилось что? МАРИНА – Думаю… РЕЖИССЕР – Полезное занятие… Давно пора! Но Марина не принимает его иронии. МАРИНА – Это так трудно… РЕЖИССЕР – А ты думала? МАРИНА – Как бывает во сне, когда надо проснуться, и никак… словно всплываешь с большой глубины РЕЖИССЕР – Всплыла? МАРИНА – Не знаю… Есть люди, которые счастливы и в несчастье… Нет! Не так… не знаю, как сказать, просто одним не завидуешь и в счастье, а другим завидуешь и в горе… РЕЖИССЕР – Не слишком оригинально! АННА (режиссеру) – Перестань! МАРИНА – Да… Да, наверное, но важно даже не то, что всем известно, а то, к чему приходишь сама… РЕЖИССЕР – Правильно, только, может быть, уже начнем? Анна?! Все занимают свои места для начала сцены. АННА – Прошло одиннадцать лет. И полгода, как умер отец. Сестра вернулась с Дальнего Востока, где работала по распределению после института, и первый раз пришла к нам. Поводом был мой день рождения. Собственно, он был два дня назад, она пришла в день, когда гостей уже не было, но все же пришла… Мать-Ольга накрывает на стол, расставляет чашки, развязывает торт. Валерия-Марина ставит на проигрыватель пластинку, та же мелодия танго, что и в первом действии… АННА – Тогда мне исполнилось шестнадцать… Они усаживаются за стол, разливают чай… 22 АННА – Какое это было грустное чаепитие… МАТЬ – Как дела на работе? ВАЛЕРИЯ – Нормально. Она слегка пожимает плечами и как бы перекидывает вопрос Анне. ВАЛЕРИЯ – Как дела в школе? АННА – Хорошо. И теперь Анна слегка пожимает плечом. АННА – Разговор не клеился… каждая таилась от других, хотя все думали об одном… только о нем… И она кивает на режиссера, который стоит сбоку сцены. Какое-то время все молчат, пьют чай, над ними кружит мелодия… МАТЬ – Почему-то вспомнилась блокада. В госпитале мы все жили на казарменном положении: и военнослужащие, и вольнонаемные, и в город к родным нас отпускали редко, раз в десять дней, в две недели… Мы были очень голодные, но все же у нас был паек, и каждая старалась что-то сэкономить, чтобы отнести родным. Девчонки срезали горбушки с хлеба, сушили и прятали под матрац. Однажды медсестричка Валя, моя тезка, в ночь перед увольнением встала и съела все свои запасы. Утром она стала собираться, отвернула матрац и поняла, что это было не во сне… Она плакала и кричала: «Я убила их! Я их убила!» II картина. Явление второе Во время разговора на авансцене тихо появляется Валерия Александровна. Она стоит и просто слушает, не шевелясь, тихая, неосвещенная фигура. МАТЬ – Когда умирает близкий человек, ты всегда виноват, даже если не виноват совсем, все кажется, что ты чего-то не сделал, не додал, не сказал, не успел… Я сидела и думала, что главный хлеб своей жизни я съела во сне, и вот теперь проснулась… Проснулась и поняла… МАРИНА – И как же она? МАТЬ – Кто? МАРИНА – Та Валя, из блокады… МАТЬ – Девчонки поделились с ней своими запасами. АННА – Ты никогда этого не рассказывала… МАТЬ – Нет. я не могла сказать этого, и еще я не могла закричать и заплакать, как она. Не могла… Я только сидела и думала… АННА – И не хотела с нами поделиться… 23 Кончается мелодия, и Валерия встает из-за стола, подходит к проигрывателю и начинает перебирать пластинки. АННА – У отца была большая коллекция пластинок, были и редкие, из обменного фонда, с красным штампом “Продаже не подлежит”… Вот и сейчас она выбрала одну такую и сказала небрежно: “Я возьму.” МАРИНА – Я возьму. МАТЬ – Конечно. АННА – Но я вдруг, очень резко, сказала: “Нет!” Я искала ссоры, хотела сказать ей… МАТЬ – Аня! АННА – Нет! Она больше ничего не возьмет из этого дома! И обращаясь к Валерии. АННА – Мы тебе ничего не должны! МАТЬ – Аня! Отдай немедленно и извинись! В это время Анна и Валерия обе держатся за пластинку. Валерия разжимает руку, но и Анна делает то же самое. АННА – Возьми! Пластинка падает и разбивается. МАТЬ – Вот и не о чем больше спорить. АННА – Ты хотела сказать – не о ком… Да, да! Не о ком, потому что его больше нет! Нет… И еще я хотела сказать ей, что я ее больше не люблю! Не-ет! Что я ее ненавижу! И Анна кричит это, но сначала Марине, а потом уже и мимо нее, Валерии Александровне, фигура которой освещается. ОЛЬГА – Она опять здесь? РЕЖИССЕР – Конечно, ведь она сама зовет ее все время. И в продолжение следующей сцены Анна и Валерия Александровна говорят, обращаясь к Марине, но она между ними только посредник, а говорят-то они друг другу. АННА – Он звал ее, а она… Он уже терял сознание, я подошла к кровати, и он назвал меня ее именем, а потом понял и сказал: “Вы так похожи…” ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Я не должна перед ней оправдываться, понимаешь, не должна, это был мой отец… мой… АННА – Он был смертельно болен, а она приехала в отпуск с Дальнего Востока и пришла к нему всего два раза… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Она не понимает, как тяжело мне это было, я не могла… АННА – А я могла, мне было всего пятнадцать… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Ты просто… 24 АННА – У нее уже был билет на самолет, она пришла в последний раз, и все знали, что это в последний раз, он ждал тебя, он хотел говорить с тобой… А ты… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – А что я? АННА – А она притащила свою подругу, это было так неуместно… чужого человека, совсем постороннего… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Это от страха… она не понимает… я думала, если не будет этого тягостного прощания, будет легче… АННА – Кому? Тебе? ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – И ему тоже… И потом, я надеялась, что это не конец, что может быть… АННА – И в ту же ночь он стал умирать … и эти слова: “ Вы так похожи…” ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Если я и виновата, то перед ним… и не тебе судить… а он всегда прощал меня, простил и теперь… АННА – А я не хочу быть на нее похожа!… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Знаешь, у меня был отец… Тогда, после войны редко у кого был отец… В нашей институтской группе, только у троих… и я могла ткнуть пальцем в любые дорогие туфли или платье и сказать: “Хочу…” АННА – Она была проклятием моей семьи… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Или полететь на практику на самолете, как моя подруга, дочка профессора… АННА – Моя мать не могла спокойно купить себе ни одной вещи… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Или попросить освободить квартиру на Новый год, чтобы справить его всей группой… чтобы не в общежитии… АННА – Мама всегда должна была оглядываться на нее… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Никто не мог, а он для меня делал… У меня был отец! Обе они вдруг замолкают и расходятся. И Валерия Александровна снова уходит в тень… АННА – Я хотела не так… я не понимаю… Обе они обессилены ссорой. Какое-то время все молчат. РЕЖИССЕР – Потому что это как шахматная задача, которую не решить без еще одной фигуры, а ведь она там есть, она стоит… МАРИНА (указывая на Валерия Александровну) – Ее мать?… АННА – Нет. Нет! Это другая история! Они развелись еще до войны, до того, как от встретил мою мать… И потом композиционно… РЕЖИССЕР – И композиционно, и не композиционно… Ты этого не хочешь. И вдруг из-за стола поднимается Ольга. ОЛЬГА – Просто сегодня там стою я. 25 И она направляется в сторону Валерии Александровны, и останавливается чуть позади нее. Следует недоуменная пауза, потом Анна вскакивает со стула, на который она опустилась после схватки. И, путая Ольгу и мать, она кричит. АННА – Ты?… Ты?!… Перешла к ней… А ты знаешь, когда она снова придет ко мне? Придет через много лет?!… Когда ты умрешь! Да! Да! Да! Она придет посмотреть на мои слезы!… Валерия Александровна в замешательстве, она растеряна, но потом говорит, обращаясь как бы ко всем по очереди, а потом только к Ольге. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Нет… нет… нет… Это неправда… И совсем тихо одной Ольге. ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Я хотела помириться… ОЛЬГА – Но скажи это ей! И она указывает на Анну. ОЛЬГА – Скажи ей… ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – Но она меня не слышит… она давно меня не слышит. Молчание. Свет гаснет. III картина. Явление первое На затемненной сцене открывается дверь, и в освещенном проеме – мужская фигура. Раздается слабое женское: «Ах…» Режиссер, а это он вошел, включает свет, на сцене обстановка предыдущей картины. За столом сидит Анна. РЕЖИССЕР – Испугалась?… Извини. А что ты сидишь тут одна? В темноте?… Я думал, все ушли… АННА – Фигура… вдруг вспомнила… Когда он приходил, он тоже всегда чуть задерживался на пороге и сразу смотрел на меня… такой быстрый и тревожный взгляд – как я? РЕЖИССЕР – Ты о Павле? Анна молча кивает. РЕЖИССЕР – Знаешь, я тут видел его… он просил сказать тебе… АННА – Не надо! РЕЖИССЕР – Но почему? Ничего плохого… только хорошее. 26 АННА – Не надо, прошу тебя! РЕЖИССЕР – Он не очень-то счастлив в семейной жизни… и он хотел сказать тебе… АННА – Замолчи! РЕЖИССЕР – Но почему? Почему?! АННА – Да потому что я все время ждала удара… ждала, что он скажет что-то гадкое… РЕЖИССЕР – А он говорит, что тебя по-прежнему лю… АННА – Но это невыносимо! Невыносимо! Удар бы я приняла, но это хуже… это тяжелей… РЕЖИССЕР – Да что же произошло? Что произошло между вами?… АННА – Да ничего. Ничего – понимаешь? И в этом вся трагедия… РЕЖИССЕР - ?!… АННА – Банальнейшая история. Я тогда немного преподавала в институте, а он был одним из моих первых студентов. И знаешь, как это бывает – разговоры, разговоры, просмотры, походы в Дом кино… и эти увлеченности, когда тебе смотрят в рот, слушают, ходят за тобой хвостом… Но все в конце концов уходили, а он оставался… И шли годы, а он все приходил, и все ждал чего-то… А потом он развелся с женой, и это было непонятно, такая прелестная девочка, его ровесница… И потом эта история стала предметом обсуждения окружающих, еще бы, такая разница в возрасте… РЕЖИССЕР – Ну и что?… АННА – Ну и что… Ничего. И все эти советы и притворное участие – “Молодой! Ох, а к телу, к телу-то как приятно!”… и то кивки на его корысть, то на мое бесперспективное одиночество… И подталкивание со всех сторон: а дальше, дальше-то что будет? Такой бесплатный спектакль!… Мать говорила: “Поступай как хочешь, только через пару лет он скажет о тебе: “Моя старуха”… А я всех слушала и ни на что не могла решиться… А ему негде было жить, он ночевал то у друга, то на работе… Ему негде было жить, это делало его немым… а я не протягивала ему руки… Во время разговора режиссер присаживается к столу, за которым сидит Анна. Какое-то время они молчат. РЕЖИССЕР – После института меня послали в провинцию... Я был нищ, голоден и полон безумных планов, с помощью которых я хотел взорвать этот сонный городишко, а потом и весь мир… Вскоре я женился. Она была такая беленькая аккуратная девочка, которая смотрела мне в рот и верила моим безумствам… Теща возненавидела меня сразу, как голодранца и авантюриста, она так и говорила… “И никакой ответственности!” А мы были молоды, беспечны, и поначалу это казалось игрой: мы праздновали ее отсутствие в доме и занимались любовью, мы могли взять деньги из семейной кассы и, не спросясь, уехать на театральный фестиваль в Москву, мы… мы были вместе против нее… и во всем был вкус запретного плода, который был нам так сладок… 27 Сейчас я ее понимаю, свою первую тещу. Планы не сбывались, светлое будущее не наступало, я не становился знаменитым, я даже не становился взрослым… Действительно – никакой ответственности! А наступали будни, наступали зимы, и нужно было покупать дрова, чинить крышу, покупать ботинки… А я все был несостоятелен, и жена моя все чаще говорила голосом своей матери… И уже не мы с ней, а она с матерью были вдвоем, а я был один. И они начали наказывать меня – не будет ребенка, не будет радости, не будет того, другого, потому что ты недостоин, потому что ты не заработал… И тебе нечего сказать в оправдание… Я помню свои чувства в это время, я как будто постоянно зяб, вот здесь – внутри никак не согреться, …никак не согреться… АННА – Если я виновата перед ним, а только он один это знает, то я виновата и перед собой… И тогда мы все квиты. РЕЖИССЕР – Квиты!… О чем ты? Разве в этом дело? Разве он хочет свести с собой счеты?… Молчание РЕЖИССЕР – Потом я уехал… и больше не возвращался в этот городок. И что-то осталось там навсегда… АННА – А потом он женился и не сказал, я узнала это от других… И жена его тоже была старше… И все еще он приходил иногда, и мы болтали и делали вид, что ничего особенного не происходит, что все как раньше… А потом у него родился сын. Его сын от другой женщины. И опять он сам не сказал, и все еще звонил иногда… а потом все кончилось – он позвонил, и во время разговора малыш заплакал… Малыш заплакал, он отошел, а я повесила трубку – все кончилось. Все. РЕЖИССЕР – И вы больше не встречались? АННА – Нет. Нет… Только через несколько лет в театре, была какая-то шумная премьера, и столько народа, я вошла в партер… и вдруг его лицо “рванулось и понеслось ” на меня откуда-то с верхнего яруса! Нет, если бы я искала его нарочно, то никогда, никогда в этой толпе, ведь я такая слепая, а тут… И когда я сидела потом, то все время чувствовала его спиной… и я ушла в темноте до первого антракта. И еще раз… в метро – кто-то со встречного эскалатора вдруг накрыл мою руку и сказал: “Аня!” А когда я посмотрела, то уже не увидела, только движение за чужими спинами… И эта ласка руки и голоса, и этот вздох: “Аня!”, как будто они мне приснились… И в третий раз, опять зимой – был вечер, морозило… Я зашла в храм, сама на знаю почему, и стояла в каком-то забытьи, глядя на огонь свечей… И вдруг вошел он, и опять я это скорее почувствовала, чем увидела. И страшно испугалась, я сама не могу объяснить себе этого испуга, но он пронизал меня всю до самых кончиков… Но я не ушла, а только отодвинулась в тень и поглубже надвинула капюшон. Он не заметил меня… поставил свечу, перекрестился и долго стоял перед образом. Я и не знала, что он ходит в храм… И вот я все стояла и смотрела на его лицо, пока он молился, и думала, что никогда не спрошу его о том, о чем так хочу спросить… РЕЖИССЕР - ?!… 28 АННА – Как он столько лет ложится в постель с этой женщиной, если он ее не любит? РЕЖИССЕР – А так и ложишься, ложишься и все… АННА – И о чем просит бога, о чем он просил его тогда?… РЕЖИССЕР – А просишь о том, что никогда не сбудется, и знаешь, что не сбудется, а все равно просишь… АННА – Нет, мы не встречались все эти годы, и не хотели… но знаешь, это так странно… как будто встречались наши души, они хотели встретиться… Опять молчание. РЕЖИССЕР – Анна… Анна! Послушай! Я сегодня ночью опять перечитывал твою пьесу, там есть одна тема – о том, что люди могли бы сказать друг другу, но не говорят… Не говорят и потому несчастны… И уходят навсегда, так и не сказав… Но ведь ты живая! Так скажи, скажи то, что ты хочешь сказать, - тем, кто еще жив… АННА – Замолчи! Замолчи! Не говори мне больше ничего! Не надо! Потому что я все уже себе сказала… И все мои слезы о нем, нет, они правда и неправда одновременно, потому что когда я так горько рыдала, кто-то жестокий и циничный, вот здесь… Она вскакивает и показывает за свою спину чуть повыше затылка. АННА – …говорит мне: “Ну что же ты плачешь, зараза, ведь ты сама все это сделала” Сама! Понимаешь? Все правда, и все ложь одновременно… РЕЖИССЕР – Не вини ты себя и отпусти вину им… АННА – и повторись все сначала, все будет так, а не иначе. А ты молчи! И она выбегает из комнаты. РЕЖИССЕР – Да куда же ты? Хоть провожу… темно уже… И он выбегает вслед за ней. IV картина. Явление первое На сцене обстановка второй картины первого действия, по бокам два небольших расходящихся марша лестницы выходят к лестничным площадкам с окнами, на одном подоконнике сидит Марина, на другом Валерия Александровна. Внизу у подножия лестниц появляется Анна и в нерешительности останавливается. АННА – Ждете?… Ждете… Обе. Зачем? Не хватит ли на сегодня?… Я устала… Никому не нужные признания в любви… напрасные упреки… МАРИНА – Никому не нужные… Но разве ты не говорила всегда, что любовь как чувство абсолютно свободна? 29 АННА – Да, конечно… МАРИНА – Вот и оцени ее как чувство. Какие же ты хочешь получить с нее дивиденды? АННА – Я-я?!… МАРИНА – Ты! Ты!… Послушай меня! Послушай… Все говорят, что молодость – это время уверенности, время надежд… не знаю, может быть, я не такая, как все, только для меня это время бесконечной тревоги… Я выросла в маленьком городке, полчаса в ширину неспешным шагом, полчаса в длину – и все! И такая скука! И я – такая обычная… да, да, и мечта у меня такая обычная, как почти у всех провинциальных девчонок – уехать в большой город и стать актрисой. И почти никогда не сбывается. А тут сбылось! Какое счастье! И я думала, что никогда не оглянусь! И никогда не соскучусь!… И вдруг затосковала… Сижу на лекции, такой институт, и вокруг такой город, а я… ну, вот как будто я на острове… или… на скале… а вокруг пустота… вокруг пропасть… я плохо объясняю… но мне никак не протянуть было это пространство, я его не знаю, оно чужое… Я к чему это?… Вот так и в чувствах, конечно, свобода, терпимость… Вечером – “Я останусь?” – “Конечно”. А утром – “Пока”. Перепихнулись – и “привет”. Все так – проба пера… И никак не протянуть эту ниточку хоть в сколько–нибудь обозримое будущее… Никак… А мне бы хотелось, мне бы так хотелось! Чтобы кто-нибудь! Через пятнадцать лет! Вспомнил! И не просто вспомнил! А сказал, что ОН МЕНЯ ЛЮБИТ! Во время рассказа Марина встает с подоконника и медленно спускается по лестнице, и как будто преграждает путь Анне. МАРИНА – А ты! “Никому не нужная любовь…” Молчание. И Анна отходит от лестницы, на которой стоит Марина медленно подходит к подножью той лестницы, на которой сидит Валерия Александровна, заносит ногу на первую ступеньку, и замирает в нерешительности… 30 V картина. Явление первое Сцена пуста. С одной стороны выходит Анна, в руках у нее листы рукописи. Она начинает читать. АННА – «Бой закончился, и стало тихо»… V картина. Явление второе С другой стороны сцены, навстречу Анне выходит Отец. И он продолжает. ОТЕЦ – Бой закончился, и стало тихо, нет, не то чтобы тихо, просто все звуки возвращались на свои места… ведь во время боя такой грохот, и весь мир так грубо сжат, скомкан, исковеркан… а теперь – канонада откатилась к горизонту, чихая, тарахтел мотор, брякал котелок… стало слышно человека. Мы наконец-то заняли эту проклятую высоту, и теперь хотелось просто лежать и не двигаться… просто лежать… Н. подошел к трупу немца, перевернул его, это был молодой парень, у него были светлые волосы и голубые открытые глаза… Он был мертв, но крови не было. Крови не было… Н. обшарил карманы, и я подумал, что сейчас он вытолкнет труп за бруствер, но он… Он вдруг воткнул в него штык. И я услышал этот звук, как сталь вспарывает тело, я услышал его словно в первый раз, ведь в бою не слышишь… И стало так мерзко. А Н. остервенился, он все рвал и рвал штыком мертвое тело… Петрович крикнул: «Перестань!» А Н. вдруг выколол немцу глаза. Тогда возмутились все. Н. оттащили от трупа. Петрович дал ему в морду. «Ты бы так в бою!» Немца выбросили из окопа. Н. лежал на земле, размазывая по лицу грязь и сопли… И тут что-то случилось. Я не знаю, как сказать, все будет не точно… Я понял, почувствовал, узнал?… Никто не посмел бы сформулировать это словами, даже в мыслях… Но это пришло мгновенно, откуда-то от хребта, пришло ясно, жестоко, неколебимо… И поняли мы все, что Н. не переживет ближайшего боя. Он больше не жилец, потому что мы все от него отшатнулись. Нет, никто бы не посмел не придти к нему на помощь намеренно, просто из суеверия, из страха перед судьбой, перед богом, перед тем, кто там еще над нами… Но помедлить секунду, другую, повернуться не сразу… Он был обречен. 31 Тяжелое молчание. Анна, разбирая рукопись. АННА – Дальше все зачеркнуто… опять… вот, нет, опять… «Я… я хотел верить…» ОТЕЦ - Я хотел верить, что все не напрасно… и что придет снова время, когда человек будет вздрагивать, если рядом с ним кого-то ударили, пусть даже за дело… Он обязательно вздрогнет, потому что почувствует частичку этой боли… АННА – «… почувствует частичку этой боли…» Пауза. АННА – Я не могу дальше разобрать. Так трудно. Я не все разбираю?… ОТЕЦ – А все и не надо. ВСЕ НЕ НАДО. Анна опускает листы. Какое-то время они молчат. АННА – Как бы я хотела поговорить с тобой сейчас… просто поговорить. Помнишь, как в детстве, я приходила к тебе и просила: «Поговори со мной, пожалуйста!» Поговори со мной, пожалуйста… Почему-то сейчас мне припомнилось то лето, когда мы сняли дачу в Михайловке. Мне было пять лет. Мы приехали, и весь день шел дождь, к вечеру разъяснило, выглянуло солнце, и мы с тобой пошли гулять. Капли дождя переливались на листьях и падали вниз, сосновый лес пронзали оранжевые лучи… а в саду мы смотрели, как сворачиваются, засыпая, цветы… а потом вернулись в дом. В сумрачной прихожей в углу на коленях стоял мальчик. Я так испугалась, споткнувшись о его ноги. Для меня это было странное зрелище, такая печальная, темная, фигура, обиженная и такая униженная… В семье соседей-дачников детей наказывали, ставя на колени в угол. Ты увел меня в наши комнаты, и все повторял в тот вечер и потом: «А ты никогда не становись на колени. Никогда. Даже если тебя будут ставить. Не становись. Никогда!» ОТЕЦ – Не становилась?. АННА – Нет. Нет, не становилась. Только жизнь… жизнь, такая живая, яркая, проходит мимо… Так получается, а ты остаешься на обочине… И становишься жестокой. ОТЕЦ – Жалеешь? Анна только смотрит на него и молчит. ОТЕЦ – Прости, что спросил. АННА – Ничего, тебе можно. Пауза. 32 АННА – Знаешь, когда я писала эту пьесу, я написала первое действие и сильно заболела, и стала умирать… И так сильно испугалась, я думала, вот я умру, и тогда вы все тоже умрете вместе со мной, а так не должно быть… Ничего, ничего. Чему-то я в этой жизни научилась. Ведь я твоя дочь. И больше не прошу у жизни пощады. И когда на пути преграда, я не буду искать обходных путей и не пойду ни влево, ни вправо, и не буду рыть землю… Просто… просто я говорю себе – взлетай, если можешь! Небо свободно всегда… И она поворачивается лицом к залу и поднимает руки. АННА – Небо свободно всегда! Занавес. Конец. 33