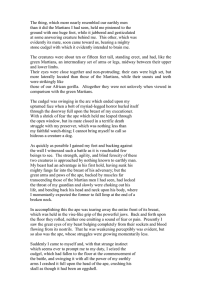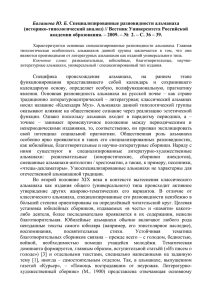application/msword 103.5 Kb
advertisement
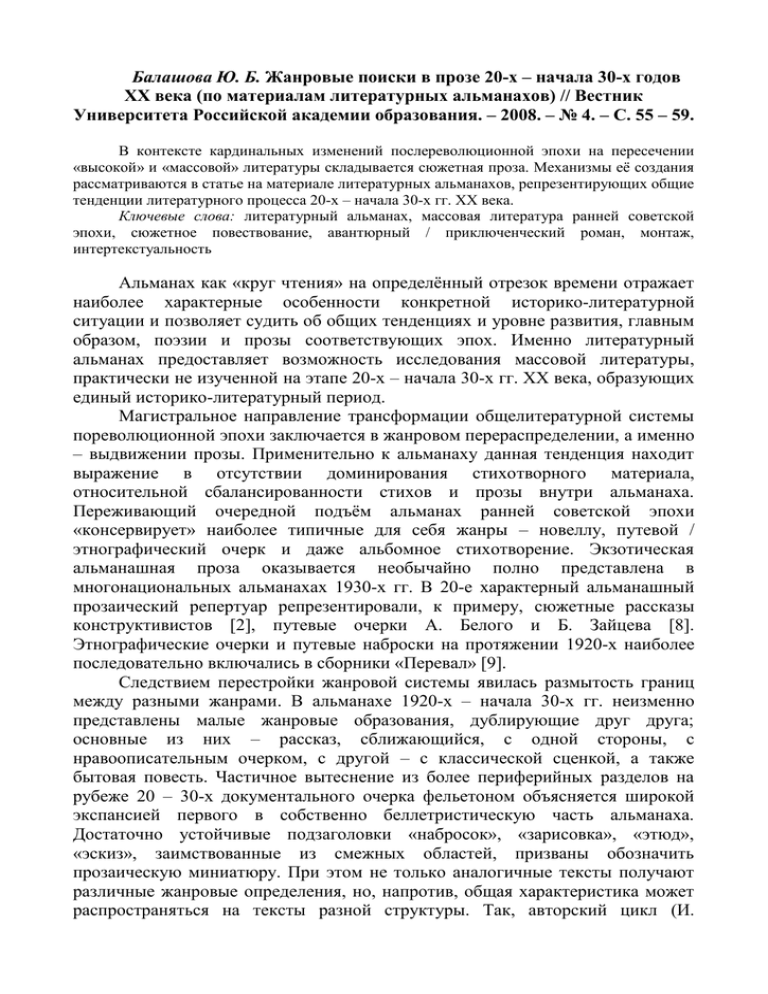
Балашова Ю. Б. Жанровые поиски в прозе 20-х – начала 30-х годов ХХ века (по материалам литературных альманахов) // Вестник Университета Российской академии образования. – 2008. – № 4. – С. 55 – 59. В контексте кардинальных изменений послереволюционной эпохи на пересечении «высокой» и «массовой» литературы складывается сюжетная проза. Механизмы её создания рассматриваются в статье на материале литературных альманахов, репрезентирующих общие тенденции литературного процесса 20-х – начала 30-х гг. ХХ века. Ключевые слова: литературный альманах, массовая литература ранней советской эпохи, сюжетное повествование, авантюрный / приключенческий роман, монтаж, интертекстуальность Альманах как «круг чтения» на определённый отрезок времени отражает наиболее характерные особенности конкретной историко-литературной ситуации и позволяет судить об общих тенденциях и уровне развития, главным образом, поэзии и прозы соответствующих эпох. Именно литературный альманах предоставляет возможность исследования массовой литературы, практически не изученной на этапе 20-х – начала 30-х гг. ХХ века, образующих единый историко-литературный период. Магистральное направление трансформации общелитературной системы пореволюционной эпохи заключается в жанровом перераспределении, а именно – выдвижении прозы. Применительно к альманаху данная тенденция находит выражение в отсутствии доминирования стихотворного материала, относительной сбалансированности стихов и прозы внутри альманаха. Переживающий очередной подъём альманах ранней советской эпохи «консервирует» наиболее типичные для себя жанры – новеллу, путевой / этнографический очерк и даже альбомное стихотворение. Экзотическая альманашная проза оказывается необычайно полно представлена в многонациональных альманахах 1930-х гг. В 20-е характерный альманашный прозаический репертуар репрезентировали, к примеру, сюжетные рассказы конструктивистов [2], путевые очерки А. Белого и Б. Зайцева [8]. Этнографические очерки и путевые наброски на протяжении 1920-х наиболее последовательно включались в сборники «Перевал» [9]. Следствием перестройки жанровой системы явилась размытость границ между разными жанрами. В альманахе 1920-х – начала 30-х гг. неизменно представлены малые жанровые образования, дублирующие друг друга; основные из них – рассказ, сближающийся, с одной стороны, с нравоописательным очерком, с другой – с классической сценкой, а также бытовая повесть. Частичное вытеснение из более периферийных разделов на рубеже 20 – 30-х документального очерка фельетоном объясняется широкой экспансией первого в собственно беллетристическую часть альманаха. Достаточно устойчивые подзаголовки «набросок», «зарисовка», «этюд», «эскиз», заимствованные из смежных областей, призваны обозначить прозаическую миниатюру. При этом не только аналогичные тексты получают различные жанровые определения, но, напротив, общая характеристика может распространяться на тексты разной структуры. Так, авторский цикл (И. Евдокимова) «Новеллы» в альманахе «Сегодня» [11, с.18-23] состоит из нравоучительной сказки, традиционной новеллы и классической лейкинской сценки. В обозначенном контексте импульсом жанровой трансформации следует признать восходящие ещё к 70 – 80-ым гг. XIX века метаморфозы в группе малых жанров. «Тотальная» документальность альманаха 1930-х гг. – ведущим жанром становится публицистический: «производственный» («фабричный»), «колхозный» («деревенский») и даже стихотворный очерк – во многом обусловлена альманашной традицией. Сами жанровые обозначения – «рассказ», «очерк», «повесть» – выступают как вполне взаимозаменяемые. Показательны в этом отношении зачины рассказа А. Мицкевича «Заминка» и очерка И. Болотного «Ростки» из типичного для 30-х гг. сборника «Колхозы побеждают»: «Земля хмурилась в объятиях седого тумана, но небо было осыпано звёздами, как спелой пшеницей» / «Шипел снег, таял лёд, вздрагивала умирая зима» [4, с.14, 30]. В специальной статье «Ударники полей – в литературу», посвящённой сборнику, критик П. Яцынов указал на причину такой близости, вызванную единством документальной основы, отвечающей предъявляемому предельно общему требованию «художественности»: «Очерк А. Мицкевича “Красный тыл”, равно как и рассказ “Заминка” свидетельствуют о наличии у автора и навыка, и значительной уже выучки. Уменье дать художественную деталь и установка не на фиксацию факта, а показывание его, делают оба рассказа художественными произведениями, несмотря на то, что они передают конкретные события текущей действительности. (В рассказах сохраняются, видимо, действительные, а не вымышленные имена людей и название местности). <…> Художественность <…> достигается обобщением» [4, с.9, 10]. К рассказу всё чаще присоединяются чисто документальные подзаголовки, как, например: «из дневника», «из записок», «из записной книжки». Повесть, которую традиционно отличает признак объёма, в альманахе рассматриваемой эпохи также маркирует относительная удалённость и, как следствие, некоторая условность описываемых событий. Для литературных текстов, в особенности относящихся к 1920-м гг., характерно монтажное строение, что позволило современникам говорить даже об особом «жанре монтажей» [10]. Пример чисто монтажного, почти кинематографического строения демонстрируют три бесфабульные сценки Л. Добычина, помещённые в четвёртом выпуске ежеквартального альманаха с типичным для данного типа издания астрологическим заглавием «Ковш», – «Ерыгин», «Лидия», «Сорокин», фиксирующие частную жизнь героев как бы по частям [5, с.236-243]. Авантюрная повесть под названием «Рассказ о простой вещи» Б. Лавренёва во второй книжке альманаха «Ковш» [5] имеет подзаголовок «кинематограф». «Простой вещью» оказываются идеологические установки и сама жизнь видного чекиста Орлова; отступления отчасти психологического характера накладываются на шпионский сюжет и отчётливо редуцируют его. На всём протяжении первой половины 1920-х гг. в альманахе активно формируется романная форма, связанная с попыткой выхода к сюжетике. В начале 20-х провозглашается необходимость создания героя наподобие «Красного Пинкертона» и ориентация на Р. Стивенсона. Несколько позже Б.М. Эйхенбаум отмечал, что «если мы идём к авантюрному роману, то не к сюжетному, построенному на фабуле и на герое, не к узловому, а к линейному, к плоскостному – к “хронике”, лишённой психологической и фабульной перспективы. Сюжетному роману сейчас не на чем развёртываться – материал для него должен быть заново подготовлен особыми жанрами вроде старых “физиологических” очерков» [14, с.423]. Основываясь на альманашном материале и несколько скорректировав приведённое положение Эйхенбаума, необходимо признать, что романная сюжетика активно опиралась как на нетрадиционные «монтажи», так и разработанную новеллистику. Согласно одному из ключевых концептуальных положений, высказанных М.М. Бахтиным, сам многостильный жанр романа сложился на пародийной основе, формирующей дистанцию между словом и объектом изображения [1]. В этом смысле симптоматично, что малые жанры прозы М. Зощенко, В. Каверина, Г. Гора отличала отчётливо выраженная тенденция к игре с художественной условностью (все три прозаика довольно устойчиво печатались в различных альманахах). На пути создания большой эпической формы (социальный заказ на «красного Льва Толстого») своего рода катализатором выступал один из ближайших прообразов – плутовская новелла. Аналогичным образом ещё в античности новелла также преобразовалась в роман. Герой-плут и в то же время бес действует в «жизнеописании» Дм. Четверикова «Записи о дворянине Аничкове», которое корреспондирует с помещённой в этом же альманахе «Содружество» [13] авантюрной повестью Б. Лавренёва «Таласса». Её главный герой, в свою очередь, непосредственно ориентирован на гоголевского Акакия Акакиевича, однако, в этом своём качестве он остаётся за рамками сюжета, который организован реализованным стремлением к приключениям. В группе плутовских новелл в целом особое значение приобретает интертекстуальная связь с Гоголем, главным образом, с «Мёртвыми душами», «Петербургскими повестями» – «Нос» и «Шинель», а также «Ревизором». Отсылки к последнему претексту проявляются в «Записях» через характерологические свойства героя: «…я столько вру, что и сам не знаю, которое правда» [13, с.186], а также на основе внезапного появления в финале, вписанного в общий контекст неожиданных открытий, «жандарма» Стрельникова и «ревизора» – чекиста Дятлова, разоблачивших Аничкова – «последнего дворянина в России». Таким образом, завершающее явление комедии функционирует на правах устойчивого клише; сама же контактная связь верифицируется за счёт сюжетных перекличек с «Мёртвыми душами», сформированных мошенническими похождениями «нового Чичикова». В качестве дублетной по отношению к плутовской новелле выступает своего рода светская повесть – «семейные хроники», где действует герой, наделённый собственной родословной и биографией. Сам же герой как особого рода «смысловое целое», по выражению Бахтина, предстаёт в рассматриваемый период достаточно проблематичным, отсюда – произвольные обрывы в сюжете. В этом смысле показателен и тот факт, что биографические повести в ряде случаев ограничиваются описанием лишь детства героя. Именно с жанровыми поисками во многом был связан РАППовский лозунг «учёбы у классиков». Применительно к альманашному материалу на уровне жанрового строения интертекстуальное взаимодействие наиболее отчётливо прослеживается как с текстами Гоголя, так и Салтыкова-Щедрина. Для помещённых в альманахе прозаических текстов актуальны, разумеется, и современные претексты – главным образом – Горького, ещё при жизни признанного классиком советской литературы (интертекстуальной переработке подлежат, прежде всего, горьковские произведения ранний поры, в частности, роман «Мать», считавшийся одним из первых образцов соцреализма). Романный жанр в принципе никак не умещается в компактный альманах, стремящийся не разрывать текст между разными номерами (одно из отступлений от этой закономерности – роман Вересаева «В тупике»; три его части были опубликованы в первых трёх выпусках сборников «Недра» (М., 1923 – 1924)). В общей, хотя и аморфной, однако мировоззренчески целостной литературной системе 30-х гг., объёмный роман приобретает главенствующее положение, однако по-прежнему преимущественно остаётся за рамками альманаха. В предшествующее десятилетие, напротив, романная форма довольно устойчиво входит в альманах. Во многом экспериментальный сюжетный роман 20-х представлен в альманахе не только снискавшими известность детективными романами Каверина («Конец хазы», «Девять десятых судьбы» и близкой к ним «фантастической повестью» «Большая игра») или «чекистским» романом И. Эренбурга «Жизнь и гибель Николая Курбова». В гораздо менее известной, близкой к роману, повести А. Бибика «Катрусина вышка», квалифицированной самим автором именно как роман, легко узнаваемая ситуация недавнего прошлого – временное безвластие в Крыму – трансформирована в полном соответствии с логикой авантюрноприключенческого романа. Основная сюжетная линия, осложнённая отрывочными побочными, сводится к следующему: бандиты в масках (отставшие белые) нападают на мирную дачу профессора, куда случайно попадает красный командир. Героиня – Катруся – решает пожертвовать собой – обманом уводит разбойников, уверяя, что на соседней даче спрятано золото. Её младший брат тайно следует за ними; подражая вою шакала, он обозначает ориентиры. Вовремя подоспевший отряд красноармейцев обезвреживает шайку и спасает Катрусю. Сам сюжет разворачивается как реализация игры в клишированный приключенческий роман, которую ведут юные герои, активно штудирующие соответствующую литературу. При этом обобщённосимволический финал дополнительно отсылает к горьковским: «Туман рассеялся. Могучее, синее море сверкало избыточной радостью. Без меры, без края ушли горизонты. И, как мысль, в голубом океане реял орёл» [6, с.292]. Эклектичность манеры Бибика стилистически чаще реализуется через подключение типизированных модернистских описаний, как, например, в самом начале романа: «На склоне Дахуна, обращённом к морю и солнцу, среди буйно-зелёного руна вековых дубов <…> раскинулись <…> приюты уединённой любви <…>» [6, с.173]. Показательным примером преимущественно фабульного типа построения выступает роман Вл. Бахметьева «Преступление Мартына» [3], где основное сюжетообразующее событие, которое сводится к недоразумению (истинно героический главный герой первоначально спасается бегством от своих же красных, принятых за казаков), дано с задержкой лишь в фабульном плане и оказывается не соразмерным центральному конфликту, принявшему чисто идеологический характер. Неизбежным следствием такой «внесюжетной» организации оказывается отсутствие развязки; её заменяет развёрнутый эпилог. В дальнейшем данная тенденция отчётливо обостряется: «Остранение допускается в сталинской литературе лишь в ослабленной форме. <…> Поскольку странная передача событий не разрешается, постольку из языка литературы изгоняются <…> тропы, являющие собой разновидность загадки. Поощряется, напротив, использование языковых (общепонятных) тропов и тавтологий <…> Остранение здесь – всего лишь нехватка информации о событии; для соцреализма остранение не может быть ничем иным, кроме недостаточного знания» [12, с.283]. По контрасту с романом Бахметьева, чисто сюжетный занимательный роман Арк. Голикова (псевдоним – Гайдар) «В дни поражений и побед» основан на вполне явленных и развёрнутых случайностях. «Центр тяжести» здесь сосредоточен на интриге – военных похождениях «трёх товарищей» – молодых красных командиров, счастливо преодолевающих опасности. Две части романа «со значительными сокращениями» были опубликованы в двух первых книжках альманаха «Ковш» и назывались повестью [5]. Отношение к данному вполне «взрослому» тексту, причём именно романного плана, как «повести для детей» [7, с.576], вероятно, вызвано ретроспективным взглядом, учитывающим дальнейшее творчество писателя, а также отчётливо идеализированным изображением чрезмерно положительных главных героев, продуцирующих развитую сюжетику. Наиболее расшатанным, почти бесфабульным вариантом романов с ослабленной фабулой, можно считать «кусковые» романы Б. Пильняка. Завершённость таких текстов достигается, в частности, путём условного сведения разрозненных сюжетных линий в финале, связанным с введением автора как действующего лица, как это происходит в романе Вл. Железняка под знаковым заглавием «Пассажиры разных поездов», опубликованном в 1931 г. в последней, двадцатой, книжке серийных сборников «Недра». В достаточной степени массовый материал альманахов 1920-х – начала 30-х гг. подтверждает такие общие свойства литературного процесса эпохи, как жанровую перестройку, попытку выхода к сюжетному повествованию, монтажность, определённую клишированность, а также утверждение на рубеже 20 – 30-х гг. художественной публицистики. Стремление к сопряжению принципиально разных жанрово-стилевых тенденций отчётливо прослеживается в рамках основного «художественного» отдела раннего советского альманаха. Последовательное проведение обозначенного контрастного принципа в альманахе, стимулируемое специфическими особенностями последнего, непосредственно развивает альманашную традицию предшествующего «века стилизации»; в то же время его воплощение на уровне поэтики самих произведений демонстрирует отход от мощного влияния культуры модерна. Такого рода «векторная» разнонаправленность дополнительно заостряет вопрос об особой организации альманаха, отличной от механического соединения отдельных текстов. Литература 1. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи. М., 1986 (работы «Эпос и роман (О методологии исследования романа)», «Из предыстории романного слова»). 2. Бизнес. Сборник литературного центра конструктивистов / Под ред. Корнелия Зелинского и Ильи Сельвинского. [М.], 1929. 3. Земля и Фабрика. Литературно-художественный альманах. Кн. первая. [М., 1927]. 4. Колхозы побеждают. Ударный литературно-художественный сборник. Луга, 1931. (Изд-е газеты «Крестьянская Правда»). 5. Литературно-художественные альманахи «Ковш». Кн. 1 – 4. М.; Л., 1925. 6. Литературно-художественные сборники «Недра». Кн. семнадцатая / Отв. ред. Н.С. Ангарский. М., 1929. 7. Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. 8. Московский альманах. М., 1922. 9. Перевал. Сборник. № 1 – 5. М.; Л., 1923 – 1927. 10. Рейсер С.А. Монтаж и литература // Аронсон М., Рейсер С. Литературные кружки и салоны. СПб., 2000. 11. Сегодня. Альманах художественной литературы, критики и искусства. Вып. 2. М., 1927. 12. Смирнов И.П. Психодиахронологика: Психоистория русской литературы от романтизма до наших дней. М., 1994. 13. Содружество. Литературный альманах. Л., 1927. 14. Эйхенбаум Б.М. Лесков и современная проза // Эйхенбаум Б. О литературе: Работы разных лет. М., 1987. Yulia B. Balashova The Quest for Genre in the Prose of the 1920s – the beginning of the 1930s years: On the Material of the Literary Almanacs The article deals with radical changes in Russian post-revolutionary literature at the crossroads of “high” and “mass” literature when narrative plot construction was formed. The author has used literary almanacs to this end which represent in particular general trends occurring within literary process of the time. Key words: literary almanac, popular literature of the early soviet epoch, entertaining narrative, adventure novel, montage, intertextual. An almanac as a “circle of reading” reflects for a certain period of time the main characteristics of the specific historical and literary situation and allows us to draw conclusions about the general tendencies and the level of elaboration of, chiefly, contemporary prose and poetry. It is the literary almanac, that provides an opportunity to study mass literature, practically neglected at the stage of the 1920s – the beginning of the 1930s years that form a whole historic and literary period. The main direction of the general literary system transformation after the revolution consisted in the reorganization of the genre system, namely in the advancement of prose. In almanacs this tendency reveals itself in the fact that poetry does not predominate inside an almanac and the amount of prose and poems is relatively balanced. The almanac of the early soviet era, living through another of its rises, “preserves” its most typical genres – a novella, a travel / ethnographic sketch and even an album poem. Unusual almanac prose is amply present in the multinational almanacs of the 1930s. In the ’20s the typical almanac repertoire was represented, for example, by plot short stories of constructivists [2], travel sketches by A. Bely and B. Zaitsev [8]. Ethnographic sketches and travel notes were during the 1920s consistently included in “The Pass” (“Pereval”) compilations [9]. The reorganization of the genre system resulted in the indistinctiveness of different genres. In the almanacs of the 1920s – beginning of the 1930s one can find many smaller genre forms, which often repeated each other. The main of them were a short story, which became similar to a sketch of life and manners on the one hand, and to a classical scene on the other, and also a story of everyday life. In the more peripheral parts of an almanac documentary sketches were at the brink of 20s – 30s partly superseded by feuilletons, which was due to the vast expansion of the former into the actual fiction part of an almanac. The rather common subheadings like “sketch”, “outline”, “draft” and “study” taken from related spheres were used to characterize prosaic miniatures. At the same time not only did similar texts get different genre definitions, but also a general characteristic could be applied to texts with different structure. Thus, the author’s compilation “Novellas” (by I. Evdokimov) in the almanac “Today” (“Sjegodnja”) [11, p. 18-23] consists of a didactic tale, a traditional novella and a classical scene in Leikin’s style. In this context the metamorphoses of the 1870s – 1880s in the group of smaller genre forms should be considered as the impulse to the transformation in the group of smaller genre forms. The “total” documentary nature of almanacs in the 1930s – the main genre is still journalistic: an “industrial” (“manufacturing”), “kolkhoz” (“country”) and even a poetic sketch story – is largely stipulated by the almanac tradition. The names of the genres themselves – a “short story”, a “sketch”, a “story” – act like completely interchangeable. In this respect the beginnings of A. Mickiewicz’s short story “Delay” (“Zaminka”) and a sketch “Sprouts” (“Rostki”) by I. Bolotny from the compilation “Kolkhozes win” (“Kolkhozi pobezhdajut”), typical for the 30s, are quite indicative: “The land was glooming in the hands of the grey fog, but the sky was sprinkled with stars like with ripe wheat” / “The snow was hissing, the ice was melting, the winter was dying” [4, p. 14, 30]. In the special article “Leading field workers – to the literature” (“Udarniki polei – v literaturu”) devoted to the compilation, the critic P. Iatzinov showed the reason for this closeness, induced by the common documentary base which corresponded to the general requirement of “artistic merit”: “The sketch story “The Red Rear” (“Krasny til”) by A. Mickiewicz as well as the short story “Delay” (“Zaminka”) demonstrate not only the author’s skill but also a considerable level of training. The ability to present an artistic detail and to aim not on stating the fact, but on showing it make both stories works of literature, in spite of the fact that they are depicting the actual events of contemporary life. (It seems that in the stories real and not invented names of people and places are used). <…> Artistic merit <…> is attained with the help of generalization” [4, p. 9, 10]. Purely documentary subheadings, for example such as “from a diary”, “from notes”, “from a notebook” are more and more often added to the titles of short stories. A story, traditionally distinguished by its size in the almanacs of the period under study is also marked by a relative remoteness and, as a result, a certain relative nature of the described events. Literary texts, especially dating from the 1920s, are characterized by a montage structure, which allowed the contemporaries to talk about even a special “genre of montage” [10]. An example of a purely montage, almost cinematographic structure are three scenes without a plot by L. Dobichin, printed in the fourth volume of a quarterly almanac with an astrological heading “The Dipper” (“Kovsh”) typical for such editions – “Ierigin”, “Lydia”, “Sorokin”, which record the characters’ private life as if in parts [5, p. 236-243]. The adventure story titled “A story about a simple thing” (“Istoriya o prostoy vjeshi”) by B. Lavrentev in the second volume of the “The Dipper” [5] has the subheading “cinematograph”. The “simple thing” turns out to be ideological principles and the life itself of an outstanding chekist Orlov, a member of the Special Committee against counter-revolution, sabotage and profiteering; the digressions, partly psychological, are superimposed on the espionage plot and visibly reduce it. The form of a novel, connected with an attempt for an outlet to the plot, is being actively developed during the first part of the 1920s. In the beginning of the ‘20s the necessity to create a character like “Red Pinkerton” and the orientation towards R. Stevenson is proclaimed. A little later B.M. Eichenbaum noticed that “even if we are heading towards an adventure novel, it is not story-based, structured around the plot and the characters, not nodal, but a linear, plane one – towards a “chronicle” without a psychological or a plot perspective. A story-based novel has at the present moment no foundation on which to develop – the material for it should be prepared anew by special genre forms like the old “physiological” sketches” [3, p. 423]. Basing on the material of the almanacs and having slightly refined Eichenbaum’s thesis, we cannot but agree that the plot and structure of novels built widely on the untraditional “montages” as well as on the developed praxis of novel writing. According to one of the key conceptual theses by M.M. Bakhtin, the multistylistic genre of a novel was formed on the basis of parody which creates a distance between a word and a depicted object [1]. In this respect it is symptomatic that smaller prosaic genre forms of M. Zoshenko, V. Kaverin, G. Gor possessed a distinct characteristic tendency to toy with literary conventions (works of all the three writers were published in various almanacs). On the way to creating a large epic form (a social demand for “red Leo Tolstoy”) one of the closest prototypes – a picaresque novella – acted, in a sense, like a catalyst. Similarly as early as in the antiquity a novella also transformed into a novel. A picaresque personage, a demon at the same time, appears in the “biography” by Dm. Chetverikov “Records on the nobleman Anichkov” (“Zapiski o dvorianine Anichkove”) that corresponds to the adventure story by B. Lavrentev “Talassa” printed in the same almanac “Community” (“Sodruzhestvo”) [13]. The main character of the latter, in its turn, aims at resembling Gogol’s character Akaky Akakievich. However, these features are left beyond the frame of the plot structured as an aspiration for adventures seen fulfilled. Within the group of picaresque novellas in general the intertextual connection with Gogol’s works, mainly with “Dead Souls” (“Miortviye dushi”), “Petersburg stories” (“Peterburgskiye isorii”) – “The Nose” (“Nos”) and “The Overcoat” (“Shinel”) and also “the Government Inspector” (“Revizor”) becomes important in a special way. References to the latter prototypical text reveal themselves in the “Records” through the character’s personality, “…I lie so much that even I don’t know which is true” [13, p. 186], and also through the appearance in the end of the story of a “gendarme” Strelnikov and a “government inspector” – chekist Diatlov who denounce Anichkov, “the last nobleman in Russia”. Thus, the final comedy scene functions as a stable cliché; the associative connection itself is verified with the help of the episodes in which this “new Chichikov” acts similarly to the fraudulent character in “Dead Souls”. “Family chronicles”, a kind of stories about the ton in which the main character has his or her own family tree and a biography, acted like a doublet to the picaresque novella. The main character as a “semantic whole” as Bakhtin called it appears to be a problem in this period, hence random breaks of the plot. In this respect, it is indicative that biographical stories are in a number of cases limited to describing only the main character’s childhood. It was the search of genre that in many respects caused the appearance of the thesis of the Russian Association of Proletarian Writers to “learn from the classics”. Regarding the almanac material on the level of genre structure most evident intertextual connections prove to be with the works by Gogol as well as SaltikovShedrin. Naturally, contemporary prototypical works are relevant for the prosaic texts of an almanac– mainly works by Gorky, who was even inter vivos recognized as a classic soviet author (for intertextual purposes primarily Gorky’s early works were taken, in particular the novel “Mother”, which was considered one of the first examples of socialistic realism). The genre of a novel does not fit into a compact almanac, which tends not to divide a text between different volumes (one of the exceptions to this tendency – the novel “In a Dead End” (“V tupike”) by Veresaev; it was published in three parts in the first three volumes of the compilation “The Depths” (“Nedra”) (Moscow, 1932 – 1924)). In the general, though amorphous, literary system of the ’30s, integral nevertheless is the world view aspect, a voluminous novel gains the leading position, although as before it remains beyond the limits of the almanacs. In the previous decade, on the contrary, the form of a novel was a constant part of an almanac. In many respects the experimental plot novel of the ’20s is represented in the almanacs not only by the well-known novels by Kaverin (“The End of Khaza” (“Konets Khazi”), “The Nine Tenths of the Fate” (“Deviat’ desiatikh sudbi”) and a similar “fantastic story” “The Big game” (“Bolshaya igra”)) or a “chekist” novel by I. Orenburg “The Life and the Tragic Death of Nikolay Kurbov” (“Zhizn i gibel Nikolaya Kurbova”). In a much less well-known story by A. Bibik “Katrusia’s Watch-Tower” (“Katrusina vishka”), which is very close to a novel and was categorized as such by the author himself, an easily recognizable situation of the recent past – the temporary anarchy in the Crimea – is transformed in full compliance with the logic of an adventure novel. The main plotline, complicated by fragmental secondary lines, can be thus summarized: masked ruffians (white stragglers) attack a peaceful country house of a professor, where accidentally a red commander finds himself. The main character, Katrusia, decides to sacrifice herself: she tricks the bandits into leaving with an assurance that there is gold hidden in a neighbouring house. Her younger brother secretly follows them; he marks the reference points imitating the howl of a jackal. A detachment of red soldiers comes in time to neutralize the gang and rescue Katrusia. The situation unfolds as a realization of a game in a clichéd adventure novel, led by the young characters who actively study respective literature. At the same time the generalized and philosophical ending once again refers to Gorky’s “The fog has lifted. The mighty blue sea was sparkling with exceeding joy. Without a boarder, without a line the horizons have disappeared. And like a thought an eagle was soaring above the blue ocean” [6, p. 292]. Bibik’s eclectic manner is stylistically more often actualized with the help of typified modernistic descriptions, as, for example, in the very beginning of the novel, “On the slope of Dakhun which was facing the sea and the Sun, among the intense green fleece of the century-old oaks <…> lay <…> the refuges of secluded love <…>” [6, p. 173]. A typical example of a chiefly plot-based structure is the novel by Vl. Bakhmetiev “Martin’s Crime” (“Prestupleniye Martina”) [14], in which the main plot-forming event that comes to a misunderstanding (the really heroic main character initially runs from his fellow red soldiers whom he takes for Cossacks), is given with a delay in the story and proves disproportionate to the central conflict, which becomes purely ideological. The inevitable consequence of such an “out-of-plot” structure is the lack of a denouement; it is replaced by a comprehensive epilogue. Later on this tendency visibly intensifies, “Only a weakened form of defamaliarization (or ostranenie) is allowed in the literature of Stalin’s period. <…> Since an unusual way of describing events is not allowed, so <…> tropes in the form of a riddle are banished from the language of literature. The use of (universally understood) language tropes and tautologies is, on the contrary, encouraged. Defamaliarization here is simply a lack of information about an event; for the socialistic realism defamaliarization cannot be anything else but “insufficient knowledge” [12, p. 283]. By contrast with Bakhmetev’s novel, a purely entertaining plot novel by Ark. Golikov (pen-name Gaidar) “In the days of defeats and victories” (“V dni porazheny i pobed”) is based on unexpected and numerous fortuities. The “focal point” here is in the plot, which is war adventures of “three comrades”, young red officers who successfully deal with perils. Two parts of the novel were published with “considerable abridgements” in the first two volumes of the almanac “The Dipper” and were called a story [5]. The attitude to this quite “adult” text, and precisely of a novel type, as to a “story for children” [7, p. 576] was probably caused by a retrospective view, taking into account the following creative work of the writer as well as the distinctly idealized description of too positive heroes that create the developed plot. “Fragmented” novels by B. Pilnyak can be regarded as an example the most unstable, almost plotless variant of novels with a weak plot. Completeness of such stories is achieved, in particular, by relative merging all the separate plotlines in the ending connected with introducing the author as a character like in a novel by Vl. Zhelesnyak with the meaningful title “Passengers of different trains” (“Passazhiri raznih poezdov”) printed in 1931 in the last 20th volume of the compilation “The Depths” The fairly mass material of the almanacs of the 1920 – 1930s proves such general characteristics of the epoch’s literary process as the reorganization of the genre system, an attempt for a plot-based narrative, “montage” structure, a certain “clichéd” nature and also the expansion of literary journalistic genre at the brink of the 1920 – 1930s. An aspiration to blend fundamentally different genre and stylistic tendencies are distinctly seen within the limits of the main “literary” part of early soviet almanacs. Consistent actualization of the abovementioned contrasting principle in the almanacs, which was stimulated by the specific features of the latter, directly develops the almanac tradition of the previous “century of stylization”; at the same time its implementation at the level of the poetic style of the works themselves demonstrates a digression from the powerful influence of the modernist style. Such “vectorial” multidirectional orientation additionally draws attention to the particular structure of an almanac, which is far from being a mechanical combination of different texts. Literature 1. Bakhtin M.M. Literary-critical articles. Moscow, 1986. 2. Business. Collection of the constructivism literary center. [Moscow], 1929. 3. Eichenbaum B.M. Leskov and contemporary prose // Eichenbaum B. About literature. Moscow, 1987. 4. Kolkhozi pobezhdajut. Luga, 1931. 5. Literary almanacs «Kovsh». Moscow; Leningrad, 1925. 6. Literary collection «Nedra». Moscow, 1929. 7. Literary encyclopedic dictionary. Moscow, 1987. 8. Moscow almanac. Moscow, 1922. 9. Pereval. Moscow; Leningrad, 1923 – 1927. 10. Reiser C.A. Montage and literature // Aronson M., Reiser C. Literary circles and salons. Saint-Petersburg, 2000. 11. Sjegodnja. Almanac of literature, critics and art. Moscow, 1927. 12. Smirnov I.P. Psichodiachronologic. Psichohistory of Russian literature from romanticism to our time. Moscow, 1994. 13. Sodruzhestvo. Literary almanac. Leningrad, 1927. 14. Zemlja i fabrika. Literary almanac. Moscow, 1927.